НА ЗАКАТЕ СОЛОНЧАКИ БАГРЯНЫЕ Лирическое повествование
Техническая страница
Книга издана при финансовой поддержке Департамента информационной политики администрации Тюменской области
Денисов Н.В.
На закате солончаки багряные: Лирическое повествование. — Екатеринбург: Банк культурной информации, 2003, с. 448.
ISBN 5-7851-0459-8
Новая книга поэта и прозаика Николая Денисова «На закате солончаки багряные» — документальное лирическое повествование о малой родине автора — селе Окуневе Бердюжского района Тюменской области, о близких ему людях, «о времени и о себе». Автор рассказывает о поре ранних детских лет, прокладывая своеобразные «мостики» в современность.
Книга издается к 60-летию Николая Денисова.
СЕЛО ПОЭТОВ
Быть в чем-то первым, называться лидером в большом ли, в малом ли — разве не лестно, не престижно? Возможно, кто-то добавит — «для честолюбца». Не стану спорить. Но кто из людей труда, весьма далеких от кичливых мыслей, не испытывал некой гордости от того, что вырвался вперед? Ощущаю такую гордость и я, пишущий эти строки, за то, что в свое время, не так уже и давнее, первым опубликовал в тюменском альманахе «Врата Сибири» рецензию на поэтическую книгу Николая Денисова «Заветная страна», вскоре выдвинутую на Всероссийскую премию имени Д.Н. Мамина-Сибиряка. И оказался вроде «крестного» у будущего лауреата, у поэта, писателя, с которым мы родились в одном селе Окуневе. На самом юге земли Тюменской — Бердюжском районе.
Николай Васильевич писал мне в Хакасию, где прожил я век, исключая первые окуневские восемь лет детства. «Побывал на празднике Мамина-Сибиряка: в Екатеринбурге, в поселке Висим, где он родился. Потом Нижний Тагил, где в театре имени писателя была вручена премия первым лауреатам. Получил и я: нагрудная медаль, Диплом, ну и… сама премия в конверте. Потратил ее на приобретение компьютера, который научился уже включать и выключать…». И приписка в конце: «Отметили «Заветную страну». Конечно, к месту была и Ваша о ней статья!».
Вот почему я начал свой запев с признания положительных сторон соревновательного пыла, к которому оказался причастен, хотя и косвенно.
Теперь мой протеже-лауреат собирается выйти к читателям с новой книгой. Это уже проза. А я давно знаю, что мыслил мой земляк Денисов написать лирическое повествование о своем детстве, о близких и родных людях нашего Окунева. «Окуневская проза, — писал он мне. — Назвал: «На закате солончаки багряные». Вы помните ведь красную, багровую, жирную такую траву на наших солончаках?! А когда на закате их осветит вечерняя заря в июне-июле, горят-таки!
К большинству новых рассказов-глав добавляю несколько рассказов, написанных ранее, документально связанных с нашим родным селом. Время действия — конец 40-х — начало 50-х годов. И своеобразные мостики в будущее, в современность, в которых мои и земные, и морские дороги!.. Начал с того, как себя помню. А это лет с четырех, то есть с сорок седьмого года. Помнится — голодновато было. А стоит в глазах зеленая полянка… Зелень радостная, пронзительная!..».
С первой книги стихов 1970 г. «Проводы» дар Николая Денисова проявился, как лирический, с углубленным озарением и умением пересоздавать в образах повседневные бытовые впечатления. С той поры у моего земляка вышло два десятка книг. В советское время большинство из них печатались в московских издательствах. Стихи. Проза. Так и выходили книги в переменном порядке.
И ещё — хлопоты по изданию и редактированию патриотической газеты «Тюмень литературная», которую знают и читают не только в России, но и дальнем русском зарубежье.
С земляком Н.Денисовым воочию встречались мы всего один раз — на одном из литературных форумов в Новосибирске, потому знаю обо всех его многотрудных хлопотах больше из переписки: «Дорогой земляк, Геннадий Филимонович! Сердечное спасибо за последнее письмо с фотографиями. Получил и поздравление к своему 50-летию от Вашей писательской организации. Телеграмма и поздравления были оглашены на моем вечере 9 ноября в областной научной библиотеке. Из зала нашелся один человек, который перевел с хакасского, что я «пока еще не старый орёл». Понятно!.. «Тюмень литературная» хоть и с трудом, но выходит. Посылаю Вам два последних, похудевших в объеме, номера. Один делал просто для заработка: рекламный. Типографские расходы ведь сильно возросли. Жмут на патриотическую прессу сознательно. Идет обыкновенное удушение… Сейчас готовлю 16-полосный номер. Надо дать и Ваши материалы. Я в большом долгу перед земляком… Никак не могу вырваться в Бердюжский район, в Окунёво. Там ждут с выступлениями. Да и надо просто — зарядить, освежить душу… На выходе две мои книжки: «Стихотворения». Избранное. В Москве. И проза — 16 а.л. в Шадринске. Через пару дней еду туда — подписывать в печать.
Пришлю книжки уже в новом году. Желаю Вам бодрости, здоровья, успехов в литературных делах. 14 декабря 1993 г.».
Вот такой он весь — деятельный, кипучий, неугомонный. И внимательный. Конечно же, прислал он прозу свою «Пожароопасный период». И московский сборник стихов в белой обложке. «Как белые одежды для души». (Моё!). Да, именно душа оказалась в тех избранных образцах поэзии окунёвца-земляка. А вот в «Пожароопасном периоде» меня глубоко тронули повести и рассказы. И особенно наиболее колоритный, документальный рассказ «Дед Павел», который автор включил и в настоящую книгу. Увиден этот много поживший, много видевший и испытавший земляк наш, окунёвец, в необычном свете. Замечу, что писатель изображает людей, вещи и явления не ради их самих, а как художник-импрессионист, показывает в свете века — свет этот чрезвычайно важен.
Так вот, дед Павел… «Сидит на лавочке у избы. Синие глаза такие добрые, лукавые, бороденка расчесана.
— Подойдите, ребятишки.
Мы подходим.
Дед начинает нам петь частушки. В частушках имена и фамилии наших деревенских, недавние уличные события и многое другое, до удивления складное, как у Пушкина.
Эх, дождик идет, Всю бригаду мочит. Стёпа Шустов на быке Едет и хохочет.Дед Павел косится в нашу сторону синим оком, словно спрашивает: «Ну, как?». И заводит тоненьким голосом новую частушку:
Шла машина из Ишима, Колесо резиново. Дедка с девками гуляет, Бабка рот разинула.Вот он какой, дед Павел, думал я, талантливый!..
Но пришла пора вспомнить о чудачествах деда. Сердитые это чудачества, рассчитанные на ротозеев, на людей наивных, неразумно доверчивых. Такие всюду отыщутся. Так им и надо!
Так вот, как-то наловил дед Павел на озере Окунёво (озеро славилось крупной рыбой!) больших увесистых карасей. Лапти и лапти по величине. Чешуя серебряная, размером в копейку каждая чешуйка.
А возле озерной пристани — гороховое поле. Был, кажется, август, поскольку мы шастали за стручками. Так вот, недолго думая, нарвал дед стручков и перед тем, как пластать-чистить рыбу, накормил каждого карася зелеными горошинами. Да еще подождал, пока мимо его подворья будет проходить Андреева Анна.
— Гляди-ка, Анна, — окликал её дед Павел, — рыба на горох вышла!
На глазах Анны распластал несколько карасей. И верно, в кишках каждого — зелёный горох.
А у Анны такое дело — в дождь ли, в зной ли, а надо непременно пройтись из конца в конец по селу. По делу и просто так посудачить с народом.
— Не может быть! — выслушав сообщение Анны, дивился иной мужичок. Но тотчас бежал к старику удостовериться.
В большом нашем селе таких простодушных рыболовов набралось тогда десятка два человек. И под вечер плотное кольцо из сетей и ряжевок окружило гороховое поле…
Смеялся потом весь район».
Каверзными назвал Николай Денисов шутки деда Павла в этом рассказе. И во всей его натуре видит он нечто «мефистофелевское». Из экскурса в прошлое сообщает о давней, впрочем, забытой причастности его к Ишимскому «белокулацкому» восстанию, хотя он вовсе ни в каких мироедах не числился сроду. (Да и к восстанию этому нынче другое отношение). А вот продавцом окуневской кооперативной лавки работал он долгие годы, пока был в зрелой поре…
Как стыкуются времена!
Представьте, что и я, окунёвец по рождению, знал деда Павла еще как крепкого мужика. Ведь семилетним забегал к нему в лавку, где он ловко отмеривал деревянным метром с медными концами ситец и сатин из больших «труб» материи. Нечто «мефистофелевское» в нём было и тогда…
Осенью 1929 года, когда мама училась в городе Ишиме на курсах каменщиков, я уже ходил в первую группу Окунёвской школы. Однажды учительница Раиса Васильевна («стриженая Райка», как её называли окунёвские бабы), задержав меня после уроков, достала из собственного кошелька бумажный рубль, послала купить в лавке пачку промокашек на весь класс. Перебежав переулок, отделяющий школу на площади от Большой улицы, что тянется вдоль озера Долгого, я очутился в каменной кооперативной лавке. Продавец Павел с треском разрывал намотанную на знаменитый метр надрезанную материю. Я встал в очередь к прилавку и дождался, когда она дошла до Павла. Запомнил синеглазое и белощекое круглое лицо, карандаш за ухом, очинённый с двух концов, сине-красный, которым он метил черточки на ситчике, где сделать надрез.
— Что тебе, мальчик?
— Пачку промокашек, — ответил я, протягивая рубль.
— Гм… Промокашки совсем дешевый товар. А тут у тебя большая деньга. Не купишь ли еще карандашей и книжек? Гляди! — протянул он книжку со слоном на обложке, — это про жаркую страну Индию. А вот эти две тоненьких пригодятся твоим старшим — про колхозы!
И передо мной на прилавок, до которого я доставал подбородком, шлепнулись две брошюрки с изображением животноводческих строений. А в руку мне дал три жёлтых граненых простых карандаша…
У меня язык онемел возразить ему, сказать: «Деньги не мои, учительницы, она поручила купить только промокашки!».
Очередь заворчала:
— Не стой, парень. Бери, что купил, не держи людей… Я поспешно схватил с прилавка навязанные те покупки вместе с пачкой промокашек, показавшейся жалкой, поспешил домой. Книжка со слоном на обложке оказалась рассказом Рабиндраната Тагора, и он увлек меня. А тетка спросила: «Откуда у меня это все?». Пришлось рассказать…
На следующее утро тетка вернула бумажный рубль учительнице, оставила меня в школе, а сама пошла объясняться с продавцом. Павел, узнав что я безотцовщина, что отец сгорел в огне того же Ишимского восстания, погиб, а не дался в руки расстрельной команде чоновцев, так вот, Павел сожалел и извинялся перед тёткой. Перед ней стоял уже «другой» Павел, которого тетка по старорежимной привычке именовала «приказчиком»… А перед односельчанами Павел, чтоб они забыли о его «белоповстанческом» прошлом, пытался казаться человеком с «чудинкой». Надел на долгие годы маску «шута горохового», каким выглядел в поздние свои годы. Такой он и в описанных Николаем Денисовым чудачествах своих. И писатель-земляк ничем не грешит против истины, наделяя образ позднего деда Павла «мефистофелевскими» чертами. Это живой человек, а не придуманный бутафорский Щукарь. В окрестностях, да на той же околице Окунева, которой далеко до подступов к преисподней, дед Павел изображается, кстати, и в новой поэме Николая Денисова «Змея на Солёном» в гротескном образе. И весь его «демонизм» — это лишь прикрытие подлинной натуры неординарного реального человека.
Заряды магнетизма земляков-окунёвцев сконцентрировались на шариках-кондукторах творческой машины трения уважаемого автора и при описании некоторых других персонажей данной книги. К примеру, герой рассказа «Ангар из камыша» — Саша Кузьмин.
Колорит таинственности, нестандартности, образ и характер этого персонажа вытекают из описания его жилья:
«Довольно ветхий с виду, но высокий, на подклетях, с таким же высоким крыльцом с перилами, дом Кузьминой Марьи выпирал углом в переулок, к озеру, а это было признаком того, что в доме непременно водятся черти и прочая дурная нечисть. Не случайно, конечно, в доме, соображал я, жилой была только первая половина — кухня-куть, где вздымалась богатырских размеров русская печь, полати под потолком, а под ними стояла железная кровать, застеленная, как во многих бедных жилищах села, спальным хламом — телогрейками, рваными полушубками, дерюжками. Горница была заколочена крест-накрест двумя тяжелыми плахами. И не отапливалась. Вот тут-то, в горнице, и бесновалась, говорили, нечистая сила, едва только наступала полночь, 12 часов. Сами собой начинали плясать ухваты, сковородники, ерзать столы, шевелиться вёдра, глиняные горшки и кринки, летать под потолком сковородки…».
Образ старшего из братьев — Кузьмина Саши нарисован автором довольно обаятельно. Саша строен и статен, годами лет на восемь старше рассказчика. Не просто умен, а по-настоящему талантлив. К нему прислушивается и рассудительный пожилой отец рассказчика. Но вот, несмотря на ум и личную обаятельность, из-за магнетических черточек не повезло парню. Не повезло и его другу-рассказчику, хотя только один из них «намагниченный».
Друг бьётся, как поднять на пашне механизаторскую выработку. А Саша говорит: «Это пустое, давай построим самодельный самолет!». Согласился друг, колеса от боковых граблей для самолета притащил. Вроде взлетел на тех колесах самолет аршина на два, да грохнулся с него конструктор. И тут озарила его другая идея… И так он изобретал да конструировал, подошел вплотную к конструкции «перпетуум-мобиле», которую «продумал до мелочей»…
«…В пору развернувшейся горбачевской перестройки, ускорения и гласности, когда «свежий ветер перемен» поманил доверчивых русских мужиков в кооперацию, обещавшую золотые горы, Саша возник у меня, в Тюмени: с папкой документов, писем и отписок. Просил помочь «квалифицированным пером». Он бился об открытии собственного рыбокоптильного предприятия на глубоком полевом карасьем озере… Начальство, ухмыляясь, покашливало в партийные кулаки: «Ты что, хочешь богатым стать?». Другому, может быть, поверили бы, ему — нет: «Строитель вечного двигателя!». А вскоре сами эти бугры партийные и комсомольские бросились растаскивать то, что у народа плохо лежит, хапать, «прихватизировать», на ходу выбрасывая партбилеты…»
Рассказ об Александре Кузьмине заканчивается строчками письма одного знакомца автора: «Живет один, ходит быстро, широко шагает, наклонившись вперед. Улыбчив, весел, на лету ловит мысль…».
Вот они какие, магнетические-то!
Герои рассказа «Кудряшки токарных стружек» — отец, мать, совхозные механизаторы, шофера, ремонтники. Характеры воскрешаются достоверные, правдивые. Характеры и люди тех послевоенных лет! Отец — то обут в башмаки на деревянной подошве, то в клееные из машинной камеры галоши… Между ним и матерью такой диалог:
— Василий, сыпнул бы в карман зерна для куриц…
Отец отмалчивается, опалив мать холодным взглядом, а то скажет:
— Казенного никогда не брал. И вам не велю! А между прочим, он кладовщик в совхозе и ведет еще учет в МТМ. Нередко берет с собой малого сынишку, а люди называют мальчика отцовым именем. Ребенку это лестно, ведь он любит отца.
Отец — раненый фронтовик, в сорок втором вернулся в Окунёво из госпиталя. Под Ростовом-на-Дону «долбануло» разрывной немецкой пулей…
Однажды, представляя меня, автора этих строк, окунёвцам через «Тюмень литературную», Николай Денисов свидетельствовал: «Окунёвский крестный Г.Ф.Сысолятина Пётр Евсеевич Барсуков, дружок моего отца, часто они сходились за бражкой в нашем доме. Тоже войну прошел, а среди набора его наград — две медали «За отвагу».
Окунёвский эпос!.. Я слышу в нем плеск волн двух озер, вдоль которых протянулось село. Слышу колокола, еще не сброшенные с колоколен двух церквей: старообрядческой и «мирской». Вижу вращающиеся крылья полудюжины ветряных мельниц. Но меня тянет посмотреть в дальнее вовсе, в мое прошлое, а книга Николая Васильевича о его времени. Она ближе к современности. Да и сама современность, злободневность, «мостиками», что выстраивает автор, врывается в наш сегодняшний день.
Природа художественного творчества. В чем она? Вспомним «Эхо» Александра Сергеевича Пушкина:
Ревет ли зверь в лесу глухом, Трубит ли рог, гремит ли гром, Поет ли дева за холмом — На всякий звук Свои отклик в воздухе пустом Родишь ты вдруг. Ты внемлешь грохоту громов, И гласу бури и валов, И крику сельских пастухов — И шлешь ответ; Тебе ж нет отзыва… Таков И ты, поэт!В стихотворении отображена не только природа поэта и поэзии, а любого художника-творца и его творения. Мало того, здесь отображены и противоречия между художником и обществом или, что почти одно и то же — между художником и его временем.
Художник выступает как эхо всего происходящего в этом колеблемом мире. На все волнующие события он шлет свой ответ. Но ему нет отзвука, и это начало всех противоречий между ним и миром, у которого множество точек опоры. А у противопоставившего ему своё искусство таланта — опора одна-единственная. Это — невидимый ген, с которого начинается слово «гениально».
Ген передается от отца к сыну, от матери к дочери, из поколения в поколение. Ген — вещь зыбкая и неосязаемая, как пустой воздух. Но именно он определяет природу художника-творца. Это первое противоречие.
Подлинное искусство вечно, а наша жизнь, увы, временна — вот второе противоречие между художником и его бытием.
«Ты царь — живи один!». Духовное одиночество, как полагали раньше и духовная обособленность, как это мы называем теперь — в известной мере удел любого настоящего художника.
Все три противоречия составляют тайну личности поэта и писателя Николая Денисова, его индивидуальности. Без них не может быть никакого художественного творчества.
Духовное одиночество порождает страдание. А чтобы писать, нужно страдать, говорил Федор Михайлович Достоевский. В противоречивой страдающей душе рождается замес гениальных произведений по «ведомству» различных муз…
Николай Васильевич Денисов, чью книгу о его малой родине мы взяли в руки, не одинок и отнюдь не страждет духом. Фотоснимки показывают его уже пожившим человеком на свете, но неутомленным, спортивного вида-склада, не привыкшим к излишествам человеком. Вот он на журнальной странице «Тюмени литературной» в фуражке с морским «крабом» и штормовке — мореход же! Взгляд же на этом снимке у него довольно грустен и тяжел — не каждый недоброжелатель его выдержит. Подстать взгляду напечатанное рядом стихотворение Николая Денисова «Расклад»:
Отец мой был
природный пахарь…
Из народной песни. Ну что, орлы-интеллигенты, Соколики, тетерева, Как там «текущие моменты», «Свободы» ваши и «права»? Теперь повсюду тары-бары, Не жмет, не душит агитпроп. Вы ж так хрипели под гитары Об этом — в кухоньках — взахлеб. Ну, допросились в кои веки Почетных званий и наград, Ну, вышли в общечеловеки… А дальше что? Какой расклад? Вокруг желудка интересы, Все те лее всхлипы про «судьбу» Да злые шуточки от беса Про белы тапочки в гробу. А не от Бога — болевое Еще живого бытия: «Горит, горит село родное, Горит вся родина моя…» 2001 г.Думаю, я ответил на вопрос теоретического включения в мое предисловие к книге: в чем тут проявлено страдание? Ведь оно побудило создать эти страстные строки стихотворения, о каких Владимир Маяковский отзывался так: «И песня, и стих — это бомба и знамя…».
Душа болит у Николая Денисова, прошедшего моря-океаны, за свою дорогую малую родину — Тюменщину. И не только. И не стихом единым, выстраданным многократно, сражается он с врагами духовной культуры русской, клеймя их и собственными вдохновенными статьями и отовсюду скликая друзей-единомышленников под знамя «Тюмени литературной».
Вернусь к «Заветной стране» Денисова. Чувствую себя причастным к недавнему событию — награждению и автора, и книги этой Всероссийской премией, ведь я тоже окунёвец, хоть и давний. И предшественник, которому необходимо во что бы то ни стало много раз проверить и сравнить с денисовским свой литературный багаж.
Видимо, свет села Окунёва Бердюжского района Тюменской области такой силы, что мои собственные книги о нем, напечатанные в Хакасии, влекут к себе юных. А речь идет о мальчике-безотцовщине, привезенном матерью из Окунёва на Енисей в 1930 году…
И на его счастье осталось на месте Окунёво — село поэтов.
Об этом и лирическое повествование Николая Денисова «На закате солончаки багряные». О времени нашем, о малой и большой Родине, о счастье жить на земле.
Геннадий Сысолятин, писатель, фронтовик, заслуженный деятель искусств Республики Хакасия.КУДРЯШКИ ТОКАРНЫХ СТРУЖЕК
Ни радио, ни электричества в нашем доме на окраине колхозной улицы села нет. Не хватило буквально двух-трех столбов, чтоб дотянуть провода до нашего околотка, как бы отчужденного, отрезанного судьбой от остальных — с электролампочками и радиотарелками — домов. И все же в отчужденности этой — свой уклад жизни, а может, и преимущества. В околичной глуши хорошо слышится, как по ночам, сквозь метельную круговерть, воют за огородами, возле озера, волки. Собаки, побрехав для блезиру, в страхе лезут под крылечки сеней, сидят там молча. Зловещее завывание волков становится нестерпимым, опасным, звери могут по утрамбованным вьюгами застругам сугробов прокрастись на крышу стайки, разворотить кровлю из жердей и соломы, зарезать и унести овечек, порушить и корову, зимующую в том же, овечьем тепле. И тогда отец достает с полатей, из-за сбоек сухих карасей, бердану шестнадцатого калибра, закладывает в ствол патрон, выходит на крыльцо и бабахает в ночную жуть.
Две комнаты в нашем старом крестовом доме называются горницей и горенкой. В сумеречной избе, освещенной семилинейной лампой, по некрашеным половицам ползает и скребется холод. Но уже пощелкивают, разгораясь, поленья в печке-буржуйке в кути. С беремени вновь занесенных со двора дров начинает стаивать жесткий крупчатый снег. Под стеклом лампы, тщательно вычищенном комком из газеты, алеет сердечник огонька. Потрескивает тесьма, питающая огонек бензином, приправленным для безопасности солью. А соль (комковая-лизунец для коров, раздобыть которую можно на выпасах) надо загодя натолочь в ступе тяжелым чугунным пестиком. Это вменяется в мою обязанность.
— Василий, принес бы в бидончике карасина! — роняет мама, собирая ужин на выскобленный стол с хромой ножкой, под которую подкладывается щепа иль сложенный в несколько рядов газетный оборвыш. Мать вздыхает, зная, что затевает пустой разговор. Отец, пристроившись с газетой к лампе, в ответ промолчит или уронит укоризненно, а то и раздраженно:
— Казенного никогда не брал. И вам не велю. Запомните.
«На шее у отца» все материальные склады в совхозе, единственном на район: зерновые и продуктовые, а также склад с запчастями для тракторов и машин, склад ГСМ (по местному — заправка), где имеются бензин, керосин, автолы, нигролы, солидолы, затем — склад с рабочей одеждой, а это белые и черные полушубки, ватные «куфайки», брезентовые плащи-дождевики, яловые, кирзовые сапоги, прочая мелочевка вроде рукавиц-верхонок. Отец выдает, что кому полагается. Сам же он ходит в старых галошах, подвязанных веревочками. Недавно обзавелся грохочущими брезентовыми ботинками на негнущейся деревянной подошве. Взрослые называют эту обувку «колодками».
«Чисто арестант», — говорит мама. Еще на отце потертая бумазейная толстовка, заправленная под солдатский ремень, что уцелел с фронта.
— Василий, сыпнул бы в карман гость зерна для куриц…
Отец отмалчивается, опалив мать холодным взглядом.
Еще на «шее отца» весь бухгалтерский учет в МТМ, то есть машинно-тракторной мастерской, и часто по вечерам он, пододвинув бумаги к подслеповатому огоньку семилинейки, допоздна засиживается с отчетами. Я, засыпая на жарких полатях на старинном, еще с единоличных пор тулупе, слышу сквозь сон, как отец щелкает костяшками счетов, гоняя их по проволочным сердечникам скрюченными пальцами правой руки, перебитой немецкой пулей под Ростовом-на-Дону.
Днем, в отсутствие взрослых, я снимаю с гвоздя эти счеты, подкладываю под брюхо и катаюсь по некрашеному полу. Других игрушек, кроме этих счет да железяк во дворе, у меня нет.
— Брал? — спрашивает вечером отец, примечая погнутую проволоку. — Не бери больше!..
Вообще, как рассказывали мне потом старшие братья, я «вечно лез куда не надо». Да и я, поразительно это, помню себя совсем малым — то дыбающим на неуверенных ножках, то ползающим по холодному полу в кути. Вот забираюсь под лавку, где кошачья черепушка с молоком, припадаю попить из нее. Меня тащат из-под лавки за ногу под причитания матери: «Усьян ведь подхватил! Усьян! Теперь брюхо разнесет, беда!». Что за «болесь» такая этот «усьян», я так и не дознался — ни в детстве, ни во взрослые времена.
А вот я поднялся с четверенек, как неандерталец, раздобыл орудие. Вместо дубины молоток с ручкой подвернулся. Им и стал обихаживать направо-налево, изничтожать «наросты» на глиняной посуде — всякие «излишние» носики, ручки, завитушки: на чайнике, кружках, кринках, объемных корчажках для теста и молока. Лишаю их первоначального вида, который придал им когда-то старинный гончар, заботясь о товарном виде изделий.
А вот дыбаю с полной кринкой молока от лавки до высокого порога избы. И уже на пороге выпускаю «тяжесть» из рук, с восторженным возгласом «бах!», смотрю на черепки кринки и как растекаются по полу молочные потоки.
Шестой я ребенок у родителей. После меня появятся на свет еще двое. Но в общей сложности уцелеют и выживут окончательно — только четверо. И все мужики. Сейчас не ведаю, понятно, что дело поставлено на выживаемость, естественный отбор, как издавна было поставлено в многодетных крестьянских семьях. Выживают наиболее крепкие, способные удержаться за эту жизнь, действительность. К рождению очередной «души» подрастает кто-нибудь из старших, и всем нам приходится быть няньками своих братишек и умерших накануне войны сестренок. Мне достался в няньки брат Саша. Он старше меня на семь лет.
Он таскал меня двухгодовалого на закрошках, то есть на спине, по всем окрестным лесам, где он со своими ровесниками промышлял пучки, шкерды, копал саранки, добывал полевой лук, чеснок по ранней весне, зорил вороньи и сорочьи гнезда. Когда он снимал меня со спины, заставляя топать своими ногами, я орал, поймав ступней первую колючку, требовал усадить обратно на закрошки: «Больно, кая мая зая! Больно-о!». Саша закидывал меня опять на спину, но сбрасывал вновь возле березы с вороньим гнездом, которое непременно надо разорить, пока яйца свежие, не запаренные, и можно, вернувшись домой, сварить их в чугунке, съесть. Но чаще добытое из вороньих, сорочьих, реже утиных гнезд, употреблялось в сыром виде, в тех же походно-полевых условиях. Сколько мне пришлось выпить этих сырых яиц — вороньих, утиных, а то и чаячьих, один Бог ведает.
Мне нравится, как отец, по вечерам нацепив очки, читает свежий номер газеты «Правда», устроившись в простенке под портретом молодого наркома Ворошилова. Лохматая по краям картонка «патрета» густо засижена мухами. И все равно — и Ворошилов, и я с полатей внимательно вслушиваемся в интонации отца, в ударения, которые делает он на важных местах (чаще всего, когда читает о бесчинствах американских империалистов или комментируя действия президента Трумэна и госсекретаря Даллеса, «поганцев этих»). Так же, не меняя тона, ругает отец какие-нибудь беспорядки в совхозе или дружка-соседа Павла Андреева за то, что он, «гляньте, выгоглился», обгонял рыбную курью на озере Долгом, поскольку курья эта «наша», возле наших мостков-плотцов находится.
Идет война в Северной Корее. «Правда» сообщает, сколько народной армией и китайскими добровольцами сбито за прошедшие сутки американских «летающих крепостей», сколько уничтожено другой техники и живой силы противника.
— Всыпали! — комментирует отец.
Свесив голову с полатей, радуюсь вместе с ним и я, рисуя в воображении картины воздушных боев на далеком Корейском полуострове.
За хорошую учебу во втором классе отец и мне выписал газету. «Пионерскую правду». Недавно я прочитал там про героическое строительство Волго-Донского канала, а большой портрет Сталина с первой полосы газеты — вырезал овечьими ножницами и приколотил крепкими коваными гвоздями на уличную стену дома, на лицевую, где палисадник. Всем видно! Такой же портрет Сталина, только больших размеров, висит над сценой нашего клуба, где раньше, говорят, была двоеданская — староверческая церковь. А мы — староверы.
Так вот, еще в пятилетнем возрасте, а может, раньше, я хорошо знал, кто такой Сталин. Великий вождь, который разгромил немецких фашистов. И когда мужики меня пытали, на кого я буду учиться, когда пойду в школу, твердо отвечал: «На Сталина».
«Мрачные годы культа». О них мне растолкуют в иные годы. Просветят, тогда не просвещенного «демократами», как жили мы и бедовали. И бедовали, конечно. А мне они будут помниться и огромным деревенским стадом. Каждое утро с весны до глубокой осени вываливалось оно в степь от нашей околицы, неторопливо текло солончаковым проселком к синеющим вдалеке березовым лесам и осиновым колкам. За табуном, выкрикивая шутейные прибаутки, следовал пастух Степан Чалков с длинным веревочным кнутом-кнутовищем, четверть кнутовища сплетена из добрых сыромятных ремешков, а на конце тонкая плеточка с запечатанным в конец ремешка свинцовым шариком — для острастки особо непослушным и блудливым коровенкам. А над всем, над раздольным миром, в глубине небес, висели и выводили свои солнечные трели жаворонки.
И еще привидится проворная работа мужиков и баб на весёлом совхозном зернотоке, где во всех лицах, за главного, — отец наш. И этот пыл труда, и замотанность отца — в пору уборки хлебов — особенно: зерноток кипит народом, растут вороха пшеницы, ржи, что напористо подвозят от комбайнов. Хлеб надо просушить, провеять, уложить в амбары, склады, перевешать с точностью до килограмма на больших стационарных весах. Большую часть зерна загрузить в кузова «ЗИСов» и «студебеккеров», пришедших из города Ишима, и отправить на элеватор.
Но кому-то из механизаторов требуется подшипник или поршневые кольца для «колесников» или «натика». Шоферу позарез надо заправить полуторку, еще кому-то верхонки-рукавицы или резиновые сапоги по квитанции от директора совхоза требуется получить.
— Василий Ермилович, понимаешь, надо поскорей!
— Василий Ермилович, жмых подвезли…
— Василий Ермилович, подпиши накладную…
Мы, четырех-пятилетняя пацанва, вьемся тут же, среди пшеничных ворохов, возле топки сушилки, где взрослые пекут картошку, жарят на железных лопатах зерно. Лакомимся и мы. И кажется, нет ничего слаще хрусткой, зажаренной печеночной кожурки, подчерненного в жару топки, обжигающего ладошку пшеничного зерна.
Понимаю нынче: если мать не снаряжала со мной утром кринку супа для отца, он тоже «крутился» на том же подножном корму. Казенного, учтенного в складе, он (и умирать станет), не возьмет ни крошки. И близким не позволит.
И как в киноленте наплывает из ряда вон выходящее видение. Продуктовый амбар. Отец, аккуратно взвешивая, отпускает буханки хлеба, перловую крупу, наливает в бутыль подсолнечное масло. Подъехал возчик продуктов с какого-то совхозного отделения. Отец ведет свое действо. На переднем плане — желтый, освобожденный от серой бумаги огромный куб коровьего сливочного масла. Я во все глаза гляжу в полутемный проем амбара И тут возникает молодой шофер Володька Добрынин. Возле его полуторки я не раз крутился — потому мы хорошо знакомы.
— Ах, Василий Ермилович, Василий Ермилович! — говорит Володька. Берет со стола длинный нож, таким колют в деревне свиней, отпластывает от белой буханки увесистый кусмень, отчекрыживает от кромки масляного куба увесистый сегмент, размазывает на кусмень хлеба, выносит мне.
— Ешь давай!
Отец как-то опустошенно, потерянно смотрит на действия Володьки, опустив руки, не проронив ни слова…
Поскольку я считаюсь своим в МТМ, взрослые (а это — токари, слесаря-ремонтники, шоферы и пилорамщики, мотористы электростанции) позволяют мне беспрепятственно лазить по цехам, смотреть, как красиво вьется стружка под резцом токарного станка, визжит над горкой опилок пилорама или как мотористы разогревают на открытом огне какой-то «шар», чтоб запустить нефтяной движок «Болиндер». Запускают. Движок, громко стреляя выхлопами, крутит при помощи ремня-шкива веялку или дробилку зерна. Рядом — тоже в работе! — дышит огнем и паром локомобиль с огромными, из «всего железа» колесами и высокой дымной трубой.
Среди предельно занятого, но жизнерадостного артельного народа есть «еще те ухабаки», как мама говорит, что учат меня материться и цвиркать — сплевывать через передние зубы так, чтобы плевок получался эффектным и по дальности полета был близок к полету брошенного камня или сколыша чугунка, выпущенного из рогатки.
Первому делу — матеркам — обучился я успешно, не понимая смысла произносимого и производимого морального урона. Сыплю матерками направо-налево, веселю «ухабак». С цвирканьем же сквозь зубы получается отчаянно плохо: слюна летит не дальше подбородка, на грудь рубашонки, под ноги. В конце концов, от публичного цвирканья я напрочь отказываюсь, тренируюсь в одиночку, но безуспешно.
В три-четыре года я почему-то затвердил в своем уме, что меня тоже, как и отца зовут Василий Ермилович. Когда разобрался — что к чему — было поздно: мужикам из мастерской сие навеличивание жутко понравилось и делали они это с подчеркнутым великодушием.
— Вот и Василий Ермилович пришел! А ну, расскажи стишки. Кто-то подкидывает меня на руках, устанавливает на большой торец столба или бочку, где высоко и страшновато — самостоятельно ни в жизнь не слезу.
— Рассказывай!
Ленин Сталину сказал: Давай поедем на базар, Купим лошадь карюю Накормим пролетарию.— Ладно… НКВД рядом нет. Продолжай!
Советская власть На куриной ножке. Всю пшеницу за границу, Сами на картошке.— Ишь ты! — оглядываются мужики.
Много позже прочту я у Василия Белова в романе «Кануны» частушку про «лошадь карюю». Там речь идет о тридцатых годах, о поре коллективизации. И вместо Ленина на Вологодчине фигурирует Троцкий. А наша частушка-вариант свободно гуляла в сибирской стороне и после войны, не столь и пугала слушателей, не говоря об исполнителе; конечно, в попугайстве своем не понимавшего крамольного смысла. Спрашивал — уже взрослым — у матери: кого забирали?
— Помню хорошо, как Кашкарова Андрея увозили, вернулся уж после войны! А в тридцатых, на пашне, он рассказал частушку «про курину ножку» — при активистке окуневской. Курила, на лошади скакала чисто Буденный, вот она и сообчила кэвэдышникам. Приехали на паре лошадей из Бердюжья, обрестовали Кашкарова…
— Других забирали?
— И этого горя хватило тогда на всю деревню…
Но я стою на высоком столбе и под шумные одобрения мужиков декламирую услышанное вчера.
— Громче, Василий Ермилович!
Набираю в грудь воздуху, ору сколько достает голоса:
Самолет летит Да к верху дудками. Это наш самолет С проститутками.— А ну слазь со столба, острожник! — слышу голос подошедшего отца. — Вот ремня дам! — а в голосе не злые нотки, скорей приглушенное одобрение. Ремня он не даст, припугивает. Ремня отцовского — этого горячего «воспитателя», нюхавшего кровавую земельку и под Таганрогом, и под Воронежем, и под Ростовом-на-Дону, достанется еще мне, подрасту только. А пока…
— Слазь! Кто это тебя научил?! — усмешка в голосе.
Шофер Володька Добрынин берет меня под мышки, опускает на землю, от неё пахнет бензином, как и от высветленной на солнце Володькиной рубахи.
Ношусь опять среди пшеничных ворохов, залажу, загребая зерно руками, на их вершины, скатываюсь под ноги баб, лопатящих зерно, работающих плицами, наполняя тяжелые мешки. Их тут же подхватывают за усья, вяжут шпагатом, тартают и устанавливают на платформу больших весов, возле них с карандашом за ухом, с тетрадкой в кармане толстовки — отец. Подкладывает плоские гири, так напоминающие противовесы комбайнового хедера.
Тут вижу, как, отодвинув доски забора, к вороху подбираются незнакомые ребятишки: не с нашей улицы, точно. Хватают торопливо зерно, рассовывают по карманам штанов.
— Чё раззявился, хватай, бежим в рощу, пока не сцапали!
Отчего-то подчиняюсь незнакомому пацану. Он постарше, какая-то сила в нем, она заставляет так же воровски и спешно совать горсть за горстью в карман, потом за приглушенным: «Ну, рванули!», сдирая с плеча кожу, нырять в пролом забора. Перепрыгивая через железяки, бежим в березки и шиповниковые кусты. «Рвем когти», как скажет потом взрослый парнишка в таких же, как у меня, штанах на одной лямке через плечо, босой, с красными цыпками, проступающими сквозь грязь на щиколотках, которую можно оттереть разве только рашпилем или наждачной бумагой. Минуем две открытых поляны, ископыченную лошадьми дорогу с выбоинами и канавами, полными желтоватой воды. Наконец забегаем в папоротники, которые скрыли нас с головой.
— Далеко уконопатили. Все! Надо послушать, нет ли погони! — говорит старший парнишка. Он ложится на землю, вжимается в нее ухом. Мы тоже приникаем к непросохшей после утренней росы траве, подражая старшему. А он, поднимаясь и кидая в рот щепоть зерна, прожевывая, говорит этак с гордецой, с поучительным назиданием:
— Когда погоня, слыхать копыта лошадей!
Потом мы долго идем в полумраке папоротников, отводя в стороны жесткие стебли. На голову сыплются семена и былки травы. Нет-нет долбанет комар. Ныряем под развешанную, настороженную паутину с огромным белым на ней мизгирем. Боюсь я этих тварей. Но сейчас в незнакомой компании с другой улицы, орды, никак не годится выдавать этот свой страх, леденящий спину мурашковым ознобом.
Наконец заросли папоротника расступаются, и мы утыкаемся в бугор земли, поросшей пыреем, подорожником, мать-и-мачехой. С бугра смотрим на двускатную крышу: она почти до земли, до поляны, усыпанную свежей стружкой. На поляне тесаные сырые лесины, мощно, умело загнутые, стянутые толстой проволокой. Это заготовки для будущих саней и розвальней. Возле сарая с санными загогулинами никого нет, видно, взрослые ушли на обед. В груди уже просторнее. И старший парнишка говорит:
— Пегаша посмотрим, щас выезжать будет Шенцов!
Про Шенцова я знаю. Это директор совхоза. Отец, как и другие мужики, называет его Цыганом за его смоляной чуб, что с вороным отливом красиво выбивается из-под шапки-кубанки.
Мы, затаившись за кустом шиповника, ждем выезда Шенцова. Он ездит только на гладком, ухоженном и рысистом жеребце Пегаше — белом с большими коричневыми яблоками на спине, с подстриженным хвостом и расчесанной конюхами гривой.
Совхозная конюшня — напротив, за дорогой, ведущей в глубину рощи, а там, наверное, и дальше в какую-то деревню Глубокое или в Уктуз, где я не бывал. Вообще я еще нигде не был дальше наших окрестных лесов. Даль-далекая звучит во мне туманным, сладким звуком… Из растворенных ворот конюшни несет конским навозом, дягтярным духом хомутов, уздечек и седелок, колесной мазью, свежим сеном.
— Вот он! — сдержанно вскрикивает старший парнишка. И мы едва успеваем перевести дыхание, как Пегаш, высоко вздымая коленные чашечки, проносит мимо нас чернявого человека, откинувшего из кошевы ногу в блестящем хромовом сапоге.
— Видали?! — исторгает тот же, придушенный волнением, возглас старший парнишка. — В Красной Армии был Пегаш, под командиром ходил, может, под самим Ворошиловым!
— Болтай, хлопуша! — подает голос кто-то из пацанят. Мне уже начинает нравиться эта невесть откуда взявшаяся орда-компания.
Мы идем кромкой рощи, кидаем в рот щепотки сырой пшеницы, пережевываем зерна до вязкой кашицы, заглушаем голод. И многоцветный мир с птичьими голосами в листве березок движется и течет под высоким полдневным солнышком августа. Гибкие березки, между ними кудрявые розетки заматеревшего дудника, султаны конского щавеля, морковника… Внезапно роща редеет. Здесь деревья толще — с жесткой корой, с обломанными по низу сучьми. Это мы выходим к совхозной дирекции — к старинному с резными наличниками сосновому дому на прочном каменном фундаменте. Дом этот раньше принадлежал попу из какой-то местной церкви, но ничего поповского в облике дома не сохранилось. Вывеска дирекции, доска показателей, красный плакат по резному фронтону: «Вперед, к победе коммунизма!». Надпись прочитал нам старший парнишка.
В низинке напротив ржавеет брошенная, без колес полулегковая машина пикап.
— Отлетал свое! — говорит наш предводитель.
Окруженные решеткой, сколоченной из потемневших от дождей и ветра плах, стоят два каменных человека. Одного из них в глухом френче я тотчас узнал, взобравшись на вскинутую вперед высунутую из деревянной клетки руку второго каменного человека.
— Гляньте, это же великий Сталин!
— Вакуированные памятники-то! — важно заявляет наш командир. И тут же он внезапно настораживается, меняется в лице:
— Ты чё это, карапет! Ты зачем залез на руку-то, а? Вдруг отломишь! Ты кто такой, чеглок полосатый?
— Сам чеглок! — во мне вскипает не просто обида, а злость — так меня еще никто не называл. Я готов кинуться в драку. И кинулся бы, если б не сидел на верхотуре.
Старший парнишка почувствовал это, счёл, видимо, ненужным трогать «чеглока» или испугался.
— Айда, ребятишки, а он на нас докажет! Рвем когти!
И орда, как не бывало её, сверкая пятками, исчезает за кустами густой поповской сирени.
Как по ступенькам, спускаюсь я по досточкам обрешетки «вакуированных памятников» на землю. Поплевав на ладошки, оттерев известковую пыль со штанов и рубашки (на них и так полно всяких мазутных и зеленых травяных разводий), скоро забываю о чужой компании, о Пегаше, о роще с каменными человеками, бегу к токарям, где так весело гудят станки, празднично вьются кудряшки железной стружки.
Беру её в ладони и чувствую исходящее от стружки умиротворяющее фиолетовое тепло.
ПРИЛЕТАЛ САМОЛЁТ
Самолет появился неожиданно. Он вырвался из-за Чащинской рощи, пронесся с ревом над совхозной мастерской, едва не задевая крыши колесиками шасси, полетел к нашему околотку. Над озером Долгим сделал разворот, прогремел над оградами и, угнав в подворотник кур, скрылся за колхозной овчарней.
Юрка Каргаполов сунул под рубаху шляпу подсолнуха, перемахнул через прясло:
— Орда, вылазь эроплан глядеть!
Мы с Толькой Миндалевым, прятавшиеся в картофельной ботве, подняли головы.
— Счас появится! — Юрка в азарте куснул огурец, оказавшийся переросшим, твердым, кинул его в заросли лебеды.
Самолет прилетел опять. В этот раз он шел так низко над огородами, что можно было различить голову летчика в шлеме.
— А-а-а, баба, с неба телега падат! — дурниной закричала Надька, четырехлетняя внучка хромой бабки Улиты. Недавно мы обчистили самый окраинный в селе бабки Улиты огурешник. Аккуратненько «поработали» — плети даже не поломали, набрали в карманы по пятку огурцов, собрались бежать на полянку.
— Самолет диверсанты подбили! Орда, бежим летчиков спасать! Мы с Толькой и глазом не успели моргнуть, как старший из нас, Юрка, уже сверкал пятками к околице. Туда же торопилась и вся деревня. Хлопали калитки, гремели брошенные пустые ведра. Впереди всех, визжа и взлаивая от восторга, летели собаки. Степенные, всегда неторопливые плотники втыкали топоры в недотесанные бревна, тоже дружно текли к околице. Молотобоец Васька Батрак бежал почему-то с кувалдой через плечо.
Выбрав за околицей поляну, самолет опустился невдалеке от сарая, где сушились под обжиг сырые кирпичи. Какое-то время рулил на поляне, подпрыгивая на кочках, ревел мотором на больших оборотах, потом смолк. Пропеллер перестал вращаться. Летчик, молодой парень, вышагнул из открытой кабины на зеленое, обтянутое жесткой тканью крыло, спрыгнул на землю. Тут уж гуртились подоспевшие. Поздоровался с мужиками, попросил попить. Быстренько, из сторожки колхозного зерносклада, принесли кваса, нас, ребятишек, оттеснили. Но Юрка, с завистью смотрели мы, сумел проскользнуть между ног взрослых — поближе к летчику. И даже потрогал крыло машины. Летчик что-то объяснял мужикам, брал из шуршащей пачки печенье, запивал из кринки квасом. Мужики слушали его, кивали.
В задней кабине ПО-2 был еще один человек. На него обратили внимание, когда тот спустил на землю увесистый блестящий прибор, стал смотреть в него, прислушиваясь, крутя никелированные ручки.
Спросить, что он делает, его никто не решился.
Самолет улетел так же скоро, как и появился. Пока он разбегался против ветра, оглушительно стрекоча и раздувая пузырями рубахи бежавшей следом ребятни, мужики махали выгоревшими картузами. Бабы придерживали цветастые подолы, продолжали дивиться впервые увиденному так близко аэроплану.
Расходились взрослые неохотно, шумно обсуждая событие. Мне и не вспомнить теперь, кто произнес это слово — «нефть». Но слово было сказано. Глуховатый мужик по прозвищу Братка, он прибежал к самолету, бросив неоструганную оглоблю к телеге, уверял мужиков:
— Точно, Карасин нашаривают под землей!
Над ним посмеялись, но поддержали:
— На днях это — на плотцы пришел воды почерпнуть, а поверху так сизая плёнка и плават. Нефть! Близко где-то она, под суглинком… Который уж раз примечаю…
Встряла какая-то бабенка:
— Карасин… Нефть… То-та! Это трактористы, холеры, мазутными ведрами протеяли воду черпать. Рубашонки полоскать негде…
Бабенку одернули. Замолчала. Всем хотелось верить в хорошее, грандиозное, необычное. Не случалось еще в нашем селе таких событий, как прилет самолета. Чудачества какого-нибудь. Нет, не случалось. Даже свадьбы, где можно поплясать от души, поклясться соседу в уважении и дружбе, а нам, ребятне, поглазеть на застолье сквозь неплотно задернутые занавески, давно не было. Нет, давно не было. Цвели подсолнухи, пахло визилем на сеновалах. По утрам отбивали косы во дворах, над полем парили ястреба и жаворонки. К полудню изнывали от жары — скотина, люди. Но люди делали работу. Простую, привычную. Каждый день. До заката.
И вот — на тебе!
Авторитет в суждениях держали мужики. Но им так казалось. Дальше всех фантазии заходили у нас, ребят. Удивил всех Генка Логинов — парнишка с совхозной улицы:
— Я точно знаю — за падинником сталь залегает в земле. Сталь! Так что железную дорогу из города к нам потянут. Точно. В совхозной дирекции я слушал: поезда будут ходить к нам…
Мы округлили на Генку глаза. Как-никак он хоть с горем пополам, но уже первый класс закончил. Правда, про Генку, потешаясь, рассказывали и такое:
— Мама, я кол получил по арифметике! — это Генка ошарашил мать свою уже в первую неделю учебы в школе.
— Учись, учись, сынок, кустюм новый куплю! — одобрила мать. Потом спохватилась, но ругаться уже было поздно.
Опять застучали топоры у строящейся колхозной базы, зачакала в кузнице наковальня, полилась в ведра у колодца вода. А мы еще гуртились на бугре, вспоминали подробности. Говорили сейчас не о летчике, а о том, кто прилетел на заднем сиденье аэроплана.
— Как он достал свой моторчик, я сразу догадался — пробу брать начнет! — говорил Шурка Кукушкин.
— Какую пробу?
— А какую на молоканке берут, на состав и жирность, понял?
— Да это же у молока жирность проверяют, а тут зернозем…
— Тут тоже надо пробу брать, чтоб не ошибиться. Нефть ишшут, кумекать надо! — настаивал на своем Шурка. Сам-то он про молочную «пробу» знает со стороны: коровы у Кукушкиных нет. И, понятно, плана на их подворье тоже нет — по молоку.
— Верно, говорит Шурка! Я целое лето план таскал, а оказалось, что — мало. Жирности не хватило! — подал голос Юрка.
— Пошел ты! Жирность! А может, это шпионы? Связали бы — и в сельсовет… У председателя Потапа Алексеича наган в сейфе.
— А ты наган видел?
— Как тебя, видел.
Не поверили и этому.
Мы лежали на поляне…
Юрка, самый старший из нас, затих, больше не вступал в разговоры мелюзги, думал. Потом спросил задумчиво:
— А кто видел, что ел летчик?
Никто не видел, что ел летчик.
— Да-а, хорошо быть летчиком! Вот вырасту, обязательно на летчика пойду.
— Упадешь где-нибудь в озере, захлебаешься.
Юрка не обратил внимания:
— Главное, летчикам всегда печенье дают! С килограмм, а может, даже больше. В каждом кармане насовано… Сам видел. И еще шоколад — НЗ.
— А это еще чё — НЗ?
— Неприкосновенный запас. Понятно?!
Мы пофантазировали еще какое-то время. Вопрос о нефти решился сам собой: «Раз говорят мужики… Раз прилетал самолет!» Не зря же он горючее жег, не зря в такую даль летел к нам в окуневские Палестины. У нас вон горючее берегут. Хоть и каждый день ездит в Ишим на бензовозе дядя Ваня Саломатов, с нефтебазы привозит. Случалось, что и пустым возвращался: нет горючего в городе! А тут — своё, дармовое! Копни землю поглубже, можно все бензобаки, керосиновые лампешки по горло залить. Вот какое дело — нефть!
Забыли мы в тот день про свои огородные подвиги, напрочь забыли!..
Как сейчас вижу прилет самолета — вблизи ряма и Засохлинского острова, где по весне так синё от незабудок, а летом снуют осы и разноцветные бабочки — раздолье, приволье. Из деревенских, бежавших на эту поляну посмотреть самолет, больше помнится молотобоец Васька Батрак и его тяжелая кувалда. Зачем он не оставил её в кузнице, до сих пор не пойму!
Недавно была война. В школу было мне еще рано. И голодно было в нашей местности. А столь было света, столь загадочного, манящего.
И не скоро еще — родилось у меня это самое «документальное» моё стихотворение:
Прилетал самолёт… А зачем? Уж теперь не узнаю! Пусть побольше загадок останется нам на Руси. Помню, в озере Долгом, зеленую тину глотая, От моторного рева ушли в глубину караси. Самолет покружил, опускаясь во поле широком, По которому резво коняга трусил под дугой. Помню, мы от винта раскатились весёлым горохом, И ковыль заклубило спрессованной силой тугой. И казалось — небес опускался за ярусом ярус, Что-то кепку удуло в угрюмый дурман конопли, Чьей-то белой рубахи надулся восторженный парус, И смущенные бабы держспи подолы свои. Из кабины ПО-2 показался таинственный лётчик, Он на землю сошел и «Казбек» мужикам предложил. Сразу несколько рук потянулось и только учётчик Угощенья не принял — он, знать, в РККА не служил. Прилетал самолёт… Пустяки, приключенье какое! Ну село всполошил, от работы, от дел оторвет. И поднялся опять. Но надолго лишил нас покоя; Ведь не зря же, конечно, он, тратя бензин, прилетал? Нет, не зря… Ах, как он растревожил меня, шпингалета: «Буду летчиком — точно! — решил, — А доверит страна, Сам сюда прилечу я со сталинским важным пакетом, Папирос дополна и конфет привезу дополна! А на землю сойду — от сапог только солнышко брызнет! И на чай, на блины со сметаной родня позовет. В ту уж пору, конечно, мы все заживём в коммунизме…» Дальше спутались грёзы. Позвали полоть огород. Снова возле домов мужики с топорами потели, Так никто и не слышал мальчишечью думу мою. На Засохлинском острове сильно берёзы шумели, И журавль у колодца раскачивал долго бадью.ЦЫГАНСКИЕ КОСТРЫ
Орду нашу так и сдуло с уличной полянки. Побежали каждый ко своему двору, захлопали калитками, загремели засовами, накидывая кованые и проволочные крючки на петли внутренних запоров. Прилипли изнутра подворий к щелястым заборам и плетням, будто изготовились к скорой обороне.
А они, цыгане, повозки их с впряженными в оглобли конягами, двигались неразбойно, мирно, но с непонятным все ж нездешним пафосом, шиком. А ведь наезжали к нам эти полудикие, неизвестно откуда взявшиеся цыганские таборы, считай, каждое лето, И вроде б уж привыкли мы к разноцветию юбок и кофт цыганок, к их наступательным манерам, к голым, рахитичного вида, брюхам их ребятишек, к косматым, смоленым чубам вихреватых мужчин-цыган, к их фасонистым плеткам за поясом или за голенищами высоких сапог, к рубахам навыпуск — поверх просторных шаровар, при ярких опоясках с кисточками, а порой и при кожаных ремешках — иной поясной перевязи.
Так чего ж мы опять всполошились?!
Наезды цыганского табора, конечно, лишали село привычного, спокойного ритма жизни. Но не настолько, чтоб впадать ребятне в испуг, хорониться за крепью жердяных изгородей, за бревенчатыми заплотами, нащупывать в карманах рогатки и шрапнель «чугунков», которыми в обычную пору пуляли мы по воробьям, по забредшим с чужого подворья курам иль по чьему-то блудливому, шлындающему беспризорно поросенку.
Все просто: для нас переполох этот — вроде игры. А они двигались. Одна, вторая… пятнадцатая повозка-кибитка, оглашая нашу окраину то присвистом, то щёлканьем кнута, что играючи, фасонисто взвивал над головой чернобровый молодец. Кнут с медными колечками змеей изгибался в воздухе, раздавался треск, будто раскалывалась скорлупа полупудового ореха. Чужая, непривычная для нас жизнь и вольница.
На горничном подоконнике нашего дома качнулись цветки гераней. За ними чудился мне любопытный взор мамы. Зашевелились огоньки ваньки-мокрого в окнах избенки дедки Павла Замякина, за которыми мелькал платок бабки Пашихи.
А на самой окраине улицы выглядывал из огородной картофельной ботвы Шурка Кукушкин. И бабка Улита, припав на хромую ногу, замирала кривым изваянием посередь ничем не укрепленного двора, кое-как обозначенного гнилыми жердочками.
Взрослые, конечно, нянчили надежду, что разноцветный этот поезд телег минует незабудковые полянки возле соснового ряма, уедет за Зуево болото, втянется в леса и канет в боярках травянистой малонаезженной крутобереговской дороги. Или свернет на городскую дорогу — туда, к Дворникову болоту, обогнув гороховое поле Засохлинского острова. И тогда опять распахнутся наши калитки, отодвинутся ситцевые занавески на синих окошках и простая, бесхитростная обыденность воцарится на наших улицах — без лишнего и чужого человека, без настырного ока чернявых гадалок, которые, не догляди только, не побрезгают унести со двора нужную вещь — оставленные после стирки на плетне иль веревке платьишки хозяйки, рубашонки ребятишек.
Но цыганский табор никуда не повернул, а прямо от колхозной овчарни стал втягиваться в ближний березовый колок по соседству с мирскими могилками. Подростки-цыганята по дороге успевали, соскочив с телег, опустошать кромку горохового поля, тщательно охраняемого от нас, деревенских, конным объездчиком. Он, объездчик Барышников, бдительность, что ль, утратил? Будто косилкой, стригла горох голопузая крикливая вольница.
Обоз втянулся в густоту рощи и вскоре над вершинами её ударили в предвечернее небо большие дымы.
Цыгане ставили избитые дождями, выбеленные зноями палатки, наполняя их нутро подушками, перинами, разноцветным, как все разноцветное у цыган, походным скарбом. У костров звякала посуда — прокопченные кастрюли и большие котлы; цыгане готовили похлебку. Ожила походная кузница. Цыганский мастеровой-кузнец, позвенев молоточком о наковальню, ладил разбитый в пути обод колеса, осматривал подкову захромавшей молодой лошадки.
Картины и действо сие легко представлялись и угадывались нами из прошлого опыта, когда в неистребимом любопытстве подползали мы в густой траве к табору, наблюдая таинственную жизнь кочевого народа.
Табор кипел, гоношился, затихал, вновь вспыхивал. Мелькали шали с кистями и яркими маками, розовые рубахи мужчин, звенели мониста из монет, стекая с загорелых шей молодок в соседстве с горошинами красных и малиновых бус, колыхались под кофтами просторные груди.
Как и у нас на взгорках, неуемно кипела ребятня, младшая сплошь бесштанная, босая, подростки-отроки в извоженных в пыли и золе портках, то и дело сползающих с задниц, с криками, смехом водружаемых на место. В гомоне этом сквозила бесшабашность, прерываемая увесистыми шлепками матерей. И если вдруг зачинался рев, то немедленно обрывался под строгими командами мужчин или отроков постарше. Однажды один из цыганят, лет восьми-десяти, обнаружил нас в лопухах. Не напугался, скорее удивился и выпалил:
— Хочите, на пузе спляшу?
То что плясать эти чертенята умели ловко и отчаянно — помани только монеткой иль бумажной деньгой, что делали порой наши взрослые парни, мы знали, но вот — «на пузе», такого не доводилось нам еще видеть.
— Врешь, поди, не умеешь…
— А дайте двадцатчик, спляшу!
— Даром давай! — сказал за всех Шурка Кукушкин.
— Хи-и-трые! Не-е, только за двадцать копеек! Вот завтра в деревню привалим — денежки готовьте!
Завтрашнего дня селение наше ждало не без тревоги, наученное прошлыми нашествиями этого народа, утомительными, обещающе-сладкими приставаниями погадать-покудесить, способностью выманить не бог весть какое богатство (его и нет ни у кого из сельчан, а все ж выцыганенное куриное яичко, краюха хлеба, пучок лука с гряды были не лишними в наших домах). И все же многие при этом отворяли калитки на стук гадалок, и души свои растворяли доверчиво. Вдовые бабы — особенно. Солдатки недавней войны. Легко и охотно попадали под их чары да разговоры о «счастье», об «удачах в жизни», с легкостью одаривали чернобровых не только парой гнезд молодой, еще не набравшей рост, картошки, не жалели и трёшницы. Вынимали из угла комода припасенное на завтрашний день. С каких небес привалит этот фарт, было неясно, а все же верили бубновому королю, трефовой даме, посулившим при гадании «нечаянный интерес».
— Цыганки идут! — всплескивала руками мама, заметив в окошке колыхающую юбками в направлении к нашей калитке гадалку. — Беги задвинь на бастриг ограду.
Я бежал и задвигал, еле осилив тяжесть этого бастрига. И потом вопросительно смотрел на маму, чуял мальчишеским разумением — ведь приказывает она с неуверенностью, что ль! Знаю, и сама мама, не будь лишних глаз в доме в эту пору, охотно бы послушала гадалку. И одарила бы. И для цыганенка достала пару сладких конфет, что хранятся в дальнем углу шкафа для «добрых людей». А тут бросала мне, будто в сердцах:
— А ну их к холере такой!
Было иль не было, теперь уж трудно заключить, но так получалось в пору огневого стояния табора в березах Засохлинского острова, что всякая мелкая пропажа со двора приписывалась им. Выпластанные у иной хозяйки первые огурцы деревенскими архаровцами темной ноченькой тоже сваливали на кочевой народ. До одной, как говорится, кучи!
То вдруг проносился слух, будто в Савино-деревне или на Одышке — глухой лесной ферме пропал конь. Ниточка, судили-рядили, вела в цыганский табор. И по окрестности — не попадись на пути! — скакали верховые мужики на оседланных горячих жеребцах. Шерстили будто бы таборных мужиков-цыган. И это вовсе не слухи — врывались к кострам, устраивали разбирательства. Полосовали будто бы направо-налево кнутами и троехвостными плетями, но добиться ничего не могли. Молчали, знать, виноватые. И населению было ясно: конокрады спознались с казахами, и угнали коня в Северный Казахстан — в петропавловские степи и аулы, а там ищи-свищи. Казахи не выдадут. Не тот народ, что наши простодырые русаки-Иваны.
Находился не находился потом этот запропавший конь? Не помнится нынче. Только явственно отпечаталось в жарких представлениях той поры: ничего разбойного не было выявлено нашими самодельными дознавателями-сыскарями. И табор, и село успокаивались, обоюдно вглядываясь ночами друг в друга. Таборные — в огни семилинеек-ламп нашей деревенской стороны, а мы — в вонзающиеся в небеса костры Засохлинского острова. Там, вблизи страшного кладбища, долго, до утра, раздавались песни и звоны, музыка незнакомых нам цыганских инструментов.
Цыганки идут! С улицы, а может, с чьего-то высокого забора донесся солнечным утром голос этот. Иль родился-возник сам собой — ожидаемый, похожий на огненный выдох тревоги, на команду «Свистать всех наверх». Он взбодрил и меня, рванувшего по приступкам сеношной стены на чердак дома. Там, отодвинув пласт дерновой кровли, прилип я к образовавшемуся смотровому отверстию.
Цыганки идут!
Интересно. В кино про Александра Невского, что недавно показывали бесплатно всей деревне, развешав на уличной стене старого клуба белое полотно, вот так же похоже двигалась толпа наступающих воинов. С мечами и пиками, с рогатинами и оглоблями, в кольчугах и островерхих шлемах, а больше просто отчаянные мужики — посконные рубахи, армяки, косматые шапки!
Текли и в боевом равнении, но опять же гуртом. Сосредоточенно, с азартом и верой в победу над псами-рыцарями, закованными в латы, грозные железа-доспехи.
Странно и, пожалуй, нелепо, что утренний исход цыганок из берез и костров Засохлинского острова напомнил мне победное для русичей сражение!
Они шли в направлении наших улиц. Масса, никем будто бы не управляемая, но охваченная единым порывом, одной целью.
И без биноклей, зрительных труб, расстояние-то — километр какой-то до нашей окраины, виден их устремленный шаг. Почти на каждой «воительнице» — малый ребенок, торчащий за плечами, притороченный к спине полушалком, иль на материнской груди, а следом босоногая мелкота — словно тыловое обеспечение. Фаланга, когорта. Как боевые доспехи, через плечо глубокие кошелки на лямках, какие-то короба, напоминающие наши плетеные из тальника корзины. И все это — понятней понятного для нашей орды! — для сбора дани с деревенских дворов: кто что подаст. А брать неутомимые гадалки умели. Искусницы. От мала до велика.
Ничто не противостояло надвигающейся толпе, если не считать припоздалую телегу. Все ушагали давно на свои и казенные покосы. А эта телега и впряженный в нее бык-тихоход на какое-то мгновение погрузились в разноцветье движущейся массы, из которой потом вылущились уже в просторном поле.
Соскользнув с чердака, очутился я в доме. Толстые бревенчатые стены не пропускали уличные звуки. В окне, текущие в село толпы гадалок раздвоились на два потока, втягиваясь в солнечные улицы и на полянки конотопа. Тихо в селе. Пусто, как всегда в пору сенокоса.
Настойчивый стук-бряк в доски калитки застал меня посреди двора, возле водопойного корытца для кур, куда я только что долил полведерка теплой озерной воды. Неожиданный — он, как приворожил, присушил. И деться некуда от этой присухи.
— Открой, мальчик, че-то скажу тебе! Много счастья придёт к тебе, мальчик. Ты и не знаешь, сколько счастья…
— Не-е, мама не велела никому открывать.
— Мама у тебя хорошая. А только не везет ей… Я скажу заветное слово. Много счастья вам будет. Очень скоро. Мальчик, хороший-баской… Ты не бойся меня, я не цыганка, а сербиянка. Принеси хлебца для ребенка. Не жалей, принеси скорей…
И слова про ребенка, который, наверно, голодный спал у цыганки-сербиянки в шали за спиной, жарко вспыхнули во мне. В то же время хотелось поскорей избавиться от этих навязчивых и сладких слов, обещающих надежду на хорошее. Готовый сорваться и влететь в дом, отпласнуть от оставленной мне на день круглой булки хлеба, я поднял взгляд и тут увидел отрока-цыганенка, что успел взобраться на забор.
— Дай денежку, на пузе спляшу!
Ощущаю властную волю чужих слов. Ноги сами несут меня в дом, где отламываю от мягкой булки большой кусмень, соображая, чем бы еще ублажить таборных, ведь не отстанут просто так. А там, у ворот, цыганка подсказывает с той же настойчивостью:
— Молочка для ребенка! Давай, миленький, неси.
И я опять в доме, под лавкой нашариваю литровую банку с молоком. А потом чернявая, легонько усмехнувшись, переливает молоко в свой бидончик, благодаря уже с меньшим жаром. И, совсем равнодушно колыхнув юбками, направляется к избе Замякиных…
Еще в этот день выпадает мне наблюдать (уже без боязни) полевую беспечную жизнь табора. И застрянут эти картины в памяти детства вместе с острым запахом зеленой, только из-под литовки, травы. Колхозные бабы весело пластают её в сырой пойме Зуева болота. Мужики укладывают вилами на телеги. И череда телег, медленно влекомая быками, скрипуче тянется в село — к силосной яме. Пока достигнут телеги кромки глубокой ямы, пока погонщики быков скидают траву с возов, можно прокатится на зеленом медленном возу с чувством общности к большой работе, которую делают и творят взрослые.
Мне разрешил забраться на зеленый воз взрослый парнишка Борька Фролов. Белобрысый, стриженый наголо, плечистый, с широкими ладонями рук. Он сильный парнишка. И не задавала. На Борьке белая со взрослого мужика рубаха. Обшлага рубахи пожеваны теленком — недоглядели, знать, когда сушилась рубаха на плетне. Потому Борька закатывает рукава, отчего и вовсе похож на взрослого работника.
Нашего быка кличут Белеем. Он без хвоста. Когда-то в телячьем возрасте хвост был откушен собакой. Бык упористый, сквозь короткие белесые волосья хребта просвечивают розовые бугры мышц, будто под кожей извиваются узлы веревок. На мощной короткой шее в такт шагам поскрипывает отполированное долгими трудами деревянное ярмо. Белей, как и все быки, шагает размеренно, пуская и роняя в пыль слюну, а Борьке кажется, что скотина хитрит, ленится. Парнишка покрикивает на Белея для порядка, зная, что того не разгонишь и доброй вицей, не то что матерками и угрозами.
Я лежу на возу и слежу за жаворонком. Он высоко. И неподвижен в синеве. Ниже проносятся стрекозы, порхают мотыльки-бабочки. Прострелит вдруг ласточка. А если перевернуться со спины на брюхо, можно увидеть трясогузок, что трясут своими хвостиками, бегая по кромке пыльной дороги.
Но больше всего восторгов от запаха зеленых трав на возу, их сладкого духа, пронизывающего полдневный воздух, озвученный скрипами колесных ступиц (от них примешан к знойному хмелю трав запах дегтярной смазки).
Мы дергаем из травяной кипени воза шершавые, сочные дудки пучек, ошкуриваем, хрустим сладкой, утоляющей жажду плотью.
— Э-э, дай пучку! — кричит нам голопузый цыганенок, извиваясь, вихляя тощим задом, стараясь привлечь к себе интерес.
— Самому нарвать лень! — откликается с воза Борька. Но тут же кидает цыганенку зеленую дудку лакомства. — Давай пляши!
Пучку цыганенок ловит на лету, в кошачьем изгибе делает переворот через голову, хохочет и убегает в березки.
Вся опушка леса, обжитая, утоптанная до дерна, продымленная кострами, заставленная палатками и телегами, кипящая голосами и в полдневный зной, для нас по-прежнему — чужая, загадочная. И ни теперь, ни завтра, никогда мы так и не отважимся запросто взойти на этот пятачок земли, где все близкое, соседское, а все ж не наше — эти маки и розы ярких полушалков, эти блики костров, что опять вспыхнут в летних сумерках, эти фырканья и всхрапы коней, что безбоязненно пасутся на кромке запретного горохового поля.
И воля. Чужая воля!..
А вот уж зимний глубокий вечер. То ль декабрьский, то ль январский, но какая разница, коль мороз одинаково разукрашивает у нас оконные стекла, что в начале зимы, что в её зените. А сегодня еще такая падера вьёт и завывает, что не видно и света белого! Ни луны, ни звезд. Только снег — в вихревом кружении ударяющий в стены, в стылые стекла окон, подвывающий в трубе русской печи, с утренней топки основательно остывшей. Мама хлопочет возле корчажки в кути, замышляет скудную квашенку, то и дело поглядывает на железную печурку, колено трубы которой прилажено к отверстию печного чувала. Мама говорит (уже в который раз), чтоб кто-нибудь принес мелких дров, щепок да разжег эту железянку…
Отужинали. Отец привычно шелестит свежей газетой «Правда». Прибавляет огня в лампе-семилинейке, настраивается на читку вслух.
С улицы, от ворот, доносится бряк о воротные доски и чей-то зовущий нас, обитателей дома, голос.
— Кого-то Бог принес! — всматривается в темное окно мама. — Василий, сходи посмотри…
Облачившись в тужурку, шапку, отец выходит в метельную тьму. И через минуту оттуда, из темного двора, уже ясней слышатся голоса, скрипы отворямых внутрь ограды ворот. Облепленную снегом лошадь, розвальни с людьми, мы с Сашей рассматриваем, уже приникнув лбами к морозным узорам оконных стекол. Ночные гости заняли уже половину двора, продравшись через сугроб, навитый, набитый в ночи к воротам. Входит отец, отряхивая с шапки снег, и говорит:
— Цыгане ночевать просятся!
Обыденно сказал, будто каждый день происходит такое. Бросил на опечек холодные рукавицы, попал в кота, тот недовольно сорвался с теплых кирпичей, прострелил в открытые горничные двери. Мама оставила опару в корчажке, вытирая о передник мучные руки. А в двери тем временем, окутанное морозным паром, шалями, вкатывалось цыганское семейство, громогласно здороваясь и сразу плотно заполняя собой пространство избы.
— Околели, знать, господи! Раздевайтесь, раздевайтесь! — спешно приговаривает мама, справясь с первоначальным смущением и заметной растерянностью. Но семейство и само торопливо освобождалось от одежд, сваливая плюшевые жакетки, пуховые шали, шапчонки и фуфайчонки ребятишек на доски курятника, всполошив дремавших кур. Они уже высовывали сквозь решетку загородки клювы и гребешки, успевали склевывать с валенок ребятишек крупчатый снег.
— Шура, принеси дров, железянку надо затопить! — решительно сказала мама. И брат, накинув фуфайку, шагнул в дверь. Затем вышел отец, чтоб помочь хозяину цыганского семейства устроить на ночлег заиндевелую лошадку, что стояла уже распряженной, освобожденной от хомута, сбруи, прикрытая просторным пологом.
Отлипнув от горничного окошка, я рассматриваю ночных гостей. Пожилая цыганка с белой серьгой в ухе спокойно восседает на лавке под иконой Богородицы. Вертится подле нее пара пацанов лет пяти-шести, мои ровесники. Под цветастым платком молодой цыганки обнаружился грудной ребенок, который вздумал было громогласить, но замолк, получив выпростанную из кофты титю.
Мама позвала меня из горницы, велела спуститься в подпол за картошкой. Когда я с полным ведром высунулся на ламповый свет кути, в ней уже громоздились перины, подушки, цветные стеганые одеяла. И мама давала распоряжение мужикам — наставительно и властно:
— На полати поднимайте! Там теплей и всем места хватит!
Потом запластали дровишки и щепы в железянке, изба быстро наполнялась новым теплом, а над заалевшими боками печки-железянки запарила в чугуне картошка в мундирах. На столе заискрились в блюде пласты морозной квашеной капусты, отец принес из сеней и положил горкой на столешнице соленых карасей — продукт этот, запасенный еще по теплу, до ледостава озерного, обычно у нас не переводился и всегда становился подспорьем к картошке, капусте и огурчикам, за которыми, конечно, надо было проникать в заметенный снегом погребок. А это уже — целая «операция», провернуть которую иногда поручалось нам со старшим братом.
Сгрудившись вокруг колченогого стола, цыганское семейство азартно принялось за ночной ужин. Вдобавок к угощениям мамы на столе возник кусок вареного, еще не оттаявшего мяса, хозяин-цыган, ловко орудуя ножом, кромсал его на доли, настойчиво приглашая попробовать этого угощения!
— Ешьте, ешьте, мы уже поужинали! — говорила мама. И батя наш, присев на лавку, все бросал взгляд на чернобрового усача-цыгана, на жилетке которого багряно посверкивали две Красных Звезды.
— Воевал? — наконец задал вопрос отец,
— Да, воевал! В пехоте. Командиром роты! — кивнул усач, ловко справляясь с кожурой горячей картофелины.
— Я тоже в пехоте! Вот, — отец закатал рукав на правой руке, обнажив истерзанное разрывной пулей предплечье. — Зимой сорок второго под Ростовом долбануло. На этом все и кончилось.
Если бы батя был сейчас под хмельком, то понеслось бы, понеслось… Сначала тост — «За Родину, за Сталина». Потом промокнул бы слезу, замолчал надолго, дозревая до каких-то новых горячих рассуждений-откровений, пока не возникла бы в душе, не выплеснулась бы отмятая в горькой слезе песня:
Дул холодный порывистый ветер. И во фляжке застыла вода…Но ничего этого сейчас не случилось. Стояла глухая ночная пора. Падера била в стены. Из кути растекался по всему дому нечастый в доме запашок набухающей в тепле хлебной опары-закваски. В курятнике сонно зевали куры, Петя-петушок ворковал что-то свое, петушиное. В горенке топорщился, стуча слабыми копытцами по доскам пола, недавно народившийся теленок. Проснулся, затосковал, знать. Надо было уже укладываться на «спокой» и людям. Зимняя ночь хоть и долга, хоть и уводит она в глубокие сны отшумевшие заботы минувшего дня, а с новой зарей приспевают они всей оравой, только успевай справляться с ними, колотись и спроваживай, ублажай их до нового ночного покоя.
Ребятишки-цыганята ловко взобрались по брусу в тесноту полатей, отец-цыган подсадил туда и молодую мать с грудным ребенком. Пожилой цыганке постелили на русской печи. Отец наш, сняв нагар с ламповой тесьмы, остался на лавке с орденоносным усачом. Вели разговоры. Тихо. Приглушенно, стараясь не досаждать громким словом притихшему дому и нам, разметавшимся на прохладных половицах горницы, в вышине полатей, в жару перин, подушек, цветастых стеганых одеял.
Но умиротворение в доме продолжалось недолго.
На полатях, одурев от жары, уж так натопили за вечер железянку, ребятишки-цыганята заканючили: «Жарко»! И вниз, на пол избы, посыпались эти одеяла, подушки, с глухим плеском свалилась перина, наполнив куть куриным пухом, перьями, волнами жара и густой пыли. Заплакал, запросил грудь ребенок. Но скоро вновь успокоился. В горницу донесся голос бати:
— Жарко, так устраивайтесь на полу! Ничего, перезимуем!
Остальные звуки, разговоры, волны жара из избы провалились в густоту сна. И только утром, разбуженный хлопаньем дверей, а с ними и холодом, проникающим под тулупчик, которым укрывались мы с братом, я спешно соскочил, приник к узорам окна, за которыми стоял серый, разреженный свет наступающего утра. Падера улеглась, лежала пушистыми клоками на прясле, на поленницах, на крыше стайки. По всем приметам, отпустил и мороз. Отец откидывал от ворот снег, и его комья липли к деревянной лопате.
Дотапливалась русская печь. Мама пекла лепешки и опрокидывала их с горячих сковородок на стол, на котором стояла кринка молока из утреннего удоя. Потчевались молоком и лепешками цыганята и их матери.
Орденоносный хозяин уже хлопотал с санями. Проверял завертки оглобель, остукивал топором кованые полозья, отбивая грязные комки льда и снега.
Брат Саша быстренько смылся в школу, пожевав в кути лепешку и запив ее парным молоком. Следом и я выбежал на двор, где сразу получил задание от отца — принести из сеней молоток и несколько гвоздей. Потом вдвоем с цыганом они ремонтировали санный передок, укрепляли гвоздями отвалы розвальней. Мама вынесла цыганской лошади теплой воды в ведерке. И вот уже, накидав в розвальни несколько охапок сена, сверху водрузив скарб, цыганское семейство готово было в путь.
— И куда вы поедете? — вышла во двор мама, когда уж женщины и цыганята разместились в санях, опять кутаясь в шали и в разноцветные одеяла, а хозяин-усач держал под уздцы лошадку, готовый вывести упряжку на деревенскую улицу.
— Поедем! — неопределенно сказал хозяин-цыган и натянул повод уздечки. — Спасибо за привет! За ночлег!
— Поезжайте с добром! — сказал наш батя и больше не промолвил ни слова, сухо перекатывая желваки скул, словно сдерживал и глушил в себе ему только ведомые чувства и думы.
Потом мы закрывали ворота. Трудно, с упором, чертя в снегу глубокие борозды. Задвинули тяжелую жердь — в скобы столбов. И тогда обнаружилось, что одна из досточек ворот этих старых-престарых требует гвоздей и молотка, чтоб закрепить ее на своё место. Отец опять послал меня принести инструмент.
— А нет там молотка! — сказал я, вернувшись к воротам.
— На месте должен быть… Подожди, подожди! Тебе разве он не отдавал обратно?
— Не-е.
— Подожди, подожди… И мне не отдавал. А я ему — прямо в руки… Три гвоздя и молоток…
Пошарили, полопатили снег в ограде. Отоптали санные следы. Осмотрели поленницы — вдруг на дрова положили? Нет. И нет.
— Да как же это так? А? Молоток. Молоток?!
Я все понял.
А батя наш стоял посреди двора, качая головой. Гнев и другие слова будут потом. А пока он недоуменно, вопросительно разводил руками.
СТУЖА НЕПРОГЛЯДНАЯ
В ноябре сорок восьмого года родился у нас братик Володя. Неспокойный. Слабенький тельцем. Не вовремя родился — разумела родня и околоточные бабы. «Парнишка-то, Катерина, знать, помрет!» — щупала темечко наревевшему уже пуп ребенку соседка Авдотья. Бабка Пашиха. И качала головой. Мама роняла полотенце, которым протирала стаканы, и пугливо смотрела на пророчицу, а меня обдавало страхом, встававшим внутри ужасом.
Как это помрет? Помирают ведь старики, старухи.
Летом умер старик Пеганов. Его гроб вынесли в улицу на руках, поставили на табуретки у ворот, потом белую из досок домовину подняли на телегу и повезли на могилки. Из гроба белела борода, а над селом стоял такой истошный рев дочери старика, семнадцатилетней Маруськи, что, казалось, пришел конец всему миру, что вот опустится и погаснет солнышко, всех нас оденет темнота, мрак. Это был первый ужас смерти, что запомнился мне наглядно.
В селе не оклемались еще от голодного сорок седьмого. Для совхозников, конечно, относительно голодного: все ж давали карточки на магазинный хлеб. Безденежные колхозники перебивались натуральным хозяйством, проще сказать, огородным. А говоря по-местному, «через три дня тряпицу сосали». Кромешная же голодовка — с лебедой и крапивой — накрыла своей безысходностью только семьи совсем захудавшие за время войны, где ни кола, ни двора, «ни едреной матери, ни поросенка», где побило на войне хозяев-мужиков.
Сорок седьмой, когда шел мне четвертый год, вспоминается обрывочными картинками. То ярко-зеленой полянкой возле ворот нашего дома, то стрекочущей на морозном колу сорокой. То вижу, как обряженный в первые настоящие, из чего-то перешитые мамой, штанишки с лямками через плечо, отправлен я по тропинке попроведовать бабушку Настасью. То припомню, как в зимнюю стужу явился я с горки, что возле ворот Ивана Ермиловича Субботина, где каталась на досточках ребятня постарше. Обмерз с ног до головы ледяными коростами. Баранья (тоже производство мамы) шубейка — колом. Брат, разламывая полы одежды, раздевает меня и костерит то и дело: до соплей промерз, надо ж! Но накормят. Супчику с капустой, забеленного молочком, — плеснут. Из семейного чугуна, с пылу с жару.
У обитателей соседней с нами избушки-землянушки вовсе ничего нет. Может, картохи какие? В земляном этом обиталище живут Подстановкины. Соломея с сыном Колькой — ровесником и дружком нашего Саши. Отец Подстановкиных, Афанасий, сгинул на фронте. Старший из сыновей Митрофан, слышал я разговоры, умер в войну от «заворота кишок». Весной как-то выдолбил изо льда утонувшую в проруби колхозную овечку, наварили мяса, наелись с голодухи. У самого старшего — и случилось. Не могли спасти. Похоронили.
Второй сын Федот, ровесник нашего старшего брата Григория, закончил вместе с ним школу ФЗО в Ишиме, ездит кочегаром паровоза на Омской железной дороге. К слову сказать, кочегарство, о котором на разные лады говорят в нашем околотке, для меня некая легенда, мечта…
Землянушка Подстановкиных мерещится мне блиндажом. Слово это принесли в село воевавшие мужики. А проще сказать, балаган это, едва возвышающийся над землей. Труба печная из старого ржавого ведра без донца. В перекрестье утлой рамы три пыльных стеклышка, вместо четвертого — поршень от мотора трактора «ЧТЗ». Из щелей торчат гнилые тряпицы, пучки ржавой соломы.
Землянуха-балаган — это все, что осталось от просторной бревенчатой избы. Сожгли её Подстановкины в зимние холода в войну. Сначала отпиливали зауголки, потом порушили сени, крышу, вывернули одну за одной плахи пола. В конце концов, пришлось рыть для жилья землянку. Перенесли туда сохранившиеся от избы косяки и дверь. Приспособили одну из оконных рам да пару плах пола — над картофельной ямой. Сгундарили кой-как подобие русской печки, нары, угольник стола. Оставшиеся от избы бревна, терзаемые тупой пилой, помогли одолеть холод очередной зимы.
По весне Подстановкины собирали с миру по нитке, а точней, с нас, соседей, картофельные семена, садили огород. Семена, конечно, сказано громко: на посадку шли очистки с глазками. Сам клубень назначался в котелок — на варево. Съедался. И все ж «посадочный материал» прочикивался слабыми ростками, они постепенно набирали силу, рост. И к осени удавалось сделать припасы к зиме. А зимы у нас долгие, лютые!
Соломее порой выпадало и заработать в колхозе с полмешка зерна. На зерноскладе или на пастбе овечек. Но зима запечатывала Подстановкиных в их землянухе накрепко. Одёжка — рвань, а обувки совсем никакой. Ночные февральские метели закладывали землянуху вровень с сугробами. И тогда кто-нибудь из соседей брал лопату и откапывал бедолаг — самим им никакими путями не выбраться бы на свет белый.
Зима. Голодная, злая. Бескормица и на «обчественном» колхозном дворе. Дохли телята, овцы, падал и взрослый скот — коровы. Лошадей выручали. Иначе — хана всему!
Филимон Вьюшков то и дело складывал морозные, окостенелые туши на сани, будто дрова, отвозил на падинник. Недалече, за первые березы Засохлинского острова. Рядом — православное кладбище. Грех-то какой!..
Падинник, словно магнитом, притягивал со всей округи голодных, свирепых волков. По ночам, помнится, пировали они на падиннике. Душу вынимали пронзительным утробным воем.
К весне остатки волчьего и лисьего пиршества в санитарных целях поливали раствором креолина. Но падалью да еще с отвратным духом креолина пользовались и в личных подворьях. Варили, подкармливали кур. Голодная птица не брезговала падалью.
Как-то отец наш, запрягшись в саночки, при-тартал с Засохлинского острова несколько скотских ляжек и стал мельчить их топором на морозном чурбаке, а мама собирала крошево в куриный чугунок. Тут отворилась калитка, и, ступая по снегу босыми ногами, зашла Соломея Подстановкина:
— Катя, дай хоть немного мяска… Совсем ись нечего…
Так было.
В другие годы, благополучные, отдаленные от войны, рассказывал мне об этом брат Саша, очевидец.
А сорок восьмой мне помнится такими же холодами. Ранним ноябрьским снегом, когда родился братик Вовка. «Не вовремя!» — талдычили в околотке. Конечно, иные заходили ободрить нас да обсудить новости, в коих упоминались «налоги», «подписка на облигации», «уполномоченные-нелюди». Да еще — снижение цен на товары в сельпо. Их, снижения, ждали всегда с первого марта…
Не вовремя? Да и кто, спрашивается, если приглядеться к нашей семейной истории, вовремя-то рождался? Старший Григорий, первенец, пристойное имя которому отстояли у попа в 1929 году при крещении в двоеданской церкви? Батюшка, заглянув в святцы, выудил там сильно уж мудреное даже для раскольничьего, староверческого слуха имечко. Типа Нафанаила или Акиндина.
Юный батя наш, состоявший к той поре в комсомольской ячейке, на дыбы встал. И деду Ермилу пришлось чем-то умаслить сельского батюшку, чтоб он подобрал подходящее ко времени и обстановке имя младенцу.
Так что, выходит, и первенцу пришлось «не вовремя» появиться на свет? Время — ого какое! Но кто смотрел на него. Рожали бабы. А это барометр и показатель того, что верили жизни. Столыпинские хутора, пашенные наделы, где пластались день и ночь на работах, как потом всю жизнь вспоминала со вздохами мать, прихлопнуты были сначала сельским НЭПом, затем всякими ТОЗа-ми — товариществами по совместной обработке земли. Но и товариществам пришел свой срок. Ударила коллективизация. Родители наши, бедняки из бедняков, получившие в надел, «на обзаведение», кобылу, отвели её в колхоз. Отец возглавил тогда комсомольскую ячейку в колхозе, а после работы, вечерами, до глубокой ночи заигрывался еще с ровесниками в детскую игру — в пряталки. А мама качала колыбель первенца — ревливого, неспокойного, не дававшего прикорнуть хоть на часок.
Выручал опять же дед Ермила: садился к зыбке, а невестку отправлял спать. Кончались дедовы «колыбельные» про Стеньку, про Ермака, про замерзающего в степи ямщика, рыжая борода деда клонилась к зыбке, а внучок будто и не дремал вовсе, принимался опять орать. Тогда дед выпрастывал его из пеленок, усаживал на колени, совал ревуну бутылочку с молоком, приговаривал: «Вот и хорошо! Вот и замолчал! Смотри, какой постреленок: голова тыковкой, нос огурчиком и «кисет» крепкий. У-у, какой запашистый «кисет», апчи-и! Ба-альшим человеком вырастешь!»
Гриша уцелел, одыбался, окреп, даже в ту пору, когда не стало деда Ермилы, когда отец потащил молодую семью на магнитогорское строительство, где житьё в бараке, рядом с семейными и одинокими комсомольцами-добровольцами, с крестьянской голытьбой, набранной сюда со всей сибирской и уральской округи. Мама опять же всю жизнь вспоминала, с укором поглядывая на отца, мол, он-то ученый-грамотный, токарному делу обучился, на станке работал, а она «в траншее сидела, глину под котлован копала».
Потом родители «соблазнились» строить другой уральский завод, где не легче было, чем на Магнитке. И там уцелел первенец. Правда, «испростыл и умер» второй наш братишка — Павел. Большеньким уж умер, четырехлетним. Не вовремя родился?!
Кто уж вовремя появился на свет, так это Саша. В тридцать пятом отец пришел со срочной службы в армии, где пробыл около года, сооружая в строительном батальоне укрепления на дальневосточном острове Даманский — на пограничной с китайцами Амур-реке. Вернулся, и в конце тридцать шестого Саша родился — потом самый хлопотливый и заботливый помощник родителей. Шурка, как всю жизнь называл его отец.
До Отечественной войны были еще две сестренки. Родители сильно не мудрствовали с именами — ту и другую поочередно называли Валентинами. Не дал Бог пожить им, умерли во младенчестве. Вторая Валентина, правда, успела пережить финскую войну, на которую тоже попал отец.
Вовсе уж ни к месту, ни ко времени я появился на свет. В ноябре сорок третьего. Война! Великая и священная. Правда, к той поре уже вылез из подвала сталинградского универмага немецкий фельдмаршал Паулюс, отсалютовал жезлом нашему генералу, сдался в плен.
Красная Армия победно шла на запад. А когда уж перемололи танковые армады Манштейна и фон Бока на Прохоровском поле Курской дуги, когда фашисты все большим числом залепетали, поднимая руки вверх: «Гитлер капут!», тут и вовсе стало ясно русакам, что наша берет — окончательно, бесповоротно!
И вот седьмого ноября сорок третьего в мире случилось два события памятных, когда мама рожала меня возле круглой горнешной печи, уцепившись в спинку железной кровати, на которой вместо панцирной сетки лежали внастил доски. Мать наша, по ее же рассказам, всегда освобождалась от выношенного плода стоя, и я, выпав на свет, крепко при-печатался левой щекой к некрашеной половице, набив синяк, именовавшийся потом долго родимым пятном. Хорошо еще погодилась Анна Андреева — соседка с овечьими ножницами, управилась с пуповиной и со всем, что нужно роженице.
Так вот, о двух событиях, случившихся в эту пору. Талантливый советский полководец генерал армии Ватутин взял ко дню Октябрьской революции Киев, якобы сделал праздничный подарок Сталину, а в нашем сибирском дворе пал под ножом старый козел. Душной и наглый. Постарев, он почему-то не успокоился, как бывает с людьми, а на всех нападал, бил рогами и животину, и человека. С козлом решили кончать!
А куплен он был у эвакуированного еврея Шустера Хаима Фаича. И стал козел легендой в нашей семье и в околотке на долгие годы. Вспоминался с неким почтением, что ли! Во-первых, из козла начесывали пух. Из пуха этого мама связала две шали. В войну, пока батя был на позициях, унесла продавать их в Ишим. Продала и буквально вывернулась с деньгами при покупке в Окунёво крестового дома, в коем я и родился потом. А двумя годами раньше, в сорок первом, проводив на войну отца, усадив в телегу ребятишек малых, понукая корову Люську, переехала она в Окунёво из большого села Уктуз, где жили, вернувшись с Урала. Посчитала, что в Окунёво, родовом селе, будет легче. Там мать, сестры, брат, который уйдет на фронт по возрасту только в сорок четвертом, когда ему исполнится восемнадцать.
Так вот — козел! Шустер каким-то манером приволок бородатого аж из самой Бессарабии, где, говорили, Хаим владел еще шинком и водяной мельницей. В Окунёво он прибыл со старухой, ходившей в длинных, широких, усыпанных цветами, юбках. Жили они в мазанке, наполовину вросшей в землю. Сам седобородый, очкастый, Хаим Фаич носил в любую пору потертую шапчонку, пимы с калошами. Тихий, неторопливый. Сама бедность. От сельчан отличался лишь тем, что регулярно — и в пору войны! — получал посылки от брата из Америки: сухофрукты да чернослив с косточками.
Шустер сторожил МТМ и порой приносил обглоданные косточки чернослива, раздавал — по горсти! — мужикам: для ребятишек.
Помню я Шустера, послевоенного уже, но помнятся и эти костяные американские орехи. Ах, доходил-доплывал этот чернослив из США до сибирского Окунёво и в сорок седьмом, и в ту пору, когда многие из кораблей, следовавшие в Союз с вооружением, что давала нам Америка по ленд-лизу, гибли, атакованные немецкими и японскими подлодками…
Так что, если все хорошенько прикинуть и прибросить на весах исторической обстановки, я вовсе не должен был появиться на свет. Поначалу вроде при народной эйфории — разгромим врага в несколько недель! — все для меня складывалось ладно. Отца как токаря наивысшего шестого разряда оставили работать в тылу по «брони». Ненадолго. Осенью решалась судьба Москвы. Сталин «с болью в душе» спрашивал Жукова: «Удержим ли Москву?» В ту пору и призвали отца в учебный стрелковый полк — в Черемушинские лагеря под Омском. Да и там пробыл он недолго. Выдали, как свидетельствуют записи в его красноармейской книжке, «шапку зимнюю, шинель, гимнастерку х/б, шаровары ватные, рубаху нательную (две), рубаху теплую нижнюю, кальсоны (три), полотенце (два), портянки зимние (две пары), перчатки теплые, ботинки, обмотки, валенки, ремень поясной, ремень брючный, вещмешок, сумку патронную, сумку для ручных гранат, флягу, чехол к фляге, подшлемник, противогаз, два кожаных подсумка, пистолет-пулемет 780».
То ль по нерадивости-оплошке, то ли по спешке ротный писарь не занес в красноармейскую книжку белый дубленый полушубок. Полушубки получали бойцы единственной в полку роты автоматчиков, в которую определили отца. Остальные красноармейцы были вооружены трехлинейками.
Эшелон с бойцами, едущими на войну, должен был проследовать через Петропавловск и Курган, и мама, получив об этом весточку от отца, принялась сушить сухари. Сговорились с Фросей Никитиной, её муж Иван был в том же полку, что и отец, встретить эшелон на станции Петухово. Туда тридцатилетние женщины по осенней распутице трое суток добирались пешком, ночуя в деревнях.
Добрались, встретились с мужьями. Эшелон задержался в Петухово на какие-то минуточки, но и того было достаточно, чтобы повидаться, поплакать у мужей на груди и потом долго махать вслед солдатским теплушкам.
Сибиряков привезли в Москву. Эти несколько дней, что довелось отцу единственный раз в жизни провести в столице, запомнились ему полупустыми улицами, по которым снежным вихрем гнало мусор и бумаги — огромное количество всяких бумаг. После ноябрьских и декабрьских сражений на подступах к Москве, где, как известно, отличились сибиряки, спасшие русскую столицу, отбросившие фашистов на сотни километров, Москва еще переживала тревожные, трагические дни. В предновогодние дни и в канун Рождества сибирские полки добивали врага.
Восемьсот семьдесят пятый стрелковый полк, где во второй роте автоматчиков находился отец, в начале января сорок второго прибыл на Южный фронт. Боевые плацдармы под Ростовом-на-Дону, который на короткое время удалось отбить у немцев, и заснеженные высоты под Таганрогом — свидетели тяжелых, кровавых сражений полка. О них отец рассказывать не любил. Под хмельком — иногда. Да и то сразу замолкал, смахивая слезу.
Последняя карандашная запись в красноармейской книжка автоматчика второй роты Василия Денисова — от 25 февраля 1942 года — сделана, видимо, ротным писарем иль командиром перед отправкой тяжелораненого бойца в госпиталь. В бою немецкая разрывная пуля ударила отца чуть ниже плеча в правую руку. Рукав белого полушубка срезало, как бритвой, отбросило в снег. Предплечье было раздроблено, рука на одних сухожилиях повисла плетью.
Мне столетьем казались минуты. Шел по-прежнему яростный бои. Медсестра дорогая Анюта Подползла, прошептала: «Живой!»Никто не мог удержать слез, когда в послевоенные годы в деревенских застольях отец доводил свою заветную песню до этих строк. Пел он, как когда-то на церковном клиросе, высоким, хорошо поставленным голосом. Мы промокали глаза, смущаясь сначала, а потом надрывно, с поднимающим грудь отчаянием, подхватывали:
Дул холодный порывистый ветер. Но во фляжке согрелась вода. Нашу встречу и тот зимний вечер Не забыть ни за что, никогда.Руку ему сохранил хирург-грузин в тбилисском госпитале. «Оставь хоть для приличия!» — попросил хирурга отец, когда понял, что госпитальный врач собрался «отчикнуть» руку, болтавшуюся на сухожилиях.
Когда немцы стали угрожать Кавказу, победно катясь к Сталинграду, к Волге, тбилисский госпиталь перевезли на пароходе через Каспийское море — в Красноводск. И уже оттуда, путями-дорогами Средней Азии, как раз к посадке огорода, прибыл отец домой. Шапка, шинелишка со спаленной до пояса полой — чьё-то б/у, выданное в госпитале. Рука в бинтах, на белой шейной перевязи-помочи, точно спеленутая кукла, лежала на груди.
Из ближних к нашему окраинному околотку пятистенок уже получили похоронку Никитины. На Ивана. С ним отец «вместе пошел в последний бой, а потом ни среди раненых, ни среди уцелевших его не видел».
Вскорости вернулся с покалеченной рукой сосед Павел Сергеевич Андреев. А кто-то опять, как в доме Никитиных, где осиротела куча малых ребят, зашелся стоном и ревом…
Где-то гремела война, а сибирская весна, вызеленив первой травкой окуневские взгорки, требовала продолжения жизни. И первым делом следовало не упустить сроки — воткнуть в чернозем прочикнувшиеся уже семена картошки. Так что, нянча на груди руку, недолго отдыхал наш красноармеец на печи, куда худому, ослабевшему, всякий-раз помогала ему забираться мама.
Первое майское дело — копка огорода перед посадкой. Как ни ловок бывал в прошлом крестьянин, а с одной левой рукой — выходило плохо. Притянув черенок лопаты к здоровому боку поясным солдатским ремнем, поддерживая черенок левой рукой, а ногой заглубляя штык лопаты в землю, отец ударял по лопате пинком, переворачивая и рыхля ком за комом. Жалкая эта «рационализация» (а приходилось напрягаться всеми жилами) скоро сказалась. Отца бросило в жар. «Не ладно с тобой, отец!» — загоревала мама. И пошла запрягать корову Люську.
Тридцать километров до райцентра, до районной больницы, до спасителя Мануиловича, опытного хирурга, скрипели полевой дорогой целый день. Мануилович ухватил в самом начале вспыхнувшую гангрену, исполосовал чуть ли не до костей руку, срезая воспаленные куски мышц. И опять, как в тбилисском госпитале, повезло отцу. Осталась рука — не только «для приличия», впоследствии он худо-бедно тюкал ей, держа отбойный молоточек, налаживая на сенокос семейные литовки. Мог прихватить гвоздем и доску забора. Вот только писать пришлось левой.
В ту же пору, летом сорок второго, в трудовой книжке отца (постановлением Совнаркома СССР их ввели накануне войны) значится запись: принят слесарем МТМ в Бердюжский мясо-молочный совхоз. Надо было! Хотя изо лба и из коленного сустава еще прочикивались сквозь кожу осколочки мины. Отец усаживал к лампе шестилетнего Сашу, просил поковыряться иголкой, помочь выбраться железу на волю. «Слесарство» — понятие в те дни всеобъемлющее. В мастерской не осталось ни одного приличного специалиста по металлу и по токарному делу. Не зря, уходя на войну, отец наказал матери сберечь сумку с токарными инструментами, в том числе с точнейшими — на микроны — измерительными приборами. На Магнитке ими запасся, в Кировграде на медном заводе, в походной мастерской Уктузской МТС, где перед призывом на фронт работал по «брони».
Вчерашняя орда и ухабаки — гроза деревенских огурешников, двенадцати-тринадцатилетние отроки, приспели в ученики токаря. Запустили токарный станок. Как? В Европе не поверят! С помощью передаточных шестеренок, вала отбора мощности, кустарных приспособлений станок, на котором отец взялся вытачивать тракторные и машинные поршни, кольца поршневые и прочие точнейшие детали, вращала воротом пара быков. Гоняла их по кругу совсем зеленая пацанва.
Монотонная бычья ходьба длилась часами, погонщик, усевшись с вицей на сиденье, что приспособили от сеносилки, задремывал, клевал носом, быки, пуская слюни, переходили на «малые обороты». Тогда из токарки кричали: «Заснул, тетеря!» Кто-то выбегал с горячими картофелинами и совал их под хвосты быкам. Дурея от подогрева, быки переходили на рысь, а то и мах. Их скорость сообщалась валам и шестерням. Резец станка заводил удесятеренную мелодию.
Зримо помню железную эту мелодию станка, кудряшки металлических стружек с той поры, когда в соседнем от токарки бревенчатом промазученном строении застучал нефтяной движок «Болин-дер». А вскоре, после войны, МТМ обзавелась настоящим дизелем. И начал он вращать электрический генератор. Серьезным этим хозяйством заправлял пугавший нас сосредоточенным, пронзительным взором дядька с трудновыговариваемыми именем и фамилией — Иоган Иоганович Рейнгард. В черной фуфайке, в кожаной фуражке. На околыше которой пугающе блестели стекла защитных очков, прямой, будто кол, он ездил по улице на единственном в нашем селе велосипеде — с фарой на руле и оранжевыми блестками на педалях. Смотрел Рейнгард только вперед, не отвлекаясь на увязавшуюся за велосипедом собачонку, исходившую злобным лаем.
«Мы, немцы Поволчья!» — значительно, с акцентом заключал он. Ладно. Про немцев пацанве нашей рассказывать не надо было. Только война отгремела. Но это «Поволчье» пугало неизвестностью, веяло тревогой.
Впрочем, наши мужики называли Рейнгарда по-свойски — Иван Иванович.
Вообще, если взглянуть бы в ту пору с высоты птичьего полета на территорию мастерской, то можно было бы обозреть отдельные островки на замазученной, уталованной ногами и колесами территории: строения токарно-слесарных цехов, помещения аккумуляторной и медно-лудильного цеха, где чинились радиаторы машин и тракторов. Отдельно стояли амбары с тяжелыми навесными замками. Там, на полках, в смазке и серой бумаге хранились запчасти. Отдельно сарай с бочками горюче-смазочных материалов и высокая башня сушилки, с прилегающим хлебным током, зерноскладами. Здесь-то и кипела работа. Яро, радостно. У ворот зерноскладов урчали тяжелые «студебеккеры». В них грузили зерно, отправляли на элеватор — в Ишим.
Но эти «студебеккеры» — заезжие, городские. Мы, пацаны, ценили и ревниво наблюдали за своими машинами. Вдобавок к отбегавшему пикапу, к полуторке Володьки Добрынина пыхал газогенераторным устройством «ЗИС-5». Зеленая фанерная кабина, такой же дощатый кузов. У «ЗИСа» неспешный шофер — Тимофей Долматович Долгушин.
Ездил Долматович и на других машинах. Впоследствии, помнится, он шоферил на бензовозе. Но этот «зисок» с двумя «самоварами» по обе стороны деревянной кабины, с гремящими в кузове сухими чурочками был, наверное, «лицом» послевоенного транспорта.
— Долматович, ну подбрось газку! Ползем, как улитка хромая! — нетерпеливо ерзал на сиденье кто-нибудь из мужиков, оказавшийся пассажиром.
— Само то — тридцать километров в час. Тише едешь, дальше будешь. Вчера вон торопился из Ишима, смотрю, стрелка спидометра аж за сорок полезла. Свету в глазах не было, как летел. Дак надо было!
На «зисках», на полуторках, на довоенных «фордзонах» с огромными упорными шипами на колесах, на маленьких, точно конек-горбунок, «универсалах», на «натике» да на бескабинном, чудовищно огромном «ЧТЗ» с адскими гусеницами дошкандыбали мы до сорок восьмого года.
Отцвели по лету незабудковые полянки возле ряма, отволновались на ближних колхозных увалах ржаные посевы. Отгремели по кочковатым проселкам пароконные фургоны, отвозя на тока зерно. До белых мух колготился в полях, дожиная клочки, единственный в колхозе «Красное знамя» прицепной комбайн «Сталинец-6», буксируемый то колесным тракторишком, то (при его поломке) сменяемый парой быков. Кончили с уборкой. Ни одной недожатой полоски, как в пору войны, не оставил под снегом комбайнер Александр Замякин на колхозных, ближних к селу, полях. И на совхозных пашнях, что сеяли за лесами и колками, собрали хлеб до зернышка.
Запуржила снегами, завыла метелями зима. На скованных льдом озерах заволновалась от предвкушения клюшечных сражений ребятня, накрутив на пимы веревочными (реже сыромятными) креплениями коньки «снегурки» и «дутыши», над коими потрудились, точа их напильниками и тяжелыми рашпилями до блеска, до ножевой остроты.
Но кончилась моя воля вольная. Посадили меня к зыбке-качалке баюкать братика Вовку. Зыбка каким-то манером сразу возникла в нашем дому. Скорей, отыскалась на чердаке со времен моих молочных годочков — четыре-деревянных бруска, сколоченных четырехугольником, обшитых мешковиной. Самая главная деталь зыбки — пружина от комбайнового хедера, хорошо раскаченная, сохраненная в куче железяк возле стайки иль в том же чердачном хламе.
В зыбке возникли две магазинных — из сельпо — игрушки: пластмассовый яркий попугай, бренчащий запечатанными внутрь горошинами, и такая же разноцветная круглая погремушка с кольцом. Попугаем должен был бренчать нянька, отвлекая мальца от рёва. Вовка то и дело оглашал им пространство дома. А погремушка предназначалась самому Вовке, за неё он, сразу заинтересовавшись, уцепился и потащил в рот. По этой причине я не спешил распотрошить погремушку, а попугая лишил «голоса» сразу, отворил ножом щель в пластмассе хвоста. Горошины выкатились на ладонь и были тотчас съедены. Испугавшись разора, попытался я протолкнуть в немое нутро попугая шарик от подшипника, но с первой попытки не получилось.
Нянька выходил из меня не сильно ловкий, но постепенно я перенял от взрослых умение делать пальцами «козу», нюхать Вовкин «кисет», при этом дурашливо чихая, отчего братик веселел глазами. А когда мне надоедали эти развлечения, принимался зыбать колыбель, да так, что стонала пружина, укрепленная под потолком. И мама не выдерживала: «Не убей ребенка!» — Я отвечал: «Это я шторм на море изображаю! Пусть привыкает!»
Баю-баюшки баю, Колотушек надаю. Колотушек двадцать пять, Засыпай скорей опять, А то деушки придут, Вовку стащат-украдут…К Новому году Саша принес из ряма сосенку, поставил в горнице, укрепив для устойчивости на полу и проволокой за потолочное кольцо, обвешал самодельными цепями и снежинками. Саша вырезал их из бумаги, красил цветными карандашами. Сосна, обложенная у корня серой — из старого матраса — ватой, простояла едва ли не до весны, растянув, рацветив и новогодие, и скудное убранство горницы.
Конечно, заветным украшением горницы были — парный «патрет» родителей времён их ранней молодости, рамки с карточками родни да крестообразная доска иконы с Богом Савоофом и двумя ангелами. Одно «плечо» деревянного иконного креста было отколото. Кто-то покушался на Савоофа с ангелами? Уж не батя ли в свои комсомольские годы?!
Единственной не самодельной игрушкой на сосне был физкультурник. Саша принес его из школы как награду за какие-то успехи, и повесил для наглядности на пушистую ветку. Физкультурник смешно махал руками-ногами, делал упражнения, едва дернешь его за нитку. Висеть спокойно этому диву я не давал. То и дело снимал игрушку с места, тащил к Вовкиной зыбке, пытаясь развлечь братика. Он уже начинал переворачиваться в пеленках со спины на живот, хватко цеплялся за раму и веревочные стропы. Пока он пребывал в бодром игривом настроении, приходилось зорко стеречь мальца, чтоб не выпал из зыбки. Мама временами отрывалась от своих хлопот, брала Вовку на руки, чтобы покормить грудью. Начмокавшись, он млел на руках мамы. Потом окончательно затихал — засыпал. Его укладывали на свежую пеленку под одеяльце, занавешивали зыбку тряпицей. И я тихо садился на лавку, приникал к морозному окну, за которым багровело вечернее солнышко, постепенно проваливавшееся в малиновые полосы заката.
Огненные эти закаты и сегодня царапают душу ощущениями неповторимости той поры. В холодных ночах, со льдинками звездного неба, сверкающими колюче и ярко, над селом вдруг вылущивался новорожденный серпик месяца. Стоял на «роге». Стояние это не сулило оттепелей, до полнолуния уж точно не сулило.
Морозное утро начиналось со стрекота взъерошенной сороки на коле, с парной картошки в большом чугуне, что варилась и курам, зимующим в избяной загородке, и наминалась в пойло для коровы. По сумеркам еще, получив в кормушку беремя сенца, надерганного из зародчика старшим братом, корова первоначально выбирала из сена визиль и цветочки, отпихивая мордой грубую траву на потом, ждала теплого пойла. Поить корову обязанность брата. До школы, куда летел он ко второй смене, назначалось ему чистить глызы в стайке, наколоть дров для вечерней топки печей. А если поспеет с домашними уроками, то и притартать с озера воды — несколько коромысел. Коль не поспевал с водой, тогда мама обряжалась в отцовы брюки, «чтоб мороз не хватал за голяшки», перепоясывала большой шалью фуфайку, надевала глубокие пимы, шла суметами к проруби.
Холод. Ледяная озерная звень. Она плавала ледышками в деревянной кадушке в кути, добытая под метровым льдом, пахнущая илом, донными водорослями.
В воскресенье — все дома. С утра, в любой мороз, исключая метельные дни-завирухи, мы с Сашей принимались откапывать от снега ямку-погребок. Добравшись до западни-крышки, спускались по лесенке в яму — к летне-осенним припасам. И вскоре на лавке в кути воцарялись увесистые бомбочки калеги-брюквы, морковка, хвостатые свеклы, а в большой миске — холодные пласты квашеной капусты, добытой из кадушки. Еще довесками — смуглокожие, скользкие, набрякшие рассолом огурцы. С приходом отца с работы, вечером начинался ужин-пир. Хороший, дружный, умиротворенный.
Но стоит в глазах иной морозный день. Пожалуй, он из другой зимы — из пятидесятого года, когда по осени надлежало мне пойти в первый класс.
Был то ли январь, то ли февраль. За окном все те же, привычные глазу, сугробы выше прясла, лишь в проеме ворот — с улицы и со двора прорыт снежный туннель, по которому утром ушла в дровнях корова Люська. Отправились они вместе с мамой за сеном к Дворникову болоту. Там, у болота, распочат зародик сена, надо хоть по паре центнеров вывозить домой, пока не наткнулся кто из лихих людей, не увез на своих санях. Случается это среди наших сельчан редко, но все-таки надо прибрать сено в свою загородку. Отцу некогда: мастерская и куча забот отнимают все дневное время. Саша тоже рано усвистел на занятия (нынче он с первой смены учится). А мама — домохозяйка. И «без трудовой книжки», как порой поддевает её батя, когда они о чем-то заспорят.
Отца недавно избрали в сельсовет. По селу прокатился яркий, узорчатый праздник — выборы! Окунёво задолго до выборов обрядилось в кумач, расцветив не только двоеданский наш клуб с портретами Ленина и Сталина возле сцены-клироса, но и школу, дирекцию совхоза, сельсовет. Флаги и лозунги-призывы приколотили и на столбы ворот, и на углы старинных сосновых домов. В день выборов летали по улицам украшенные кумачом кошевки. Кони в лучшей сбруе, колокольчики, дуги, перевитые лентами. Упряжки с веселым народом ярились с самого утра. Отец нацепил тогда к пиджаку медали. Мама достала из сундука ненадеванное платье. Затемно пошли голосовать на участок, откуда принесли кулек глазированных пряников.
Хороший праздник — выборы!
А нынче мы с Вовкой одни дома. К полудню наше жилище выстывает и по полу, от порога, ощутимо несет стужей. Лучше всего забраться на печь, где место кота, но и нам хватит простору и тепла. Правда, Вовка последнее время повадился отколупывать печную глину и тащить её в рот. И мама наказала, чтоб я следил и не дал ему подавиться «печиной». Я знаю, что у всех так бывает — «чего-то в организме не хватат, когда рост начинается». Братик, как и я между делом, подрос, научился — сначала возле лавки — ходить. «Летат» в своих овчинных носках, «только шуба заворачи-ватся», как говорит бабка Авдодья-Пашиха. Но сейчас лучше сидеть нам с Вовкой на печи, куда я с трудом затащил брата, перевалив через высокий опечек.
В кухонных окнах пасмурно, сквозь узоры на стеклах, в мутных прорехах льда видно, как скользит по сугробам поземка. Зашевелилась метелица. К вечеру может и падера подняться. Жмемся к печному теплому чувалу. В чердачных высях, в трубе, начинает дышать и подвывать ветер. Скорей бы уж мама с Люськой вернулись! Но первым придет, конечно, Саша. Ему наказано, чтоб не задерживался нигде после уроков, а сразу являлся в дом, где одни малые, то есть мы с Вовкой. Братик, пригревшись на кирпичах и немного подремав, принялся за свое — колупать печную глину. Вынешь у него ее изо рта, утрешь щеки тряпицей, он лезет в проём между чувалом и стояком кухонной полки. Только успеваю хватать его за ноги, только и ловлю, чтоб не сбрякал. Нырнет на самовар или на чугунок с картошкой. Ладно шишкой или рогом на лбу обойдется это ныряние. А то ведь и «захлестнется насмерть», как предупреждали меня взрослые.
Не уследил я. Только слез с печки за кашей, что сварена для нас с Вовкой и поставлена в цело печки за заслонку, как Вовка свалился на плиту, зашелся ревом. Рев этот не страшен — плохо то, что Вовка не просто ревет, он закатывается. А когда это происходит, то синеет он весь, руки и ноги не шевелятся. Тогда мы все тоже боимся пошевелиться, понимая, что может «кончиться ребенок». Это с испугу. Не знаю я, с какого такого испугу, но так говорят взрослые. Я видел, как мама не раз мыла братика с «угольков» — водицей, нашептанной бабкой Пашихой.
На этот раз Вовка, набив на лбу синяк, просто проревелся, а когда я заволок его снова на печь, положил на подушку, взялся реветь и сам. И так горько было, и так одиноко в дому в ту морозную пору, что состояние это живо во мне и по сей день. Может быть, и было это предвестником грядущего страшного дня, что придет в такую же холодную, трескучую зиму — ровно через год, когда братика не станет…
Умер Вовка рано утром. С вечера в доме говорили, что «никакой надёжи нет», «сколько еще промучится, когда отойдет?!». Потому с вечера, заправив лампу керосином, поставили её на печку, где на подушке, слабо постанывая, задыхаясь, отходил братик. Я все понимал и не переставал плакать, устроившись поближе к брату — на кромке полатей. Взрослые, я чувствовал это, смирились уже с итогом. Мой плач то накатывался отчаянным ревом, то уходил вглубь, но слезы шли не переставая. Будто ручьи по прошлой весне, когда мы простудились оба, провалившись в снежно-водяную кашу на дворе. Я отделался какой-то золотухой, а Вовка так и не выздоровел окончательно, протянув свое пребывание на земле еще на несколько месяцев. И всё в болезни — то в жару, то в хриплом кашле, от которого он синел, а потом забывался холодным сном.
Два дня я не ходил в школу. В первый день под вечер отец принес из мастерской маленький гробик, и Вовку положили в него ночевать. Утром следующего дня отец ходил в сельсовет, ему выписали документ, где я прочитал потом, что причина смерти — рахит. Что это за болезнь такая, никто и не разъяснил тогда. Только бабка Пашиха, она пришла к нам, когда Вовку собирались выносить на холод и везти на двоеданские могилки, сказала: «Не плачь, Катерина. Бог дал, Бог прибрал к себе».
Хоронили братика в могилу бабки Хионьи Долгушиной, что умерла несколько дней назад, и морозы еще не успели заковать и запечатать накрепко её глиняный холмик. Возле разрытой Хионьиной могилы стояли с лопатами и ломами какие-то мужики. Они показывали на боковую нишу в глубокой яме рядом с длинным белым гробом Хионьи, говорили, что «там ему будет хорошо лежать, неодиноко». Потом открыли крышку гробика, меня подтолкнули поближе и сказали, чтобы я наклонился и поцеловал братика в лоб. Я так и сделал. Слез уже не было.
Прошумели десятилетия, железный восьмиконечный крест, что поставили мужики во вьюжный февральский день 1951 года, сохранился, уцелел в отличие от соседних деревянных (их разметало время, источили дожди и степные ветры). Этот крест позволил нам, братьям, легко отыскать могилу Вовки. И поставить рядом с крестом пирамидку, что самолично сварил из железных пластин «самый малый» из нас — Петя, материн поскребыш, родившийся уже после Володи. Со звездой сварил пирамидку. Тогда всем венчали памятные пирамидки не крестами, а красными пятиконечными звездами. Как солдатам, бойцам.
ЗА ХЛЕБОМ В МАГАЗИН
Печеный хлеб продавали в рабкооповском магазине только совхозникам, и ходить за ним, биться в очереди была моя обязанность. Дело это чрезвычайно ответственное, как же оставить всю семью на день без куска хлеба! А такое случалось с теми, кто ленился, не хотел встать пораньше. Продавец Иван Андреевич снимал с тяжелой двери внутренний крючок, и народ, круша преграды, кидался к прилавку. И хотя первоначальная стройность очереди превращалась в место сражения, все же народ строго бдил, чтоб не попали к прилавку «последние» или, как принято было именовать, «крайние».
Однако какой бы зоркий глаз не следил за правильностью очереди, как бы бабенки не взрыдывали от отчаяния: «Понужните этих ухабак, чтоб не наглели, ведь только подошли и лезут!», случалось всякое. «Ухабаки» — красномордые, сильные молодые мужики проникали сквозь людскую массу к весам и гирям, как нож сквозь масло. Рубежная твердыня прилавка, прочно сработанная из толстых досок-пятидесяток, в это время глухо скрипела, вздрагивала при отчаянном, но бесполезном напоре задних рядов. Мужики, какие-то заезжие, при деньгах, так же скоро получали хлеб и, соря пуговками, каким-то образом успев воткнуть себе в зубы «беломорины», выпрастывались на волю.
«Проглотив несправедливость», масса очереди, занимавшая передовые позиции, начинала свалку, вздымая над головами воздетые в потных ладонях трешницы и рубли, и только, может быть, к середине, где хватко держались друг за друга дисциплинированные и совестливые люди, очередь немного притихала.
Иван Андреевич, мужчина чуть выше среднего роста, моложавый, с гладкими щеками и белесым чубом, буквально царил, священнодействовал по ту сторону прилавка. Одним движением руки выхватывал он из мешка еще горячую, пышную белую буханку (мне помнится, пышными и белыми были эти буханки), кидал её на весы. Буханка едва касалась или не касалась их вовсе, а продавец уже принимал другой рукой комканые рублевки, совал медяки сдачи. Иногда к буханке прицеплялся в колдовском действе довесок, отхватываемый длинным ножом от дежурной, довесной буханки, тоже на лету, в гомоне напирающей бучи. Все это создавало впечатление точности и правильности «отпускаемого товара». Никто, ясно, и не торговался, не проверял и не перевешивал эти свои положенные в одни руки два кило. Будь доволен, что досталось, что не идешь домой с пустыми руками из этого «светопереставления».
Конечно, Иван Андреевич (фамилию его не помню) священнодействовал за прилавком не без пользы для себя. Обвешивал он совхозных тружеников здорово, но при встрече с ним на улице всяк был рад поприветствовать бравого продавца, а потом за глаза назвать умельцем, а то и покруче — проходимцем.
Была в этих хлебных ристалищах категория покупателей, которые пользовались привилегией, получая свою буханку без очереди, с полного согласия бушующего у прилавка народа. Привилегии этой удостаивались носильщики хлеба из совхозной пекарни, просторное строение которой белело известкой стен невдалеке от магазина, на берегу озера. По ночам ее окна светились, черная труба дымила, а пекарня пускала в небеса нежный хлебный дух. Чтоб получить, нет, буквально вырвать из рук Ивана Андреевича пустой мешок, который он выбрасывал из дверей, чуть их приотворив, надо было мгновенно кидаться в драку, что могли сделать только те, кто заняли очередь с ночи одними из первых, не сдавали никоим образом свою позицию на крылечке перед магазинной дверью.
Потом надо было наперегонки бежать рассветным проулком к этой пекарне, чтоб и там занять очередь за горячими буханками, только-только вынутыми из печи, отходящими в истоме на чисто вымытой деревянной платформе. Могло ведь случиться, что Иван Андреевич кинул «на драку собакам» тринадцать пустых мешков, а хлеба в пекарне хватило бы только на двенадцать. И последнему приходилось уныло следовать за вдохновенными носильщиками наполненной мешочной тары, брести в сомнении, что сумеет воспользоваться законной привилегией!
Все это происходило в любое время года. Действа мало чем отличались друг от друга, но у меня почему-то решительно выпали из памяти и осени, и весны. В эти охотницкие месяцы — отец иль кто-то из братьев добывали, конечно, утчонку, чирка или лысуху-гагару, которых в разделанном, опаленном виде, с перьями даже, можно было поменять на калач, круглую булку из ржаной муки у соседей-колхозников.
Но запеклись, закуржавели в памяти ранние зимние утра, когда полная луна еще высоко стоит в небе. Искрящиеся под лунным светом суметы снега за воротами бросают на накатанную санную дорогу синие тени. От стаек, от крыши дома, от тополя перед окошками, а далее, в улице, где начинаются столбы с проводами и горит расточительный свет электрических лампочек в окошках домов, тоже синеют тени. И, конечно, уже пластаются первые дымы из труб, у печей гремят вовсю чугуны, ухваты, сковородники.
Скрипит под валенками, подшитыми неумелой отцовской рукой, морозный снег. Эти скрипы оглушающе гулки в настороженном ледяном воздухе. В ближней от нашего дома колхозной конюшне дремлют стоймя рабочие лошади и только неспокойный вороной жеребчик пугливо ударяет копытом о прочную загородку, почуяв скребущуюся возле овсяной кормушки мышь.
Все эти краски и звуки просыпающейся окрестности чаруют. И можно было бы вполне удовлетвориться скромным их описанием, если бы получасом ранее под крышей нашего дома не кипели страсти, не вздымался угрожающе в руке отца солдатский ремень, не шарил в тесноте палатей ухват или сковородник, стремясь добыть меня из-за баррикады пимов, сбоек сухих карасей, чтобы поднять и снарядить в поход за хлебом. Вставать-подниматься было тем тяжелей и невыносимей, что я лишь два часа назад заснул, отложив книжку, которую читал до той поры, пока не кончился в лампе керосин.
В такую глухую, разбойную пору на крылечке магазина можно было встретить завернутого в тулуп сторожа Колю Ивлева с торчащими наружу стволами куркового ружья-двустволки. Ивлев — известный в селе охотник на лис, коих он при своем почтенном уже возрасте гоняет на лыжах по снежной целине, пока зверь, умаявшись, не теряет силы… То, что Коля Ивлев один на крылечке, не говорило о том, что ты вот такой герой, сумел прийти вперед всех. Нет, сторож нес в этот час показательную службу. А народ, пришедший раньше тебя, колготится в теплом закутке сторожки, поминутно прибывая, с каждым новым очередником, впуская в сторожку клубы холода, которые тут же теряются в дыму курцов и волнах жара от раскаленной печурки.
За стеной сторожки, сутулящейся рядом с продуктовым складом, мы, ребятня, как-то узрели несколько ящиков крупных, какие у нас не растут, замороженных яблок, в печальном своем великолепии похожих на конские глызы. Товар был завезен издалека, но товароведы и кладовщики не уследили, когда с наступлением стужи это яблочное великолепие превратилось в брак. Но все-таки из яблок можно было высосать кой-какую сладость, конечно, лишенную первозданных ароматов. Несколько дней пировала орда, совершая набеги к рабкооповскому складу, а когда уж надоело грызть эту мерзлоту, нашла прямое для этих «глыз» назначение. Хлестали эти круглые «мячики» клюшками; метали друг в друга во время потасовок на снежных сугробах. Из-за этих снарядов кто-то обзавелся под глазом лиловым фонарем.
Летом ответственность по добыче буханки хлеба многократно возрастала. Хотя летом пища наша и приобретала разнообразие благодаря огороду, несущимся курам, рыбе с озера, а все же без куска хлеба тоскливо, особенно на покосе! В летнюю пору я обычно просил у мамы хлебную трёшку еще с вечера. Она вынимала деньги из-под клеёнки горнешного стола, разгладив на столешнице, совала мне в карман, наказывая:
— Смотри — не потеряй!
— Заметано! — восклицал я, вырываясь на волю. Теперь буду носиться в компании орды до глубокой печи. Встретив и стадо у околицы, наигравшись и в войну, и в прятки, скоротаю время…
В то утро, вернее, во второй половине светлой летней ночи, пришел я к магазину первым.
— Ты чей будешь такой ранний? — спросил сторож. — А-а, Василья Ермиловича… Ну так чё тебе сказать, парень, жди. Может, чё и дождешься. Сёдни только Иван Андреич торговать не будет…
Случалось, что Иван Адреевич не открывал свою хлебную точку, занятый какими-то делами. Тогда хлеб продавала Марикова. Нюра Марикова, пожалуй, была фигурой поизвестней и популярней всех в селе. Работала она в своем магазине смешанных товаров — вечно. Ну, сколько я помню. С той поры, когда носил через всё село суп в кринке для отца в мастерскую. Так вот, когда взрослые говорили про «рабкоп», предполагалось, что это тот рабкоп, где за прилавком Марикова.
Магазин этот, он по соседству с хлебным, настоящий магазин — с вывеской над двухстворчатыми, окованными толстыми полосами железа входными дверьми. За входными, отпирающимися — на крыльцо, тамбур, из которого можно попасть внутрь через легкие двери, верх которых представлял застекленную раму со множеством деревянных перекрестий, расшатанных, скрипучих, но весело звенящих стеклышками при всяком маломальском хлопанье. А хлопали ими часто. И если магазин Ивана Андреевича, срубленный из местных березовых бревен, крыт был еще редчайшим на селе материалом — серым рифленым шифером, то «рабкоп» Мариковой гордился настоящей четырехскатной крышей из старинного железа, с вензелем страховой компании и двуглавым орлом — на торце угла, слезившегося смолой из потемневших сосновых бревен. Внутри магазина нас, ребятишек, интересовали не куски и рулоны мануфактуры — ситцев, сатинов и бумазеи, лежавших на прилавке для доступности и для разглядывания бабами, не глубокие резиновые бахилы для пимов, не охотничьи ружья — ими интересовались серьезные мужики. Занимали нас конфеты и резиновые шарики для надувания, что лежали в застекленной витрине. Они именовались «резиновыми изделиями Баковской фабрики № 2» и стоили сорок копеек.
— Ну что, ребятишки, за шариками пришли? — спрашивала Марикова, стеснительно отирающихся у витрины мальцов. — Деньги есть или на яйца?
— На яйца! — обрадованно совал продавщице кто-то из нас пару куриных яиц, чаще всего стибренных у матери из шкафа или прямиком из куриного гнезда. Мы, конечно, знали настоящее назначение этих «шариков», отсюда и возникали проблемы с их покупкой, о которых тотчас забывали, едва, миновав порог магазина, приступали к состязанию: чей «шарик» надуется до больших размеров и не лопнет.
Серьезно занимал ребятню и дощатый ларёк, приткнувшийся к боковой стороне мариковского магазина, где в толстых стеклянных кружках и в граненых стаканах продавался сладкий морс. Ларек открывался обычно к вечеру, когда совхозный народ возвращался домой из дирекции, с зернотока, из мастерской. Тут уж никакой труженик не пройдет мимо. Задержится, чтоб взять стакан малинового, приготовленного из концентрата напитка.
Необходимо сказать и о раскинувшейся перед магазином и дощатым ларьком редко высыхающей желто-коричневой луже, месимой колесами телег, машин, копытами деревенского стада коров, когда остатки его, источась по дворам, достигают совхозной окраины села… Лужа эта подарила мне счастливый миг, когда я впервые попробовал волшебного морса, не доступного безденежной малышне. Как-то, набегавшись, истомившись на жаре, припал я к коричневой водице, но был за рубашонку извлечен на сухое место проходившим с работы отцом и тут же подбодрен хорошим тумаком, но зато поставлен к заветному окошку ларька.
— Ты что удумал грязь хлебать! Пей вот!
До сей поры помню божественный вкус этого морса. Вкус детства.
На кромке этой лужи происходила кровавая драка Леньки Фадеева и Кольки Девятиярова. Чтоб разнять пьяных разбушевавшихся мужиков (а тогда для меня и восемнадцатилетние парни были мужиками в возрасте), не допустить поножовщины, кому-то из стоящих в очереди за морсом необходимо было форсировать лужу, на худой конец дать крюка, обогнуть со стороны дирекции совхоза или от переулка, что напротив магазина Ивана Андреевича. Но никто не решился этого сделать. Оба противника, ободряемые визгами баб, возникших за плетнями огородов, что еще больше их разожгло, перед тем как начать наносить удары, показательно зарычали, скинули, путаясь в рукавах, рубахи. Оставшись в майках, столкнулись в петушином наскоке. Залепив друг дружке в нос, «получив первую кровь», картинно приступили к уничтожению — на себе — маек. Колька Девятияров сорвал майку первым, кинул располоснутый напополам трикотаж в ближний огород, где майка, снятая с ботвы картошки и заштопанная, впоследствии была возвращена владельцу. Ленька распластал свою красную майку до невозможности её восстановления, бросил лоскутки в машинную колею, по которой вскоре проехал на полуторке Володька Добрынин. Лоскут красного трикотажа долго висел на гребне колеи, довисел он и до того утра, когда я рассветным часом разговаривал со сторожем Ивлевым. Про Фадеева и Девятиярова следует заметить, что до ножей у них дело не дошло. В тот же вечер, умывшись и заново побратавшись, молодые парни продолжили вполне уже благополучно свое шастанье по улицам с песнями, возбуждая собак, тревожа сон наработавшегося люда.
К луже этой надо присовокупить и случай с Василием Даниловичем Янчуком, отцом моего дружка Валерки, в ту нашу дошкольную пору еще не круглого отличника учебы, а просто владельца целого сундука всяких красивы;: городских игрушек.
Про Василия Даниловича я узнал, когда увидел в доме Валерки медаль «За оборону Сталинграда», пришпиленную на расшитом полотенце в горнице, где мы одну зиму с утра и до вечера играли его яркой заводной машиной.
Василий Данилович в это время «сидел». «За политику», как говорили взрослые, а «может чё и украл, кто знат, посадили и посадили!» А когда Василий Данилович вышел из тюрьмы, он стал очень популярным человеком в Окунёво — за умение играть на баяне, подстригать машинкой под «бокс» и «полубокс», талантливо смешить зрителей в пьесах-постановках, которые вместе с женой Анной Васильевной он ставил в нашем клубе.
Начало этой популярности Валеркиного отца и положил случай у непросыхающей лужи. Пришел сталинградец к Мариковой купить брезентовые, с деревянной подошвой ботинки-колодки. Недорогие, колодки эти отпускались покупателям с «нагрузкой» в четыре упаковки нюхательного табака, неизвестно каким образом завезенного в рабкооп.
— Нюра, на кой мне этот нюхательный табак? Я «Звездочку» курю, Нюра…
— Распоряженье председателя райпотребсоюза, что я сделаю?
— Нюра, я бы еще пару носков купил. Черных или синих.
— Носки только на яйца.
— Мне на ноги, Нюра…
— Ой, да подь ты к холере!
Переобувшись на завалинке магазина в брезентово-деревянную обнову, Василий Данилович обогнул лужу и в переулке от души грохнул о землю все четыре упаковки нагрузочного табака, поднятого тотчас налетевшим крутящимся вихрем. И взмыла эта нюхательная «радость» к небесам, а потом опустилась на дома, ограды, огороды. Чихал и сыпал матерками весь народ-труженик совхозного околотка.
Суд да дело, как говорят, а взошло уже давненько солнышко, с его восходом испарился с крылечка сторож с двустволкой, промычали коровы, формируя на совхозной окраине села начало деревенскому стаду. Прощелкал тяжелым длинным кнутом пастух. И когда выяснилось окончательно, что хлеба с утра не будет, а только к вечеру «выбросят в морсовом ларьке», в молчаливом согласии истаяла очередь. Я в одиночестве спустился проулком к высокому берегу озера, тоскливо присел на траву. Этот край села, сколько бы не был знаком мне, все ж оставался чужим, сулящим неприятные стычки со здешней ордой, заносчивой, высокомерной (бог ведает отчего, возможно, от сознания того, что народ тут побогаче и посамостоятельней). Покрепче тут были и дома, поглуше заплоты и тесовые ворота. И даже берег озера Бердюжье, берег, с которого зимой мы катались на самодельных лыжах и санках, в летнюю пору пугал крутизной и опасными обрывами. Неровен час, можно загреметь с осыпающейся кручи, быть погребенным в иле, в торфяной пропарине.
Домой идти не хотелось. Как заявиться пустым, что сказать?
Отец к этой поре уже давно ушагал в МТМ. Мама, если не снарядилась с граблями в поле ворошить недавнюю кошенину, дома. Но уж точно не собралась, не ушла, ворошить еще рано. У нее полно хлопот с засолкой карасей, с грядками. Жгла карман, не давала покоя неизрасходованная трешница. Подвигала к преступной мысли — завернуть в магазин к Мариковой. Зайти и купить… Нет, это никак невозможно. Дорого и вообще… Да, под стеклянной витриной, рядом с конфетами-подушечками, карамельками в бумажках, чуть в стороне от «резиновых изделий № 2», давно изученный нашими горячими взорами лежал плиточный шоколад по сто двадцать рублей за килограмм. Плитки шоколада, разделенные на кубики, лежали нетронутыми уже год. И только однажды завуч школы Анастасия Терентьевна покупала двести грамм. Какой он — этот шоколад? Хоть бы капельку, хоть бы краешек, осколочек попробовать!.. Нет, нельзя.
Подгадав, когда в магазин зайдут две-три бабы, интересующиеся какой-нибудь бумазеей, я проскользнул к застекленной витрине. Лежит шоколад, как и лежал.
Ах, как хочется, но нет, нельзя!
Вскоре оказался я на пустых задах — срединной улице села, где школа, где клуб и всего несколько домов. А так — просторные поляны, где привычно пасутся телята и гуси. Пестреют уже платки в огородах, кто-то машет тяпкой, поздновато окучивая картошку. Вдалеке торчат столбы волейбольной плащадки, где каждый вечер взрослые парни азартно сражаются до самой темноты.
Из дуролома лебеды вылез подсвинок, намечая проникнуть под жерди изгороди огорода Абрамовых, чтоб перепахать рылом гряду моркови, пока не заметят, не поднимут ор хозяева, не выпроводят варначину хорошим прутом иль дубиной.
Ноги несут меня в нашу улицу, как не юлил я, не бастовал в мыслях, а все же свернул в переулок, который упирается в крылечко каменного магазина под вывеской «Сельмаг». Брезжила думка поначалу — заглянуть к бабушке Настасье, коль так вышло с хлебом, но обхитрили меня ноги, не туда привели. В казенном магазине, слышал я, было в старое время «торговое заведение справного мужика-торговца». Было да сплыло… Ах, лучше бы к бабушке Настасье пошел. Она примет. Ну спросит, как мать-отец, «чё делают, чё робят», а потом творожными шаньгами с чаем накормит. У бабушки чисто и уютно. Широкая кровать с блестящими шариками, на розовом покрывале гора подушек и подушечек под тюлевой занавеской-накидкой. И все стены в горнице обвешаны карточками в резных рамках, где все больше фотографий старшины-танкиста дяди Пети. Он служит после войны на сверхсрочной в Германии и в отпуск приезжает с большими чемоданами, полными германских подарков. Но что сказать бабушке, зачем пришел? На патефоне поиграть? Патефон крутится по праздникам, когда у бабушки собирается родня, мы бываем всей семьей. Конфетами угоститься? Да я уж большой — в школе начал учиться. А карамельками бабушка угощала, когда четырехлетним совершал я к ней путешествия. Знамо, зачем: за конфетами! Нынче-то неловко. Эполеты дяди Пети, что в прошлый приезд в отпуск он подарил мне, на черной рубахе у меня пришиты. Когда в войну играем в конопляных зарослях, надеваю эту рубаху — на зависть ребятне.
Нельзя мне к бабушке Настасье. Но можно к тете Нюсе. Она работает секретарем в сельсовете. Сосновый дом сельсовета рядом с сельмагом — в доме раскулаченных. Платушкиных, Баяновых или Чашковых? Надо у бабушки или у матери спросить.
Поднимаюсь высокими ступенями в сельсовет. Тетя Нюся на печатной машинке стучит, справки какие-то готовит.
— Коля пришел! Ой, мне и угостить тебя нечем. Хочешь покажу, как на машинке печатать?..
Она усаживает меня, освобождая свой стул. Тетя Нюся в хорошем платье, духами пахнет. Иначе, наверно, нельзя, коль работает в таком строгом заведении. Раньше сельсовет был в другом доме и при другом председателе — Потапе Алексеевиче Фадееве. Вот был председатель так председатель: бритый наголо, как нарком какой. Как директор совхоза Шенцов, он имел выездного жеребца и добрую, пахнущую смолой и дегтем, кошеву. Говорили, что и наганом вооружен, но я ни разу не видел. Никто не видел. А нынче председатель новый, молодой, не такой строгий и грозный. Сейчас его нет на месте и тетя Нюся, выходит, здесь полный начальник.
— Попробуй сам напечать что-нибудь…
— А что печатать-то?
— Ну, хоть фамилию свою, имя… Нажимай на буквы, ну-у… Ничего серьезного в голову, кроме фамилии, действительно не приходит, но вдруг, как видение какое, возникает перед глазами алое нутро блестящих галош, что недавно зрил на полке в магазине Мариковой. И весело-азартно клюю пальцами в кнопочки машинки. Получается. Интере-е-сно!
— Во, напечатал!
— Галоши. А почему — галоши? — смеётся тётя Нюся. — Откуда взялись они у тебя?
— Не знаю. Галоши и все! — и мне уже хочется от такого сладкого, родственного внимания бежать на волю.
— Торопишься? Ну давай. А то забегай когда, научу на машинке работать. Быстро научишься…
Ну ведь так и знал: заверну я в этот каменный магазин. Недавно здесь пол пропилили жулики. Из подвала пропилили. Ножовка уперлась в порог, окованный толстой железной пластиной, потому и не получилось ограбление. Подозрение падало на своих ухабак. Будто бы знали кто. Но не пойман не вор!
Бывал я здесь тыщу раз. Здесь тоже всякая всячина на полках и на полу. Горка конфет-лампасеек рядом с ящиком гвоздей и мармеладом в коробке. Возле круглой печки-голландки, какая и у нас в горнице, две жестяных бочки — одна с подсолнечным маслом, другая (в отвернутой пробке которой торчит черная воронка с ручкой) с керосином. Этот керосин покупает нынче только наша окраина, куда не дотянули электричество, потому сейчас керосин есть в магазине всегда, а не как в далекую пору, которую я тоже помню.
Возле печки островерхой кучей, в навал, крупная серая соль. Разберут ее, до полу выскребут под голик, как начнется засолка груздей, а потом капусты. А на полках те же куски мануфактуры, что и у Мариковой, флаконы одеколона «Гвоздика», «Кармен» и дорогого, в бордовых коробочках, «Красная Москва». Какие-то тюбики с кремом, шпильки для волос, круглые коробочки зубного порошка и прочая всячина, что лежит годами. Первого марта, когда понижают цены, мама посылает меня посмотреть — на сколько снизили?! Дает мне пару рублевок, чтоб купил халвы. Любит она халву. Это — не моя, а мамина «слабость».
У прилавка две бабушки в платочках разговаривают с продавщицей Аней. Молоденькая, она недавно переехала к нам из деревни Песьяново. В отличие от Мариковой, которую называют Нюрой или Анной, а кто-то и отчество прибавит, молоденькую продавщицу сельмага так и зовут Аней, а бойкие парни, которых можно застать здесь вольготно сидящими на прилавке, говорят ласково — Анечка.
Когда бабушки выходят, Анечка заводит разговор со мной. Всегда почти про одно и тоже:
— И где ты взял такие большие и лохматые ресницы? Отдай их мне! Отдашь?.. Ну вот, вспыхнул, как девчонка! — щурит Аня голубые глаза. Ресницы у неё — да! — небольшие, белесые, некрашеные, их почти и не заметно. Когда она улыбается, то потом облизывает полные, немножно подкрашенные губы.
— Подрастешь, все девки твои будут, попомни меня…
Вот беда-то. На фига мне эти тары-бары, разговоры? Фу! Я уже нацелился и почти окончательно решил: куплю на весь трояк ирисок! Я их пробовал один раз, когда на большой елке в Новый год поставили на табуретку читать стишок. Потом дали две ириски. Конфеты, что надо, как вар или жвачка. Можно жевать сколько угодно, а надоест — и в карман положить.
— Ну что будешь брать, ребенок?
— Ирисок свешайте! — и кладу на прилавок трешку.
— Мама послала купить?
— Ну… Ага!
Из сельмага выхожу окончательно приговоренным: днем мне возвращенья домой уже нет. А что будет вечером? Об этом страшно подумать. Но я гоню страхи прочь.
Полдневная улица с зелеными полянками, мягкой травой-конотопом, с выбивающимся из-под прясел репейником пуста, безлюдна. С озера доносятся визги купающихся девчонок. Возле мостков Субботиных широкая прогалина, не заросшая камышом, там мы всегда толчемся в жаркие дни, хвастаясь потом друг перед дружкой, кто искупался за день больше. Конечно, я туда не пойду. Сейчас я вроде отшельника, жулика-подмостника. Карман, в котором лежит наволочка от подушки (в ней я должен был принести домой буханку хлеба), теперь оттопырился ирисками.
Конечно, раздумываю я, можно пойти на озеро. Сейчас на мелком месте субботинской пристани плюхается малышня, кто плавать не умеет. Я ж научился плавать еще до школы, пока по-собачьи, ни вразмашку, как большие пацаны. Научусь, за этим дело не станет!
Жестоким образом учили плавать меня брат Саша с дружком своим Колькой Подстановкиным. Вывозили на лодке за камыши и выбрасывали на глубоком месте.
— Руками, ногами греби! — хохотали они.
Я бил по воде ладонями в ужасе, орал, кой-как достигал борта лодки. «Изуверы» помогали выбраться из воды, а потом опять бросали за борт.
— Спокойнее греби! Ну-у!
Однажды я почувствовал, что вода держит, не тянет на дно. Отважился поплавать вокруг лодки без прежнего страха.
— Меня Гриша вот так же учил! Чуть не ухайдакал, правда…
Однажды выбросили нас на глуби вместе с Шуркой Кукушкиным. Шурка хоть и постарше меня на три года, но буквально обезумел, сразу нахлебался воды. Потом схватился за меня и потянул на дно. Парни поняли неладное, вытащили нас обоих за волосы. С той поры Шурка Кукушкин ни в лодку не садится, ни на глубь, где мы ныряем, его не заманишь. Бултыхается с мелюзгой на мелком месте.
Вовремя подумалось о дружке-соседе. К нему надо мне, к Шурке. Шастай не шастай по деревне, хоть по задам, хоть по заогородам, а надо пробираться ближе к дому. Я уже так наелся сладкого, что удумал абрамовского трехногого Жульбарса кормить конфетами. Пристал трехногий, едва отогнал: ускакал к своей калитке, инвалид. Так вот, кроме как к Шурке, мне идти и некуда.
— Чё у тебя в кармане? — крупным с горбинкой носом Шурка нацелился на мои штаны. — Айда, чё застрял в дверях?!
— Смотри! — захватил я в кармане горсть ирисок и выложил на стол. — Бери, жуй!
Шурка мазнул рукой возле носа, потер руку о штанину:
— У матери стибрил?
— Купил.
— Хлопуша… Стибрил.
— Сам хлопуша… Да у меня их сколь хочешь!
— Ладно, какая разница! — Шурка подхватил со стола конфету, кинул в рот. — Чё твердая такая?
— А я знаю чё! Ириска.
Шурка помотался по избе, заглянул в ларь, где на самом дне наскреб в чашку муки, вынул, заглянул в печь, притворил заслонку, измазав ладони сажей.
— Знаешь чё? — сказал Шурка. — Давай меняться, а?
Сбегал в сени, принес пластину красной резины. У меня так и загорелись глаза. О такой резине на рогатку — только мечтать! А уж заиметь-то, ого!
Шурка сунул мне край пластины — поддержать, отпласнул вкривь и вкось тупым ножиком — как раз на пару рогаток хватит, уставился на меня не мигая:
— Доставай!
Скребанул я в глубине штанов, вынул горсть ирисок.
— Не жмись, сыпь больше!
— Ну и жадина ты, Шурка. А чё я домой принесу! Я ведь домой купил…
— Скажешь, что столько свешали… Ладно, я тебе ишо чернильный прибор отдам. Хочешь? Как булгахтер Саранчин будешь за чернильным прибором сидеть!
— На кой мне прибор?..
Но Шурка не унялся, сбегал опять в сени, брякнул на стол фигуристый с двумя круглыми отверстиями под чернильницы и длинным желобком под ручку всамделишный металлический прибор. В раковинах-выбоинках будто точили металл ка-кие-то зубастые червяки, в пыли и запекшихся химических чернилах, прибор этот явно валялся где-то в сарае или амбаре, может, выколупнут из фундамента старинного дома. В старинных домах находили мы и ржавые револьверы, а Юрка Шенцов нашел на чердаке своего дома, где раньше жили богатые, даже настоящую саблю в ножнах.
— Он же из олова прибор-то, бери. Самому бы сгодился, но я потерплю… Бери.
На «олове» я и купился, выпростав из штанов последние ириски. Олово — это вещь! Отдам Саше, они с Подстановкиным расплавят, нальют через терку дроби для берданы. Сколько раз видел: плавили ребята на огне оловянные пластины, бруски, дробь эту получали. Потом катали застывшие продолговатые капельки двумя чугунными сковородками — до круглости. Конечно, у отца есть и настоящая свинцовая дробь, но он бережет её для осенней охоты.
Потом дружок сбегал за морковью. Тощей, хвостатой. Не обломав ботву, сунул в кадушку с затхлой водой, пополоскал, отряхнул, бросил на стол. Я похрустел оранжевыми хвостами, заглушил подступающее бурчание в брюхе, ведь с прошлого вечера во рту, кроме этих конфет, маковой росинки не было.
Эх, молочка бы парного от Люськи, карасиков бы жареных! Карась сейчас гуляет, жирует по курьям, отец приносит по утрам полное ведерко улова, вытряхивает рыбу на холодный земляной пол погреба, закрывает свежим камышом или крапивой. Сохранятся караси живыми сутки и больше, если вдруг маме недосуг опластать, прибрать рыбу, развешать во дворе на проволоку — вялиться на солнышке.
Во мне нет-нет да простреливает дума о содеянном, о неминучей каре, что ждет меня вечером. Как ответ держать? Перед всеми?
«Лихоманка тебя затряси! Ты чё это устаканиваешь?» — это мама скажет. Брат Саша только головой мотнет, фыркнет, увьётся по своим делам. Он большой, ему больше воли. Не знаю, чего ждать от отца. Ремня, наверно, не миновать?!
Приближался вечер. Шурка собрался подтапливать плиту, чтоб сварить молодой картошки к приходу матери и сестры Гальки. Горох-горохом эта молодая картошка, но сбегал, надергал за сенями несколько гнезд, набросал в чугунок, полетел собирать щепки на истопку. В кути пахло печной сажей, землей из подпола…
В сумерках я прокрался картофельной бороздой за крайнее прясло, залег в лопухи, затаился. Сидел долго, прижав к себе наволочку, в которой лежали резина и этот несчастный чернильный прибор. Выбросить бы их куда от беды подальше. Да не выбрасывалось.
В полночь, а может, позднее — перебрался я через прясло родного огорода, подождал, когда замолкнут в селе последние стуки-бряки, и осторожно отодвинув огородные воротца, ступил в ограду. Темные крестовины окон с мерцающими бликами стекол настороженно молчали. Редкие звезды (к рассвету они высыпят на небе алмазным крупным крошевом) прокалывали ночной зенит, как бы вслушиваясь в пространство утихшей после солнечного дня округи. Теплые ночи в нашей местности пахучи, умиротворенны. Похожие на них своим умиротворением, но более парные, встречу я потом на палубе сухогруза в Южно-Китайском море. Но это грядущее мне еще неведомо. В десяти метрах от меня темнеет коровий пригон, куда я намереваюсь пробраться без лишнего шороха, без вспыхнувшего в ночи собачьего лая. Если удастся проскользнуть под крышу пригона, там я найду пристанище до утра, до солнышка.
И вот я в коровьей стайке (в хлеве и курятнике одновременно, поскольку вся наша скотина-животина согласно и мирно ночует под общей жердяной и соломенной крышей). Потянула незримыми ноздрями Люська, ткнулась влажной прохладной бирькой мне в лицо, лизнула шершавым, будто рашпиль, языком в щеку. Забеспокоились на высокой жердине куры, утробно горготнул петух. Успокоил кур, притихли. В углу, на пахучей соломе, хрюкнул боровок. «Боря, Боря!» — прошелестел я губами и потянулся рукой, чтоб во тьме нащупать теплый бок боровка, больше всего опасаясь за этого Борьку — не дай бог взбрыкнет поднимет визг, спровоцировав куриный переполох.
Но Борька вел себя разумно. Не взбрыкнул, не возмутился, а только удовлетворенно похрюкал, когда я, привалясь на соломе к душной его кирзовой спине, почесал боровка и угнездился рядом. Вскоре, отогнав страхи и переживания, я заснул глубоко и покойно. Насколько спокойно, бог ведает.
Проснулся я, ощутив на щеке слезы, соленая струйка достигла сухих губ, отчего я вздрогнул и открыл глаза.
Надо мной стояла с ведром-подойником мама.
— Ты чё это устаканиваешь, а? — проговорила она давно знакомые слова, но в голосе её не было суровых, беспощадных интонаций, которых я ожидал, которым был готов покориться. — Иди в дом. Сейчас я Люську подою…
Когда я припивал из большой фарфоровой кружки парной удой, жевал положенный передо мной большой кусмень белого хлеба, мама, гремя посудой в тазике с теплой водой, сказала, что ей все известно, где я был и как путешествовал. Все да не все! Про Шурку Кукушкина она промолчала, и я понял, что ниточка моего путешествия и обрывается на Шурке. Значит, нам можно обоим молчать и в дальнейшем. Шурка — сосед, и не водить с ним дружбу нельзя. Вот я вожу, хоть и попадает нам с Шуркой «по пятое число», как загадочно-витевато изъясняется брат Саша.
А главная новость — вечером, под воскресенье, к отцу приехали на «Победе» его ишимские знакомые, вот откуда городской хлеб! А с утра пораньше всем гамузом — и городские, и отец с Сашей — свились и поплыли на трех лодках в угол озера Долгого — гонять в режевки рыбу!..
На этой умиротворенной ноте рассказ о моем походе в магазин за хлебом стоило бы закончить. Да нет умиротворения в душе.
Вот читаю колымскую лирику поэта Жигулина. Пронзительные строки. Про хлеб, лагерный хлеб 40-50-х. Везде в ту пору его не хватало. Всюду он ценился на вес жизни.
А хлеб несли из хлеборезок, Был очень точно взвешен он. И каждый маленький довесок Был щепкой к пайке прикреплён.О, бравый окунёвский продавец Иван Андреич! Ты тоже, случалось, награждал нас довесками. Но съедались они по дороге.
Кто бы устоял перед соблазном схрумкать — на подвывающее утрами брюхо — хрустящую корочку?
И все-таки вдоволь наелось хлеба моё Окунёво очень скоро. Два или три года минуло, как привалило первое целинное зерно. Подводами, полными кулей пшеницы, везли наши колхозники отоварку на свои трудодни. Завертелись, закружились крылья мельниц-ветряков, возликовали электрические дробилки и крупорушки. Хлебный дух возвысил, простер до небес дымы, хлебные воспарения — над крышами пятистенников, над моей деревенской родиной. И однажды я проснулся на печи от нежного хлебного аромата, выглянул из-за широкой печной трубы-чувала, а вся куть — на жестяных горячих листах! — уставлена подрумяненными сдобными булочками,
— Возьми, возьми! Поди, не терпится? — мама подала мне, еще полусонному, одну из них.
— Из сеянки, из первосортной! Вкусно, как вкусно!
Столы на праздниках ломились от стряпанного. Окуневские хозяйки внезапно оказались искусными стряпухами, кондитерами, пекарями. Взыгрывали и «творческие фантазии» лиричных моих земляков. Придумывались, изобретались разные шанежки, завитушки, плетенки, печенюшки, прянички. Пеклось и варилось — в жиру и в масле! — в глухих чугунных формах, на вертелах, на углях, на горячем поду русских печек-кормилиц. Рулеты всех мастей и всевозможных начинок. Слоенки. И даже самодельные торты, осыпанные сахарной пудрой, начиненные земляникой и смородиной. Пироги с грибами, яйцами, рубленным в корытцах ливером. Простая, сытная крестьянская пища. И все выставлялось, как на демонстрационных прилавках ярмарок и торжищ, на дощатые деревенские столы, на снятые с полатей плахи — добавки, пристяжки к этим шумным праздничным столам. Праздновали-то широко! Новый ли год! Октябрьскую ли! Первомай! Пасху! Рождество Христово! Особо последние два православных праздника. Скажете, запрещали «коммуняки»? Никто не посягал. И попыток не было посягнуть. На что уж мой батя — атеист, и тот христосовался крашенным луковой шелухой яичком. Навёрстывалось подзабытое русское, раздольное. Не до праздников было в недавнее лихолетье. А тут развернулась душа!
Потом пришла привычка. К хлебу то ж. Пока еще не выкидывали засохшие булки. Но придет и такая пора. Началась она с постепенной утраты радости труда. С гордыни началась, с забытья вчерашнего, с потери ответственности. Скукоживались, хирели души у многих.
Забыли святость заветов честных наших отцов. Поколения жертвенного, твердокаменного, героического. И Божьих заветов!
…В семидесятых это было. Шла осенняя жатва. Молотили хлеба.
Брат Саша, работавший в ту пору на самосвале, мотался по полосам: от комбайна до тока, от тока — к комбайну. Подвернул на обед к родителям — мама всегда накормит. Пока она собирала на стол, брат поднял на гидравлике кузов самосвала, вытряхнул застрявшее по углам кузова зерно. С ведерко набралось. Занес во двор, рассыпал для кур. Под водительством петуха, они тут как тут! Но скорым шагом вышел из дома отец, разогнал куриное семейство, молча замел метлой пшеницу, сложив пригорнями в ведро.
— Унеси, Шура, обратно в кузов! И чтоб я этого больше не видел! — и глухо добавил: — Никогда не бери казенного!
В открытом окне плеснула руками мама:
— Ты уж совсем, отец… Пусть бы курицы поклевали…
— А вам слово, Катерина Николаевна, никто не давал! — изрядно накален был батя, коль такое обращение к матери допустил на «вы» да по имени-отчеству.
С тем заветом: никогда не бери казенного, то есть — у народа! — и прошел наш отец-безбожник свой советский и православный путь на земле. И нам завещал. Навеки.
ПО ПОЛЮ ТАПКИ ГРОХОТАЛИ…
Приезд дяди Пети в отпуск из Германии — большой праздник. Если уж ни для всей деревенской окрестности (она у нас просторная, людная), то гулянка на весь околоток, когда набьется в застолье много соседей и родни. Радуется бабушка наша Настасья: сынок единственный, уцелевший в битвах, прибыл жив-здоров, мать и родичей почитает. В радости — сеструхи дядины, а их у дяди Пети три, включая нашу мать. В радости и мы, малышня, племянники, племянницы. Никого не обойдет отпускник германским подарком — губной гармошкой, шелковым платком, отрезом на платье, белоснежной тюлью на занавески. А кой-кому из зятьев-мужиков выпадут в подарок карманные часы «штамповка». Вещь недорогая, разовая, зато с красивой цепочкой и звучно щелкающей крышкой циферблата. Правда, тут требуется уточнение: подарки распределяются под строгим надзором самой — бабушки Настасьи Поликарповны.
Который уж год после окончания войны и взятия Берлина служит дядя Петя Корушин на сверхсрочной. Столько прислал в письмах фотографий из Германии. Все простенки у матери завешаны застекленными рамками. И там и тут повсюду он — старшина, командир танка. То в парадном кителе, при наградах, то с однополчанами на броне боевых машин «Т-34» или тяжелого «КВ», в комбинезонах, танкистских шлемах, в заломленных ухарски пилотках со звездочками, или опять при фуражке да при хорошо пошитой гимнастерке под офицерским ремнем, да с открытой коробкой папирос «Казбек» на переднем плане фотоснимка. А вот улыбчивые, веселые сослуживцы — сержанты, старшины, а в центре снимка — капитан с аккордеоном. Победители!
В сельском околотке среди затертых, с заплатами, мужицких штанов, средь измызганных на работах фуфаек, средь стираных-перестираных кофтенок и юбчонок появление облаченного в парадную форму молодого бравого военного, отпускника, шик и блеск! Один вид золоченых галунов, лычек и нашивок чего стоит! А офицерское сукно и диагональ, из которых пошиты гимнастерка и темно-синие бриджи! А тончайшего хрома сапоги! А бархат околыша танкистской фуражки, а сияние звезды на ней! А награды — во всю грудь! Блеск этот сводит с ума не только нас, мальцов, но, по разговорам, и деревенских молодок. Промокают тайком глаза молодые вдовушки, чьи юные мужья остались на полях войны. А мужики-фронтовики, видавшие виды, простреленные, покалеченные в недавних сражениях? Их тоже, наверное, завидки берут.
Не жалеет страна, не жалеет Верховный Главнокомандующий лучших материй и золоченого щитья на мундиры и погоны победителей!
Наикачественнейшие яловые кожи, тончайшей выделки хром отпускается на пошив сверкающей обувки офицерского и сержантско-старшинского корпуса Великой Армии и Флота. Офицеры, начиная от лейтенанта, и в отпуске ходили при пистолетах — в кобурах на поясном ремне, а флотские и летные командиры еще и — при сверкающих золочением кортиках!
И мне уютно и светло там — в блистательном, духоподъемном времени, скудных на быт, порой полуголодных, сороковых и в начале пятидесятых! В полуразрушенной, полукриминальной, но азартно встающей из пепла стране. В эпоху донашиваемых фронтовиками солдатских гимнастерок и шинелишек, хлопчатобумажных гражданских штанов, боевитых кирзачей-сапог. В годы великой веры в справедливое устройство мира! Во имя которой и одолели, повергли сильного врага — и на суше, и на море.
Вот он стоит посреди сельского родительского двора — Победитель! Двадцати с небольшим лет от роду. Улыбается, разгоняя ладонями под широким поясным ремнем складки командирской гимнастерки. Стать ладная, богатырская. Попробуй обидь! Позвякивают медали, блестят знаки отличия. Как они сияют! Вот всеми салютами мира переливается медаль «За взятие Берлина». На негнущихся, из плексигласа, погонах, не уставных, понятно, отпускных, горят Т-образные старшинские лычки с золотистой эмблемой танка, уральская мощь которых одолела, пересилила в сражениях крупповскую броню!
— Просись на службу в танковые войска! — скажет мне через много лет дядя Петя, Петр Николаевич.
— Почему в танковые? — подивлюсь я совету, давно решивший, что лучше Морфлота для меня нет.
— За броней надежней! Видишь, я уцелел. Даже не ранило ни разу!
Было несколько приездов дяди Пети в отпуск. Не разграничить по отдельности эти праздники. Так и помнятся они, сливаясь в один общий праздник. Оттого ли, что всегда форсисто звенели медали! Оттого ли, что содвигались на летнем дворе длинные праздничные столы, на которые выставлялось все, что в скудную пору припасла к приезду сына хозяйственная наша бабушка?! Оттого ли, что в каждый приезд в подарок мне доставалась очередная губная гармошка?! Оттого ли, что среди «взрослых» подарков-гостинцев был общий и главный ярко-праздничной расцветки велосипед марки «Диамант». Он затмил все другие нужные в ту пору вещи. Даже наиценнейщую швейную машинку затмил. Один Бог ведал, как, сойдя с поезда в Ишиме, сумел наш дядюшка, нагруженный парой чемоданов, в пору распутицы и бездорожья, за 70 километров дотартать до Окунево этот велосипед?!
На том немецком «Диаманте» (он стал третьим велосипедом в селе) обучались езде не только ровесники Саши, но и мы, малышня, из-под рамы крутя педали…
Пройдет столько-то лет, станет направляться «жисть». И первые «лишние» рубли потратят мужики на велосипеды. Ударит велосипедный бум, хвалясь расцветкой, прочностью рам, формой рулей, кожей сидений, грузоподъемностью багажников… Радостным пересверком колесных спиц наполнятся улицы и проселочные дороги. Универсальное это транспортное средство было тогда отечественным. Знали в Отечестве, как ладить велосипеды — прочно, надолго! Как подбирать металл и резину, чтоб выдерживали они наши ухабы. Выдерживала техника! Но спасибо и «Диаманту», неразорительному для Европы трофею, что принес в село воин-отпускник. Нам на диво. На радость. На пользу.
Улыбается мирному солнышку дядя Петя. Денек-другой для вольготного отдыха. А там — засучивай рукава: помощь нужна!
А пока всякий рад заманить земляка в гости, выставить на стол скудный припас. Разговоры о житьё-бытье, о германской стороне. Что там и как? Не намечается ль новая бойня? Эвон как американцы грозить стали да размахивать «атомом»! Разговоры простые. Не дадим и «мериканцам» спуску! Но глянет отпускник, бедно на родине, трудно. Столько мужиков побито! А кто вернулся с войны, в большинстве — калеки. Домишки обветшали, покосились. Но дух у народа — задорный: наладим «жись». А все же, заборы, прясла, как не подпирай кольями, валятся. Материн пятистенник ремонтировать надо, хоть с виду ладен. А тронешь, труха от стен посыплется, новый дом нужен. Добрый, под железной крышей. И мать все донимает: «Расставайся со своей сверхсрочной. Приезжай домой. Навоевался, наслужился!» Так-то оно так. Да прикипел он к службе. И должность, и довольствие офицерское. И платят хорошо. А здесь? Думы — в раздрай. Не все просто. А принимать решение надо — в ту или в другую сторону.
Так размышлял тогда воин. Не только догадываюсь, знаю. Позже не раз возвращался Петр Николаевич в разговорах к той поре, когда по настоянию матери оставил службу. Что особенного вроде произошло: из башни танка пересел в такую же железную кабину трактора. А вся судьба перевернулась. И я, малец, в ту пору чувствовал, как дядя Петя любил воинскую долю. И жалел о ней.
В сорок четвертом он ушел на войну. В начале января ему исполнилось восемнадцать. И точнёхонько через год, первого января 1945-го, железнодорожные платформы с укрепленными на них «Т-34» вышли с танкового завода в Нижнем Тагиле. Состав, где ехал в теплушке свежеиспеченный механик-водитель младший сержант Корушин, помчался догонять фронты наступающей армии. Догнал в Польше. Оказалось — первый Белорусский фронт под командованием Жукова. Разгрузились. Получили распределение по полкам и батальонам. Танкистам выдали свеженькое обмундирование. И — на плацдарм!
До окончательной победы оставались недели, месяцы. Может быть, потому новобранцев сорок четвертого года не торопились бросать в бои. Основательно обучали. Около года, считай, пробыл в учебных полках дядя Петя. Сначала в пехотном, где учили на младших командиров, потом как тракториста перевели в учебный танковый полк.
С чего начался отсчет боевым верстам? Семнадцатого апреля сорок четвертого, получив повестку, отправился будущий танкист пешим ходом из Окунево на призывной пункт Бердюжского военкомата. Мать не плакала. Видно, кончились слезы при получении повестки на мужа Николая, который давно уж где-то пропал без вести. Закаменели, что ли, слезы? Она вынесла за ворота икону Николая Угодника, перекрестила сына, надела на него, сняв с себя нательный крестик: «Возвратись живым!»
Потом… Тут в нашей родне много «разночтений». Одни вспоминают, будто Петра усадили на телегу и повезли полевой дорогой в райцентр. Сам же он утверждает, что за рощу окуневскую его провожали мать и две старших сеструхи. Одна несла на руках ребенка, которому было шесть месяцев от роду. Кто нес? Кого несли? Поскольку в апреле 44-го шестимесячным был из всей родни я один, быстро установили: это я — на руках моей матери! — провожал на войну будущего Победителя! В пеленках. Ну а в чем же еще?! Сам же будущий воин шагал по весенней распутице, где в березовых колках лежал еще снег, в стареньких пимишках.
Взрослым, запоздало, я случайно узнал о «боевом» факте собственной биографии, не на шутку загордился: мол, краешком и я «причастен» к Великой Победе! Потом открыл еще одну параллель с победителем: почти двадцать лет спустя уходил я на службу из села той же полевой дорогой. Та же родня, отгуляв на проводинах под раздольные гармони четыре дня подряд, махала и мне во след: не забывай, возвращайся!
С родней мне и надо сейчас разобраться. Рассадить её честь по чести в застолье по случаю приезда отпускника. Доброе слово сказать. Хотя бы о самых близких…
Начну по старшинству — с бабушки Настасьи Поликарповны. В деревенском околотке — Колихи. И по первому мужу, погибшему на войне с германцами в 1915 году, и по второму, тоже Николаю, сгинувшему безвестно в начале второй мировой. Вот она, бабушка наша. Молодой я её не застал: и в 60 и в 94 была она «вечной» бабушкой! Прямая, статная. Сдержанная, но властная. Без нажима, но всегда продиктует волю свою. Попробуй перечить! Покаешься не раз. Как, скажем, отцу нашему возражать. Та же песня. Лучше стерпи, помолчи в тряпочку…
Гремучую смесь замесили предки наши, сойдясь в кровном родстве на этих лесостепных, черноземных, солончаковых землях. На исходе мрачной северной тайги и в начале мягкой южно-сибирской лесостепи, где в январе завывают клубящиеся с северов арктические циклоны, а в июле жарко дышат знойные полупустыни верховий русских рек Иртыша и Ишима.
На природном контрасте, в противостоянии севера и юга Западно-Сибирской равнины, в столкновении разных климатов, в смешении племен, религий, темпераментов, мировоззрений, выковывались, притирались друг к другу здешние люди. Все вбирала в себя, переплавляла в горниле своем русская нация, сибиряки, становясь народом с могучим духом, что известен повсеместно и на века!
Первые служивые люди из русичей еще при Петре Первом, а возможно и раньше, казаки Ермака основали здесь сторожевые поселения. На случай набегов кайсацких племен возвели вдоль южно-сибирских границ крепости, укрепленные городища. Сюда же Екатерина Великая селила участников разгромленного пугачевского восстания. А это народ гулевой, вольный, дерзостный. В ту же пору и раньше — с Никоновских церковных реформ селились здесь старообрядцы. Соратники, если можно так выразиться, огненного протопопа Аввакума. Перейдя немалым числом через Урал, занимали они плодородные земли Южной Сибири. Это были люди из сурового европейского Поморья. Говорящие имена-фамилии этих русичей-старообрядцев свидетельствуют сами за себя: рассказывают, из каких мест пришли они на сибирские земли? Каргополовы, Устюжанины, Холмогоровы, Денисовы, Сысолятины, Вычужанины… Основывали они крепкие двоеданские, как называют их в Сибири, деревни, распахивали пашни, возводили часовни, староверческие скиты и храмы, блюдя уставы своего строгого стояния за старую, истинную веру православную.
Одним из видных, известных центров этого «стояния за веру» считалось в Западно-Сибирских, Зауральских краях — родное мое село Окунево. Поздней здесь проходили съезды и соборы старообрядцев. Здесь текли жаркие споры, дискуссии по вопросам веры, здесь замышлялось издание староверческих газет, журналов. В начале XX века, когда ослабли хула и гонения на старообрядцев, в Окунево, в летний день 1908 года, высокие чины Пермско-Тобольской старообрядческой епархии, среди них была два епископа, открывали службу в новом окуневском старообрядческом храме, где в иные года, позднее, батя наш звонкоголосый пел на клиросе. Здесь же принимала старообрядческое крещение, перед тем как обвенчаться с отцом, и мать наша Екатерина Николаевна.
Старообрядцы — мои родители. Теперь уже навеки. Вечный покой обрели они на своем двоеданском погосте. За рямом, в ковыльной, ромашковой степи…
А бабушка Настасья? Она принесла в нашу родову еще одну бунтарскую кровь — польскую. Ох, бунтовала и не раз против российского верховенства высокомерная польская шляхта. И немалым числом шла этапом на восток, оседая в сибирских краях.
В Тобольске и граде Ишиме — особенно. Кучковались поляки своими колониями. Не голытьба, они возводили непременно свой храм-костел. Да, никуда не денешься, смешивались кровями и родством с русскими. И все же и все же! «Да, мы дворянами были!» — во взрослые мои года, отвечая на мои распросы, утверждала бабушка. Чистых кровей полячка с родовитой и почитаемой в Польше фамилией — Коханская. Отца ее Поликарпа привезли в Ишим четырнадцатилетним родители — бунтари 1863 года. Большими торговыми делами ворочал потом в Ишимской округе Поликарп Коханский. За богатство и пострадал. Убит был на большой дороге грабителями.
Если в самом Ишиме сосланная польская шляхта, хоть и превращалась с годами в законопослушных «россиян», но все ж кучковалась вокруг костела, помнила, не забыла свои истоки. Семьи же, которые очутились в русских селах, быстро окрестьянивались, опрощались, переходили в православную веру.
Сходятся два огня в весенний пал в лесостепи! Один должен пересилить другой: в стычке, противостоянии! Так и здесь: сошлись польская католическая вера и русская двоеданская. Верх взяли старообрядцы. Опростилась и бабушка наша, сохранив лишь внешние приметы былого — осанку дворянскую, некий форс с редкими всплесками национального гонора. Выдали её в юности замуж в большое русское село Зарослое. Родилась в нем первая старшая дочь Катерина, моя мама. Панночкой, наверно, называли б её, родись она, к примеру, в каком-нибудь Краковском воеводстве. Но подобного обращения к матери нашей и представить не могу. Далеко до него неграмотной деревенской бабе, не ведавшей ни о каких дворянских корнях, ни о каком шляхетском гоноре, всю жизнь ломившей тяжелую долю русской крестьянки-сибирячки.
Однако, если мать, посещавшая церковно-приходскую школу всего одну зиму, обучившись маломальскому письму и счету, не вникала ни в какие родословные, то отец в этом толк понимал. В начале 30-х он окончил совпартшколу. Перед ним могла открыться хорошая карьера. Да вот в ВКП(б) он по каким-то причинам не вступил. Правда старшие мои браться утверждают, что батя сам выложил, распсиховавшись, партбилет из-за несогласия с колхозной политикой местной власти.
Эти годы совпадают с выходом отца и матери из колхоза и отъездом их на строительство Магнитки. Впоследствии батя и нас как-то не подталкивал к вступлению в партию, хотя всю жизнь был активистом, сельским депутатом, пристально следил за «текущим политическим моментом». Конечно же он разбирался в классовых и национальных противоречиях. Среди родичей — особенно.
— Катерина, подай ременные вожжи! Пойду эту полячку-кулачку вешать! — дернув стакан-другой бражки и вспомнив какую-то обиду, учиненную тещей, метался по дому батя. Шарил на полатях, в кладовке, в сенях, зыркая шутливо-гневно на мать, неподвижно сидящую на лавке или гремевшую ухватами. Наконец вожжи отыскивались. И обрядившись в выходную тужурку, добрые валенки, с вожжами на плече, усмехаясь, отправлялся он «казнить тещу». Не вспомню, за что. Но из лексики той поры выпирает, выплескивается звучное словцо — «карахтер». Конечно ж, за обоюдную зловредность: двоеданскую и польскую, за неумение уступать. Между отцом и бабушкой возникали трения, кончавшиеся упоминанием Сусанина, Минина и Пожарского, Лжедмитрия, крайней меры, на которую под хмельком решался «зятек дорогой». Следом за отцом, быстренько собравшись, летела на другую улицу села мать — мало ли что устроит.
Случались такие «путешествия» обычно в выходной, точней, в какой-нибудь большой праздник. В рабочее время дисциплинированный отец не позволил бы себе таких приключений и куража.
Возвращались родители домой глубокой, темной ночью. Долго гремели задвижкой в сенях, нашаривали скобу избяных дверей, вваливались через порог. Отец висел на плече матери, пробовал петь, а порой и лыка не вязал. Славно заканчивалась разборка у тещи! Отца клали на софу, снимали с него валенки, пиджак, оставляли в покое. До утра.
А по утру, поднимаясь первым в любом самочувствии, отец в летнюю пору уплывал на плоскодонке выбирать сети, зимой — шел проверять скотину, подкинуть ей сенца в кормушки.
Вот так с заранее предсказуемым финалом кончались эти порывы наказать за что-то тещу — полячку — по причине классовых иль национальных противоречий. Кончались миром. Матери оставалось лишь как-то половчее, не поднимая гамуза, выручить забытые отцом у тещи ременные вожжи.
Проходило время. И все возвращалось на круги своя. Так или иначе, вольно или невольно в детскую душу запало и укрепилось на все времена «подозрение» к полячеству, несмотря на то, что и в моей крови гомонилась часть этой «коханской» крови, то и дело возмущавшей отца…
Что ж, если близкие родичи «приварили» бабке Настасье прозвище — кулачка, то в бедняках у отца состояли, понятно, мы — сами. Еще тетка Анна Кудрявцева, родная сестра матери: пролетарка! «Кто такие пролетарии? — поясняла тетка Анна. — А те, которых в чем-то «пролетели»! Так вот, муж тетки Анны, Петро Иванович, по прозвищу «братка» — вечный труженик-батрак. Про него говорили: колхозный председатель его похвалит, а он рад уж и совсем пуп сорвать! Пластался Петро, особенно когда помоложе был, на самых тяжелых работах. Двужильный. Себя не щадил. За вилы брался, так самый тяжелый навильник сена поднимал, за бревно, так становился под толстый комель. Редкий работник. И Анну свою, пролетарку, сильно любил. Та в молодости пожила в Омске и Новосибирске в прислугах у какого-то большого начальства, на вольных хлебах. На бралась городского духу, коротко подстригалась по моде тридцатых годов, будто ударница, носила красную косынку.
Не в пример старшей сестре Катерине, спокойной, углубленной в домашние хлопоты, она, тетка Анна, могла пособачиться с родной матерью, пообещать выхлестать все стекла в оконных рамах.
— Кулачка, богатейка! — колотила в уличную раму тетка Анна. — Спалю дотла! — орала дочь матери.
А чего орала? Сама же шла к матери, когда приходилось туго. А туго приходилось часто. Бабка Колиха, не в пример дочерям, была и умелой, и распорядительной, и экономной. Когда в войну при нехватке мужиков в селе её попросили быть бригадиром в колхозе, пошла. Справлялась? Еще как!
Сквозила в бабке нашей этакая генетическая, наследственная интеллигентность, родовитость, не понимаемая даже родными детьми. То, что ни на каких вольных хлебах, ни в совпартшколах не приобретешь. Это можно лишь унаследовать от предков, по традициям, пусть и порядком утраченным, забытым и изуродованным на путях-дорогах судьбы…
Подкатывает вечер, предзакатная пора. Самое время садиться за столы. Схлынет жара, от нагретых озер потянет банным парком, запищат в камышах гагары, кто-то брякнет в вечерней тишине веслом, поплыв на лодке-плоскодонке за камыши ставить сеть, чтоб снять её с уловом на утренней зорьке. И опять тишина…
Вечерняя прохлада имеет у нас свойство — хранить парной дух воды, свежесть камышовой зелени всю ночь. В такую пору так сладко гуляется и поется под гармошку, так нежно обниматься влюбленным. Одежда — тонкие рубашки, легкие ситцевые платьица. Благодать…
Разномастными клеенками накрыты сдвинутые впритык столы. Установлены, где не хватает табуреток, чурки. Положены на них плахи, вынутые из полатей. Расставляются тарелки, блюда, прозрачные граненые и зеленые маленковские стаканы. Исходит соком в двух больших тазах винегрет. Вот-вот подадут в деревянном корытце студень. Станут разрезать на ломти. В кути дома-пятистенника топится печь, но уже давно доварены мясные блюда. В вазы на высоких ножках уложены булочки, пирожки, хворост, печенье, пряники из магазина. Нас, пацанов, больше всего занимают карамельки в цветных бумажных фантиках. За печкой в 30-литровой фляге томится, отбушевав три дня назад, крепкая брага на огородном хмелю. Снуют бабкины помощницы: несколько вдовых бабенок, что всегда у бабки на подхвате. Бабка Колиха не обидит, бабка Колиха напоит-накормит. И с собой в подол юбки не пожалеет угощенья: неси домой ребятишкам…
Ожидание вечернего застолья — праздника, когда для первого тоста разливается по стаканам (для мужиков) и рюмкам (для женщин) водка. Белая! А на уменьшительно-ласкательном наречии — беленькая. Водочка на один тост. Затем идет в ход брага. С этой «оказией» ограничений нет!..
В ожидании, наверно, больше всего волнений у нас, пацанов. По причине малого возраста нас не сильно задействуют в подготовке торжества. Но сбегать за кем-то, что-то передать — тут нам нет замены. Потому мы и крутимся невдалеке от расставленных столов. Выбрав удобную позицию — как раз на тропинке из сеней в завозню, куда нет-нет да проследует бабушка. Вынесет в решете или сите загодя приготовленную стряпню, глядишь, какую-то творожную или морковную шаньгу сунет и нам с двоюродной сестренкой Валей.
Валя — тетки Анны дочь. Она постарше меня, похитрей: знает, где и как попасться на глаза бабушке Настасье! В кармашках ситцевого платьица у Вали всякие фарфоровые и стеклянные «чечки». Хвастается! А мне-то какое дело до этих «чечек»? Наплевать! Мне б добраться до бабушкиного патефона или понажимать кнопки гармони.
Гармонь в этот раз привез из Германии дядя Петя. У хромки по двадцать пять кнопок с обеих сторон, перламутровые планки, ремни из настоящей кожи. Как жар, горят и пахнут неслыханным духом мехи! Тут и сравнений никаких не подберешь! Гармонь стоит на угловом столике под божницей, накрытая кружевной накидкой, сияя, маня. Брать нам, мелюзге, ее не дозволяется. Да и патефон тоже самовольно лучше не трогать. Заводится он никелированной кривой ручкой только под присмотром взрослых. Хотя эка сложность — патефон! Бери поосторожней хрупкую казеиновую пластинку, ставь, отпускай стопор, прилаживай головку с иглой к пластинке. У бабушки их большая стопа — в бумажных пакетах. На пакетах написано большими буквами — «Апрелевский завод».
Самая популярная у гостей пластинка с песней «Когда я на почте служил ямщиком». И другая, правда, с некоторых пор с дефектом — отколотым краем — «Шумел-горел пожар московский». Отец наш виноват в порухе. Как-то облокотился неосторожно на стол с пластинками, одна возьми и тресни по краю. Тут опять бабка отца укорила. Говорили, требовала возместить убыток. Зятек терпел, помалкивал, но, как уже сказано, до поры до времени…
Один из приездов дяди Пети совпадает в моей детской памяти с весенней «помочью», то есть с копкой огорода и посадкой картошки. Так и вижу отпускника во всем его блеске нашивок и наград. А во дворе околоточное воинство с лопатами. Десятка полтора соседских баб и ребятня. Лет по 12–13. Мы, малышня, тоже при лопатах, черенки которых поголовно выше нас. Большинство подростков знакомы с куревом, пробовали и бражку. У бабки того и другого припасено. Стало быть, только свистни помогать, на крыльях народ летит! И хоть у Колихи работы много — и земля возле дома, и на берегу озера еще загородка под посадки табака и капусты, но большой оравой, с подначками и шутками управляются как раз к полудню. А там — мыть руки и за столы! И вот наелись, нагулялись, наплясались под «музыку» банного тазика, печной заслонки, разбрелись по деревне с песнями. До утра будет шуметь и голосить улица…
Застолье продолжает родня: сестры, зятья, свояки, свояченицы. Дальние. Ближние. Здесь же — соседки-помощницы бабки.
— За тебя, Петя! С приездом, Петр Николаевич!
Всё так. А для бабушки важно, что, в первую очередь, не обижены, накормлены, напоены работники. Как бы походя, вскопан огород, посажена картошка. Осталось управиться с грядами: лук, чеснок, морковка, свекла, калега, капуста! Столько всего! А еще плантация «зверского» табака-самосада. Ох, и выручал он, табачок, в военную пору, ох как выручал! Как теперь бы сказали, «расчетной валютой» был в женском крестьянском хозяйстве. С работниками-помощниками табачком и рассчитывались. Потом припасать будут в крестьянском хозяйстве для вспашки огорода или вывозки сена другую «валюту» — бутылку водки. Провались она пропадом. Но трактористы-шофера иного расчета и не признавали.
Вернемся в застолье. Нарядно в нем. Хорошо. И хоть не сравниться никому с блистательным отпускником, а все же и родня обряжена в самое-самое! Пиджак суконный на отце, платье яркое бумазейное на матери. Диагоналевые брюки-галифе с синим френчем на Петре Ивановиче.
О себе он повествует: «На фронте не был, работал в трудармии». Ясно. Но военную форму «братка» сильно уважает. На этот раз, похоже, танкист-старшина привез ему в подарок фуражку с бархатным околышем. Блеск!
Тетка Нюся — третья сестра дяди Пети. Она в модном крепдешиновом платье. Аккуратно и тоже по моде уложены ее волосы. Пахнет тетя Нюся духами. Она у нас «антиллигенция», как говорит тетка Анна про младшую сестру, поскольку та работает секретарем сельсовета.
Прибыл как раз к застолью кто-то из ишимской бабушкиной родни. У неё там много сестер, зятьев, племянниц и племянников. Тот самый коханский выводок. Он и останется в моей памяти загадочным, далеко не крестьянским племенем. Образованной, культурной городской родней, о которой мне надлежало знать, положено было родниться или хотя бы запоминать их чудные для крестьянского слуха имена и польские фамилии. Но так уж сталось, что прошли они, едва коснувшись моей жизни загадочным городским родством своим, нездешние, не по-деревенски разодетые, пахнущие дорогими одеколонами, кушающие с ножа и вилки…
Другая бабкина родня, по второму мужу Николаю Даниловичу Корушину, она понятней. Фамилия для Окунева свойская. И тоже многочисленная, обильная мужиками, бабами, мальцами. Плохо разбираясь в родстве, с кем-то из них я дрался в ту пору, не щадя живота. Потом уже разобрались…
Гордясь дворянством, высокородным происхождением, купеческим званием польских родичей, бабка в данном случае сошлась с окуневскими пролетариями, из которых известен в сибирской округе революционный комиссар Тимофей Данилович Корушин. (Нынче одна из улиц Ишима носит его имя!) В 1918 году двадцатитрехлетний унтер-офицер, фронтовик, а в Ишиме член уездного ревкома, он был в должности комиссара печати и народного образования. Во время мятежа бело-чехов арестован. Содержался в тюрьмах Ишима, Тобольска, в Иркутском Александровском централе. Узники централа подняли восстание, многие погибли. Тимофею повезло. После скитаний по тайге встретил он наступающие красные части Блюхера. Стал комиссаром одного из полков 30-й блюхеровской дивизии.
После гражданской, а пришлось ему повоевать и в Крыму (брать Перекоп), демобилизовался. Снова работал в Ишиме в той же должности «интеллигентной». Затем занимал крупные партийные посты в Уральском областном комитете ВКП(б), заведовал земельным отделом, был на съезде колхозников, встречался со Сталиным. Умер в тридцатых в возрасте 37 лет…
Конечно же, мало ведали мы в ту пору о своём комиссаре!
«Сильно стоял за Советскую власть! Окуневские, бывало, заезжали к нему в гости в Ишиме. Обходительный был. Никого не обижал». Такие разговоры в детстве слышал я от родни, но мало вникал в них. Потом, работая над поэмой о «Комиссаре Корушине», узнал, что произошло с Тимофеем в родном Окуневе, куда он приезжал агитировать мужиков за Советскую власть. Едва не прибили его богатые мужики-земляки. Зарубины, Вьюшковы да их сообщники. Зарубиных я не вспомню, не было их в селе в мою пору, а «главный враг» — Трофим Вьюшков преспокойно работал мельником на колхозном ветряке. Все детство мое махал ветряк крылами на пригорке возле лога.
Случилась та история весной восемнадцатого. Собрал Тимофей сельчан возле церкви и — с речью к ним! За новую жизнь! «Убьем!» — заорали Вьюшковы. Еще ухарей набралось и — за колья, за топоры. Не будь Тимофей при нагане, неизвестно чем бы закончилась эта агитация. Выхватил наган: «Не подходи!..»
Скрылся от озверевших преследователей в ряму. Рям наш хоть и глухое место, а выход из него с любой стороны — на голую степь. Обложили мужики рям, долго сторожили комиссара. Буквально чудом удалось ему под утро выползти на сухую степь, обхитрив караульщиков. Лес недалече. По лесам и болотам добрался пешим ходом до Ишима. А там уже белочехи хозяйничают. Ревком разгромлен, председатель его Пономарев погиб в перестрелке, кто-то бежал, других, как Тимофея, арестовали, заперли в местной тюрьме…
После, когда Тимофей Данилович вновь был при власти, окуневские мужики спрашивали его: «Почему не прищучишь тех, кто гонял тебя, убить грозился?» — «Пусть живут и трудятся, правда ведь победила! Правда на моей стороне! Я и тогда знал об этом!»
— Хороший он был, приветливый! — только и смогла вспомнить тетка Анна-пролетарка, отвечая на мои вопросы о комиссаре.
— Жалко Тимофея. Рано он помер, — говорила бабушка Настасья, подарив мне единственную сохранившуюся у неё военную фотографию деверя. — Дак чё и сказать, испростыл весь, когда в холодной воде в ряму скрывался от мужиков, по тайге скитался — тоже не сладко было, когда из тюрьмы-то иркутской убежал.
А застолье в самом раздолье, нас, малышей, усаженных в конце стола, вдоволь накормленных, одаренных конфетами, отправили в горницу слушать патефон. Но веселей, занятней в эту пору наблюдать за взрослыми. Захмелевшие, раздобревшие, они гомонят, порываются затянуть песню. Батя наш в этом деле всегда зачинщик. Но тут, будто с неба, во дворе возникает гармонь. Это заявился один из местных гармонистов Ленька Фадеев — развеселый парень. Конечно, не в наглую пришел выпить, а готовый, под хмельком. Леньку усаживают в компанию, наполняют брагой стакан до краев. Картину эту можно дополнить обильным куском жаркого, что подкладывает в тарелку гармониста тетка Анна-пролетарка. Но мы, выбежав из горницы во двор, видим уже пляску. Первыми выпорхнули на круг бабенки вдовые — бабкины помощницы. Они вытягивают на полянку отпускника. Дядя Петя, как и положено, сидел до того во главе стола под высокой изгородью, на лучшем из бабкиной мебели плетеном венском стуле — в соседстве с тетками из Ишима. Бабенки разгоряченно повизгивают, вскрикивают, готовые сыпануть частушками. Но пока все зачарованно смотрят, как сыплют звоном, колышась на груди, медали старшины, как празднично сверкают начищенные хромачи, выделывая отважные коленца.
— Ух, ух, а ну сыпь, Леня, позабористей! — отрывается от закусок прямой, высокий Петро Иванович. Он рад блеснуть своими галифе, поскрипеть тоже надраенными ради праздника выходными сапогами. Он и тетка Анна (та вдогонку ладится на круг), оба глуховаты, потому громогласные, шума, гама от них, как на многолюдной артельной работе, в лесной деляне, иль на зернотоке, иль на сенокосном лугу. И тетка Анна выплескивает первую припевку:
Ты моя, да ты моя — Деревня Полуянова. Девки дайте по рублю, Потом напойте пьяного!Кто-то из баб подбирает валявшуюся возле плетня заслонку и черную, тысячи раз загребавшую в загнетку горячие угли — шаболу, ширкает по жести заслонки в такт «подгорной». Присмотрелся: это же мама «выделывает» музыку на заслонке! Ух ты! Звенят медали, скрипят сапоги, пылают частушки тетки Анны. Гармонист фигурно рвет меха хромки. А из-за ограды — мычание коров, щелк кнутовища. Это вернулось в деревню со скудных майских поскотин деревенское стадо. Бабкина помощница тотчас кидается к калитке встречать «ведерницу». Проводив её, равнодушно оглядевшую людское скопище, в пригон, бабенка бежит в куть за подойником. Застолье тем временем, успокаиваясь, рассаживается по своим местам.
Чинно сидит по обе стороны отпускника солидная коханская родня. Тетя Нюся при высокой прическе, молодая, моднящаяся, тоже в ближнем соседстве с братом. Тетка Анна с «браткой» Петром Ивановичем, мои родители. Если взглянуть с нынешних возрастных высот, то ведь и они не старые были, как мне тогда представлялось — сорокалетние! Но, господи, за плечами сорокалетнего отца: коллективизация, Магнитка, строительство медеплавильного завода в Кировграде, срочная служба на острове Даманском, финская война, Великая Отечественная, тяжелое ранение, трудовой фронт в тылу… Представить только это в нынешние дни!..
Всему голова в вечернем застолье — бабушка Настасья.
— Мама, да присядь ты с нами за стол, мама! — настойчиво приглашает отпускник. И бабушка наша, кажется, в хлопотах своих так и не пригубившая рюмочки, как бы спохватясь, — пора и сына в застолье приветить! — подплывает мягко к столу, чинно принимает маленькую рюмочку с налитым для нее красным сладким вином, привезенным из города:
— С приездом, сынок! Спасибо! Ну, дорогие гости, родня наша, выпьемте! Всем здоровья и радости!
Глухой стук налитых стаканов. Мельканье вилок. Хруст ядреных огурчиков, грибов. Чесночный дух студня, уже тронутого теплом, готового осесть в большом блюде.
Гармонист берет раздольный аккорд. И вот возвышающая дух, проникающая до сердечных глубин, до спазм в горле песня, которую, не сговариваясь, заводит вдруг застолье. До сих пор без тоски в сердце не могу её слушать:
По полю тетки грохотали, Танкисты шли в последний бой. А молодого командира Несли с разбитой головой.Мы, малыши, как по команде, закончив свои игры, замираем, завороженные тем действом, о котором поется в песне. «А молодого командира несли…» В командире том почему-то чудится дядя Петя. И странно как-то, и радостно, что вот он, командир танка, сидит цел и невредим за столом. Без бинтов, без повязок, как вроде бы положено быть раненому в голову. Не слышу голоса дяди Пети, но вижу — издалека — он тоже включился в песню. Сосредоточен. Скорее — напряжен, словно что-то вспоминает из своего недавнего, огневого.
Из танка вырвались снаряды. И пулемёт затарахтел. И от немецкого отряда Остались груды мертвых тел.Выделяется высокий голос нашей матери. Ишимская родня, чинно поджав губы, внимает песне. Слышал я, кто-то из них тоже был на войне, кто-то пострадал от репрессий. «Братка», округлив глаза, напряженно, аж горло краснеет, подхватывает песню, озираясь по сторонам, словно проверяя — целы ли соседи по столу, в здравии ли, не истекают ли кровью. Убедившись, что все, слава Богу, не задеты ни снарядом, ни фашистской пулей, он удовлетворенно вскидывает подбородок, приглашая к песне тех, кто еще не успел подключиться.
Долго, эпизод за эпизодом, плывет, вздымаясь в небо, фронтовая баллада.
Про танкиста в наших застольях поют всегда. И я жду, когда батя, вздымая накаленным голосом самую трагическую ноту, опрокинув недопитый стакан иль смахнув со стола тарелку с винегретом, хрястнет по столешнице кулаком левой, не искалеченной на войне, рукой, выражая полноту чувств. Но привычней, что и делает он сейчас, не докончив песни, прослезится, никого не стыдясь, не смущаясь. Вслед за ним запромокают глаза кулаками и подолами рубах и другие крепкие, но расслабленные песней мужики.
Потом после пронзившего всех оцепенения, разряжая обстановку, гармонист ударит по басам, пробежится по ладам, создавая другой настрой, возвращая к реальности. И батя обрадованно подхватывает: «Выпьем за Родину, выпьем за Сталина, выпьем и снова нальём!»
Эх, непросто уйти от пережитого… И тогда тетка Анна вдвоем с мамой, никого не дожидаясь, заводят лирическую:
Каким ты был, таким остался, Орел степной, казак лихой. Зачем, зачем ты снова повстречался, Зачем нарушил мой покой…Мне теперь и не вспомнить, чем все закончится, в какие сроки. При лампе или фонаре, при полной луне, что осветит деревенские закоулки, но стихнут за столом мои родичи. Разойдутся по дворам, по домам. Бабка Настасья, следя острым взором за порядком, уложит спать на перины сына и городских гостей. Незаметно сунет старшей дочери Катерине завернутый в газету комок ременных вожжей, забытых батей с прошлого визита. Потом задвинет за последним из гостей жердь на воротах и калитке. Отгуляли!
Сколько еще предстоит таких встреч-застолий! Все мы еще в хорошем, счастливом возрасте. Нам, малышне, кому по шесть, кому по восемь лет, самой бабушке Настасье лишь за пятьдесят, остальные — в самой работной мужицкой и бабьей поре…
А записываю эти строки, считай, через полсотни лет. И вот случись бы невероятное: живи сейчас на свете белом бабка Настасья Поликарповна, задумай она собрать нас на своем дворе?! Что бы получилось из бабушкиного приглашения?
Непременно, постанывая, кряхтя, размяв по дороге ноги, суставы-косточки, притопала бы в нарядном платке тетка Анна-пролетарка, недавно отметившая свое девяностолетие. Не растратившая памяти, только потерявшая на последнем десятке лет много зубов, а то до семидесяти сверкавшая полным ртом.
Пришел бы, бодрясь в свои 76, и Петр Николаевич, дядя Петя-танкист. Вот сейчас пишу ему открытку-поздравление с 52-й годовщиной Победы. Он видел её, победу, собственными глазами, подкатив на «Т-34» прямо к рейхстагу в майский день 1945 года.
Из родичей, кроме нас, бывших мальцов, игравших в тот вечер на полянке возле бани, никого уже теперь не дозовешься.
Просторная оградка на двоеданском кладбище приняла в свои вечные пределы отца и мать, старшего брата бати — Василия-первого, дважды Георгиевского кавалера, его жену тетку Пестемею, невдалеке могилка братика Вовы, умершего на третьем году жизни — зимой 51-го, когда я учился в первом классе… Остальные родичи, не двоедане, на мирских могилках — под березами Засохлинского острова. Вечный труженик Петро Иванович Андреев, тетя Нюся, принявшая насильственную смерть от деревенского бандита в недавнюю пору. Сама бабушка Настасья под теми же березами православными. Пережила она своего дорогого зятька ровно на полгода. Отец умер на 72-м году от тяжелой болезни в Октябрьские праздники 81-го. Бабушку Настасью привезли к поминальному застолью на легковом автомобиле с другого конца улицы нашего большого села. В траурном платье, черной кружевной косынке — прямая, все еще статная, никак не скажешь, что ей давно за девяносто. Сказала доброе слово о зяте, до дна осушив поминальную рюмку.
Через полгода, в День Победы — 9 мая приехали мы с братьями в родное село навестить могилку отца. Вернулись с погоста, и тут пришел Петр Николаевич, сказал, что бабушки нашей больше нет… Почти до последнего своего часа была она на ногах, в полной памяти и здравии. Внезапно слегла, потеряла сознание, затихла во сне…
Да, лишь небесные грозы гремели в наших краях. А крестов и пирамидок со звездочками, здесь будто после больших танковых сражений…
БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ
Природой у нас четко разделено: летом — жарко, а зима — непременно с высокими сугробами, оглушительными — не просто морозами — стужами. В этом понятии — и ледяной свист вьюг, и серебряный куржак на проводах, кустах полисадников, на редких тополях. И эти сумёты, сумёты вдоль плетней, дворов, заплотов.
Да еще пронзительные скрипы полозьев саней и розвальней на деревенской улице, да закуржавелые мужики, шагающие за возами сена, уже не понукая старательных лошадей, а полагаясь на их волю, разум, извечную надёжность.
До сей поры, а с возрастом все пронзительней, захолонет вдруг в груди, как припомнишь наших лошадок, изробленных, а порой болезных, с разбитыми копытами, спутаными гривами, лишаями на холках, на костистых хребтах. И уж, конечно, голодных при несытом довольствии на конном дворе, а то и вовсе при бескормице.
Лошадки. Кони!
Наудив в отцовском кисете щепоть самосада или магазинной махры, дошкольником еще бегал я на конный колхозный двор, где помощник конюха Колька Митюрев за эту щепоть во время полдневного водопоя лошадей вздымал меня на самую смирную кобылу или мерина и разрешал прокатиться до озерной проруби, где в зимнюю пору и поился остатний, не занятый на работах, колхозный табун. Ребята постарше, посноровистей, гарцевали на более резвых лошадях, пуская их в рысь и в галоп, а мне всегда доставался такой «росинант», которого и доброй плеткой не разгонишь, не раскочегаришь.
Лошадки. Кони!
Так уж словно на роду написано было, что, пристрастившись с малолетства ко всяким железякам, в юности получив профессию механизатора широкого профиля, произрастали мы с живностью разной, с меньшими нашими братьями, в тесном соседстве, в родстве даже. Даже представить пронзительное и золотое то время невозможно без пестрой дворняжки Жучки, без кудахтанья кур и пенья петуха во дворе, без овец или боровка в хлевушке, без теплого дыхания коровы Люськи, вернувшейся с вечерним стадом домой…
Вижу воскресный полдень последней декады марта. Все дома. Отец совковой лопатой окапывает в огороде зарод сена, отбрасывает подальше набрякший влагой снег. Брат Саша взобрался на крышу дома, освобождает её от снежной тяжести. В небе синь-голубизна, солнце, не жалея сил, припекает.
Это нынче при испорченном урбанизацией климате трудно и вообразить, что в сибирском марте стояла такая теплая, мягкая пора, с роздымью в дальних березняках.
По углу дома пробую забраться на крышу, где брат. Он каким-то образом залез туда без приставной лестницы. У меня не получается, мешает выступающий далеко скат кровли. Тогда я лезу на тополь и по самой долгой ветке достигаю снежного конька крыши, сваливаюсь к трубе.
Саша поддевает ком снега, и он по наклонной скользит и падает в сугроб палисадника. Мне тоже хочется прокатиться с крыши.
— Смелей! — смеется брат, подталкивает меня в спину, и я скольжу, рушусь в мягкий сугроб,
— Ура-а-а!
— Смотри, Колька, скворцы прилетели! — доносится сверху голос брата. И в самом деле: на вершине нашего тополя, вблизи скворешника, всхлопывая крылышками, сидит пара черных птиц. Наши, конечно, скворушки, непременно наши. Добрались, долетели из теплых стран. Теперь-то уж настоящая весна пришла!
Скоро вытает из-под снега ограда. Её хоть и чистили зимой, хоть и выбрасывали снег за прясло, все же пойди справься с февральскими метелями: намело во все закоулки! Но придет настоящая теплынь, запарят волглые глызы, источат ручьи последние сугробы, пора будет и кур из дома выпроваживать. Привычными стали куры в избяном курятнике, а надоели: чисти за ними, меняй подстилку из соломы, а пометом — резким, известковым — пропиталась вся изба. Да еще петух этот, стервец, атаман, за что-то невзлюбил меня. Так и норовит долбануть острым клювом, когда подсыпаю курам отрубей, подкладываю в корытце намятой картошки.
Скорей бы уж!
Выведем из дома и лобастого бычка. Он тоже с январских морозов обитает в домашнем тепле.
Бычка, конечно, не поместишь в загородку. Бычку воля-вольная, шастает по комнатам. Не доглядели, изжевал штанину отцовых кальсон, изжамкал рукав моей рубашки. Вызволив рубаху от бычка, я — чуть не с рёвом — к матери. Заштопала прожеванные места, но Борька-бычок с того дня в нашей семье потерял всякое доверие. Один отец, выразив непонятное восхищение «антихристом», сказал, чтоб глядели, а «ушами не хлопали».
Только порадовались прихлынувшему теплу, прилету скворушек, как во хлеву, в родовых муках, погибла старая овца-матка. Принесла она двух белых курчавеньких барашков, успев облизать шерсть только на одном. Второй так и остался необлизанным, и впоследствии их хорошо можно было различить по этим зримым признакам.
Ягнят-барашков, топырящихся на слабых ножках, принесли в избу. И пока отец с братом, как водится в таких случаях, обдирали шкуру с погибшей овцы, мы с мамой решали, как быть с кормлением ягняток. Они ведь так и не попробовали материнского вымени, с первых минут появления на свет остались сиротинками. Не миновать бы им погибели, но мама знала, как обойтись с малышами.
— Счас, счас я вас обихожу! — сказала она и полезла на полати, где разыскала меж старых пимов пластину мягкой, выделанной овечьей овчины. Мы откромсали нужный кусок. Мама принялась обстригать овечьими большими ножницами шерсть, а когда обстригла до плоти, выкроила и сшила суровой ниткой две соски, примерив их на горлышко чекушки из-под водки. Потом распарила соски в горячей воде, пожулькала, помяла в руках, проколола крупной иглой дырочки для сосания. Мы наполнили чекушки коровьим молоком. Я радовался: так славно придумала мама. И вызвался быть постоянным кормильцем-поильцем сироток.
Искусственному «вымени» ягнята сопротивлялись недолго. Глотнув теплого молока, заработали губами, прижимая соски беззубым ртом, поддавая мне в руку, как поддают обычно материнскому вымени, подрагивая хвостиками.
Вскоре ягнята окрепли. Напряглись, напружинились их вчера еще слабые ножки. Теперь дробный стукоток копытец раздается отовсюду, когда сиротинки принимаются носиться по дому, загоняя кота на высокий брус полатей, откуда тот хмуро поглядывает на новых обитателей дома, ущемивших его жизненное пространство.
Удвоились и мои заботы. То и дело надо подбирать веником «горох», что ягнята щедро сеют по полу. А потом они опять тычутся в руки, требуя молока. Соски они уже основательно измочалили. Мы с мамой обсуждаем необходимость шить новые.
С восторгом я обнаружил, что на лбу ягняток твердеют бугорки будущих рожек. Мама говорит, чтоб я не трогал эти набухающие бугорки, не то барашки рано научатся бодаться и покоя не дадут. Предостережение только сильней разожгло мое любопытство. Всякий раз при кормлении ягнят я проверяю — насколько подросли и окрепли будущие рога. И вскоре — как-то само собой вышло! — барашки начали легонько, а потом все сильней, напористей поддавать друг другу, сталкиваться в поединке, стараясь пересилить один другого. Заметно одолевал облизанный барашек. Мы ведь так и зовем их — «облизанный», «необлизанный». Других имен сиротинки не получили. Да и, по правде сказать, кличками-именами овечье племя у нас не принято удостаивать. Так и бегает обычно по двору племя это без особых отличий. У кур вон тоже только Петя-петух выделяется, а все остальные — куры. Им и того достаточно.
Как добрая хозяйка в доме, прибралась в нашем околотке и в окрестностях торопливая, суетная весна. Подсушила взгорки, вызеленив их шильцами пырея и конотопа. На Долгом озере весна еще в апреле разломала льды, погоняла по глади воды, прибила к пристаням отдельные большие льдины. Пацанва постарше отваживается плавать на них.
Под всхлипы гагар-лысух, под гомон мартынов и чаек, под писк тонконогих вихрастых куличков, что бегают по солонцовым берегам, теплынь, нахлынувшая из южных, петропавловских широт, растопила наконец островки зимы до ила, до донных шилышек.
Колхозное стадо, не дожидаясь пока подрастет трава, вытурили из прокисших навозом баз, угнали на дальние выпасы. А единоличные коровы, под росшие за зиму телятишки, овцы, дожевывая последние клочки сена, еще томятся в дневных загонах подворий. Коровы дружно — от двора к двору — принимаются вдруг трубить на разные голоса, вспомнив прошлогодние сочные луга, коллектив коровий, щелканье кнута, блеяние овец, что пасутся, как принято у нас, вместе с дойным стадом и нетелями, молодыми бычками.
После посевной, означенной рокотом тракторов и шлейфами пыли за сеялками на Солоновском, Окунёвском и Засохлинском увалах (они хорошо видны с крылечка нашего дома), взрослые заговорили о том, что пора выгонять на зеленеющие поляны и домашнее стадо.
И день этот наступил. Он расцветил мой сон на восходе скрипом калиток, мычанием скота, сумятицей женских голосов. Не рядовое же утро! Все покрывал задорный, властный голос пастуха Степана Чалкова, успевавшего и пошутить, и остудить кнутом чью-то взбрындившую коровенку, разнеженную за зиму на пойлах и пахучих визилях в теплом пригоне, не желающую присоединяться к стаду.
Барашков наших, сиротинок, и речи не было пока, чтобы снаряжать в деревенский табун.
— Живой травы еще не видели! Пусть освоятся на своей полянке у ворот! — решили родители. И я понял, что не видеть мне волюшки очень долго. В прошлое лето тоже досталось: орда по ямам да зарослям конопли и лебеды носится. В прятки, в войну играет. А мне задание: выполоть гряду моркови!
Гряда эта в огороде тянется от погреба с солониной до обвитого хмелем заднего прясла, за которым солонцы да берег озерный с камышами. Во-оля! Но где она?
Барашки мои быстро освоились в вольном сообществе кур, рыжего кота Васьки и сорок, прилетавших стрекотать на прясло. Теперь-то уж стрекотали эти вещуньи не напрасно! Пришло письмо от дяди Пети из Германии, от самого старшего брата Гриши из Омска тоже получили весть: обещался паровозный кочегар приехать в отпуск.
Выкормив желторотый выводок, покинули нас скворцы, улетели в леса. Скворешник вновь заняли воробушки, собирая крохи тут же, во дворе, вместе с подрастающими цыплятами. Над ними клохчет дородная, расфуфыренная пеструшка-парунья. Она самостоятельно устроила гнездо в зарослях молодой крапивы, снесла яйца, выпарила и однажды привела во двор десяток желтых попискивающих малышей.
— За цыпушками гляди! — всегда наказывает мне мама.
В будний день она уходит возить глину из карьера для кирпичного заводика, для кирсарая по-нашему. В обед появляется «пошвыркать супу, плеснуть чё-нибудь поросенку». Да, к полудню поросенок заявляет о себе настойчиво — повизгивает в хлеву, как «острожник». Мама еще и доглядывает за нами — все ли на месте?
А куда нам деться?!
Пощипав травки под моим наблюдением, барашки залезли в тень телеги… Жара доняла и кур. Хоронятся под досками крыльца.
До поры, конечно, пока не выйдет посередь двора Петя-петух, и, похлопав крыльями, даст всем побудку. Живность выпрастывается из щелей и закутков, бежит к тазику с водой, к корытцу. Требует пищи. И я бросаю свои железяки, их натаскан у меня целый угол — «зисы», полуторки, трактора — полно! И кормлю-пою, выполняю требования моих подопечных.
В сопровождении Жучки появляется во дворе Саша. Он занят где-то своим делом. Ему давно доверяются и отцовская лодка, и сети, и ружье-одностволка, Он тоже считает своим долгом проверить обстановку в доме и во дворе. Непорядок отыскивается в самом неожиданном месте — в небесах, где в знойном зените, распластав крылья, кружит коршун. Конечно, он намеревается унести со двора цыпленка. И Саша выносит из дома ружьё, заряжает его и целится в стервятника, который тут же порывисто, почуяв порох, как всякий опытный хищник, набирает высоту. Достать его на такой высоте невозможно. Но брат бабахает на удачу распугивая воробьев и разнообразя монотонную картину дня облачком порохового дыма.
К средине июля на лесных полянках вызревает клубника. Старшая ребятня носит её с поля ведрами. За старшими увязывается пацанва, мои ровесники. Они с трехлитровыми бидончиками, важно надвинув кепки, шествуют по утрам мимо нашего дома.
Носят ягоды все. Успевают нахватать их в кошенине и косари, возвращаясь под вечер с зимним припасом.
Мама разочлась с кирсараем и тоже ушла на покос. Забрала в помощники Сашу и Жучку. Мои ж обязанности никто не отменил. Но в одно утро, оглядев привычно двор, я не нашел своих барашков.
— Уговорила Степана в табун взять! — сказала мама. — Может, привыкнут…
Да вот не получилось. Вечером, встречая табун, я еле разыскал своих питомцев, водворил их в ограду, гудящую комарьем. Не случайно, знать, целый день переживал за ягнят. И вот — на тебе! У необлизанного кровенил бок. И под шерстью я обнаружил рану, в которой шевелилось и дышало живое мясо. Отец тоже осмотрел барашка, отправился разбираться к пастуху, а вернувшись, сказал Саше, чтоб он наточил большой ножик.
— Заколоть надо, пока не сдох! — пыхал махрой отец. — Степан матерится, намаялся с ними за день, лезут к каждой корове, кака-то и зацепила рогом.
— Не надо колоть! — холодеет у меня в груди. — Может, вылечить можно, а?
— Лекарь нашелся! — боевито фыркает брат и ширкает ножом о сколок бруска. — Зря куксишься. Ничего не сделать…
Слезы жгут глаза. Вот-вот разревусь. Еле сдерживаюсь.
Мама молчит. Почему она молчит? Эх, вы все…
— Обожди, Шурка, — говорит отец. — Обождем до утра… Утром, когда опустел двор, когда обнаружил я необлизанного в целости и сохранности, то сразу побежал к Шурке Кукушкину:
— Дай йоду. У тебя в пузырьке оставался…
— Опять боровка подложили? — дивится Шурка.
В прошлом году этим Шуркиным йодом только и выходили поросенка. После ножа «коновала», как называет мама ветфельдшера, у боровка воспалилось подхвостье. Шурка приносил свой пузырек, совал в него прутик с ваткой, смазывал рану. За «вызов» он, швыркнув носом, принимал от моего отца по два пятнадчика и, сутулясь, уходил домой. На другой вечер опять деловито брякал щеколдой калитки, приступал к лечению. Длилось оно две недели и закончилось благополучно.
Кукушкина долго просить не надо. Необлизанный терпит, не дергается, когда мы обстригаем вокруг раны шерсть. Потом Шурка, будто ручку в чернильницу, сует прутик с ваткой в пузырек, принимается обихаживать лекарством больное место. Ягненок дрожит, порывается освободиться. Но мы держим крепко.
— Кто знат, кто знат! — серьезно сопит Шурка. — Сильно пырнула. Мясо вон наголе…
Денег с меня он не просит. И завтра приходит. И потом.
Но не помогает Шуркин йод. Смотрю я — в открытой ране барашка извиваются уже белые червячки. Их много, отвратно несет от раны. Я беру щепочку, выколупываю червячков, давлю их, извивающихся на земле, голой пяткой. Необлизанный стоит смирно, только дрожь сотрясает его исхудавшее тельце. Наверно, живая плоть раны уже омертвела, барашек не чувствует боль или всецело доверился мне — своему поильцу-кормильцу. Что у них там на уме, у бессловесных?!
— Да, йод не помогат! — хмурится Шурка, застав меня за этой операцией. — Нужен креолин. На ферме овечек купают в растворе креолина, давай сбегам.
Сбегали. Набрали в бутылки.
Теперь я лечу барашка уже самостоятельно. Намочу тряпицу в лекарстве, каким выхаживают своробатых колхозных овец, прикладываю тряпицу к ране ягненка по нескольку раз в день. И день ото дня дышащая плоть раны подсыхает, отпадают мертвые и сухие волокна. На поверхности раны образовалась уже плёнка, которая ежедневно сужается, покрывается живым пушком. За пушком возникает и новая шерстка. Я понял: лечение удалось. Мой подопечный будет жить!
С наступлением холодов в любом крестьянском дворе решают: как быть со скотиной? Дойной — зимовать. А барашков обычно колют на мясо.
Не вспомню, как у нас было.
Память избирательна. Горькое она сохранила, но больше — светлого. И томит оно своими красками, не отпускает, не дает забытья. Это же было в детстве. В светлые года!
К сентябрю, когда мама сшила мне на зингеровской машинке новую бумазейную сумку к школе, барашки мои обзавелись крепкими, словно точеными на станке, рожками. Упруго скакали по двору, сшибались лбами, по-прежнему гоняли кота и кур, лишь петуха, испробовав однажды его острого железного клюва, обходили стороной. Конечно, петух считал себя стражем, защитником глуповатого куриного племени. И за себя мог стоять!
Меньшие братья. Сколько их было в моей жизни. Ни разу они не предали, не изменили в своей привязанности. Разве, что только волки-разбойники. Но с волками встречаться не довелось, потому сказать о них ничего не могу.
Мне видится погожий день бабьего лета. Летает паутина. Скворцы начали возвращаться из лесов и сбиваться перед отлетом на юг в большие стаи. В огороде идет копка картошки. Пахнет вывернутым черноземом. Клубни картошки чистые, розовые. Немного «обыгаются» на солнце и — можно в подпол ссыпать.
Все, и люди, и животные полны сил и умиротворения. Всем хорошо.
Барашки наши носятся, копытят землю. Раздолье курам. Никто не гонит их сейчас с огорода, не стреляет по голым ногам запыженным в патрон вместо дроби овсом. Жучка сидит на куче ботвы и, прижав от удовольствия уши, смачно хрумкает красной морковкой.
Корова Люська с бычком Борькой дохаживают последние недели в табуне. Вот-вот зарядят дожди. Непогода прикатит. А там жди первого снега.
Пахнет прелым листом. В предстоящую зиму, в студеные ветры еще как-то не верится.
ПОСЛЕДНЯЯ СКАЗКА
Обдавая прохладным дуновением, прогрохотал, прокатился по небу в своей чугунной упряжке Илья-пророк. Высоко в потемневших облачках с глухим стукотком (наподобие рассыпанного из решета гороха) застучали, как по деревянному настилу, отдаленные мелкие громы.
Над Васильевскими воротами, а может, и в дальней стороне, над Тундровским увалом, упряжка Ильи дала крутой разворот, нагнала фиолетовых туч, все еще высоко клубящихся, но теперь уже явно угрожающих ливнем. Вскоре сверкнули в тучах короткие, ломаные стрелы молний, за ними ударил раскатистый, тяжелый грохот. Потемнело в дому. Мухота, как сдуревшая, заметалась, забилась в оконные стекла. Рыжий кот, простелившись к дыре подполья, нырнул в нее, будто в прорубь, сверкнув оранжевым огоньком хвоста.
Опять ударило в небе. Совсем близко.
— Боженька ругатца! — сказала мама. — Сбегай закрой ставни.
Ветер во дворе вихревым кружением взметывал и подбрасывал ввысь труху, щепки, заламывал соломенный козырек крыши пригона, торкался в забранный талинами забор, за которым вдоль улицы ошалело катился, вихляясь и подпрыгивая, фанерный обод сита. Куры загодя укрылись под крылечком. Стихли воробьи, затаясь под застрехами. И в пору! Наступающая гроза готова была вот-вот упасть тяжелыми струями с небес, но пока медлила. Огородная картофельная ботва продолжала ходить зелеными волнами от прясла к пряслу. Жутко было смотреть на озеро. Потемневшая, посвинцовевшая гладь его ознобно покрылась крупной рябью. Недавно залитые солнцем, набрунжевевшие сочной плотью стены высоких камышей тоже размахивались и ложились к воде, касаясь метелками ее свинцовой ряби. Еще недавно на озерном стекле чернела пара лодок. Сейчас от ближних мостков, с пристани, донесся бряк железа: успели рыбаки, ставят плоскодонки на прикол. Поспеют ли до ливня под домашние крыши? Вопрос, конечно…
Первые тяжелые капли уже буравили дорожную пыль, звенели, ударяясь в оконные стекла, как кнопки, пришпиливали к спине ситец рубашонки, когда я, торопливо откручивая проволоку крепления наших допотопных, рассохшихся ставнёшек, перебегал от окна к окну, запахивал этими ставнёшками все восемь окошек нашего крестового дома. Мама быстро смахивала в передник развешенных для вяления карасей с растянутой во дворе проволоки.
Успели! Ливень хлестанул нам уже вдогонку — по захлопнутой тяжелой двери сеней.
Прокаленный полдневным маревом, дом был полон спёртым, густым духом. После уличного воздуха, напитавшегося озоном, дух этот, распиравший полутемное пространство комнат, густел в груди.
А во дворе уже хлестало. С дерновой, пластяной кровли (сквозь щелястые ставни видно!) стекали грязные струи. С треском обломило толстую ветвь тополя, бросило ее на доски телеги, которая простонала, будто живая. С грохотом рассыпалась поленница. В бурлившем из-под ворот потоке, в пенных его водоворотах, мелькали перья, береста, пучки травы. Поток утащил с бугра нескольких кур. Заламывая им крылья и хвосты, вода принесла куриц к нашему низинному двору.
— Господи, светопреставление! — метнулась к столу мама, собирая дрожащие на столешнице стаканы. Прижала их к груди, словно невыразимую хрупкую ценность.
Опять ударил громовой раскат. Он был такой силы, что зашевелились на божнице иконы, зябко дрогнули крестовины оконных рам.
™ Отойди от окошка! Сядь в простенок! — простонала мама. Метнувшись теперь уже к печной трубе, она задвинула вьюшку.
Я и сам напугался. Отпрянул к «патрету» наркома Ворошилова, прижался спиной к картонке и мне почудилось, будто ордена на гимнастерке наркома холодят мне лопатки.
Разумней бы шмыгнуть на печь, за кирпичный чувал трубы, или проскользнуть в сумрак полатей, затаиться там среди пимов и кулей с шерстью. Надежней укрытия нет — хоть от материнского ухвата, хоть от отцовского ремня, да и сейчас — от грохота с небес. Конечно! Но все же я стремился в прорезь ставня глянуть на улицу…
Гроза улеглась так же внезапно, как налетела на село. Когда я босиком выбежал за калитку, в очистившемся от фиолетовых туч небе сияло большое солнце, а на серой расквашенной низине окрестная босоногая малышня азартно месила грязевую кашу, визжа и радуясь.
Охлажденная коротким, обвальным ливнем земля — околичные полянки, огороды, бегущая в степь дорога с напрочь смытыми копытными выбоинами и тележными колеями, парила. В зените неба, раскинув крылья, полоскался в теплых воздушных струях коршун. Осмелели воробушки, выпорхнули из-под стрех. Защебетали ласточки. Простреливали над крышами стрижи.
Все живы!
Трясогузка, глянь! Бегает, трясет хвостиком, что-то разыскивает на разглаженной ливнем дороге.
На спокойной, солнечной глади озера опять зачернели плоскодонки рыбаков. Неймется им… Но после грозы карась, как чумовой, прёт в сети и ряжевки. Мужики торопятся обтянуть ловушками прибрежные курьи, где мелководье и самый рыбий жор. С Долгого катится уже ботание рыбного гона — глухое буханье по воде жестяных раструбов, насаженных на концы крепких шестов, тычек. С Долго Затем это глухое громыхание также азартно стихнет, приткнутся к камышам лодки, начнется выборка из мережи улова. По всему видно, богатого!
Ожила и улица. Следом за гомоном малышни подали голос петухи. Выпростались из-под крыш телята — эти вечные деревенские блудни, которым рано еще во взрослое единоличное стадо. Вот и толкутся все лето по заогородным полянам, на приозерной травке. Зачакала железом колхозная кузница.
Заухал о наковальню тяжелый молот Васьки Батрака. А из-за бабки Улитиной крайней избы, на савинской дороге, показалась нездешняя таратайка.
Конечно, казах едет. Он чинно посиживает на облучке, свесив одну ногу в сапоге и блестящей новой галоше. Таком глянцевитом, сверкающем на солнце, как будто и нет в окрестности ни грязи, ни полных дождевых луж. Из-под лисьего малахая, надвинутого глубоко, чернеет узкоглазый взор. За спиной казаха тихой куклой сидит закутанная в цветастый плат жена. Лошадка пытается перейти на рысь, но ей не удается — таратайку сносит по грязи к нашему палисаднику.
Сейчас казах спросит меня:
— Дружка дома?
Это он про отца нашего спросил, с которым давно дружит, никогда не минует нашего подворья, подвернет поговорить с отцом. Чаще всего эти визиты заканчиваются долгим чаепитием.
Я уже собрался отвечать, что отец на работе. Но не успеваю и слова молвить, как из лопухов высунулась голова Шурки Кукушкина:
— Каза-а-х, свиное ухо нада-а!?
Орать Шурке эту дразнилку сейчас не следовало бы: свой человек приехал, обижать не надо. Казах, конечно, схватывается за кнут, трясет им над головой угрожающе. И едет мимо нашего двора.
Да, жаль, что проехал мимо, не зашел в дом, не попросил мать раздуть самовар, не вынул из кошелки брикет «кирпишного чая» и, распространяя по избе нездешний загадочный для меня овчинный дух, не уселся степенно и надолго за стол. Мама в таких случаях всегда светлела лицом, выставляя все, чем богаты, подкладывала свежего хлеба. И гость хвалил хлеб, говорил, что «русский на дрожжах» вкуснее казахских пресных лепешек. Но пресные лепёшки тоже были здесь и продолжалось обоюдное потчевание.
Потом за стол, после настойчивых уговоров матери, присаживалась и женщина-казашка, смущенно озираясь на хозяина. Тот хмурился, но в гостях у русских, видимо, поступался своим, непонятным нам, обычаем.
— Как это так! Он бузгат стакан за стаканом свой кирпишный чай, а хозяйке его, выходит, нельзя за стол? — возмущалась потом мама. И добавляла со вздохом:
— Бусурмане оне и есть бусурмане…
Я выбегал на крыльцо и долго смотрел на таратайку. Иногда их навёртывалось в наш дом сразу несколько, привозя в гости, наверное, половину степного аула. Смотрел, как долго степной дорогой трусили лошадки, гремели на кочках колеса таратаек, за одной из которых бежал юный тонконогий жеребенок.
Гости скрывались за Солоновским увалом — в южной стороне, среди веющих ковылей и колючих чертополохов-татарников…
Я стою посередь освеженной ливнем улицы и собираюсь присоединиться к Шурке Кукушкину. Он принес лопату, копает канавку, чтоб спустить к озеру большую лужу.
Занятие это праздное, необязательное. Вот послали бы нас в эту пору заниматься нужным по хозяйству делом — ограду прибрать или дрова в поленницу складывать, нашлась бы куча причин, чтоб ничего не делать, волынку тянуть. Но пооди-ночке-то тоскливо работать, а тут дело артельное, коллективное. Вот-вот прибегут другие ребятишки. Будут канючить лопату, чтоб тоже принять участие в этой «игрушечной» работе.
— Чё орал-то? — говорю Шурке, — Свиное ухо-о! Это ж наш дружка. В прошлый приезд спрашивал у отца — можно ли ихнего казачонка к нам на квартиру устроить. В ауле-то школы нет, а казачонку тоже надо учиться…
— А не люблю я их! — сказал Шурка, — Чё они ездят-то, знашь? Присматривают, где можно потом пшеницу на полевом току стибрить. Вот, наклон тут, поковыряй немного…
Вернулись косари. В поле сейчас тоже наквасило — какая тут работа! Чья-то одинокая телега запоздало шкандыбает по совхозной улице. Пегая лошадка, упираясь, тянет воз по грязи на деревенский взгорок. На телеге виднеется какая-то поклажа. С вожжами в руках шагает рядом с телегой женщина. Незнакомая, с дальней совхозной окраины, где я знаю не всех.
Телега поравнялась с бескрылой мельницей-ветряком. Втянулась в пространство между колхозным зерноскладом и большими государственными складами. Мы с Шуркой услышали женские причитания. Так воют у нас бабы над покойником. Неладное что-то? Мы переглянулись. Шурка вонзил в землю лопату, кивком пригласил побежать на совхозную улицу. И тут появилась зареванная Надька Улитина.
— Чё там случилось, Надежка?
— Уби-и-ло… Громом убило…
— Кого убило?
— А не зна-а-ю. Мужика с той улицы убило…
До вечера только и разговоров в нашем околотке о происшествии. Спустилась с пригорка, ломаясь в пояснице и охая, бабка Авдотья. Сошлись они с мамой у палисадника. Редко появляющаяся в нашем краю, пришла бабка Фетинья. Прошла, сухо поклонившись, аккуратная, строго повязанная черным платком. Монашка — сильно верующая женщина-староверка. Она блюдет все посты, престольные праздники, живет одиноко. С нашими околоточными бабами не якшается, в гости не ходит. Строгого «ндрава», как судят о ней бабы. Я прислушиваюсь к их негромким, жалостливым вздохам. В Васильевских воротах это случилось, где больше всего гремело. Прилетела с неба «стрела», «расщепила большую березу и сразило «мушшину», а бабу его не тронуло».
Вечером, как всегда с веслом на плече и вонючей махорочной «оглоблей» в зубах, сделав крюк от пристани, пришел побалакать с отцом Павел Сергеевич Андреев.
— Говорят, надо было сразу в землю закопать, чтоб молния вышла из убитого! — встряла в разговор мужиков мать.
— Ага, Катерина, и крест поставить! — как всегда, когда говорят что-то не по уму, съёрничал батя, присаживаясь на лавочку и тоже вынимая кисет.
Ночью опять грохотало над домом. В голые стекла окон — никто не решился выйти во двор, чтоб снова затворить ставнешки, — вкатывались огненно-сизые сполохи, из высей сыпался горох небесных электрических разрядов. А мне чудилось, будто кто-то огромным колуном — от вершины до комля — раскалывает тяжелые, ухватистые березы, молнии озаряли ночную ограду, высветив на мгновения, будто дневным светом, телегу, крышу пригона, дрова, собранные заново в поленницу. Я знал, что следом долбанет и успевал нырнуть в кипень тулупа, отползал ближе к стене, под подоконник, где безопаснее. «Боженька ругатца!» — стучало в голове, но постепенно сознание обволакивалось забытьём, окончательно проваливалось в глубину снов. Но и там вдруг мелькали осколки картин ушедшего дня, причудливо и тревожно преломленные в ненашедшем успокоения сознании.
Снились, — прямо-таки осязаемо! — вороха огненных лисьих малахаев. Их было так много, что они заполнили всю заозерную степь. Метались по пшеничному Окунёвскому увалу, уставленному ворохами зерна. Все прибывали и прибывали с тяжелым колесным громом казахские таратайки. Между ними возникал вдруг Шурка Кукушкин. Что-то кричал и вдруг принимался вздымать эти вороха грязной лопатой. И сам я, силясь чему-то препятствовать, не мог пошевелить ни рукой, ни ногой, отчего просыпался на какие-то мгновения, потом опять проваливался в рыжий огонь малахаев, который преследовал меня до окончательного пробуждения.
— Не захворал ли уж? — заглянула в горницу мама. — Мечешься, бормочешь. Полежи еще, рано ведь совсем…
Потом, через годы, дневные и ночные эти сполохи, страхи, тревоги пришли и оформились в иное качество. В рифмы, в строки:
Только смолкли лягушки-царевны И уснул заколдованный лес, Разбудил среди ночи деревню Неожиданный грохот с небес. Я дрожал, дожидаясь рассвета, Испугался тогда не шутя. И звенели на крыше монеты Серебристой чеканки дождя. И опять, прогремев в колеснице, Громовержец ломал облака. Кинул молнию огненной птицей И сразил наповал мужика. А под утро за лошадью пегой, Что, наверно, оглохла в грозу, Проскрипела в деревню телега, Где лежал человек на возу. И со страхом его провожая, Выли бабы в проулке косом. А живая вода дождевая За тележным неслась колесом…Конечно, не все в этих строках, как было. Так и не бывает при создании произведений. Таковы «причуды» творческого процесса. Но сейчас я не об этом.
Готовилась к изданию моя первая книжка стихов. Редактор её — большой атеист, вдруг потребовал изъять из рукописи эти стихи — за «неуместную живую воду, за пропаганду замшелой религии».
Дичь? Конечно, дичь.
Рисковое дело — спорить с редактором молодому стихотворцу. И все же я дал телеграмму в издательство: «Если снимете «Последнюю сказку», то я снимаю из плана всю свою рукопись!» Отвага сия, граничащая с наглостью, столь подивила редакционное начальство, что оно согласилось: «Оставить»! Таких наглецов там еще не встречали!
Про Бога в нашем доме вспоминали редко. Только один раз за свое деревенское детство я видел, точнее выразиться, был свидетелем, как мама стояла перед божницей на коленях, шептала молитву и клала поклоны. В горнице было сумеречно. За окном стоял мороз. А я, сунувшийся было из кути в горнешние двери, застал там маму перед иконами. И напугался.
Что-то очень уж неладно у бати было на работе. Опять он выступал на собрании, кого-то клеймил, кого-то защищал, добиваясь справедливости. И что-то грозило ему. От властей.
«Господи, помоги и оборони! — услышал я тогда мамину молитву.
Один раз и слышал.
ДАЛЬНИЕ СТРАНЫ
Окраинное наше бытие имеет, конечно, больше преимуществ перед бытием других домов и избенок на колхозной улице. Зажатая заплотами, плетнями, уцепившись в свои сотки-палестины, правая сторона улицы вздымает черноземы огородов на взгорок, к задам села, к жердяным пряслам. А за пряслами — машинная дорога. Дальше школьные владения: большой двор, сад. Не разбежишься.
Другое крыло улицы, стекая низиной к озеру Долгому, тоже ограничено береговой кромкой, камышами. Хотя есть тут свои удобства: рыбаки (а в рыбаках у нас полдеревни) чалят свои лодки прямо у родных плетней. Тут и огурешники, тут и полив, тут и бани хоть с полка ныряй в озеро, остужайся после жаркого веника.
Но у нас, на окраине, зато простору, сколь хочешь! С подворья нашего, с крылечка, а еще лучше — с вершины старого тополя — простор этот вольный далеко виден. За приозерной степью колышется сизое марево жары, обволакивает дальние березовые леса. Туда текут ленты сразу нескольких полевых и проселочных дорог. А над всем этим — вспученным массивом, на южной солнечной стороне горизонта! — горбится пахотный Окунёвский увал. К средине лета по нему широко, размашисто перекатываются волны созревающего хлеба. Над волновыми перекатами пшеницы или ржи, в центре увала, неведомо с каких пор высится загадочная для ребятни мачта. Сосновые бревна мачты, местами тронутые гнилью, но на совесть стянутые коваными скобами, держатся еще надежно. Что это за мачта? Кто ее поставил и для каких целей? От взрослых мы знаем правильное её название — топографический знак. А поставили знак, похоже, о-очень давно, может, еще до революции!
Говорят, кто-то из деревенских отчают на спор поднимался по шатким, подгнившим лесенкам до верхней площадки мачты, где торчит шпиль. Разувался там, сбрасывал вниз сапоги. И они, наподобие самолетных бомб, свистя и завывая раструбами голенищ, до полусмерти напугали баб на дальних покосах. Кто его знает, правда ли?
Шурка Кукушкин, который до смерти боится воды, один из нашей орды забрался под самую макушку старинной мачты. А это шесть пролетов. В каждом — по 15–20 метров. Мне и Тольке Миндалеву хватило духу и смелости одолеть всего два пролета. Там и застряли. С замиранием в груди, запрокинув головы, следили за Шуркой, который благодаря своему подвигу вышел в герои нашего околотка.
— Теперь тебе непременно — в летчики идти!
А Шурке чихать на эту славу. Он нигде и ни перед кем ни разу и не похвалился, что залезал на мачту, что сидел там на верхотурной скамейке. А потом бросил вниз кепку перед тем, как спускаться вниз. Кепка, если черпануть ей на складе из вороха пшеницы, запросто вмещала с полведра зерна, а тут, спланировав в синем небе, совсем негеройски упала в кусты шиповника, откуда мы ее с трудом добыли.
Все это я видел. С восхищением, конечно, и с завистью. Эта покоренная дружком высь не стала давать покоя. Высь! С неё уж точно видны дальние страны?!
— Ты чё сдурел? Какие страны?
Мы опять с Шуркой сошлись в нашем проулке. Он нацелил свой взгляд в раскричавшуюся курицу. Где-то снеслась безхозно! Надо лезть в коноплю, искать дармовое яичко. И Шурка торопится отвязаться от моих дурных расспросов:
— Ну, Савино видно. Ну, Нестерово… Ниче боле. Табун возле Тундровского острова пасся. И все-е!
Эх, Шурка. Вот я бы увидел-рассмотрел дальние страны! Но ведь и с вершины старого тополя видов дополна. Хотя б городская дорога. По старинке ее так зовут. Теперь она почти заброшена, зарастает пыреем, куриной слепотой, колючками. Пока ездят по ней конные и бычьи упряжки. Порой по старой памяти прикатит из города американский студебеккер или наши — полуторка, зисок прогремят в сырую погоду. Обогнут Засохлинский остров, вонзятся в зеленую кипень берез да исчезнут в загадочной глуши. В лесах! А за лесами — чужие деревни: какие-то Грачи, Чирки, потом, говорят, добрый тракт начинается, что ведет на юг, в Петропавловск, а на север — в Ишим. Там поезда ходят. А в поезде-то и можно укатить в дальние страны. В какие хочешь! Хоть в саму Германию, где служит танкистом дядя Петя.
А еще с колхозной овчарни, она излажена нами вся, до последнего закутка, видна другая дорога на Ишим. Ведет она сначала на ближний Крутинский увал, мимо соснового ряма и двоеданских могилок, через степь — на большое село Пеганово. Прошлым летом на дороге поскребся железный грейдер, вздыбил солонцы. Теперь дорога эта называется трактом-большаком. Правда, он лишь посуху большак, до первого проливного дождя.
Еще есть дорога из села. От совхозной окраины. Не дорога, а «смертушка», как говорит мама. По ней можно добраться через озерные ляжины и ручьи-протоки, через шаткие мостики, в деревню Полднево, где живут наши родственники Ипатовы. Совсем глухая сторона. За ней не блазнятся мне никакие страны. Так уж затвердилось в моём представлении: дальние страны в городской стороне.
Шурка вылез из конопли, в руке у него пара куриных яичек. Он потер одно о штанину, колотнул о жердь огородого прясла, одним заглотом высосал, сунул мне другое яичко:
— Пей давай. Да, смотри, кожуру зарой в землю!
Меня учить тут не надо: скорлупу яичную у нас принято не бросать, где попадя, чтоб не натокались клевать куры. Привыкнут, будут долбить яйца, как только снесутся. А этого допускать нельзя. Шурка, конечно, оставил в бесхозном гнезде третье яйцо, чтоб несушка не потеряла место. Зорить подчистую такие гнезда — себе в убыток.
Конечно, мы сейчас побежим на овчарню. Днем там пусто, овец пригонят только в сумерках. А к той поре хватит нам воли напрыгаться с высокой крыши, в пряталки наиграться, домой заявиться к возвращению взрослых с работ.
Надо заманить в компанию ребятишек бабки Улиты, хоть и совсем малы они, а больше некого. Вот они — шестилетняя Надька и четырехгодовалый Санька гоняются на бугре за мотыльками. Мать у них тоже на работе. Про отца их ходят разговоры, что он то ли бросил семью, то ли в тюрьме сидит. Не нам выяснять! Да и не выясняем мы ничего про Ханьжиных ребятишек которые растут на наших глазах. Бабка Улита то загоняет их вицей в ограду, то снова выпроваживает на ближние полянки, поднимая крик, едва внучата скроются из видимости в какой-нибудь яме или за навозными кучами.
А вот Толька, городской внучек дедушки Павла Замякина, увяжется за нами сам. Толька мой ровесник. Ему, конечно, до нашей ловкости в играх далеко, но мы терпим. Родная бабка Тольки — Авдотья за дело и понапрасну костерит его походя «нетулыкой», «квашней» или «бестолочью». В нашей компании он тоже не на первых ролях, но мыто хоть не обижаем городского.
Сейчас Толька увидит нас в окно, выйдет в сени, прокрадется за ограду. В след ему раздастся бабкино: «Куды, варнак!», но на бревнышке у ворот сидит белобородый дед Павел, а он жалеет внучонка. «Пойди, — скажет, — побегай!»
Да и как не жалеть внука деду. Старшая дочь Павла, давно городская, привезла и, как судят бабы в нашем околотке, «сбыла с рук Тольку», едва он возник на белый свет. В пеленках привезла… Куда одной в городе с дитем? Муж на фронт ушел и — с концом. Так и вышло с внучонком — в запаренных кипятком травах, в отрубях держала бабка Авдотья мальчишку, «вправляла» ему слабые кривые ножки — калекой родился. Одну ножку выходила. Припарки помогли. Другая ножка осталась с кривенькой ступней. И Толька заметно косолапит. Когда кто-то (не с нашей улицы) принимается жестоко дразнить городского, мы с Шуркой Кукушкиным кидаемся в драку. И Толька поневоле привязан к нам.
— Давай к нам, Толька! Айда!
А ведь никто не догадывается даже: утром я окончательно решил бежать в дальние страны. Как-то по-новому смотрел я на родителей, как они, быстренько управясь по дому, вытолкав корову в табун, наказали мне следить за цыпушками. Мама ушла с косой в поле, отец и того ранее — в свои мастерские. Брат Саша третий день гостит у родственников в Полднево: попросили помочь загородить огород. И теперь Саша с двоюродным братишком Валерием шкуряют там жерди, копают ямки под столбики, стучат молотками.
Так что самое время для меня — в дальние страны! Наверное, надо оставить какой-то знак, записку: так, мол, и так, не поднимайте тарарам, не ищите меня, ни на чердачке, ни в огороде. У Кукушкиных меня тоже нет, вдвоем мы с Шуркой подались в дальние страны! Надо, конечно, а то поднимут рыбаков. Те зачнут шарить в озере — утонули — где нам с Шуркой еще быть. «Орда она и есть орда!»
Да, сбежится на берег полдеревни, как сбежались в прошлом году, когда утонул в бурю старик Акиндин. То ли лодка дала течь, то ли захлестнуло волной. Акиндин был в фуфайке, в сапогах. Успей их сбросить, может, выплыл бы. Да не справился, такая буря с проливным дождем хлестала. В глазах стоит картина: мужики вытаскивают старика из воды, кладут на траву его, мокрого, со спутанными волосами, с плетьми рук и ног, неподвижных, страшных. Мы, ребятишки, пугливо жмемся возле бани под всхлипы и причитания баб. У мужиков хмурые лица. Молчат, пыхают табаком…
А может, сразу и не хватятся меня? Мол, уконопатил к бабушке Настасье, а та оставила у себя ночевать. Да нет, никогда бабушка, даже совсем маленького, не оставляла меня у себя:
«Ступай домой, а то мать будет переживать!»
Овчарня хороша тем, что куда ни залезешь, откуда ни сиганешь вниз с крыши или жердяного насеста, где сушатся вязанки еще прошлогоднего табака, везде мягко приземляться. Подстилку для овечек зимой не меняют, просто поверх старого слоя соломы натрясают толстым слоем свежей. За зиму соломенная подушка, как ни копытят её овцы, только садится, летом же — просыхает и пучится на гуляющих по овчарне сквозняках. Собирает, впитывает теплынь, держит ее потом и в самые лютые стужи.
Стены овчарни жердяные, двойные. Полое пространство стен тоже плотно набито соломой. И только тепляки, где спасают от холода и выкармливают новорожденных ягнят, бревенчатые. В крайнем тепляке — овечья кухня, закуток для чабанов. Лавка вдоль стены, печка с плитой. Старые тазы, ведра. Одно из ведер поновей, лишь сбоку немного помято. Оно, ведро это, впоследствии и станет причиной краха наших планов.
Мы разлеглись на крыше. Над нами, в высокой сини, ни одного облачка. Шурка поупирался немного, пошвыркал носом, потом согласился с моим предложением, сказал:
— Деньги нужны. Хотя бы рублей сорок на первое время. Я говорю Шурке:
— До Ишима бы добраться, а там в шайку вступим.
— В шайку жуликов? И не блатуй, не пойду… Ты че это говоришь, ты же отличником второй класс закончил, и в шайку?!
— Какая разница! Толька Мендаль вон говорит, что он в шайку уже записался.
— Хлопуша он, Мендаль. Где ему…
Прав, наверно, Шурка: «Где ему!» Только год и проучился Толька в городской школе, а в первый класс он ходил в нашу деревенскую семилетку… На тебе, хвастается: в шайку вступил. Кто его примет — такого «нетулыку»…
Все оказалось не так просто, как блазнилось по-первости. С Толькой я поговорил заранее. Он согласился примкнуть к нам. Но я знаю, что на Мендаля плохая надёжа. Он, пожалуй, как окажется в своем городе, домой убежит. Да ладно, хоть покажет, где станция и где поезда стоят. Проберемся мы с Шуркой под скамейку в вагоне или, может, на крыше приспособимся: в кино видел, что на крыше можно ездить. Шурка квашню собирается завести, хлеба с собой калачика три надо! Еще он говорит, что надо луком запастись. Лук мы на базаре продадим, деньгами обзаведемся. Без денег — нельзя. Да, хоть бы рублей сорок на первое время!
— Шурка, а луку где возьмем?
— В своем огороде не пластай, сразу разоблачат. В какой-нибудь деревне по пути раздобудем…
Хорошо-то как!
Солнышко, перевалив зенит, начало скатываться к совхозной окраине. Зной стал заметно угасать. На ближней от овчарни поляне вылез из норы суслик, замер в стойке, покрутил головкой, нырнул обратно. Испугался бряка колес. В ходке проехал колхозный бригад-полевод. Мы спрятали головы за конек крыши, затаились. И я подумал о Тольке и Улитиной малышне. Недавно визжали внизу, носились, прыгали на соломе, а сейчас притихли, не слышно. Я поднял голову и сначала увидел Саньку. Он сидел на опрокинутом вверх дном ведре, гудел, пускал слюни, наверно, изображал машину. Потом в дверях тепляка возникла с кривой палкой бабка Улита. Из-под палки вылетели и побежали заполошно Надька и Мендаль, блазня на разные голоса: попало им, ясно.
— Опасна вас возьми! Чё утворяют, о-о! — занялась Улита. — У тебя, жулика городского, я «скворца-то» обрежу! Ишь придумал, упился ведь, упился девкой!
Мы, наверху, все поняли и принялись смеяться. Да, взрослые в ту пору, наверно, и не предполагали о нашей «образованности». А мы уж были таковыми в свои шесть-восемь деревенских лет. Разговоры, шепотки те, что нам не полагалось слышать, конечно, мы слышали. А потом — зрили не только собачьи свадьбы со всеми живописными сценами. Все это было «тайной». Загадочной и стыдливой. Но от живой жизни и нам в ту пору некуда было деться. Назначение «скворца» у мальчишки, «луночки» у девочки, что из «этого» получается, рано мы постигали. Малышней и купались на озере вместе. Голяком. Без всяких стеснений. Девчонки, правда, начали стыдится раньше нас. Если уж и плескались в мелкой воде без трусиков, то уединенно, на отдельном бережке. И поднимали визг, бежали в укрытие бань, если обнаружат, что из мальчишеской орды кто-то подкрался по картофельной борозде и высмотел их прелести…
Надежка Улитина среди нашей околоточной ребятни была «своим парнем». «Надежка, покажи, что у тебя там?!» Она ложилась на спину, заголяла цветастое платьишко. Орда смотрела и круглила глаза. И что у кого на уме было в те мгновения, объяснить теперь не берусь. Наверное, было это постижением тайного, точнее, таинственного, пробуждением в душе и в крови неясных до времени инстинктов. Но кто-то из нас мог уже признаться дружкам, что был с Надежкой в тепляке. И она позволяла лечь на себя и прикоснуться «скворцом» к «луночке». Упиться прелестями, как кричала Улита.
Это и случилось у Надежки с городским Толькой, пока мы обсуждали с Шуркой Кукушкиным наш побег в дальние страны!
Недолго причитала-разорялась Улита, привлекая будто бы в свидетели округу. Недолго держала в голове мысли «про ребятишек». Возникли они и испарились у бабки будто мимоходом. Да и околица в эту пору была пуста. Никого, кроме телят, щипавших траву, да уханья молота в ближней кузнице. Похромала Улита в свою ограду, куда благополучно залетела Надежка, просеменил и Санька. Ясно, что не пройдет и получаса и все потечет обычным чередом. «Летайте, пропасти на вас нет!» — выпустит бабка внучат.
А нам с Шуркой не до хромой бабки, не до малышни.
Мы молча сиганули с овчарни вниз (в иную пору сделали бы это с ором). Обнаружили ведерко, на котором Санька изображал себя шофером полуторки или «зиска».
Шурка поцапал ведро за бока, за дужку, пощелкал зеленым ногтем о глухо откликнувшееся донце, поводил носом и сказал:
— Вот и деньги!
— Какие деньги?
— Какие-е! В Песьяново или в Карьково рублей за двадцать пять загоним.
— Казённое же… Может, не будем Шурка?
— Казённое, ага… Спрятать надо где-то до завтрашнего утра. Спрятать ведерко решили в ряму, в осоке. Там вода с весны стоит, можно притопить ведро — ни одна холера не найдет. Но до ряма надо добраться, одолеть две незабудковых поляны, которые пересекает полевая дорога. А по дороге ездят. И не дай господь, напороться на бригадира или на объездчика с кнутом. До нашей орды, что шастает где попадя, у объездчика глаз наметан, кнут ременный тоже не выболел.
Хотя, если разобраться, что тут худого: два парнишки идут с ведром — дело у нас известное, рядовое — нацелились вылавливать сусликов.
И не чужое вовсе ведро, а свое сняли с тына, с припечка у шестка взяли. Наша мама, ополоснув после дойки коровы, всегда ставит его на припечек сушиться. Что тут такого? Но у страха, известно, глаза велики… Шурка и в самом деле стал изображать азартного охотника до сусликов. Вскрикивал у всякой сусликовой норы, размахивал руками, мол, вот «щас» только воды наберем в ряму, «капец придет сусликам и тарбаганам всего околотка!» Той порой и мне было интересно — спасу нет — ловить порхающих с цветка на цветок ярких бабочек.
Я тоже картинно вскрикивал, где в мнимом восторге, а где и от боли, напоровшись голой пяткой на колючку. Диковинные эти бледно-зеленые колючки, чуть ли не из-под снега с ранней весны пёрли из солонцовой почвы на подступах к ряму, словно создавали передний край обороны против шляющейся орды. В добрую пору (не воровскую, как сейчас) проникали мы в рям осмотрительно. Но теперь — скорей бы достигнуть воды, осоки, утопить это ведерко. Заветное!
Если не считать ястребка, что зависал над поляной, высматривая мышь, не брать в расчёт утку с выводком утят (она, всполошась, завидев нас, с кряканьем повела свой выводок в осоку), никто, кажется, не видел, как мы завершили свое действо. А уж — завтра!..
— По домам теперь! — сказал Шурка, когда мы выбрались на сухой бережок. — Расходимся по одному!..
В январе 1984 года мне, побывавшему уже в двух арктических рейсах на судах, впервые забрезжила возможность попасть в состав экипажа торгового судна дальнего плавания, пройти наконец-то не в мечтах, а наяву дальние страны. В Министерстве морского флота СССР был согласован и определен порт приписки, «линия», по которой предстояло пройти из Владивостока в моря и порты Юго-Восточной Азии. Позади было шесть лет терпеливого, а порой и нервного ожидания того момента, когда партийные «низы» и «верхи» рассмотрят, затвердят мои документы. После их подписания, проверок, светили «корочки», а точней сказать — мореходка, заграничный паспорт, что открывал пути в неведомые, но желанные с детства тропические широты.
Последней инстанцией проверочного «сита» была Старая площадь в Москве, монолитное здание ЦК КПСС, куда я, беспартийный, с разовым пропуском проник через вертушку поста, через кордон гэбэшных офицеров с синими просветами на погонах. Один из офицеров повел меня длинным коридором, указал дверь, в которую мне предстояло войти.
Начальник партийной комнаты, иль как там его именовать, открыл, как мне показалось, не глядя, папку с моими бумагами, рассказал рассеянно какую-то историю, произошедшую с каким-то капитаном одесского парохода. Мол, капитан в пьяном виде вышел ночью на палубу и выпал за борт. Завершил цековец краткую политбеседу и предложил мне пройти в другую комнату, познакомиться с инструкциями и поставить свою подпись.
В просторной комнате со столами, стульями и с двумя десятками человек, сосредоточенных над бумагами (сие напоминало читальный зал скромной библиотеки), я тоже погрузился в чтение. Бумаги содержали советы и наставления по поведению советских людей в капиталистических странах. Инструкции есть инструкции (пишутся они, понятно, без метафор и образных выражений, лаконичным стилем). Выветрились они из головы тотчас, едва я закрыл папку с документами и поставил свою подпись. Но, выйдя из здания ЦК на морозную улицу, я вдруг ощутил застрявшее в голове наставление о том, куда я «должен», а куда не «должен категорически» заходить.
Конечно, к той поре я был уже достаточно просвещен дружками-мореманами, излазившими заграницу на торговых кораблях. Был не настолько наивен, чтоб пренебречь наставлениями в предстоящем первом плаванье в загранку. И все же… По ассоциации вспомнилось мне на морозной московской улице вдруг далекое — соломенная, жаркая крыша овчарни на краю родного села, наши разговоры-мечтания под синим небом. Дружок мой, не по возрасту самостоятельный, вынужденно практичный от бедного, полуголодного житья — Шурка Кукушкин. И городский наш приятель Толька Миндалев, что гостил на летних каникулах у бабки с дедом. Улитины ребятишки.
Белая борода деда Павла Замякина. Вспомнилось, как из бороды этой выстреливалась молниеносная, на диво нам, сочиненная дедом частушка, отклик, как сказали бы теперь, на недавние события:
Ох, вы кони, вышли кони На поскотину-овес. Хотел я с Надькой повидаться, А Улиту черт принес.Потом возник синий, сумеречный вечер. Тучи комарья, принесенные вернувшимся из степи стадом. И еще картина предзакатных сумерек. Не забыть её вовеки.
Через незабудковую поляну, от ряма, идет понуро Шурка Кукушкин, а позади его, шагах в трех, с «нашим» ведром в руке шагает заведующий овчарни. Высокий, жилистый, с жутко-черными, прямо-таки смоляными волосами на голове, мужик. Меня почему-то всегда пугала чернота этого колхозного мужика. Мерещилось в нем что-то колдовское, не наше.
Мужик, похоже, ругает Шурку. Мне не слышно издалека, но понимаю: сильно ругает. А Шурка, вовсе не пытаясь убежать, идет себе молча. Молча. Непостижимо — молча.
ВОТ ВЫРАСТЕМ БОЛЬШИМИ
Из раннего детства опять вспомнилась кузница. Она стояла за нашим огородом, в проулке, напротив озерной пристани, где отец, возвращаясь с рыбалки, со звяканьем приковывал лодку за старое комбайновое колесо. Рано-рано будили меня эти звуки, и я бежал босой к лодке с ведерком, чтоб отнести домой ночной улов, пока отец развесит сети для просушки. Я бежал мимо кузницы, и каждый раз тянуло меня заглянуть внутрь сквозь мутное, задымленное окошко. По утрам в кузнице было тихо и пусто. На верстаках валялся инструмент, обрезки стальных пластин и прутьев, всякий железный хлам, сваленный в беспорядке. Мне нравилось вдыхать горьковатые запахи горелого угля и остывшей железной окалины. Душа наполнялась причастностью ко всему тому, что здесь мастерят и выгибают в дыму и огне наши деревенские мужики Сидор Сорокин и молотобоец Васька Батрак.
Васька приходил в кузницу первым — раздутые его галифе, в которых, как уверяли пацаны, он носил железо, выкатывались из дальнего переулка, и, пока он шагал по деревне в нашу окраинную сторону, кивал встречным бабам, диковинные его штаны широко торчали в стороны, будто скроенные из жести.
Потом степенно шагал в кузницу Сидор, и она на весь день оживала. Стукала, потренькивала молоточком кузнеца и кувалдой Васьки Батрака — до комариных сумерек.
Вот я опять вижу кузницу и себя восьмилетним пацаном на утреннем прохладном крылечке родного дома. Мать еще сонному сует мне в руки ведерко:
— Сбегай, сынок, отец ждет!
Я гляжу на красное солнышко. Оно уже поднялось над лесом, бьёт мне в глаза, и я окончательно просыпаюсь, потому что не бежать нельзя. Одним духом перемахивая через прясло, бегу по борозде, сбивая с картофельной ботвы росу, и пустое ведерко брякает на всю окраину. За огородом я сбавляю пыл, надо идти поосторожней, чтоб не наступить на колючки. Но колючки все равно впиваются в пятки, задубелые от постоянной беготни босиком. Вымокшие от росы штаны оплетают коленки.
«Спать пора! Спать пора!» — посвистывает перепелка на ближнем поле. И мне чудно и смешно, что она перепутала рассвет с вечером. «Спать пора!» — не унимается птица. Вот заладила!
На лугу пасется Звездочка — жеребая колхозная кобыла. Пасется одна, без табуна, щиплет травку, побрякивая медным боталом. Зимой конюх Гришка Киселев или его помощник Митюрёв Колька сажали меня на Звездочку верхом, разрешали съездить на водопой — к проруби. Она смирная лошадка, скоро будет с жеребёночком.
Прогремела телега, пахнуло свежей колесной мазью. Пчеловод поехал мед качать, а, может, лесник торопится на деляну. День будет большой — такой огромный и просторный, чтобы мне успеть обежать все поляны и бугры, погоняться за стрекозами, слазить на крышу пустой овчарни, где сушат вязанки колхозного табаку, а поздно вечером, набегавшись с ребятней, замертво рухнуть и уснуть до следующего солнышка. Но сейчас меня опять тянет к кузнице, которая еще закрыта на амбарный замок. Еще и молотобоец Васька Батрак не просеивает, как обычно по утрам, уголь в решете, а кузнец и подавно — дома. Еще совсем рано.
Я иду напрямик, перешагиваю вросший в траву лемех от конного плуга, потом ящик от сеялки, поднимаю колесико от культиватора, пускаю его по тропинке, и оно долго катится, пока не застревает в траве. Старинный, довоенный инвентарь, никому теперь не годный!
Недалеко от дверей кузницы — гусеничный «натик» Андрея Киселева. Я уже катался в кабине «натика», но Андрей не разрешил подергать рычаги. «Мал, — говорит, — не справишься. Вот подрастешь — доверю!» Скорей бы подрасти, что ли…
Ногам неуютно ступать на железяки, на рассыпанные комочки угля, но я пробираюсь к окошку кузницы. Меня так и обдаёт холодком страха. А все потому, что недавно Шурка Кукушкин говорил, будто по ночам в кузнице черти куют. Которую уж ночь куют! Может, и вправду что-то куют, ведь кузница стоит в переулке, а это верный признак. Вон у Кузьминой Марии в заколоченной горнице, которую топить зимой нечем, столы и табуретки по ночам ходят. Как начнут ходить ровно в двенадцать часов, так, пока первые петухи не пропоют, всё ходят. Черти покою не дают, точно!
С чертями у нас, пацанов, особые отношения. В чертей мы верим. Как не верить, если сам Степан Каргаполов, старый тракторист, принародно рассказывал:
— Запахался на Тундровском острову… Ночь темная, глаз выколи, ни холеры не видно, ни одна фара, как на грех, не светит. Борозду только чутьем и определяю. Чувствую, трактор совсем тянуть перестал. Оглянулся: может, на прицепе что неладно? Присмотрелся, а он посиживает на плуге, зараза, лемеха заглубляет. Глаза, как у филина, горят и хвостиком, хвастиком так и помахивает…
Как тут не верить! Хотя учительница наша Анастасия Феофановна и разубеждала: мол, Степан перемерз на своем колеснике, заработался, вот и померещилось. Как бы не так!
С чертями и у меня свои отношения. Я знаю, что вихрь, который пыль на дороге кружит, вовсе не вихрь, а оборотень, невидимка. Я насмеливался, как учили пацаны постарше, пырял в него складешком, но, видно, в самую середину не попал, потому крови на лезвии не было. А все же жуть брала…
А тут вон и в кузнице объявились черти: место для них самое подходящее — на отшибе.
Я подбираюсь к самой стене, из пазов в нос шибает перепрелым мохом. Подтягиваюсь за скобу, которая неизвестно для чего вбита в бревно, и слышу голос отца:
— Куда ты опять полез, озорник! Бегом ко мне!
— Счас, — откликаюсь я негромко. Собственный голос неожиданно оглушает, и мне опять становится боязно. Но я уже подобрался к окошку. Выбираю стеклышко посветлей, где меньше копоти. И тут чувствую — волосы на голове шевелятся: так и есть, черти ковали ночью! От горна сизовато-белый дымок еще тянется. И уголья красные шают.
Бросаюсь прочь с чувством сладковатого ужаса в груди. Сгинь, нечистая сила, сгинь! Вот уж расскажу пацанве! Вот расскажу!
Уже у озера, совладав с испугом, оглядываюсь назад! В окошке кузницы отразился солнечный луч, малиново раскрасил закопченную стену, и вся кузница, осевшая грузно наземь, с бурьяном и лебедой, вымахавшими после июньских дождей на дерновой крыше, похожа на всклокоченного после сна мужика. Это сравнение успокаивает меня, и я, стараясь казаться как можно беспечней, спускаюсь к лодке.
— Что тебя черти носят где попало? — недовольно ворчит отец. — Нам с матерью на покос надо пораньше.
Через час с косами и вилами на плечах они уходят в поле, и я остаюсь совсем один среди пустой неприбранной ограды, где недавно слонялся теленок и мама доила корову Красулю.
Мне надо прибраться, подскрести, налить в корытца воды, чтоб куры не ходили по жаре с разинутыми клювами. И это «вечное» задание на день — полоть морковь, а не гонять по дороге «попа» да не лазить по чужим огурешникам. Самый строгий наказ матери: «не водить в дом всю орду уличную, не дай бог, примется кто курить да искру заронит — оставит всех нагишом, тогда хоть матушку-репку пой!».
Я терпеливо выслушиваю все наставления, соглашаясь и кивая в ответ, клятвенно обещаю не водить орду. С удручением представляю, как мне придется дергать траву на ненавистной морковной грядке, а пацанва с азартом погонит шаровка-ми «попа» вплоть до Засохлинского острова. А уж оттуда, побросав все шаровки, с гиканьем и криками, наперегонки промчится мимо нашей ограды, чтоб отставшего заставить галить. И так весь день, до солнцезаката! Нет заманчивей и веселей игры, чем в попа-нагона.
Однако если пораньше управиться с домашними делами, я сумею примкнуть к игре. Шаровка у меня великолепная, легкая, вытесанная из осинового полена — в самый раз по руке. Сколько приходилось выручать ребят, когда все мазали в «попа». Уже не одну шаровку сожгла в печи мать, но эту я берегу пуще рогатки, потому что рогатку можно смастерить другую, а на шаровку не всякое полено подойдет.
Солнце поднялось высоко. Роса высохла, испарилась. Раз выпала роса, дождик вряд ли будет. А значит, вечером заставят еще и огурцы поливать. Эх, скорей бы вырасти большим! Куда захотел, туда пошел! Кем захотел, тем и стал! Я стану трактористом. Нет, лучше солдатом. Васька Батрак вон солдатом был. Галифе ему в армии выдали. Только зачем он железо в карманах носит? Наверное, чтоб галифе шире были. Форсит. Так говорят о нем бабы в деревне.
Собираю лопатой коровьи лепешки, кидаю за прясло. Как только соберу, возьмусь за метлу. Ограда большая, мести ее надо долго. Отец, бывало, метет, метет, да так и не закончит — мне остается добрая половина. Скучная работа. А куда денешься?
По долинам и по взгорьям Шла дивизия вперед, Чтобы с бою взять Приморье — Белой армии оплот.Под песню метётся веселей. Метла свежая, гибкая. Отец недавно принес из лесу берёзовые прутья. Старая метла высохла, скребёт, а не метет.
Чтобы с бою взять Приморье…Пыль на всю ограду. Ласточки вылетели из-под крыши пригона. Не насмелятся залететь обратно. Там птенчики пищат. Большие уже птенчики, скоро сами на крыло поднимутся.
Белой армии оплот…Сколько ни силюсь, никак не могу в толк взять: какой такой оплот?
Может быть, заплот? Вон у Ивана Петровича Каргаполова, как и мы, двоедана, он наискосок от нас живет, у него ограда заплотом огорожена. Высоким, из толстых бревен. Не всякий из пацанов рискнет к нему за огурцами залезть, надо сначала кому-нибудь на спину встать, чтоб дотянуться до верхнего бревна.
А вот плетень у Ивана Ермиловича Субботина перемахнуть — нечего делать.
Белой армии заплот…Ору во все горло. Жарко. Солнышко припекает. Пыль под рубашонку набилась. Сейчас бы выкупаться. Мимо кузницы опять бежать. Теперь уже туда Сидор и Васька пришли.
Трень-трень-трень, — доносится из-за огорода. Куют. Не знают, видно, что ночью черти в кузнице гарцевали… Или знают, да не боятся. Что им, взрослым мужикам, черти! Вот вырасту…
В полдень забежал Шурка Кукушкин. Я сижу в огороде, в борозде, возле морковной гряды. Мне скучно и одиноко, а тут Шурка.
— Пошли в мушку играть, — зовет Шурка.
— Полоть велели.
— Сдалось тебе!
Рубаха у Шурки поверх штанов, что на бечевке держатся. Вечно шмыгает носом, но я привык, не обращаю внимание. Шурка закончил второй класс вместе со мной. Три года сидел во втором, еле в третий перевели. У меня — круглые пятерки, но Шурка мне не завидует. «Сдалась мне учеба!» — говорит Шурка учительнице.
Зимой я каждое утро заходил за ним в школу, давал списать домашнее задание, если он просил. Но просил он редко…
Меня уже не удивляло, что он сам готовит и себе, и матери, и сестре Гальке. Завидев меня на пороге, он торопливо совал в карман лепешку, набирал из чугунка горячих картофелин: «По дороге поем!» И мы шли в школу.
— Сдалось тебе, айда! — зовет Шурка и привычно шмыгает носом.
Для собственного успокоения я дергаю еще несколько травинок — таких чахлых, что их не видно в морковной ботве, но мать заметит, и мне нагорит, как не оправдывайся.
— А я чертей видал в кузнице, — говорю Шурке, поднимаясь от гряды.
— Правда? — не верит Шурка.
— Ей-богу, видел! — с жаром начинаю рассказывать об утреннем видении в кузнице, но Шурка скоро теряет интерес.
— Принеси хлеба, — просит он. — Вчера опару для квашни не успел поставить, думал, мамка успеет, а она поздно с базы пришла. Принеси, я тебе жмыху отколю.
Хлеба мне не жалко, и, отломив по куску, мы идем играть в мушку. Вдвоем играть неинтересно: промазал по колу шаровкой, выручить некому. Значит, надо меняться.
— Может, Тольку Миндалева позвать? — спрашивает Шурка. Он знает, что я вчера неожиданно подрался с Толькой, поэтому вопрошающе смотрит на меня.
Тольке, видно, и самому не хочется быть одному, он уже в калитку выглядывает, но боится подойти. Тогда я сам решаюсь простить Тольке все обиды. Что с него возьмешь, с городского?!
— Айда к нам, ничего тебе не будет! — зову я Тольку.
Он словно этого и ждал. Но игра не получается: городской парнишка игрок никудышный.
С другого конца деревни слышны победные крики ребят: «попа» гонят. Догонят и до нашей окраины, тогда можно присоединиться. А пока мы идем к пристани купаться. Вволю набулькавшись, вытрясаем воду из ушей, долго жаримся на полянке, пока от жары в висках не начинают стучать молоточки. Плюхаемся в воду опять, распугав домашний гусиный выводок, отчего заругались пришедшие с коромыслами бабы. Но мы в воде для них недосягаемы.
В распахнутых дверях кузницы бушует белый огонь, и голый по пояс Васька Батрак со всего плеча ухает кувалдой. Алеет поковка. Сидор держит ее в щипцах, пристукивая в лад Ваське молоточком. Мне хочется побежать в кузницу, потому что знаю — Васька не прогонит, даст покачать мехи, а Сидор только скосит хитрый взгляд, ничего не скажет.
— А я буду жуликом, — опять, как о чем-то давно решенном, говорит городской Толька.
— А где на жуликов учатся? — откликается Шурка, растягиваясь на полянке.
— Нигде! В городе есть шайки, поступлю в шайку и буду жуликом.
— Жуликов ловят и в каталажку садят.
— Меня не поймают! — убедительно говорит Толька и задумчиво смотрит, как проплывает в небе маленькое облачко.
— А я два трудодня заробил, когда телят за мамку пас. Вот я на тракториста пойду. А ты на ково? — толкает меня в плечо Шурка.
— Я еще не решил.
Дон, дон-дон, — позвякивает кузница. Таки-так, таки-так, — выводит мелодию молоточек Сидора. С полянки нам видно, как возится возле «натика» Андрей Киселев, натягивает на ведущую звездочку гусеницу.
— Эй, орда, — зовет Андрей. — Ну-ка подсобите немного.
Тракторист дает нам ломик, и мы втроем, упираясь изо всех силенок, помогаем ему. Руки тракториста до локтей в мазуте, волосы мокрые от пота. Он суетится, спешит. Его ждут у силосных ям. И он рад нашей подмоге.
— Ни ключей, ни инструмента, ни запчастей! Ни черта не дают! — ругается Андрей, вытирая тряпицей широкие ладони. — Пошприцуй теперь, он подает Шурке, как самому старшему из нас, шприц с солидолом, и тот деловито, со знанием дела смазывает подшипники.
Окруженный тучей паутов, подъезжает на ходке механик. Лошадка перебирает ногами у привязи, как заведенная мотает головой. Механик привез с поля серпы от сенокосилок, просит кузнецов наточить и наклепать новые сегменты взамен поломанных. Нас с Толькой тут же заставляют крутить точило, и мы, обливаясь потом, крутим до изнеможения, пока Васька Батрак точит. Золотой дождь железных опилок сыплется на землю, и мне чудится в нем что-то таинственное и сказочное. Кажется нет на свете ничего интереснее кузницы, молотобойца в широченных галифе и жаркого июльского солнышка, которое безжалостно палит нашу окраину.
— Упарились, — смеется Васька, приставляя к стене наточенный серп. — Не беда, в армии пожарче бывает.
Мне хочется спросить, как бывает в армии, узнать и про чертей, но боюсь, что молотобоец осмеёт, а мне нельзя быть осмеянным перед дружками. Васька Батрак в добром настроении, он и мурлычет себе под нос что-то веселое. Я тут же запоминаю Васькину частушку, которую он то и дело заводит, подмигивая нам:
Эх, конь вороной, Белые копыта! Когда вырасту большой, Накурюсь досыта.Трень-трень-трень, — побрякивает наковальня. Тук-тук-тук, — Сидор Сорокин наклепывает сегменты серпам. Скоро кузница пустеет. Механик, настегивая лошадку, торопится в поле к агрегату. Андрей Киселев заводит «натик», и трактор, очертя гусеницами круг, шлепает в сторону силосных ям. Уходят обедать и кузнецы.
Дома я достаю из погреба кринку холодного молока, и мы втроем едим в полутемных сенях. С улицы слышно, как стуча шаровками, гонят к Засохлинскому острову «попа».
— Рванули! — захлебываясь молоком, торопит Шурка.
— Дополоть надо.
— Сдалась тебе морковь!
Пацанов догоняем уже за околицей.
Весь день у меня состояние праздника на душе. И в игре я удачлив, шаровка у меня самая меткая. Пацаны уважительно посматривают на меня, оставляя напоследок, на выручку… К вечеру и дождик пробрызнул. Хоть и неважнецкий дождик, а всё огурцы не поливать. И мама простила мне недополотую гряду.
Вернулись они из поля уставшие, разомлевшие, но не заругались, а ягоду костенику принесли — на веточках. Целый букет.
— Не набегался, поди, за день? Пойди корову встреть да еще поносись. Вон орда твоя как носится на бугре.
Смотрю на родителей удивленно: что это они такие добрые сегодня?
— Зародик сметали, — говорит отец, доброе сенцо, сплошной визиль, — до дождика успели завершить, да-а…
Я бегу на бугор, где вся наша ватага собралась. Крик, визг, беготня. С бугра видно, как из-за озера неспешно, но сосредоточенно движется к деревне стадо. Впереди идет пестрая корова, широкая и костистая, рога, как ухват, торчат. По первой корове мы определяем, какой завтра день будет. А завтра, судя по всему, день будет облачный, а то и с грозой. И мы гадаем: чья это корова ненастье несет? И не можем угадать. Наверное, не с нашей улицы.
Пастух Степан Чалков щелкает кнутом. Звонко стреляет — из пацанов так никто не умеет.
— Не отставай, родимые! Шевелитесь, ведерницы! — доносится голос Степана.
— Антихрист заполошный, — ругаются подошедшие бабы. — Скотине спокою не даст.
Стадо, разделяясь на две улицы, с пылью и мошкарой втекает в деревню.
Вот и день кончается. Праздничный и счастливый. Как же хорошо жить на свете!
Гоню Красулю и теленка к своей ограде. Корова привычно отворяет рогами калитку, и сам я уже прощаюсь с улицей, остается только задвинуть запор калитки, но тут подбегает Шурка.
— Потемней станет, приходи в переулок.
— Зачем, Шурка?
— Приходи, говорят, чертей смотреть будем!
«Вот еще не хватало: чертей смотреть! Один-то небось боится», — мелькает у меня недобрая мысль о Шурке, но фантазия уже начинает работать, и мне уже самому хочется убедиться, что черти действительно куют.
— Ладно, — обещаю дружку, а сам припоминаю, как всякий раз пробегаю ночью возле кузницы — зубы стучат от страха. Но точно знаю: смелость — дело наживное. Зимой как-то на спор в пустую заколоченную избу зашел ночью да еще комок земли прихватил из подпола для убедительности, чтоб ребятня поверила.
Вечером мама, позвякав подойником, процедив молоко через ситечко, расстилает постели. Я тоже сегодня укладываюсь рано.
— Что рано сегодня? Набегался! — удивляется отец. — Ну спи, спи.
Сплю я в сенях. Хоть и комарье с вечера донимает, но здесь не так жарко, как в доме. Лежу, прислушиваюсь к ночным звукам. Вот все угомонились, только слышно, как за стеной тяжело попыхивает Красуля. Телок почесался об угол, попил из кадки, что специально у крылечка поставлена. Теплый воздух на дворе гудит комарами, но этот густой гуд вскоре уляжется. Мягко ступая, проскользнет в потайную дыру кот, отправляясь в ночную охоту за воробьями.
Начинаю проваливаться в сон, и перед глазами мелькают картины прошедшего дня. Вот все дальше, дальше, куда-то к Засохлинскому острову уплывают галифе Васьки Батрака, шаровки, возбужденные азартом лица ребят, морковная грядка и круглое горячее точило с тысячами золотых искорок, сыплющихся тугим снопом.
— Жы-ы, жы-ы, — противно зудит комар. И я напуганно вскакиваю. Заснул почти! Ведь дал слово Шурке прийти в переулок. Он встречает меня злым шипением:
— Ты что, маку наелся? Дрыхнул уже, наверно!
— Сам ты маку наелся…
— Ладно. На жмыху.
Жмых мне нравится, у нас его дома нет, а Шуркина мать получает на трудодни, и дружок постоянно носит жмых в карманах.
— Теперь че будем делать? — скрежещу я зубами о тугой комок, поглядывая в сторону кузницы, безмолвной и какой-то зловещей в темноте поздних сумерек. — Смотри — не куют!
— Время не подошло, — шепчет Шурка. — А может, сегодня и не появятся. Видал, чё днем делалось в кузнице?
— После обеда? Нет, не видал.
— Хы, ворона! Да там в стене три бревна выбрали, завтра электромотор поставят, горн раздувать током будут, а мехи выбросят… Бревна для ременного шкива выпилили, понял.
— Понял, — соглашаюсь я, хотя мало что понимаю из Шуркиных слов. Теперь начинаю догадываться, что он не чертей меня звал пугать.
Шурка тянет за рукав: пошли, мол. И я покорно шагаю туда, к кузнице, и страха почти не чувствую, и уже представляю, что так шел бы в разведку — смелый, решительный.
— Завтра помалкивай, никому ни слова. Заметано? — часто дыша, наставляет Шурка, и я соглашаюсь помалкивать, хотя еще совсем не знаю — о чем?
Запахло копотью и мазутом, из проема стены, где выбирали бревна, ударило тяжелым, спекшимся воздухом.
— Полезай! — командует Шурка, подталкивая меня к проему. — Соберешь инструмент, мне подашь. Я на шухере постою.
Я начал было упираться, смекнув, что Шурка задумал:
— Зачем тебе инструмент? Не буду…
— «Не бу-уду», — словно обидясь, говорит Шурка. — А ты слыхал, что Андрей Киселев про инструмент сказал? Не хватает его у трактористов, а нам потом в самый раз пригодится. Понял. Полезай…
— Понял! — бодрюсь я перед дружком и просовываю голову в амбразуру стены. Из каждого угла мерещится жуткое и косматое, но я хочу справиться со страхом, оттого лихорадочно ориентируюсь в темноте. Вот здесь должны лежать молотки и клещи, там, под верстаком, закаленные зубила и лерки для нарезки резьбы на болтах, в отдельном ящике гаечные ключи… Шурка принимает инструмент в подол рубахи. И еще я снимаю с гвоздя над верстаком ножовки — по дереву и по железу, и тут уже он пугливо шепчет:
— Скорей, скорей.
— Кувалду надо?
— Да сдалась она!
За огородом честно делим инструмент и прячем в навозной куче. Не сходимся только на одном: обоим понравилась столярная ножовка с красивой фигурной ручкой.
— Зачем она тебе? — уперся Шурка. — Возьми эту, она еще и железо может пилить. Бери, я же себе хуже делаю.
Обидно, но я соглашаюсь.
— Слышь, Шурка, а чертям-то сегодня нечем будет ковать! — Мне и вправду чудно, как это в двенадцать часов ночи придут, а инструмента нет. Довольный и возбужденный, пробираюсь возле заборов домой…
Утром меня будят истошные крики и рев. Они доносятся с улицы, с дороги, по которой — слыхал сквозь сон — протарахтела полуторка, наверное, трактористов повезли на смену. (Их всегда рано провозят). Ругалась Шуркина мать, телятница, потому что так, как она, никто у нас в околотке не ругается.
— Острожник, каторжник, со свету меня сжить хочешь! Да холера тебя навязала на мою шею! Получай, варнак!
И тут опять раздался такой рев, что у меня мурашки по спине забегали. Отбросив в сторону одеяло, я опрометью кинулся к сеношному окошечку. Били Шурку, моего дружка. Били волосяным путом, каким треножат на лугу колхозных кобыл. Шурка порывался бежать, но мать держала его цепко и вела к нашей ограде. Позади шагал Сидор Сорокин и упрашивал:
— Оставь, Евдокия, хватит драть парнишку!
Но она будто не слышала кузнеца, раскрасневшаяся, растрепанная, опять замахивалась путом, и Шурка орал как под ножом.
— Опасна тебя затряси! Сколько ты мне будешь нервы мотать, безотцовщина? Ты зачем с ним спознался? Он, змееныш, под мост тебя потянет, людей раздевать начнете! Этому я тебя учила, варнак, этому?
Дальнейшую картину я уже не видел, стремительно, по-кошачьи, забравшись в дальний угол чердака нашего большого крестового дома. Там уже не раз приходилось укрываться мне от гнева отца, и вот теперь я забился в этот угол, куда взрослый человек и не пролезет.
У палисадника собрался народ, и по голосам я понял, что отца нет, видно, еще сети смотрит на озере, а мать только руками всплескивает и жалуется кому-то:
— Ой, да за ними не уследишь! Без догляда да без надзора, лезут куда не следует…
Шурка еще громко всхлипывал, швыркал носом и опять принимался реветь, но Евдокия одергивала:
— Не блазни, покажи, где молотки попрятали.
— Я думаю, он сам принесет инструмент, — спокойно произнес Сидор.
— Ну-ка, неси, тракторист непутевый, — сказал кто-то мягко и добродушно. — А твой где, Катерина? — по голосу я признал Ваську Батрака и еще сильней сжался в своем убежище.
— Ушмыгнуть успел. Наверно, в картошке или конопле спрятался.
Шурка, по всему, убежал за инструментом к навозной куче, а возле калитки взрослые уже вели неспешный разговор, и теперь мне отчетливо был слышен глуховатый и спокойный голос кузнеца:
— Раненько я сегодня в кузницу пришел. То, се надо поделать, днем, думаю, люди подъедут оборудование устанавливать, Посовался туда-сюда — ни молотка, ни зубила, ни шила, ни мыла… Ну, думаю, не иначе как наша орда побывала. Кому, окроме них! Мы ведь последние три ночи подряд тюкались с Василием… Сенокос. То болты надо нарезать, то штанги у косилок летят, то серпы опять же точим. Вот и тюкались. Кто за нас сделает, никто…
Раздавленный, одинокий, лежал я в углу чердака, перепачканный пылью и паутиной, лежал и плакал. Мне не хотелось плакать, но горькие слезы катились сами собой, и не было сил удержать их. Не мог и утерпеться — в углу было тесно — ни руки приподнять, ни развернуться поудобней. Плакал я от обиды и стыда. От того и другого. Так плачут только в детстве — чисто, светло, безутешно. И не унять никому эти слезы, пока не выплачется сердце, не отмякнет навстречу добру и справедливости.
Но вот я услышал, как подошел к мужикам Шурка и гремя вывалил из подола рубахи кузнечный инструмент. И я всей кожей почувствовал этот железный стук прочно закаленных гаечных ключей. Хорошо, что не вижу нашего позора! Меня вдруг наполняет грусть и безразличие ко всему, что произошло: к несбывшимся нашим планам, к Шуркиному, первому в жизни, предательству (как еще это называть?), от которого еще недавно было больно и тяжело.
— Ну, а напарник твой где? — это говорит Васька Батрак. Шурка молчит, но мне уже хочется зачем-то, чтоб он до конца раскрылся и указал на чердак, где я спрятался, чтоб и меня выволокли и отстегали волосяным путом. Ну что ты, Шурка? Но Шурка молчит. Тогда заговорил опять Васька Батрак, и я представил, как диковинно и широко торчат в стороны его галифе.
— Значит, в трактористы готовитесь? Что ж, молодцы! Только вы прибегайте к нам почаще, вместе прибегайте, мы ж не обидим… Колька, Ни-колка, — громко зовет меня молотобоец, — хватит в ботве сидеть, вылезай, пошли точило крутить. И городского с собой веди. Колька-а…
Нет, я не спустился с чердака, не слез и тогда, когда разошелся народ и смолкли Шуркины всхлипывания. Когда в доме стало совсем тихо (отец с матерью отправились на покос), я ушел к Засохлинскому острову, где долго бродил в одиночестве, и мне казалось тогда, что не будет больше счастливых дней, что и нет впереди ни просвета, ни радости. Уж лучше выпороли бы путом, которым треножат на лугу колхозных кобыл, чтобы боль моя не казалась такой бесконечной и безутешной…
Но все проходит в жизни. Стираются давние обиды и горести. Стерся навсегда след нашей деревенской кузницы, построенной из единоличных амбаров. Ни бревнышка, ни холмика не осталось на том месте, где я, окончив школу, сам работал молотобойцем, в огне и дыму клепал лемеха плугов, выгибал замысловатые поковки, выковывал болты и гайки, и мне представлялось тогда, что нет прекрасней и значительней дела на земле, к которому я тянулся с малых лет. Но возникали новые мечты, и жизнь погнала меня по земле нашей — на север и на юг, и в другие края, заставляла напрягаться на другой грубой работе. Хотя и там, далеко, в тайге или на море, нет-нет да и обдавало сердце горьким дымком детства, сладостным духом приземистой черной кузницы, похожей на всклокоченного после сна деревенского мужика.
Стёрлись и прощены памятью наши детские обиды и разочарования. Но навсегда осталось в душе чистое и сказочное чувство к миру, которое запало в сердце в юную пору и которое жалко и страшно растерять теперь до срока.
ДЕВОЧКА С СИНИМИ ГЛАЗАМИ
Незадолго перед новогодними праздниками в нашем третьем классе появилась новенькая. Учительница Анастасия Феофановна на первом же уроке поставила ее перед классом у доски, сказала, что звать девочку Нина и она будет учиться с нами. Добавила, чтоб новенькую никто не обижал, а она поскорей освоилась и подружилась со всеми.
— У-у! — глухо прогудело в холодном классе.
Анастасия Феофановна усадила новенькую за парту рядом с неторопливой, спокойной Зинкой Субботиной. Девчонки, наверное, познакомились раньше, они по-свойски улыбнулись друг другу, а всем другим досталось вытягивать шеи и пялиться на новенькую из глубины фуфаек, перешитых, перелатанных лопатин-пальтишек. Я тоже выпростал голову, откинув на плечо воротник козлиной шубы, сшитой матерью из плохо выделанной отцом овчины. В этой шубе я сижу за ледяной партой, «как туз бубей». Так однажды высказалась мама, обряжая меня в это тяжеленное, но теплое одеяние.
В нашем отдельном от большой школы доме, где на первом — каменном — этаже с недавних пор оборудовали новую лавку, всегда холодно. Чернила в непроливашках оттаивают лишь к полудню, когда раскаляли едва не до красноты круглую печь-голландку.
И вот событие.
Новенькая в ладном по росту пальтеце, русая косичка поверх пальтеца пылает ярким бантом, а не лохматится тряпичной косоплеткой, как у большинства наших девочек.
Она неробко окинула класс синим, каким-то небесным взглядом. Да, в небесных красках и всех оттенках этих красок мы знали толк — выросли под этой синью. Но незнакомый прилив теплоты ощутил я, когда взгляд девочки на мгновение задержался на мне. И этим взглядом, мгновением радостным — всё как бы решилось: это девочка моя и ничья больше!
При малочисленности народившегося в войну поколения, «невесты» и «женихи» среди нас, ровесников, были распределены еще в первом классе. Как совершалось это «распределение», не знаю, скорей по наитию. Сейчас это невозможно додумать, но симпатии витали меж нами уже в ту родниковую, зябкую пору.
В первом классе «невестой» моей считалась Нюрка Данилова — ушастая, стриженая наголо девочка в комбинированном, из разных лоскутков ситца, клетчатом платьице. Единственная из девчонок «ровня» моя. Отец её также вернулся с фронта в один год с моим отцом. Считалась? Что ж, кто-то ж должен был считаться! Меня это не сильно задевало: пусть так думают, если очень хочется. Но к третьему классу Нюрки у нас уже не было. Переехали они, Даниловы, куда-то. Меня это тоже не тронуло. Осталась лишь карточка первого класса, где мы усажены на пол и поставлены на скамейки перед фотографом не по ранжиру и росту, а по указке учительницы: лучшие ученики — в первом ряду. В нем увековечена рядом с моей стриженой головой и Нюркина…
К третьему классу мы были почти взрослыми. Пролетели такие года, отсвистело столько метелей, растаяло столько снегов. Мы уж научились решать сложные задачи по арифметике и потрошили полки школьной библиотеки, где «Федорино горе» и «Робинзон Крузо» считались книжками несолидными для третьеклассников. Выпрашивали книжки взрослые, о войне. За «Белой березой» гонялись. Она была прочитана мной вслух вечерами возле горячей горнешной печи, где мама вязала в долгие вечера шерстяные носки, следя за судьбой героев книги.
Так вот, к третьему классу за мной в «невестах» не значилось ни одной девчонки. Потому так обожгло щеки, так откликнулся в груди взгляд новенькой, скользнувший по мне как бы ненароком, её светлые косички.
В лирических отношениях с девчонками (хотя «отношения» эти обозначались лишь какими-нибудь записками, гулявшими по партам) в общем-то витал «домострой», впитанный с молоком от родителей, доставшийся по наследству от крестьянских корней и местных обычаев. Если уж завязалась эта «любовь» с девочкой, если уж затвердилась среди ровесников эта «дружба», то посягать на неё не смел никто. Изменять, интриговать — и в голову никому не приходило. Записки, что гуляли по классу, предназначались только «ей» или «ему». А уж во время игры в «ручеек», что внедрили на переменах более сообразительные, хитроумные девчонки, надо было выбирать только свою пару. Свободный от «любви» мальчишка, не имеющий своей «невесты», мог выхватить на «ручейке» кого угодно, а ты не смей, следуй неписаному кодексу чести и верности.
Прозвенел звонок на большую перемену. В колокольчик ошалело и радостно бренчит у нас обычно не техничка, как в большой школе, а дежурный из четвертого класса. Два класса, разделенные по комнатам, соединились в одной нашей — более просторной, годной и для шумных потасовок, когда возникала куча-мала или другая стихийная дурь. Но «ручеек» — это игра пристойная, самоорганизующаяся. Всех она захватывает. Редко кто, хлобыстнув дверью, бежал в уборную, летел домой, чтоб успеть перехватить кусок лепешки, стакан молока иль кинуть в карман пару картошек в мундире. До вечера далеко, голодно. А еще в последнее время Анастасия Феофановна — учительница на два класса — взялась приучать нас к классической литературе, устраивая после уроков чтение интересных книжек. Дело это добровольное: не хочешь слушать, шагай домой. Добровольцев шагать в одиночестве по морозной улице почти нет никого, кроме Шурки Кукушкина, на нем домашность вся. Остальные, сгрудясь вокруг лампы в теплой, хорошо нагревшейся к вечеру комнате четвертого класса, внимают судьбе и горькой доле «Детей подземелья» писателя Короленко.
Но это случится вечером, после уроков. А сейчас прилежная звеньевая из четвертого класса подала знак. Большинство из гомонивших в чехарде и азарте догонялок выстроились, попарно взялись за руки. Образовался проход-тоннель, коридор из сцепленных рук, куда, пригнувшись, ныряет тот, кому не досталось пары. Он её и должен выбрать. Смысл «ручейка» — в беспрерывном движении, течении пар от одной стены класса до другой. Не успеешь перевести дух, как позади тебя становится новая пара, за ней другая, третья. А там уж и тебя зацепила девочка с тряпичной косоплеткой, с челочкой — светлой, наивной.
Держусь за руку Зинки Субботиной, чувствую мягкое касание чужой ладони, ныряю под сомкнутые руки. И я уж на конце «ручейка» в паре с нашей новенькой девочкой. Она опять жжет меня синевой взгляда. Продолжается это мгновение. Напарницу мою так же быстро выхватывают и уводят в гудящий голосами «туннель» — трепетный, бесконечный…
Наверно, возможны какие-то описания «движения чувств, возникшего волнения» или, Бог его знает, употребления пронзительных каких-то эпитетов о «внезапном движении друг к другу наших сердец», но ничего такого не возникало тогда, иль не знали мы таких слов, способных объяснить эти движения.
Помню: за два годы учебы в нашей школе девочки Нины, света тогда неясного, связанного с ней, сцепленных наших рук на «ручейке», в записках, что посылали мы друг другу в классе, осталась — на все последующие мои пути-дороги — чистота ощущений, которым не нужна никакая альтернатива.
Возникло, сказать по правде, и взрослое чувство. Чувство потери, когда уезжала наша новенькая. Навсегда, как вышло, уезжала из нашего села. Помню чувство тоски. Горькой. Переживу его в одиночестве. Накануне отъезда Нины буду ходить по сумеречной летней улице, надеясь увидеть её в озаренном светом окне. Просто увидеть. И ничего больше. На большее, как во взрослые года: постучать в окно, вызвать на улицу, в ту пору не решусь…
Холод, конечно, доканывает наш третий класс. Я сохраняю свою чернильницу-непроливашку в шубном козлином рукаве. Подышав на пальцы, можно записывать в тетрадку предложения, решать задачки. Их задает нам Анастасия Феофановна на пол-урока, а сама тем временем идет в теплый четвертый класс. А у большинства одноклассников в чернильницах лед. Мальчикам это даже нравится, а прилежные девочки пищат. Круглая печка, она выходит топкой в наш класс, сжирает уйму дров, а все тепло достается четвертому классу. В нем и парты новей, не столь изрезаны ножами, и солнце, хоть и зимнее, а все ж солнышко, стоит в окнах с самого утра. Освещает оно огромную, во всю стену, физическую карту Советского Союза с обозначением крупных городов и республиканских столиц, а также всех разведанных к той поре полезных ископаемых. В самой высокой точке карты, возле Чукотки, торчит в стене большой гвоздь, на нем сидит чучело вороны с выкрашенным чернилами клювом. Это обстоятельство прощается нам учительницей — на само чучело, на природные перья, раскрашенные в серое, никто не посягает. На передней стене, над черной доской — тряпка с брусочком мела на узкой досточке снизу, сверху — в хорошей раме, висит портрет одного из вождей — Лаврентия Павловича Берия. Чем он занимается в Кремле, знает, наверно, учительница, нами же твердо усвоено, что это один из соратников товарища Сталина, как и Ворошилов, портрет которого знаю с детства.
Декабрьские холода не отступают. И в большой школе, в учительской, решилась судьба третьеклассников. Нас всех, в лопатинах — фуфайках и моей козлиной шубе, поместили в одной комнате с четвероклассниками, втиснув к ним несколько наших парт, что поновей и поприглядней. Остальные выставили на мороз, к стене дома. В теплое помещение перенесли бачок с водой и кружкой, для надежности притороченной к бачку цепью. Это зря. Для орды цену, конечно, имеет не сама кружка, а цепь!
Ладно. Зажили мы в хорошем тепле. А к хорошему непременно прилипает веселящее душу настроение. Так вскоре и произошло. Объявили, что лучших по успеваемости и поведению будут принимать в пионеры. Вопроса — вступать не вступать — для меня не возникало. Учеником я числился примерным. (Не сказать бы что и по поведению. Ну, не на пятерку, точно). Маме пришлось изрезать на галстук белую коленкоровую занавеску с кухонного окна. Еще мама дала мне пару рублей, послала в сельмаг за анилиновым красителем-порошком. Красного не оказалось. Я купил бордовый, и коленкор занавески обрел все же пролетарский, революционный цвет.
Принимали в пионеры нас в жарко натопленном, просторном и длинном коридоре большой школы. Выстроили всю пионердружину. В сторонке почтительно и строго стояли директор, завуч и учителя. Командовала всем молодая пионервожатая в шелковом галстуке и белой кофточке. С тремя красными лычками на рукаве: знаки различия председателя пионерской дружины — деловито суетился Юрка Шенцов.
За печкой, в дальнем углу коридора, просипели звуки горна, ударил барабан. Это предвещало вынос знамени дружины. Потом опять раздались сухие звуки горна, не отстала и барабанная дробь. Вынесли большое, с золотистой бахромой и кистями, полотнище.
Мы, вновь принимаемые, стоим перед строем. Еще без галстуков. Волнуемся…
Из всего ритуала пронзительно запомнится — на всю жизнь! — этот нещадный стук барабана и сухое карканье горна.
Потом все смолкло. Мы застыли по команде «Смирно». Пионервожатая стала читать текст клятвы. Мы повторяли эту клятву: предложение за предложением, чувствуя холодок и торжество момента. Потом нам начали повязывать галстуки. Брали их из общей коробки, чей попадется под руку. Мне достался мой собственный — из кухонного коленкора. Бордовые концы галстука от жары, наверно, свились, будто сухие стручки гороха. Но ничего.
Пионервожатая управилась с повязыванием галстуков и вскинула руку в салюте: «Юные пионеры, за дело Ленина-Сталина будьте готовы!»
— «Всегда готовы!» — и мы вскинули ладони в пионерском приветствии так, как учили на репетициях.
Из всех поздравительных слов (а их говорили и директор школы, и завуч, еще какие-то взрослые) я не запомнил ничего. В памяти остался вынос знамени. Почему-то было жалко — уносят знамя…
В пионеры приняли и нашу новенькую. Она стояла рядом — при шелковом галстуке, как у председателя дружины Юрки Шенцова и старшей пионервожатой.
В пылающий алым, красным и бордовым наш класс, тесноватый, но теплый, Анастасия Феофановна принесла среди зимы невиданные нами фрукты — мандарины. Аромата хватило на всех, когда она освобождала плоды от оранжевых кожурок. Досталось и по дольке на каждого. А вслед за мандариновым праздничным уроком, ко второму уроку в классе появился сын нашей учительницы — отпускной артиллерийский капитан с золотыми погонами и с наганом в кобуре на поясном ремне. Настоящим, понятно, наганом. Капитан построил нас в пустой просторной комнате, где недавно сидели третьеклассники, и взялся обучать нас военному делу.
— Р-равняйсь! — вскрикивал капитан и скрипел портупеей. — Голову надо повернуть направо так, чтоб была видна грудь четвертого в строю человека! Всем ясно?
Оглушенная, ошарашенная мальчишеская наша орда, вперемешку с девчонками, впервые в жизни построенная по росту, по ранжиру, неловко топталась в подшитых, кривых, до безобразия стоптанных пимах местной катки, привычных к пинанию конских глыз, к самодельным лыжам, конькам-снегуркам. А капитан явно красовался. Конечно, в ту пору мысли такие и не могли возникнуть в нас никоим образом. Уж больно необычен, праздничен был этот урок посреди завывающей за окном метели. Небывалое дело: в классе офицер! Да еще с наганом!
— Смирна-а! — гаркал капитан. И далее, усмехнувшись, ронял не столь энергичное. — Вольно. Не расходиться. Можно ослабить ногу, перевести дыхание…
Скрип новеньких отпускных ремней и хромовых сапог оскорбительно оборвал бряк колокольчика. Капитан перепоясал шинель скрипучим ремнем, поправил кобуру с наганом, воздвиг на место головной убор, сверкнул золотом погон, козырнул, растаял за дверьми, в снежной замяти.
Словно ангел с небес, махнувший белым крылом, просиял он в наших спаренных классах, взбудоражил мальчишеские думы. В скудную пору. В глухом селе. В сибирской стороне, далекой от свершаемых в мире событий.
А события катились к нам со всей неотвратимостью, наполняя жизнь новыми реалиями. Как говорят, на что сподобится Господь Бог, пошлет ли нам благость или наказание. И вот во время больших зимних каникул возник в нашем доме, оглашая его крестовое пространство, младенец. Братец новый. Вечером, когда вернулся с работы отец, им было сказано, что родился Петруха. Мы тотчас усвоили, что Петруха не просто «шуры-муры», а имя дитю дается в честь Петра Первого. Знаменитого русского царя-императора!
Это будет вечером, когда еще круче завоет метель. Окрепнет холод — предвестник Рождества Христова, крупно вызвездится небо. А днем, точней с утра, мама, пугливо вздрагивая и хватаясь за выпуклый живот, настоятельно скажет мне: «Из дома никуда не отлучайся, вдруг понадобишься!»
Что ж, и я проникся сказанным мамой, вначале помышляя усвистнуть из дома — на сугробы к каникулярным друзьям,
К вечерним сумеркам короткого январского дня, зачитавшись у морозного окна, услышал вскрики матери. Выбежал в куть. Мама спускалась по приступкам печи на голбчик. Ломаясь в пояснице, поспешила с оханьем в горницу, к сундуку, достала из него чистые тряпицы, полотенце. Присела на крышку сундука, громко вскрикивая, напугав и меня, и метнувшегося из комнаты кота.
— Чё смотришь, Коля, беги за Анной Андреевой, скажи, чтоб строчно шла к нам…
Соседка — околоточная повитуха, одолев за мной перемет дороги, не мешкая с голиком у крыльца, кой-как сбив с обуви снег, вбежала в горницу. Там уже, уцепившись в спинку кровати, заняла свое место — непременное, привычное! — наша мать-роженица…
Зимняя пора наступившего пятьдесят третьего года потекла с тех минут не столь под завывания январских, а потом февральских вьюг, сколько под знакомый скрип зыбки, вздохи комбайновой пружины, вновь надетой на крюк матицы в кути, а вечером обычно переносимой к кольцу горничного потолка. Петруха родился! А нянька — вот она, девятилетняя, подросшая, опытная, я — сам. И никуда тут не денешься.
К началу марта улеглись метели. Они всегда стихали в эту пору. Весна приспевала без задержек. Синий свет конца февраля уже сулил тепло. Плавно перетекали блики солнца с березовых вершин ближних колков на крыши домов, покрывая сугробы наждаком наста.
В полдень, закинув бумазейную сумку с тетрадками и учебниками на плечо, шел я накатанной санной дорогой в школу. Вот-вот должна вывалить на улицу первая смена учеников — с ором и потасовками. Но никто не выкатывал. Улица (по ней в прежние дни непременно пролетали дровни, розвальни, начальственные кошевки) сейчас пустовала.
Пустовало и небо. В нем должна была пролететь сорока. Никого. Даже стайка воробьев, падая обычно с крыши пригона на сенную труху санного пути, отсутствовала. Но шел навстречу, размахивая такой же, как у меня, тряпичной сумкой, Шурка Кукушкин.
— Не учимся сегодня! По домам распустили…
— Как распустили? Врешь, Шурка.
— Ниче не вру. Сталин умер… Вот.
Сказал, будто ударил. И на углу нашей школы, на доме напротив, где сельсовет, увидел я флаги — кумач и черные ленты.
Сталин умер. Как это умер?! Не может такого быть. Вообще быть не может, чтоб Сталин и — умер.
Улица продолжала пустовать. Пустовали и окна домов. В иной день едва ли не в каждом окошке можно заметить чей-то любопытный взор, отодвинутую занавеску, цветущую герань. Сейчас все пустовало. Пусто и горько холодело в груди.
Я вошел в нашу маленькую школу, где уже собралось больше половины ребят. Девочки окружили учительницу. Траурным квадратом смотрела черная классная доска. Мальчишки (а нас всегда меньше всюду, кроме как на войне) стояли возле географической карты. К ребятне я и на правился. Тихо. Но в томительной тишине четко, металлическим голосом кто-то сказал, что «в большой школе все ревут, а завуч сказала, что теперь на нас американцы полезут». Потом в тишине раздалось, что «у нас есть водородная бомба и она сильнее американской, атомной». Кто это сказал? Может быть, я тогда и произнес.
— Как будем жить теперь, ребята? — потерянно произнесла наша старая учительница. — Как жить?!
Господи, прошла уже целая вечность. Десятилетия с того дня прошли. Жили. Живем. Кто достойно, а иные… Иных уж нет.
А пятого марта 1953 года у нас уже стояла весна. Как обычно. Солнце светило очень ярко. Я шел в школу и думал о нашей новенькой ученице. О девочке с синими глазами. Все, что произошло в тот день, оглушило. Надолго. И все же весна была в наших краях. На земле — весна.
ГОНЧИЙ ПОРОСЕНОК
Конец сентября. Пролетела паутина и начались дожди. За окном нашего класса серое небо и мокрая — на огородном прясле — ворона. По дороге идет лошадь. В телеге сидит мужик в брезентовом дождевике, свесив ногу в грязном сапоге. Лица его под капюшоном не видно. Нахохлился! А в классе в первый раз — не по сезону! — топится голландка и уютно пахнет березовым дымком. Учительница Анастасия Феофановна пишет мелом на доске тему урока — сочинение «Наше счастливое детство»
— Все усвоили, дети? — спрашивает учительница и садится к столу проверять тетрадки по арифметике.
— Все! — нестройно отвечает класс.
Шурка смотрит с последней парты в окно и тоскует, что не сбежал на перемене с уроков. В огороде недокопана целая гряда картошки. Вон ведь погода что вытворяет! Квасит и квасит, конца края этой мокряди не видно. А вдруг да полетят белые мухи? На сестру Галину никакой надёжи нет, хоть и старше его на два года. Здоровье у неё никуда. Чахотка давит. Сейчас, наверно, сидит на лавке, тоже смотрит в окно и ждет Шуркиного возвращенья из школы. Худая она и бледная, как картофельный росток. Рядом, на подоконнике, такая же тощая, с длинными ногами, тряпичная кукла. Без волос, но с темно-синими кругами глаз, нарисованных химическим карандашом…
Шурка клюёт в чернильницу-непроливашку и роняет кляксу на чистую тетрадку. Опять беда! Промокает лужицу розовой промокашкой, потом скребет кляксу ногтем… На мать тоже плохая надежа. Как уйдет на ферму в потемках поутру, так и приходит домой затемно. «Ну что там, ладно, думает Шурка, как-нибудь управлюсь с картошкой!» Отщипнул в парте от лепешки, кинул в рот, не жуя проглотил. Вытянул истомно ноги. Тесновата парта для переростка…
— Не пинайся! — шипит на него сидящая впереди Райка и лягает дырявый Шуркин ботинок.
— Тише, дети! — говорит учительница, ставя кому-то красного гусака — двойку.
Опять сопение, пыхтение, шарканье ногами. «Сочинение. Тема, — снова клюет в непроливашку Шурка. — Щасливое детство». Перо «мышка» царапает бумагу. Шурка втыкает перо в парту, немного выгибает его. «Я родился в тысяча девятьсот сорокавом году в семье беднаго колхозника…» Он ставит точку, задумывается. Анастасия Феофановна рассказывала по истории, что все они вышли из бедных слоев и надо этим гордиться. В старину крестьяне и рабочие тянули лямку на хозяев и вообще все жили бедно. Старину Шурка Кукушкин представляет так: тогда все мужики ходили с огромными бородами и босиком. С «лямкой» воображение тормозило. Но мерещилась этакая длинная веревка — подлиннее, понятно, той, что поддерживала его штаны, когда он ходил еще в первый класс.
Он пошел в школу давно. Тогда в первом классе, в сорок седьмом, учил их счету и письму черный старичок с огромной копной волос на голове. Жил он при школе, одиноко. Обычно, задав писать крючки и палочки, приносил он в класс чугунок парящей картошки в мундирах, принимался завтракать. Потом тяжелым костяным гребнем, сделанным из коровьего рога, вычесывал на газету свою тяжелую смоляную шевелюру.
— Тихо! — временами вскрикивал чернец и желтым ногтем с прищелком расправлялся с очередной вошью.
Чернеца выгнал временно принявший директорство в школе демобилизовавшийся из Германии старший лейтенант-пехотинец — с двумя орденами на кителе и нашивкой за ранение. С той поры проучился Шурка немало, второгодничая в каждом классе. Вот теперь дылда-дылдой среди нас, малышни. А у матери Шуркиной своё: дотяни хоть начальную школу, варнак!
«Вобче детство мое было щасливое. Спасибо родной стране и сознательному пролетарьяту. Спасибо товащчу…» — он поискал глазами портрет и вспомнил недавний случай. Среди урока в класс вошел с дубиной старший лейтенант-пехотинец и смел со стены портрет лысого человека в пенсне и с тонкими губами. Пехотинец потоптался на портрете и, глядя на перепуганный класс и учительницу, сказал: «…Потерял доверие… Он враг народа, дети!»
На старое место поместили портрет нового человека, тоже в хорошем костюме, но Шурка еще не привык к нему и смотрел недоверчиво. «Детство наше…» — старательно выводит он пером. Ему вдруг захотелось сегодня отличиться. Но мысли о недокопанной картошке неотвязно толкутся в голове. И погода эта!
Отличник с первой парты Валерка Янчук уже закрыл тетрадку, передал её на стол учительнице и, аккуратно вытерев перочисткой ручку, читает «Тома Сойера». У Валерки настоящий шелковый галстук. Он гордится этим. А Шурку вообще в пионеры не принимают. Теперь уже не до пионеров — тринадцать летом исполнилось. Из всех наук Шурка больше любит историю. Даже учебник для старших классов притаскивал домой и подолгу разглядывал изображенные в нем скульптуры греческих и римских богов.
— Ну-ка, ну-ка! — приглядывалась ко грекам Шуркина мать, тыкая заскорузлым пальцем в Геракла. — Это чё он со цветком нарисован на эн-том самом месте? Страмотишша-то какая! — добавляла вовсе непечатное.
Парнишка захлопывал книжку и бежал во двор искать заделье по хозяйству. Три курицы без петуха — какое хозяйство! Они и дома-то не находились, вечно шастали где-то на чужом подворье. А огород надо обихаживать. Прополка, поливка держались только на Шурке, потому как он и сам знал — без огородного не перезимовать!
Прошлая зима случилась морозной, лютой. Изба вечно выстывала к утру так, что выла трубой по-волчьему, и по ледяному полу приходилось бежать вприскок — голые пятки, хоть и задубевшие летом, не выдерживали. Галина та и вовсе не слезала с печи. А дров не хватало. Эта «прорва», большая на пол-избы русская печь, много жрала. Разобрали хлевушку, спилили последний столб у ворот. И к весне подворье выглядело совсем разоренно и тоскливо. Быстро, как на всяком запустении, поднялись вокруг избы дуроломы лебеды, конопли, лопухов. Под широкими листами лопухов все лето неслись чужие куры. Шурка не раз находил гнезда, полные яиц, и тогда яйцами наедались до отвала. Однажды вечером мать принесла поросенка и сказала:
— Все стали заводить поросят. Што же, мы не хуже других: вырастим за лето. К зиме с мясом будем…
Приходили смотреть на поросенка соседи, хвалили хозяйку за предприимчивость. Но, уходя, качали головами:
— Чем только, Евдокия, будешь кормить этого жихарку?
— Травы много, прокормится! — махала рукой Шуркина мать.
Поросенку сделали шлею из прорезинового комбайнового ремня и привязали к телефонному столбу. Жихарка этот поневоле и очень скоро выучился питаться травой-конотопом и носить в зубах жестяной тазик для воды. Первые недели он повизгивал голодным псом, но вскоре свыкся с долей и пошел в рост. Росли почему-то ноги да вытягивалось рыло. А щетина на горбатой спине так вымахала, что он скорее напоминал дикого кабана, вышедшего из темного леса, нежели обыкновенную домашнюю свинью. Трава возле столба оказалась вскоре выбитой и съеденной до корней так, что образовался геометрически правильный круг.
И жихарку перевели к другому столбу, куда он охотно, по-собачьи потрусил, зажав в зубах тазик. Поросенок сделался предметом насмешек и пересудов в околотке. Но подходить к нему боялись. Он зло щелкал длинными зубами и кидался на человека. Дородные, упитанные свинки из соседних дворов из любопытства похрюкивали, проходя мимо, но и они своим свинячим умом чуяли грозную опасность. Жихарка подпускал к себе только Шурку. Тот хоть и не кормилец был, но воду подливал в тазик регулярно.
— Ну что я сделаю, чем накормлю? — вздыхала Евдокия, выслушав укоры соседок.
Однажды решилась, тайком принесла с базы ведерко комбикорма, запарила и сделала мешанку. Тут попировал жихарка! А на утро возле столба нашли оборванную им шлею и вожжи… Обежали все село, облазили все закоулки и огороды. Исчез поросенок, как испарился. Через неделю пастухи рассказывали, что на Смолихе-увале, а это километров за десять, видели они дикую свинью — «горбатую, в щетине и с длинным рылом!».
Зачем туда упорол поросенок? Никто не мог толково рассудить.
— Гончий поросенок! — выдал кто-то из молодых мужиков. Обидная эта кличка вдруг — хоть и ненадолго! — пристала к Шурке. Он и вправду чем-то напоминал беглеца: худой, тощий, сутулится при ходьбе, нос большой, с горбинкой…
Сочинение совсем забуксовало. Никак не находит Шурка нужные красивые слова, чтоб похвалила завтра Анастасия Феофановна. Опять будут хвалить Валерку Янчука. Конечно, Валерка парнишка сообразительный, столько стишков на память знает, что Шурке ни в жизнь не выучить, не запомнить. Зимой, на празднике Красной Армии, Валерке дали большую шоколадную конфету за стихотворение о войне. Как он декламировал!
…И от моря и до моря Поднялись большевики. И от моря и до моря Встали русские полки, И сказал народу Сталин: — В добрый час, за мной, друзья! И от недругов мы степи Очищать свои края.Хлопали Валерке во все ладоши и ребятишки, и учителя, хлопал и пехотинец старший лейтенант. Он стал хорошим учителем физкультуры Николаем Николаевичем Протопоповым. Хлопали Валеркины родители — люди грамотные и хорошо одетые.
А Шурка стоял в кучке таких же, как он, переростков и нисколечко не завидовал. Не было у него никогда зависти. Знаю.
Но вот сегодня ему так хотелось отличиться. «Щасливое детство…» — роняет он кляксу, успевая отдернуть тетрадку. Чернила падают на штаны. Зареветь бы! Но душа у парнишки затверделая, не выдавить и одной слезинки.
— Райка, хочешь лепёшку? — он дергает девочку за жидкую косичку с косоплеткой — цветастой тряпочкой.
— Давай! — шепотом говорит Райка Барышникова.
— Вкусная… Ты о чем пишешь, Райка?
— Про отца… Как он с фронта пришел.
— Помнишь, что ли? Во даёт!
— Мама рассказывала…
— Тише! Тише там на «камчатке»… Пора закругляться, дети, скоро звонок! — учительница ходит возле парт, заглядывает в тетрадки. На «Камчатку» не заглянет. Шурка это чувствует. Он подумал об отце. Просто так подумал, не представил даже. Этот «бугай», как называет его мать, «живет у сударушки в дальней деревне, к своим дитям бестыжих глаз не кажет…»
Дума короткая, мимоходная, погасла, не обожгла…
За окном, на дороге, опять та же лошадь. В телеге мужик в дождевике. Теперь он сидит на поклаже, едет обратно. «Интересно, кто из мужиков?» — думает Шурка. По узким колесным колеям догоняют телегу два ручья. Серое небо ворочает лениво и медленно такую же серую муть. Бусит и сеет. И это надолго.
Ворона прошлась по жердине прясла, деловито и старательно почистила о кол горбатый клюв, собралась каркать…
Со звонком сорвались с парт и, толкаясь в дверях, выбежали из тепла. Холодок школьного двора напахнул прелым листом, мокрой поленницей.
— Гончий поросенок! Гончий поросенок! — боязливо выкрикивал чей-то голосишко. Шурка не обернулся. Отпнув ногой калитку, перемахнул лужу. На обочине дороги приметил две старые жердинки с завитушками бело-сизой, подгнившей уже бересты. «Хватит на целую истопку! В потемках схожу…» — подумал Шурка и, сутулясь, закинув тряпичную сумку за плечо, широко пошагал к дому.
ПЛОХОГО НЕ СЛУЧАЛОСЬ
После смерти Сталина, после разоблачения и расстрела «английского шпиона» Берии, после борений и перетрясок в Кремле, когда на какое-то время на первой роли просияла, обнадежившая народ, фигура Маленкова, вдруг оказалось, что жизнь не закончилась, что она способна выдержать все повороты: можно жить, уповая на просветы в ней, на благие перемены.
С воцарением фигуры Хрущева непривычный к демократическим всплескам в речах, к необычным поступкам первой фигуры в государстве народ поначалу вытаращил глаза на выверты нового хозяина Кремля, но потом, усмехаясь и копя иронию для будущих анекдотов, впрягся в те же оглобли, дивясь только непривычной нахрапистости возницы, неумело дергающего вожжи, подстегивающего державного конягу, шалеющего, взбрыкивающего на поворотах.
С началом целинной эпопеи, которая выразилась в наших весях буйной распашкой скудных солонцов (то есть отличных овечьих пастбищ), раскорчевыванием старинных березовых колков и рощ, с воцарением «королевы полей» — кукурузы, батя наш на короткое время оказался в бригадирах огородной бригады.
По замыслам реформаторов, спустивших до низов инструкции о том, как «завалить» страну садо-во-овощными культурами и, конечно ж, кукурузным зерном, в совхоз привезли невиданные до сего дня агрегаты, которые поручили отцу. Агрегаты замешивали в своей утробе компоненты каких-то смесей, расписанных инструкцией, затем выдавали аккуратной формы торфо-перегнойные горшочки. Продукция эта требовала бережного обращения, будто со стеклянными или фарфоровыми изделиями. Отец не вынес трудоемкости, а скорей, муторности сего сомнительного предприятия. Разочтясь с совхозным начальством, он с упоением взялся пасти деревенское стадо, которое с общего согласия и доверия односельчан было поручено нашей семье.
Пастушья эпопея продлилась всего один сезон — с мая по сентябрь 54-го года. Принесла она в дом наш кой-какой достаток и изобилует разными степными красками, событиями, случавшимися с крупнокопытным, рогатым и прочим баранье — овечьим составом деревенского стада, а также с его попечителями-пастухами. В помощь отцу впрягся и брат Саша, оставив на второгодниченье учебу в девятом классе. О работе этой, пронизанной запахами трав, степными грозами, горячим солнышком, жаворонковыми трелями, требуется отдельное повествование…
А пока сподручней поведать о промыслово-ондатровом буме, который случился в эти же годы на моих глазах. Мы, околоточная ребятня, вошедшая в пору пионерского возраста, стали если уж не участниками, то активными свидетелями этой промысловой лихорадки, охватившей южно-сибирский озерный край. Лихорадки, напоминающей джеклондоновскую, золотую.
Всё дело в том, что на базе наших, не столь глубоких, чуть солоноватых, озер, с буйством камышовых займищ, с богатой флорой для прокорма, завезенных из Америки водоплавающих пушных зверьков, чья-то умная голова придумала организовать районные ондатровые хозяйства. От торговли ондатровым мехом с заграницей в страну потекла валюта. На озерных угодьях работали охотоведы — подготовленные в вузах специалисты-биологи. Следили за сохранностью зверька, его миграцией, учили-наставляли промысловиков.
Охота на зверька разрешалась капканами лишь в зимнюю пору, с началом ледостава на озерах и болотах и до средины марта. Строго! Весной зверек начинал линять, шкурка теряла качество, товарный вид. Весной же рождался приплод. Затем зверьки строили новые камышовые хатки. За лето подрастал молодняк. А в новый охотничий сезон охотник мог легко определить наличное поголовье ондатр на закрепленном — по договору — за ним водоеме: по хаткам, по камышовым кормушкам, что строились зверьками ближе к глубоким местам.
Привычная картина. В любой зимний день, на заре, еще по сумеркам, скользит на лыжах от родного огорода в сторону озера фигура промысловика-ондатролова. Полушубок или овчинный кожушок перетянут поясным ремнем. За плечами увесистый рюкзак с капканами. Лопата в руке. Кто-то и при ружьишке: вдруг попадутся на пути заяц, лиса. А то и волчина матерый забредет с голодухи из северо-казахстанских березовых колков или проломится к нашим южным местам — из буреломов северной тайги.
Труд ондатролова требовал силы, здоровья. Наш сосед — дедка Павел Замякин, всю жизнь бегавший с берданкой на уток, ставивший заячьи петли на снежных тропах, для нового солидного дела уже не годился. За короткий световой день ондатролов наматывал на лыжах более двадцати километров по камышам, успевая проверить и вновь насторожить до сотни капканов. На ветру. На морозе. Непременно надо совать руки в ледяную купель и, насторожив капкан, вновь утеплить хатку так, чтобы не промерзла.
Ну вот, обошел охотник свои угодья, собрал в рюкзак добычу. И тут будь осторожен: зверек попадается еще живой. Тогда изловчись, поймай его рукой за шею, другой — за хвост. Рывок. Зверёк затихает навсегда. Занятие и зрелище не для слабых!
Дома, по вечерней мгле, под завывание метели за окном, когда уже натоплена в избе печь-буржуйка, похлебав щей, согревшись окончательно, начинает охотник другую кровавую операцию. Устроившись на голбчике, придвинув просторный тазик, поширкав о брусок нож доброй закалки, охотник аккуратно снимает шкурки с оттаявших тушек…
Пластают в печурке поленья, в махорочном дыму сияет под потолком дома керосиновая лам-па-«молния» иль электролампочка, урчат, чуя сытное кровавое мясо, коты. Головы котов, отъевшихся за зиму, похожи на средней вместимости чугуны с живыми горящими плотоядно глазами. Усатые, нагловатые, жоркие.
Снял пушные шубки со зверьков охотник, попировали коты, сожрав с урчанием по тушке ондатры. Остальные тушки сложены в морозном углу сеней или сарая. Первое время тушки эти просто выбрасывались на огородный сугроб для пиршества сорок и ворон. Сметливые охотничьи жены приспособились потом варить ондатровое мясо в ведерных чугунах для кур, а то и для зимующего в хлеве подсвинка. Иной подсвинок, превратившись таким образом из вегетарианца — потребителя картошки и отрубей! — в хищника, подкарауливал зазевавшихся на сонном насесте кур, разрывал их в клочья, сжирал, оставляя охающей по утру хозяйке пух и перо, разметанные по свиной загородке.
У промысловика же впереди еще много операций по подготовке пушнины к сдаче заготовителю.
Рано обучившись промысловому делу, которым владели в семье старшие, мог бы я в ту пору и в охотники поступить! Да кто бы позволил? В мои-то зеленые годочки!
Но бум ондатровый в нашей охотничьей семье остался не только неприязнью к ондатровому меху, из которого в пору нехватки «настоящих» магазинных одежек, шила мать воротники на старенькую одежонку, шапки, варежки, чуни, носки.
Окрестные псы, учуяв мое появление на улице в такой экипировке, поднимали истошный лай, рвались и срывались с цепей. От псов я отбивался. Зато в школьном коридоре ондатровая моя шапка, сорванная с головы пацанами постарше, превращалась в футбольный мяч. И это б ладно, если бы кто-нибудь не обзывал «казахом». Отчего-то мирные наши североказахстанские «братья», щеголявшие зимой и летом в мехах, недолюбливались нашей ордой.
Летом 1955 года ондатровая эпопея обернулась для нашего подворья огромными хлопотами в пору сенокоса. Отец сделался начальником производственного участка охотконторы. Попросту — заготовителем пушнины. Выдали ему телегу, розвальни, коня с упряжью. И как средство самообороны мелкокалиберную винтовку «ТОЗ-11». Получал он в банке для расчета с охотниками целый портфель денег — ассигнаций еще дореформенного образца: килограммов пяти весом. Отправляясь в любую озерно-избушечную глушь, отец брал этот портфель в розвальни, под тулуп. А из-под тулупа острым жальцем смотрел кончик ствола «тозовки». Но никто ни разу не посягнул на деньги — ни в озерной глуши, ни на проселочной дороге.
Иная забота — конь. Молодой, едва объезженный Гнедко. На него нам самим полагалось накосить на зиму пятьдесят центнеров лугового сена. В придачу к овсу, что выдавался на заготконторском складе бесплатно: сколько надо!
Для семьи наступила многотрудная, чем в прежние совхозные годы, страда. Иной уклад жизни.
Впрочем, к этой поре и совхозно-колхозый уклад пошатнулся. Начались шараханья — от объединений до новых разделений хозяйств. От войн за пахотные и сенокосные угодья, до порухи крепких старинных домов в основательном нашем Окунёве. Часть этих домов числилась за колхозом. Усадьбы раскатывались по бревнышкам, перевозились в деревню Карьково, где с недавних пор обосновался центр колхоза «Красное знамя». Карьковские — «рассейские». В глазах окунёвских староверов — этакие недотепы: «Ванькя, Колькя, куриса, плиса, рукависа, яйсо». Они внаглую разоряли окуневскую бригаду колхоза «Красное знамя». Совхозное начальство ничего не могло поделать с этой наглостью и самоуправством. Карь-ковский председатель Решетников, «пузан», раскатывая на недавно купленном за целинное зерно «Москвиче», чванился своим положением, а окунёвских ягодников, набравших по ведру клубники, подкарауливал и на манер унтер-пришибеева конфисковывал эти ведра с ягодами: «Путаете, понимаешь, траву на покосах!»
А тут еще ладный вчерашний мир нашего околичного околотка потревожил вернувшийся из лагеря «власовец». Петро — сын бабки Фетиньи. Взрослые к нему претензий не выказывали. Мы, ребятня, по-пионерски подозрительно и косо посматривали на «предателя», праздновавшего свое возвращение домой. Гулял он в одиночестве. Потом подсмотрел невесту, женился, но не надолго. Уехал…
Куда уехал? И этого никто не знал в нашем околотке. А нам надо было пластаться на покосе. Для Гнедка и для своей животины — тоже. В телегу, которую в прежние времена тянула по кочкам корова Люська, теперь впрягался молодой Гнедко. Едва привыкший к хомуту, к оглоблям, к седокам и поклаже на телеге, Гнедко сильно боялся встречных машин. Начинал фыркать, косить огненным глазом. Взбрыкивал, заполошно кидался с дороги в степь, нес, не разбирая кочек, ухабов, придорожных ям, растрясая тележную поклажу, грозя покалечить и нас, вцепившихся в облучки.
Мать наша, обучившись управлять велосипедом, предпочитала тележной езде — крутить педали. И поспевала к сенокосной рёлке вперед мужиков. Таковых было двое — сам отец и Саша. Мне в такой день, когда мать отправлялась в поле, надлежало домовничать, доглядать живность на дворе и кормить самого малого из нашей семьи — Петруху. Он еще едва научился дыбать возле стены, но резво, по-тараканьи, часто перебирая ручка-ми-ножками, ползал по расстеленным в горнице половичкам и голому полу в кути. Хорошо, что был не особо разборчив в еде. После положенной манной каши, мусолил молочными зубками морковку, тянулся к шляпе молодого подсолнуха, что отчекрыживал я в июльском огороде в уверенности, что родители не заметят безобразия.
Подсолнухов-то у нас — море разливанное по межам огорода.
Спадала полуденная жара. Приходил Толька Миндалев, стучал в закрытый ставень, звал поиграть. Какая игра! На городском Тольке тоже обязанности няньки. Он доглядывал за племянником, названным Петрухой, как и мой братец. У ровесников и тележки деревянные, фигурно-точеные, с миниатюрными колесиками были одинаковыми. Ширпотребу этого навезли в сельпо. Глядя друг на друга, полдеревни набрали этого «транспорта» для малышей.
Играли мы в своем ограниченном положении таким образом: орда обычно предлагала устроить гонки нашего колесно-деревянного транспорта. Дистанция гонок — расстояние между телефонными столбами. Чья коляска придет первой к финишу?
Седоки тележек уплотнялись подушками, пеленками, одеяльцами. Только белые головенки двух Петрух торчали наружу. Мы с Толькой изготавливались на старте, взявшись за веревки тележек.
«Поше-ел!» — выдыхала орда, и мы летели — в пыли, в бряке, в реве Петрух-пассажиров, криках орды, пока одна из тележек, за ней непременно и вторая, не опрокидывались. Малыши наши летели наземь, набивая синяки, ссадины, заходились ревом. Из избы Замякиных вылетала бабка Пашиха, махала палкой, охала, выкрикивала в адрес Тольки привычные угрозы.
На меня кричать некому. Но и я хватал братишку, тащил в свою ограду. Споласкивал возле бочки с водой, нес в дом, ублажал морковкой и, ублаженного, притихшего, укладывал спать.
Орда подбирала транспорт, перекидывала через плетень в нашу ограду. И на какое-то время в околотке опять воцарялась тишина, нарушаемая лишь квохтанием кур и петушиными криками.
Однажды, в такую умиротворенную пору, когда солнце уже давно перевалило за полдень, в открытой сеношной двери возник незнакомец. Спросил: «Дома хозяева?» Я ответил, что никого нет, все на сенокосе. Незнакомец, получив ответ, тут же прошел в избу, устало присел в кути на лавку, попросил тарелку щей. И я, словно под гипнозом, вытащил из печи чугунок с супом, поорудовал поварешкой, поставил перед незнакомцем пышущую паром тарелку. Нарезая хлеб, все так же машинально разглядывал, осмелев, незнакомого дядьку. Крепкие кирзовые сапоги источали деготный дух. Поверх брюк навыпуск (так у нас редко кто одевается) брезентовая рубаха с накладными карманами. Плотный, широкоплечий. И когда он снял с головы кепку, открылся тяжелей лоб и седоватые редкие волосы. Неторопливо похлебав суп, он облизал ложку и попросил налить молока. «Счас!» — бросил я на ходу, прошмыгнул в сени. Молоко-то стояло в сенях под лавкой. И тут увидел я на стене ружье. Обычно оно висело под матицей полатей. Саша, видно, брал для чего-то, да не прибрал на место. Подтянулся на цыпочках к ружью, я снял его с гвоздя, сдерживая дыхание, засунул под лавку.
Насытившись, незнакомец сказал:
— Домовничаешь, парень?.. Слышал я, что у вас в озерах хороший желтый карась ловится, а? Вот присмотрюсь, разведаю. Собираюсь основательно приехать да порыбачить. А зимой ондатрами заняться. Охотничаете?
— Ну! Охотничаем! — отвечая я, все время думая о ружье — хорошо ли спрятал, не выглядывает ли ствол из-под занавески?
— Дай-ка ножницы и зеркальце, парень. Зарос что-то…
И дядька, приладясь к зеркальцу, ловко сощелкивал со щек серую щетину. Забавно так, незнакомо. Отец-то всегда бреется станком — безопасной бритвой с лезвиями.
Когда в горнице проснулся и подал голос Петруха, дядька неторопливо поднялся, тяжело прогибая половицы, вышел во двор. И вскоре с тем же недоумением и облегчением в душе я увидел его «брезентовую» фигуру, удаляющуюся к камышам Головки, где желтели стога казенного сена.
Конечно, всякие люди заходили в наш окраинный околоток. Так что я не очень и напугался. Но все же…
Родители возвернулись с поля еще до солнцезаката. Поплескались у рукомойника, управились с коровой, пришедшей со стадом. Умиротворились, как всегда бывает перед ночной порой. Сели за стол ужинать. И тут он, дядька полдневный, заявился вновь. И приглашен был к столу. Занятые мирной беседой, взрослые не обращали на меня внимания. А я, изображая деловитость, то и дело появлялся в кути — все в той же непонятной тревоге. Слова отца задержали меня на пороге. Он неожиданно спросил у пришедшего:
— А документы у тебя имеются?
Незнакомец расстегнул пуговку брезентовой рубахи, достал бумаги и протянул отцу.
— Инвалид?! Да, я тоже инвалид войны! — отец собрался было закатать рукав рубахи, показать, как он нередко делал под хмельком, где долбануло, но сдержался, тряхнул лишь головой. — Сколь горя кругом, да-а…
Вечер сгущался протяжный, теплый. Саша еще до появления незнакомца, переодевшись в чистую рубашку, вскинул гармонь на плечо и пошел в клуб. Петруха, напузырившись парным молоком, вновь затих на горнешных матрасах. Еще носилась на взгорке ребятня, играла в прятки. И можно было заслуженно присоединиться к играющим. Сегодня что-то расхотелось бежать на волю. Наверное, останется этот дядька у нас ночевать? Но мужчины вышли на крыльцо, покивали друг другу, разошлись. Незнакомец опять направился к озерным камышам. Отец прошагал в огород снять с шахов сети.
А через час в отворенной еще створке окна возникла в щетине щек — голова Павла Андреева. Сосед возбужден — без привычной в зубах махорочной «оглобли», выпалил, «как с лесу упал» — говорят у нас в таких случаях:
— Василий, знаком тебе этот стервец, что заходил, етти его за ногу! Он, етти его в душу, замок на моей лодке ворочал. У меня-то надежный запор, дак он отпихнул неприкованную лодку, переехал озеро и бросил лодку на мели… Бродяга! А ты привечаешь. Надо смотреть, чтобы еще не нагару-сил, а. С тюрьмы, знать, бежал. Ты смотри… Пойду, Василий, жакана заложу в двустволку. Сразу пару жаканов…
Спалось плохо. В глазах все стоял этот незнакомец. Теперь он мне казался в самом деле подозрительным: жулик, точно! Поднялся, прошел на цыпочках, чтоб попить из кадушки.
— Ну что шаришься? Спи давай! — прошелестело в кути.
В сумраке я рассмотрел брата. Он сидел перед кухонным окошком на табуретке с двустволкой наизготовку. Чуть в сторонке, в простенке, стояла гармонь, тускло блеснув перламутром кнопок.
— Говорят, что заключенные из тюрьмы побег устроили! — тихо произнес Саша. — Сунется, долбану прямо через стекло!
Забылся я лишь к рассвету.
День наступал звонкий от проезжающих в поле фургонов и рявкающих моторов тракторов возле кузницы. Люди опять собирались в поле. Отец напоил Гнедка. Потом принес бутылочку пахучего дегтя, принялся смазывать коню уязвимые оводом места — под брюхом, на груди, на крупе. Гнедко косил огненный взор, но понимал, что делают ему полезное дело. К концу сборов Саша вынес из дома завернутую в мешковину «малопульку-тозовку», положил в телегу, чего никогда не делалось. Мне ж было строго-настрого наказано следить не только за Петрушкой, но и не пускать в дом незнакомых людей, а лучше запереться покрепче! До полудня только и запирался, пока не заликовала возле ворот, на полынке, орда наша.
А вообще-то и нынче, не могу до конца поверить, что «брезентовый» тот незнакомец был из каких-то «лихих», из «проходимцев». Мало ли ходило-бродило бедолаг по белу свету. Война недавно кончилась…
Ничего плохого не случилось в то лето. И в другие мои деревенские лета — не случилось. Позднее так и написалось у меня:
Ничего плохого не случалось На моем на маленьком веку…И было это истинной правдой.
НА ОЗЕРЕ ДОЛГОМ
Наши окуневские вёсны с теплом и глубокой синевой в небе — обычно соответствуют календарю. Ко второй половине марта оседает снег на самой близкой и обширной равнине — на озере Долгом. Жесткая кора сугробов на озерном стекле и в камышах, державшая взрослого человека, делается ноздреватой, пористой, крупчато-рыхлой. Ступишь на предполагаемую твердь, а она раздастся, погрузит в себя по пояс. Блестят острые, наждачные кромки наста.
Слышу разговоры взрослых об удачной охоте на косуль. По насту они кровавят ноги, останавливаются, с тоской в глазах ждут выстрела. Не люблю эти разговоры, не принимает их душа.
Зимой через озеро ходили обозы, наторив плотную снежно-ледяную дорогу. По ледоставу — коняги с санями и розвальнями, а с январским метровым льдом и трактора волочили на цельных березовых волокушах или металлических «пенах» тяжелые зароды и клади с дальних тундровских и сорочинских покосов.
Оплыл близь дороги снег, а сама дорога с подтаявшими узорами тракторных гусениц обнажила накрапы солярки, масел, конские глызы, клочки сена. И дыбит темные свои колеи над белым еще пространством. Но однажды в ночи буйная сила ветра взломает ледовый панцирь, откроет зияющие провалы парящей воды, кроша ледовые поля на мелкие льдины. Дрейфовать им по озеру до мая.
Сначала лед отъедает от берега, от мостков, где черпают воду, где летом бабы полощут постиранные рубахи, где причаливают, продравшись сквозь камыш, лодки. Затем тает лед возле уреза камышей. В синие полыньи-промоины мужики ставят мелкоячеистые сети-гальянницы. Карась еще не поднялся со дна, а гальяны прут. Эта прожорливая, хищная рыбешка размером в палец (с современную магазинную мойву) набивается за ночь едва ль не в каждую ячею. Мы всем семейством, в непременном присутствии дежурящего кота, выпрастываем принесенную с озера снасть. Наготове глубокая чугунная сковорода, яйца, молоко. Смесью молочно-яичной заливается на сковороде будущая жареха. Конечно, порублено на крошево несколько головок лука. И когда отпылает в русской печке большой огонь, а на прокаленном печном поду заалеют, уже притухая — без синеугарных огненных змеек — березовые угли, мама ставит сковороду в печь.
Озеро Долгое.
Оно то зимнее, заснеженное, то летнее, парное, протянулось от нашего окраинного огорода в даль и заканчивается узким клином воды и новой стеной камыша. Угол! В этот «угол» уплывают порой окраинные наши рыбаки в надежде на хороший улов. Три версты машут веслом — в один конец. Да обратно — тот же путь, чаще в сумерках — с полной карасями лодкой. И мама в такую пору обычно ждет отца на мостках, то и дело приставляя к косынке ладонь козырьком, вслушиваясь в плески воды, в стук весел о борта лодки.
Озеро наше.
Солнышко плывет над ним в перистых облачках практически весь день. Взойдет над Головкой — юго-восточной окраиной — круглой, с топкими берегами и радуется. Головка соединена с основной гладью озера протоками-ручьями. Струятся они, не пересыхая и в знойное, суховейное лето, питая камыш, осоку, кустистые поросли жирного широкопёра, гусиного лука, где гнездятся и выводят птенцов гагары, серые касатые утки, чернети, чайки, певчая камышовая мелкота. Полнятся эти заросли множеством голосов, писком, кряканьем, гомоном мартынов, глухими, тревожными по ночам, вздохами потайной выпи.
Как большинство степных озер, Долгое неглубокое. Разве что на средине озера попадаются места, где шести-семиметровый шест не достает дна. Редко где упирается шест в твердь донного песка, чаще легко уходит в илистую бучу, из которой прут богатые водоросли. В донной буче и жирует карась. Порой на радость будущего семейного пирога: с перловой крупкой, с запеченными дольками лука, этакие «лапти» заваливают в ряжевку, что не вместишь потом и в десятилитровое ведерко.
Подпортили наши озера заезжие рыбаки. На Долгом и втором «домашнем» озере Бердюжье зимой неводила бригада татар, нагрянув из своих северных деревень. Зимний — государственный лов для нас диковинка. Все б ничего, как вздыхали наши мужики, да повычерпали неводами татары и карасий подрост, который у нас выбрасывают за борт лодки…
Долго скользит над летним озером солнышко, пока проплывет из конца в конец, в западный угол, считай, день миновал. Для ребятни, толкущейся на береговом мелководье, ничем и не выделится этот день. На час-другой помрачнеет небо тучей, просияет страшными молниями, ударит сухими раскатами грома, ломая камыш, кружа в вихре осоку, пройдет ливень. Еще с часок погуляют на озере большие волны — беляки-беляши. Опасные они, если застигнут плоскодонку рыбака на открытом пространстве. Тогда греби успевай к берегу.
Мне, младшему из братьев, не выпало в детстве «сурьезное» рыбацкое дело. Помочь выбрать из сетей рыбу, поднести-отнести весла, тычки, выпутать морогу из ячей — это дело пустяковое. Особой науки не требовало. И лодки наши — привычны.
Мерещилась, манила, томила душу мечта о дальних плаваньях под мачтами и парусами больших кораблей. Какими путями вошли в душу мечты эти? Не знаю.
Озеро Долгое. Помнится первый самостоятельный «поход» на охоту. По ранней весне. Едва подали из камыша голос прилетевшие с юга гагары, засыпал я в патронную гильзу пороху и дробь, запыжил куском газеты, ушмыгнул через огород к озеру. В камышах — лед. Протолкнул лодку по наметившейся промоине. Едва за камыши выбрался, и застрял во льду. А гагарешка так азартно стонала в ближней курье! Так зазывно.
Выбрался я обратно к пристани, приковал лодку. И бабахнул в холодное небо. Как сладко пахнуло пороховым дымком. Ликовала душа.
Рано возникшим моим охотничьим страстям взрослые не препятствовали. Верно ли поступали? Не знаю. Все шло привычным порядком. Туго было с припасами, с дробью особенно. Саша изловчался плавить на дробь олово, раздобывал и свинцовую проволоку. Потом уже, когда отец поступил на работу в охотконтору, дроби было — завались: от мелкой, бекасинной, до крупной — нолевой. Купили и курковую двустволку. Одностволка — с удлиненным стволом, которую отец свободно покупал в сельмаге еще за сто пятьдесят сталинских рублей, как бы закрепилась за мной. И шастал я с ней по камышовой окрестности Долгого за чирком, гагарешкой-лысухой, чернетью. Случалось завалить длинношеею огневку-нырка. Батя усмехался: раньше огневку потребляли, мол, с голодухи! Немилосердно пахла рыбой. И теребить ее — одно наказание. Но мама, жалеючи добытчика, теребила, клала тушку в чугун — для борова. Сжирал за милую душу.
В пору осеннего пролета северной птицы — гусей, казарок, гоголей, опытные наши стрелки приносили домой по два и по три десятка добытых птиц. Не мечталось мне о такой удаче, даже в день открытия осенней охоты, когда стояла канонада, как говорили мужики, будто на Орловско-Курской дуге. В лучшем случае — страсть! — хотелось принести домой и небрежно кинуть на пол возле кадки с водой настоящую касатую утку или селезня, с фиолетовым отливом пера на шее и крыльях.
Касатая! Это не чирок с мозолями на крыльях!
Как-то безуспешно просидев в скрадке озерной курьи, в темноте уже проталкиваясь к своей пристани, вспугиваю в гуще камыша утиную стаю. Не поднялась на крыло стая, а громогласно раскричалась, раскрякалась: вот, мол, не дают покоя ночные бродяги! А при мне на этот раз отцова двустволка. Ударяю, раз за разом, из стволов. Еще громче утиный крик. Стал шарить вокруг лодки — в камыше. Есть! Килограмма на три-четыре завалил утку! Наконец-то! Это вам не гагарешка, не огнёвка! Дома сияет «молния» под потолком. Семья сидит за ужином.
— Ты где это взял? — говорит Саша.
— Где, где… Завалил! Соксун, знать-то, настоящий!
— Со-о-ксун! Это ж домашний селезень. Завтра бабка Фетинья или Сидор Сорокин хватятся. Видали его, соксун!
Отец, чую, недоволен. Но молча хлебает щи. У мамы вырывается подобие стона.
Деваться некуда. Отнес «соксуна» в погреб до утра — на холодную землю. Никто не хватился…
Это нынче сентябри в нашей местности пошли никуда не годные — с дождями, холодом, слякотью. А тогда, если уж приспевало бабье лето, то радовало сушью, паутиной, воспрянувшими бабочками-капустницами. На озере хоть купайся вновь. И купались в такую пору.
Спускаюсь к дому с пригорка, размахиваю школьной сумкой. А посереди озера, Господи, ста-ища уток! Пролетная, северная.
Мама одна в огороде толчется. Картошка на днях выкопана, просушена, ссыпана в подполье. Остались островки морковных гряд, свеклы, «бомбочки» капустных кочанов, остатки помидоров на жухлых кустах. Лыжными палками торчат из земли стебли подсолнуха — без семянных шляп, никому не нужные, лишние теперь. Тепло пахнет черноземом. По вечерам, возвратись с поскотины, в огороде шастают корова и овцы. Им воля теперь в огороде. Лишь доглядывай — не забрели бы в капусту, не помяли кочаны.
— Ты куда это? — поднимает от помидоров голову мама, заслышав мои шаги.
— Да щас, ненадолго! — вскидываю на плечо двустволку.
Сладко пахнет варом-смолой недавно проконопаченная лодка. «Броненосец», как именует её Саша. На бортах броненосца серебрится карасья чешуя, в корме зелень озерная плавает в лужице воды.
Несколько упоров шестом — и я на озёрной глади. На ближнем (дедушки Павла Замякина) садке, торчащем на полметра из воды, сидит горбоносый мартын. Караулит, не всплывет ли в садке карась. Мартын недовольно крутит башкой — помешали разбойнику! — всхлапывает крыльями, утробно горготнув, опускается вдалеке на воду.
Взявшись за весло, шурюсь на встречные солнечные лучи, в азарте рассматриваю чернеющую вдалеке утиную стаю. Сидят!
Как вот только подобраться к стае на ружейный выстрел? Понимаю, не подпустят близко дикие утки, улетят. Ну метров на сто, куда ни шло, позволят охотнику подплыть, а затем сорвутся, баламутя гладь воды, и поминай как звали!
Гребу, прижимая лодку к береговым курьям. Понятно, птица, изведавшая канонаду на недавнем открытии охоты, пуганая-перепуганая выстрелами из потайных камышовых скрадков, выбрала для отдыха и кормежки безопасное открытое место.
Сидят! Я уже различаю отдельные очертания птиц: крутят головами, вспархивают крыльями, кружат на водной глади. Как будто не на нашем домашнем озере, тысячи раз пронизанном дробовыми зарядами, а на спокойном, полевом, где всегда найдется непростреливаемая галейка воды.
А тут, будто невдомек утиной стае, что рядом дома, огороды, камыши. Из каждой камышовой гущи может прилететь горячий свинец. Эвон сколь в последние годы стрелков развелось! И в этом — резон.
Нынче мы, слава Богу с хлебом. Со своим. Отец запас в кладовку несколько мешков муки, мама с вечера замешивает в просторной корчажке квашню. А поутру так упоительно-сладко пышет хлебным духом печка, дымы из трубы над крышей веют пшеничным горячим караваем. А давно ли бывало, что садились к столу, а хлебца — ни куска, ни крошки. Для совхозников-то, хоть рублевка на хлеб отыщется, но надо выстоять в магазине очередь-битву. Да не всегда удачно. Тогда и выручала тушка-другая опаленного в утренней печи чирка или гагарешки.
«Сбегай, — говорил отец, — выменяй на калачик!» Чаще всего Шурка Кукушкин (колхозники они) и выручал.
«Бартер», ядри его за ногу, эвон когда еще познали мы!
Сколько не таись, не подкрадывайся, не жмись к берегу, а пора и выплывать на открытое стекло озера. И вот направляю «броненосец» прямо на утиную стаю. До неё еще метров двести. А двустволка бьет наповал с тридцати-сорока. Работаю веслом из всех силенок. И после нескольких напористых гребков лодка идет уже своим ходом. Осторожно, без стука, откладываю весло. И уже стволы двустволки холодят ладони. Надлежит острожно вывести курки. Жду — вот-вот, подняв плеск, молниеносно, как это бывает с пуганой птицей, снимется она с воды, рассыпется стремительно по синеве неба. Но ничего не происходит. Утки, едва повертев клювами, устремились от приближающейся лодки к средине озера, загребая лапками, едва не выстраиваясь в геометрически правильный строй.
Ах ты, боже мой! Что-то подозрительно спокойна стая? Но азарт уже вершит свое дело. Резко вскидываю стволы, посылаю вдогонку уплывающей дичи — оба дробовых заряда.
Раздавшись в стороны — с недоуменным домашним кряканьем, стая оставила в центре образовавшегося полукруга бьющую по воде крылом, крупную «добычу».
Дошло. Наконец-то дошло! Вляпался опять в «историю». На деревенской улице прогремела бортами машина. На ближнем огороде показалось, будто кто прокричал. О чем прокричал, не разобрать.
Ах ты, боже мой! Ведь было уже! Чьи же это утки? Вот будет делов-то!
Подгреб к подранку. Достал из воды. Трепещущую, напуганную, втиснул под беседку. Да, конечно, парой дробин зацепило бедолагу.
Уныло, с живой «добычей» на руках, осторожно прижимая её к груди, дошагал до родной ограды. Опустил подранка возле поленницы. Волоча крыло и припадая на лапу, утка заковыляла по щепкам, протяжно вскрикивая, будто молила о пощаде.
— Ты че это натворил опять? — вышла на крыльцо мама. — Ну и как будешь отчитываться теперь?
— Отчитаюсь!
— Отчитается он…
— Может, голову надо отрубить утке-то…
— А кто рубить-то будет, кто? Не собирай никого. Может, хозяин объявится. Молчи уж!
Хозяин явился скоро. Иван Галактионович Копытов. Тракторист совхозный. Вечный тракторист, сколь знаю. Встал посреди ограды, не ругался, только головой качал.
— Как же ты, а? Разбираться пора, в кого палишь, а!
— Дядя Ваня, а чё это ваши утки — с другой улицы — и на нашем озере плавают? — дурнину порю. И понимаю это сам!
— Он еще, язви его возьми, и разговариват! — всплеснула руками мать, наблюдая за нами в открытое окошко. — Он еще и выкомариват! Дубиной бы надо…
Ничего больше не сказал дядя Ваня Копы-тов. Взял промазученными ладонями подстрелянную бедолагу, прижал к груди, повернулся и, притворив за собой калитку, зашагал на свою улицу.
… Давно уж не беру в руки охотничьего ружья. Не заманишь и на охоту. Что-то пропало в душе, исчезло с той поры, как покинул навсегда родное село, наши озерно-полевые просторы. Но дичь-то водоплавающая, конечно, никуда не делась. Есть она, может, только поменьше её, чем в наши годы. И кому-то из пацанов нового поколения так же рвет душу осенний охотничий азарт.
Сохранилась отцова курковая двустволка. Распоряжается ей по-прежнему брат Саша. Приезжая в родные места, первым делом идем на могилки к отцу-матери и даем над их холмиками громогласный салют. Так батя наш завещал. «Не надо никакой музыки, слез лишних, когда хоронить будете! Салют дайте — дуплетом из обоих стволов! И потом — салютуйте!»
Патроны еще есть в запасе!
Но отчего-то озеро Долгое, что осталось в тех же невысоких равнинных берегах, и все так же протяженное — от болотисто-трясинной Головки до угла, как бы уменьшилось в размерах. В детскую пору казалось оно огромным и сурово-опасным при ветре и буре, когда водная гладь вспарывалась холодными волнами.
Догадываюсь почему возникла эта «зрительная метаморфоза». Куда-то делись заросли камыша. Чахлые, невысокие камышинки окаймляют нынче озерные берега. Через перешеек между Головкой и Долгим, где протекали глубокие ручьи, по которым можно было протолкнуться сквозь гущу зарослей на лодке, проложена капитальная дорога, напрочь перерубившая асфальтом живоносные протоки. Словно вены, артерии перерубили. С далеких ледниковых времен подпитывали друг друга два водоема-близнеца — Головка и Долгое. Такими же протоками-ручьями соединялись они с болотами, а болота — с озером Бердюжье. И дальше — с другими озерами. Умно устроила природа, творя места наши. Теперь — ни ручьев, ни протоков. Перерублены они сталью бульдозеров и ножами грейдеров…
Конечно, нет теперь и «крюка» — с детства знакомого объезда вокруг Головки и Долгого по солончаковым хлябям. Легко нынче «Нивам» и «Жигулям», а то и новорусской иномарке — просвистеть пару километров асфальтом до ставшего модным, благодаря целебным грязям, озера Соленого. Его отделяет от Долгого небольшой черноземный перешеек. В пору юности, точней, отрочества, пахал я здесь пары на С-80. Еще не в качестве тракториста, прицепщика. Тракторист Валька Копытов, не на много старше меня, высматривая из грохочущей кабины вечерние огни села, рвался в клуб на танцы и вздыхал. Я «разрешал» Вальке сбегать. И он урывал часок-другой, оставляя меня за рычагами огромной машины…
Стою на перешейке этом — меж озер, на бывшей пашне, поросшей «перестроечным» пыреем и молочаем. На противоположном берегу Долгого июль возносит над домами села кипень палисадников с сиренью, тополями, кленами. Живы березы Засохлинского острова, подступающие к нашей окраине, жива и совхозная Чаща, из которой текут полевые дорогие на Уктуз, Полднево, Глубокое.
Зеленые, чудные места!
А тут вовсе — белокрылые чудеса: посреди Долгого озера большая стая белых клювастых птиц. Лебеди? Не может быть… Это же пеликаны. Поселились в наших краях, размножились. Южная теплолюбивая птица. А у нас юг!
Но отчего-то приходят на память, всплывают в воображении далекие весенние льдины на озере, что, наподобие вот этой пеликаньей белой стаи, медленно плыли, дотаивая на майском или апрельском солнышке.
«Перево-о-з!» — кричал кто-то из механизаторов или сеяльщиков, работающих неподалеку, закончивших смену и стремящихся поскорей попасть домой — на отдых. Делать крюк пешим ходом по расквашенным солонцам отчаивались не все.
«Перево-о-з!»
«Хрен в но-о-с!» — отвечал так же протяжно кто-то из находившихся на деревенском берегу озера. И все ж отковывал лодку, отталкивался веслом, тычкой, плыл на зов — чей бы он ни был! — и переправлял человека через озеро.
Вот в такую посевную пору шагал из школы наш Саша. Конечно, как у любого рано познавшего охотничью страсть парнишки, взор его обращен на озерную, еще в густых льдинах, холодную гладь. А там, в разводьях льдин, чернела пара крупных уток или опустившихся для отдыха пролетных гусей?! Саша бегом в дом. За ружье! И — к лодочной пристани.
«Спаси-и-те, помоги-и-те!» — услышал он уже за камышами. И сразу все понял: люди тонут!
Из последних сил держались за края льдины Валентина, учетчица тракторной бригады, и бригадир трактористов Василий Корушин. Сели бедолаги в вечно дырявую лодку дедушки Павла, столкнулись со льдиной и вот тебе: почти утопленники…
Заволок кое-как шестиклассник Саша Валентину в свою лодку. А когда попробовал тем же манером перевалить в нее и бригадира, броненосец наш черпнул воды. «Оставь меня, Шура, я уже пожил свое, а то все утонем!» — простонал Василий. «Держись за корму, дядя Вася, держись! Я буду потихоньку грести…»
На берегу собрался народ. Подъехал кто-то на телеге. В пору как раз. Выволокли «утопленников», положили в эту телегу и махом к первой попавшей горячей бане.
Суббота была в тот день…
О КРАСОТЕ И ПЕЧАЛИ
«О светло светлая и красно украшенная земля Русская! Многими красотами дивишь ты: озерами многими, дивишь ты реками и источниками местночтимыми, горами крутыми, холмами высокими, дубравами частыми, полями дивными, зверьми различными, птицами бесчисленными, городами великими, селами дивными, боярами честными, вельможами многими. Всего ты исполнена, земля Русская. О православная вера христианская!«
И затрепетало тут в восторге сердце, и возвысилась вдруг душа от столь торжественных, высокородных, красивых строк! И только печаль запоздалая скользнула в сознании, осела легким мороком от того, что прочел эти слова только сейчас, а не на много лет раньше. Как не прочел многое из того, что стоит в книжном ряду, среди годами копившихся собранных книг. До каких-то книг, наверное, теперь уже не успеют дойти руки, как счастливо дошли до этого «Изборника» древнерусских текстов. Здесь нашел и «Слово о погибели Русской земли». Помрачнел от трагичности темы. Порадовался стилю, полновесности слова.
И вновь вдруг возникла печаль, как возникает она, наверное, у многих моих ровесников, детей войны. И не причем тут мой диплом об окончании гуманитарного вуза. Так и останется печаль эта неизбывной…
А было так, как было. «Домашних» книг, специально, с умом подобранных, в ту родниковую пору в нашем доме не водилось. И в окрестных жилищах тоже. Хотя у кого-то за древней иконой — под строгим досмотром, а то и секретом, в темном кожаном переплете, при медной застежке, лежала древняя «Библия», принесенная в село из глухих скитов, морозных лесов северного Поморья. Об этом не распространялись, это не афишировали. Но слухи питали округу. О стойкой вере, о мудрости староверов, о красоте потаенной.
Мне уже в памятливую пору достались книжки школьного и клубного библиотечного абонемента. Их приносил домой Саша, читая, как всегда, вслух возле вечернего, озаренного огнем, окошечка печной заслонки. А потом, после букваря, разрешили и мне брать книги в библиотеке. Для начала — на полных правах — получил я некрасовского «Генерала Топтыгина» и сказки Пушкина.
О, эти заоконные картины нашей декабрьской стужи! О, несущиеся по улице упряжки коней, что так зримо перекликались с некрасовской тройкой, с ямщиком, с рявканьем генерала-медведя в санях. И музыка, музыка строф, которые сразу запоминались без начетничества школьной учительницы…
А все ж в доме нашем — среди капканов, банок с порохом, парусиновых мешочков с дробью, баночек с золотистыми капсюлями, бутылочек ружейного масла — находил я «печатную продукцию». Это было обыкновенное пособие по делам промыслово-охотничьим, по оценке-приемке пушнины, по миграции дичи. Потом почтальонка стала приносить в ящик на воротах журнал «Охота и охотничье хозяйство». Литература спецназначения!
А эта книга — твердые корки багряного цвета, лощеная бумага, крупный шрифт текста — внушала всем своим видом непременное уважение. Воспринималась она мной как бы в одном родстве с картонным Ворошиловым, который, как и эта книга «История ВКП(б)», дошли к нам со времен учебы отца в загадочной «совпартшколе», с комсомольской его юности, о которой он упоминал редко, как несогласный с какой-то «линией» по отношению к крестьянству…
Освоивший начальную грамоту, не мог я обойти эту «домашнюю» книгу. Устроившись на пимах, в тесноте полатей, единственном месте в доме, где можно было уединиться с книжкой и собственными просторными мечтаниями-фантазиями. В книге все мне было понятно о революции, о социалистическом строительстве. Меньше — о беспощадной борьбе с оппортунистами и какими-то уклонистами. Но все это впитывалось в сознание вкупе с молниеносными комментариями, рассуждениями отца при ежедневном чтении «Правды», когда батя запросто комментировал действия всяких там президентов и премьеров, не признавая никаких мировых авторитетов и щадя лишь авторитет Сталина. Я чувствовал, что щадил его он осознанно, с мужицким разумением, понимая что-то по-своему, гася неуместные чувства.
Не всяк в доме благоговел перед толстым фолиантом в багряном переплете. Мама то и дело приспосабливала увесистую книгу на корчажку с квасом, отчитывая при этом кота Ваську, что «куда-то затырил крышку, наверно, закатил под печку».
Однажды книга сильно «похудела»: выдранные с корнем страницы, запомнил я, рассказывали о семнадцатом съезде партии. О съезде победителей! Подозрение мое пало на Сашу, он горазд запыживать патроны бумагой. Рубить пыжи из войлока старого валенка — трудоемкое дело.
А, впрочем, и курильщики могли покуситься. Батя, ясно, не допустил бы такое оскорбление книги. Хоть и трубокур. Другим ярым курильщиком был у нас частый гость в доме — Павел Андреев. В их жердяной избе с набитой в стены соломой и также плотно набитой ребятне и мал-мала меньше, при ароматах вара и дратвы, при парящем среди стола ведерном чугуне картошки в мундирах табакурили нещадно. Сам хозяин, конечно. Не спрашивали разрешения и зашедшие в избу мужики, вертели «козьи ножки», «оглобли» из махры или самосада.
Зверский, выдавливающий слезы, дым висел в избе слоями, сизыми тучами, в которых плавала зыбка-колыбель очередного, народившегося огольца. Огромная андреевская семья, вечно босоногая, одни сапожнишки на всю ораву, перебивалась, как говорится, с картошки на квас. А Павел Сергеевич не допускал и намека в разговорах на «худую жись».
— Как живём? От-те на хрен — вопрос твой! А масло не выедаем, етти его в душу…
«О светло светлая и красно украшенная земля Русская!..» Салютуя солнцу и багряным пионерским знаменам, все же чувствовал я, и ровесники мои понимали, что остаются еще осколки иной жизни, «старого времени», как говорила мама. Сохранились еще эти осколки зримо — на улицах большого села нашего — в резных фронтонах, в наличниках бывших кулацких домов (единственных, крытых железом, единственных, где потолки разукрашены, тускнеющими уже, «райскими» узорами), в крепи сосновых стен и во вздыбленных узорчатых крылечках, ветшающих в коллективном владении.
В домах этих, самых видных в селе, обосновались серьезные учреждения: конторы (типа сельсовета, совхозной дирекции, колхозного правления), почта, медпункт и строгий «политотдел» — заведение мне непонятное. Хозяйничали в этих домах насупленные, строгие, облаченные в синие и зеленые диагоналевые френчи, при фуражках — сталинках, важные начальники. Свои, окунёвские, выбившиеся в руководство, старались ладить с колхозным и совхозным народом, но тоже вытягивались из последних жил, наживали будущие болезни. Из местных чаще вспоминается Потап Алексеевич, председатель сельсовета. Им часто пугали вольную пацанву. Да лесник Ефим Журавлев. Эти двое жестко гнули «линию». Ефим Журавлев донимал штрафами за всякий «не там» сломленный прутик для банного веника. У Пота-па Алексеевича одна только бритая до блеска голова чего стоила! Большего устрашения и не требовалось.
И все же — «эти» — местными были.
Больше «драли горло» и «прижимали» уполномоченные от «верхних» властей. Они зорко следили за ходом сезонных работ — посевной, сенокосом, уборкой. За налогами следили. За земельными наделами единоличников.
Видится уполномоченный — в очечках, при портфельчике. Ростиком и голосом некорыстный такой. Он картаво и застенчиво бормотал, будто жевал ком бумаги, также застенчиво требовал «передвинуть стэну» огорода ближе к ограде на двадцать метров.
Мама, поджав губы, терпеливо выслушивала, молчала, не соглашаясь и не возражая застенчивому требованию урезать огород под картошку. Выходило, что и баня теперь не на «месте». И баню надо переносить ближе к ограде…
— «Стену», говоришь? — вышел тогда на крыльцо дома приехавший в отпуск, старший из нас братьев, Гриша. — Стену? — и со значением опустил руку в боковой карман бостонового пиджака: что-то «этакое» оттягивало карман крутоватого городского братана…
Как вероломно, предательски передвигаются ныне «стэны» на землях русского государства! Кровь стынет, как отхватывается кусок за куском от исконных наших территорий. И нет «уполномоченным» укорота. Достойного укорота нет недругам.
О, Русская земля!..
Счастье мое — не обладал я в ту пору «лишним» знанием.
Заветным, притягательным местом для нас, ребятни, для взрослых тоже, был двоеданский клуб. Какими куполами сверкал он раньше, храм этот бывший, мне неведомо. Возведенный в начале двадцатого века, освященный епископами староверческой Пермско-Тобольской епархии в 1908 году, храм был тогда одним из центров сибирского старообрядчества. А в тридцатых — сороковых — пятидесятых?
Со сбитыми куполами, с порушенными крестами, с выпотрошенным нутром, служил он до войны зернохранилищем. После победы стал нашим клубом. Помню одно из первых празднеств в нем — елку — в каком-то зябком, близком от войны, году.
Высокое крыльцо, могучие деревянные колонны, россыпь хвойных иголок на крыльце перед окованной железом дверью. Парадный вход! Мужики недавно приволокли из ряма разлапистую высокую сосну, установили на крестовину в центре зрительного зала. Директор школы-семилетки Петр Павлович Овчинников, которого взрослые называют за глаза «попом», вместе с учениками старших классов наряжает зал. Под елку-сосну ставят Деда Мороза с белой бородой. Он с посохом и мешком на плече, с алыми щеками — настоящий! А над ним, на пахучих ветках, стеклянные шары, самодельные гирлянды, цепи, картонные лисы, медведи, зайцы. Все это покажут нам на новогоднем утреннике завтра. А пока Петр Павлович, выйдя из нагретого зала в стылый коридор, который техничка тоже ладит нагреть, выносит нам, малышам, на обозрение игрушку.
— Смотрите, дети! Красота какая! Нравится? — он поднимает высоко маленький блестящий самоварчик.
— Здорово! У-у-у…
А вот октябрьский праздник. Красные транспаранты, плакаты, флаги по всему внешнему фасаду двоеданского клуба. И внутри — кумач по стенам, над сценой-клиросом. Красным увиты портреты Ленина-Сталина. Да, когда-то потом, на месте бывшего иконостаса и царских врат, приспособят портреты членов Политбюро, а пока достаточно и двух замечательных «святых» — по обе стороны сцены, задвинутой сатиновым занавесом. Из-за занавеса выходит завклубом Василий Данилович Янчук, объявляет:
— Начинаем концерт, посвященный двадцать… годовщине Великой Октябрьской социалистической революции (тут аплодисменты!). Первым номером нашего концерта выступает любимец публики Михаил Барсуков…
Гром рукоплесканий. Гром! Потолки в храме, что надо, высоченные. Правда, под верхотурой, где раньше парили ангелы, сейчас пусто — белая известка. На месте икон — карикатуры на американского президента Трумэна, на его буржуев и вояк с кривыми ногами…
Но вот он выходит с аккордеоном — победитель всех районных смотров самодеятельности. На нем, как всегда, сверкающие (сейчас надраены особо) хромовые сапоги, брюки с напуском на голенища, куртка в мелкий вельветовый рубчик, рубашка с галстуком. И перламутровый блеск аккордеона. С войны принес. Из Германии.
Барсуков садится на стул, скользит ладонью по вихрам метельного чуба, аккуратно зачесанного назад.
— Полонез Огинского?
С него Михаил почти всегда начинает свои выступления. Приглушенно, медленно, а потом все убыстряя темп, ведет нас аккордеонист в душещипательные глубины пронзительного «Прощания с родиной». Стонут, поют перламутровые клавиши. Так, что в притихшем клубе, переполненном и душном, кто-то не выдерживает, срывается на рёв в голос. С передних сидений оглядываются. А там, сзади, ближе к двери, поддерживая под руки Любку Пеганову, бабы выводят ее, молодку, на «свежий ветерок»… Да, горе. У многих. Горше, наверно, тем, кто без женихов насовсем остался…
Потом Михаил произносит, опять скользнув рукой по метельной прическе:
— «Землянка», слова Суркова…
И вот уж декламаторы. Чтецы. Жанр популярный. И голоса поставлены, что надо! Твардовский — «Василий Теркин», стихи Недогонова, Симонова… Когда один из чтецов доходит до строк в стихотворении, где говорится: «И по-русски рубашку рванув на груди…», не выдерживают уже, привалившиеся к косяку дверей, два дружка-ухаря Ленька Фадеев и Колька Девятияров. К ним кидаются парни, выталкивают на холод крыльца, где сподручней и безопасней для праздничного зала — и рубашки рвануть и выяснить отношения. По-русски!
Мы, ребятня (а нам всегда достается место перед сценой, на полу, на подоконниках), ждем главного представления. Не зря же с ружьями на плече важно прошествовали в клуб Саша наш с Ваней Андреевым. Их всегда задействуют в массовках военных пьес, где к нашему восторгу не обходится без настоящей ружейной стрельбы. Визжат девчонки, бабы вздрагивают, мужики мнут шапки в руках, а мы, орда, ухаем, свистим. Из-за кулис — огонь, дым пороховой валит, летят, взявшись огнем, газетные пыжи. Раз от горящего пыжа занялись кулисы. Огонь залили водой из графина, а военное представление потекло еще с большим накалом.
Сегодня Саша с Иваном заняты в инсценировке про батьку-атамана Нестора Махно. Стволы переломок и ондатровые шапки ребят выглядывают из-за задника сцены все чаще. Готовятся! А на самой сцене, в кожухе и ремнях атамана, сам Василий Данилович допрашивает мужика в рваной шубе — где только отыскали такое ремьё! — не то лазутчика, не то красного партизана, которого играет физрук-военрук школы Николай Николаевич Протопопов. Мужик в ремье оправдывается, голосит, атаман срывается на крик:
— Чаво мелешь, баранья голова! Увести! Расстрелять!
Саша с Иваном, опоясанные патронташами, будто на охоту собрались, на зайцев, выбегают, первым делом бабахают в потолок. Горят, сыплются в зал пыжи. Дымище. Восторг! Подхваченного за рвань шубейки учителя, ребята с удовольствием волокут в гримерку. Она служит Василию Даниловичу и кабинетом заведующего. А по воскресеньям бывает парикмахерской. Здесь Василий Данилович, единственный обладатель машинки для подстрижки, обихаживает головы всех окунёвских мужиков, включая ребятню.
Потом выбегают два парнишки, что на подхвате у артистов, многократным дерганьем занавеса, с усилиями загораживают сцену от лишних глаз.
Будет еще второе отделение концерта. Во втором, конечно, выступит людный — из учителей и голосистых баб — хор. А может, выпустят пионе-ров-физкультурников в черных трусах и синих майках. Они под медленные мелодии аккордеона примутся выстраивать пирамиды, а самые гибкие из девчонок, тоже в трусах, покажут переворот-сальто и явно кто-нибудь выполнит «шпагат». Это упражнение нас «с ума сводит»: сколько ни стараемся потом с ордой повторить его — ничего не выходит. «Шпагат», конечно, кла-а-сс!
Тянутся к дверям мужики-курильщики. В холодном коридоре стучат железные шары бильярда. Колька Девятияров с Ленькой Фадеевым, подзаправленные хмельным с утра, выяснили отношения. У Леньки откуда-то взялась гармонь, он устраивает свое представление:
Меня милый уговаривал У каменной стены. До того доуговаривал, Свалилися штаны.— Да успокойте охальников! — возмущается интеллигентная бухгалтерша из совхозной дирекции. Вся из себя, в шестимесячной завивке, в нарядном платье. Но возмущение её тонет в душном храме безответно. Да к тому же завклубом — ведущий концерта — выходит на край сцены-клироса с незнакомым, коротко стриженым молодым мужиком. У того нагловато блестят глаза, золотая фикса посверкивает — орёл?
— Представляю, товарищи! — начинает Василий Данилович.
— Виктор Осенин! — перебивает мужик. — Стихи собственного сочинения.
— Забодай меня петух! — слышу я за спиной отчетливый шёпот.
— Не мешай, язви тебя возьми? — явно кого-то из «барсучат» укрощает другой шепот — бабий. Эти «язвы» — Барсукова Петра Евсеича ребятишки. С младшим из них я постоянно «на ножах» за его противные дразнилки.
А мужик с фиксой уже выразительно декламирует про «осеннюю печаль», «улетающих журавлей», про «мать-старушку, ждущую непутёвого сына из чужой стороны». Осенин! О, фамилия-то у мужика стихотворная! Почти — Есенин. Может, брат, родственник, да не хочет сознаваться, фамилию вон изменил?! Про самого Есенина-поэта, который «запрещен», мы слышали. Знаем, Есенин сочинил песню, которую поёт под гармошку Ленька Фадеев:
Выткался над озером Алый цвет зари, На бору со столами Плачут глухари. Где-то плачет иволга…Хорошая песня. И поет Ленька хорошо, когда не пьяный. И плакать почему-то хочется, когда он доходит до иволги…
Мужик-Осенин прочитал два стихотворения «собственного сочинения». Ему хорошо поаплодировали. Он несколько раз поклонился залу, прижимая ладонь к груди, как настоящий артист, и ушел за кулисы. Навсегда, как оказалось. Оказывается, приезжал к кому-то в гости. Да, мало ли приезжало к нам разного народа. Как приехали, так уехали. Один Колька Девятияров задержался дольше всех. Потом и он куда-то уедет. Утянется за ним и местный Ленька Фадеев. На какой-то срок останется Окунёво без гармониста. А без него, гармониста, нельзя…
Но уже прилаживаются к кнопкам хромок мои ровесники. И сам я — на слух! — упрямей всех осваиваю подаренную старшим братом Гришей гармошку. Малиновые её меха, будто зарей несказанною, есенинской, зовут и манят научиться играть и петь, как это делал Михаил Барсуков, как старшие мои братаны-гармонисты…
В будние дни в клубе-храме почти каждый вечер показывают кино. И познатней, наверное, чем гармонисты, у нас — киномеханик! Самая видная фигура в селе после директора совхоза. На моей памяти их двое, киномеханников. Первый запомнился по фамилии — Пальянов. Осталась лишь фамилия. А все остальное — расплывчато, если не считать «классических» отместок киномеханику за то, что не пускал бесплатно в кино. Аппаратура киношная питалась током от уличного бензинового движка, что крутил генератор. Моторчик этот работал без догляда, и нам ничего не стоило сыпануть в бензин горсть соли… Все! Амба! Мотор глох. В зале крик и свист — «сапожник!» Пальянов шел менять бензин в бачке моторчика, и безбилетники вольготно просачивались на сеанс!
Другой киношник после Пальянова — Михаил из многочисленного рода Фадеевых, кажется, и родился на пару с киноаппаратурой да мотоциклом «Урал» с коляской. На мотоцикле летал он так, что грачи с дороги не успевали подняться на крыло, иная нерасторопная птица так и падала в люльку «Урала» со сломанными крыльями. Эх, Миша, Миша, плохо кончатся однажды твои лихие скорости на наших крутолобых, с большими кюветами, большаках. Плохо. Только это приключится еще не скоро, когда брошенный кем-то на дороге обрубок буксировочного троса вонзится в спицы переднего колеса, заставив искрометный «Урал» вместе с его хозяином кувыркаться в смертельном и троекратном перевороте на сухом большаке вблизи родной околицы…
А пока Михаил царит в своей кинобудке. Теперь у киношника нет забот о силовом движке, что ток вырабатывает. Теперь кинобудка соединена кабелем постоянного напряжения с совхозной электростанцией. И киноаппарата два. Фильмы идут без перерывов. И помощники из малышни, что посноровистей, всегда отыщутся…
Мишке, что до безденежной орды! Продаст билеты — и в кинобудку. За порядком следит сам завклубом. О, как гоняет Василий Данилович пацанву, проникшую в клуб до сеанса, затаившуюся где-нибудь за фанерными щитами сцены! Ни один бильярдный кий поломал, подкарауливая «лазутчиков» и возле подозрительно неплотной плахи церковного пола. Это тоже наше «изобретение» — проникать в зал через подполье. Конечно, завклубом чует нюхом, где затаились безбилетники. Но мы тоже не промах…
Прибежал ко мне Шурка Кукушкин, вывалил из-под рубахи беремя «керенок» — миллионы!
— Где взял? — спрашиваю. Дело это привычное — такого добра полно еще в старых домах, на чердаках, в чугунах зарыто.
— А в двоеданском клубе, в фундаменте…
Да, изобретательна орда. Кажется, трудно ли раздобыть этот двадцатчик на фильм, ну у родителей поканючь, не откажут. Нет! Тут важен сам «процесс» проникновения на сеанс. Способ изобретенный. Приключенский азарт! Вот и Шурка додумался расшуровать железякой сквозную дыру-отдушину в церковном фундаменте. Она как раз ведет к настилу сцены-клироса.
И с того дня орда из посвященных, конечно, без лишних хлопот, прямо с улицы «ходила» на все сеансы!
К пятьдесят седьмому году сверстники мои, задействованные уже на полевых работах, не маялись копеечными заботами. Деньги у нас водились. Трудовые. Но подросла новая орда. И она вовсю использовала технический, так сказать, прогресс и потрясший весь мир наш прорыв в космос.
В октябре пятьдесят седьмого только и смотрели мы по вечерам на звездное небо: «Ура! Лети-и-т! Спутник! Ура-а-а!»
И как-то распахнулась дверь во время сеанса, чей-то парнишка, забежав в клуб с улицы, крикнул: «Спутник!» Все из клуба, головы — в небо. «Вот он, вот! Ле-ти-ит!» Не обманул парнишка. Этот обман возникнет позже: додумается чья-то сметливая головушка дурить «обилеченных», чтоб потом в общей буче проникать на блистательную «Карнавальную ночь» или «Весну на Заречной улице».
«Спутник! Ура-а-а!..»
Клуб наш, храм старообрядческий! Да, сослужил он службу великую в нашем взрослении. Только ли? Однажды изчезло вдруг парадное крыльцо с колоннами. Жаль. Красота, все ж. Да зато в просторном коридоре появились стеллажи с книгами. И уж «попировали» здесь ровесники мои. Книги! О, клуб наш, храм наш!
А в гримерке, где в незанятые репетициями вечера, по-старинке собираются доминошники, шахматисты, где и мы, подрастающие отроки, толчемся на подхвате у взрослых, узрели мы чучела наших окунёвских птиц — чернетей, косатых, сорок, ворон, тут же и точеные из дерева звери разные, зверушки, по стенам — картины в рамах, наши окрестности, вплоть до озера Долгого и берез Засохлинско-го острова.
Конечно же, все это работы одного и того же признанного у нас таланта — Сергея Борисовича Борисова. Человек с виду неприметный, даже застенчивый какой-то, он скрупулезно слесарил в совхозной мастерской. Дело рядовое. А вот то, что районная газета постоянно печатала басни и стихи «этого простого человека», в моей голове укладывалось плохо. Поэт? Пушкин — понятно, Лермонтов — тоже. Гоголь — тот вообще класс!
Мужики судили о талантливом земляке сдержанно:
«Да, — Сергей Борисович — это голова!»
«Больно уж черен, — кивали и бабы, — цыганская кровь, видно, примешана…»
Думал и я. Ночью просыпался, думал. И ничего надумать не сумел…
А тут на другой день после клубной выставки идет Сергей Борисович к нам. К отцу, конечно.
Завидев у ворот знаменитость, шмыгнул я от непонятного, пронзившего всего меня, смущения, в дальнюю горенку, притих. И не выпростался из этого потайного угла, пока гость не звякнул за собой щеколдой калитки…
«О светло светлая и красно украшенная…» Через годы уж было… Оказался я в нашем двоеданском клубе на концерте окуневской самодеятельности. Сижу в зале, посиживаю, гость нечаянный в своем селе родимом. Хлопаем в ладоши вместе с говорливой бабушкой Ариной Макаровной. Она из большого рода окунёвских Рычковых. С детства знаю вечную труженицу. И теперь она уже немало лет обихаживала «общественную» совхозную баню. Вдруг ведущая концерта вызывает меня на сцену: «Почитайте стихи землякам!»
Молниеносно ориентируюсь: выдам сейчас «Про баню». Знаю, стихотворение это хорошо воспринимается публикой. Испытано.
Баня, баня, баня! Истопилась баня! С сумками и свертками улица идет: Трактористов пыльных шумная компания И мальчишки-школьники — разбитной народ. — Проходите, милые, хватит нынче пару вам, Не забудьте веники свежего листа! Что ли ты раздобрилась нынче так, Макаровна, При твоем характере это неспроста…Дочитал стихи. Спустился со сцены. Сел на своё место.
— Ты чё это продёргивать меня, Коля, а? Чё я тебе худова сделала, а? — отчужденно уставилась на меня Арина Макаровна в глухом, непонятном расстройстве. — Да как же людям в глаза теперь смотреть мне?
Напрасно текли мои слова о том, что «не продёргиваю» я, наоборот, мол, «увековечиваю», только «лирической строкой».
— Увековечиват он, ишь ведь чё надумал! Не ожидала…
Реакция на творчество?! Думаю, и ничего надумать не могу…
Теперь уж и Макаровны давно нет, никого почти из этого многочисленного рода Рычковых. За рямом их холмики, под крестами и пирамидками. Лишь печаль осталась во мне. И тоже старинная: хотелось ведь тогда — как лучше!..
Храм наш, клуб наш староверческий… Никак он не дает завершения этой главке повествования. Только собрался ставить точку, а почтовый ящик подарил еще одно напоминание об этом очаге окунёвской культуры. И уносит оно опять меня в пятидесятые года, точней, в мое последнее перед школой лето — лето пятидесятого года. Тогда и возник возле клуба моряк-тихоокеанец в клешах непомерной ширины и в золоте лент бескозырки. Виктор Долгушин, сынок Тимофея Долматовича — самого известного у нас деревенского шофера. Не знал, не знал морячок этот, отпускник, какие мечты воскрылил он в моей душе! И вот от него письмо. Да не о себе он, об отце своем пишет: «Прочитайте пристальней. Может, напомнит Вам рассказ мой об отце: Окунево, детские годы. Знали ведь Вы моего отца». Конечно, знал, и на предыдущих страницах упоминал. И вот подробности. И опять они в тему: о красоте и печали…
«До войны отец мой работал в совхозе на тракторе «ЧТЗ». В то время этот трактор казался могучим, заводился ломиком, сиденье было широкое, проходимость хорошая. Отец содержал трактор в чистоте, и работал он у него всегда хорошо, никогда не подводил. Отец брал меня, дошкольника, на посевную с собой. Я просто катался, а отец верёвкой поднимал лемеха на поворотах и вновь опускал, когда въезжал в борозду.
Помнится первая свежесть ранних рассветов. Первое весеннее тепло помнится, красота первых цветов стародубки, первых белых подснежников. И первый трепет листочков берез и осин. И комары — злые, кусучие…
Отец приучал меня видеть природу и сам любовался ею. Синими медунками, утренними зорями… Иногда малиновая краска заливала облачка, попавшие в широкий разлив зари.
Я числился прицепщиком и был горд этим. Кормили кашей с мясом в бригаде, а как было вкусно! На посевной соревновались, каждая бригада старалась отсеяться первой. Хорошо помню, как люди шутили, пожимали друг другу руки, радовались, что отсеялись вперед.
А осенью отец садился на прицепной комбайн, убирал хлеба.
В июле 41-го отца взяли на войну вместе с трактором. Я провожал его до конца нашей рощи. В Бердюжье, в райцентр, он решил ехать через Осинники — ближним путем. Остановились в конце рощи, отец подошел к небольшой березке и из её веток свил венок на память, оставил меня возле этого венка и сам уехал, долго махая мне рукой…
На следующий день я пошел к этому венку, побыл рядом, погоревал. И только потом сказал об этом матери. Она попросила принести венок домой. Я взял нож, чтоб срезать его, хоть мне почему-то не хотелось этого делать. В роще той березки я не смог найти. Обошел все полянки, осмотрел все деревья — венка нигде не было. А мать все посылала и посылала меня за ним. А он так и не отыскался…
После войны стали приходить домой солдаты-фронтовики. Среди первых вернулись шоферы Иван Саломатов, Василий Когтев, Петр Фомин. Вернулся и отец. Без трактора. Решил устроиться в совхоз шофером. Но в первую очередь машины давали бывшим шоферам. Когтев, помню, получил — одну раму и кабину от машины. Не стал ею заниматься. Пешком ушел в Ишим вместе с семьей. Там он и прожил до конца своих дней…
Отцу пришлось принять машину, предложенную Когтеву. И через некоторое время он восстановил её по «косточкам». Что это ему стоило, только он сам знал. Все перебрал, отладил и стал ездить!
Почему все в Окунёво вспоминают: ездил он тихо?! Не думаю, что боялся скорости. Тогда и скорости-то были другими. Самая высокая — 70 километров в час. А отец ездил где-то 30–50 и не выше. Возможно, он жалел машину, восстановленную с таким трудом. Да и дорог тогда не было, кроме грунтовых и грейдерных. Кочки да ямы, а после дождей вообще не проехать, все машины буксовали. Шофера пытались выскочить на обочины, но потом приходилось просить трактор, чтоб вылезти из кювета. А отец в такую погоду ездил по Казанскому тракту — через Одышку, нигде не буксовал, первым приезжал из Ишима в Окунёво с грузом. Словом, ездил расчетливо: не пытался штурмовать кюветы, осматривался, где можно проехать травой, подлопатить, убрать бугорок, подложить сучьев под колесо. Берег машину, и она его не подводила. Но однажды, во время отпуска отца, машину дали временному шоферу. Он её кончил, разбил. Отцу снова пришлось восстанавливать…
Платили в совхозе очень мало. Даже хорошим специалистам. И когда отец пошел на пенсию, стал получать 60 рублей в месяц. За все свои многолетние честные труды!
А он был честнейшим человеком. И светлым душой. Никому не сказал грубого слова, никого ничем не обидел, никого не ударил, даже нас, детей. Ничего ни у кого не украл, никого не осудил, не оскорбил, никогда не матерился, никогда и никому не был должен — не любил занимать. А в долг давал. И мог отдать последнюю рубаху, если человеку трудно. У дома насадил сосенок и цветов, которые приносил из ряма и рощи. Березки в огороде посадил. Они росли быстро, потом уж, в поздние годы, новый хозяин нашего дома выкорчевал березки: не должны быть деревья в огороде! Но я знаю, что если бы у отца был еще какой-то участок земли, он бы превратил его в сад!
Он был человеком самого широкого профиля: умел построить дом, связать рамы, окосячить, умел сложить печь и обшить дом стругаными досками. Все умел. До войны шил хромовые сапоги. Помню, как на железной лапе он забивал в подошвы деревянные березовые шпильки и как работал дратвой со щетинкой вместо иголки. Столярничал хорошо, мог сделать шкаф, хоть и не было у нас специального набора инструментов. Пытался держать пчел, но какой-то мор навалился, и пчелы погибли.
Образование у отца было небольшое, но писал он грамотно, красиво, читал газеты и мог поговорить на любую тему. Последние годы отец переписывался с каким-то немцем из ГДР. Что они писали друг другу и на каком языке, не знаю…
Умер отец на семьдесят третьем году жизни. Похоронен у ряма на двоеданском кладбище. Рядом с ним лежит моя мать Мария Викторовна…»
За рямом, за рямом… Полоснуло тут по моей душе. Там и мои…
О, Русская земля… Шумят, шелестят травами степные ветры. Плачут. О чем этот плач. Не скажут ветры. Не узнать и мне никогда.
НА ЗАКАТЕ СОЛОНЧАКИ БАГРЯНЫЕ
Пахнуло солончаковой прелью, духом молодого камыша, испарениями от нагретой за долгий день воды. Потом обозначились и эти камышинки, они скудноваты ростом, как везде по бережкам горько-соленых степных озер. Потом открылась и сама гладь реликтового водоёма с блестками пены по узкой полоске песчаного берега.
По песку бегал хохлатый куличок — одинокий, словно потерявшийся. Он, вероятно, и кричал, как кричат обычно кулички этой породы — «пил-лик, пил-лик!» Но за гулом мотора не было слышно — о чем взывала в пространство одинокая, в предвечерье, птица.
Машина, замедлив ход, громыхнула бортами на спуске-повороте с накатанного грунтового большака и, мягко продавливая колеи, покатила полевой дорогой.
Молодой гомон, так и не утомившихся за день парней и девчат, возник с новым напором. Знать, и куличок этот напомнил: въехали в свои родные Палестины. До села оставалось верст двенадцать. Сережа Субботин, азартно жестикулируя, жесты эти сопровождались смехом девчат, принялся рассказывать про известного у нас в селе Сашу Куркова: вот втемяшил себе парень! — решил стать чемпионом области по бегу. Тренируется по ночам, топает круг за кругом по улицам. «Виданое ли дело!» У баб пересуды. Мужики табак смолят в задумчивости. Старухи сходятся на том, что
«Шура, проучившись два года в городе, в Тюмени, знать, надсадился в этом ниверситете головой, с ума сошел! Чё бы ему бегать-то, с чево!»
Разговоры разговорами, а Курков не сдается. Едва ночь спустится, топает!
Ребята с девчонками понимают, что «у Куркова, у Сашки, и страсть, и цель» А все же!.. Двоеданки вон крестятся: «Господи, оборони!» До утра покою не дает «жеребячий топот физкультурника!».
Тяжелое колесо солнца катилось к закату. В небе сочились еще жаркие остывающие краски, подсветив березы берегового колка, стоймя отражающегося в зеркале воды. Краски эти стекали на камышинки, метелки ковыля, багряня набухшие земной сукровицей былинки солончаковой растительности.
В глазах — картины города, где мы провели этот долгий летний день. Для одних, как, скажем, для нас с Толькой Рыбиным, он прошел в открытиях. Другие, как Сережа, Валя Журавлев, Аганька Семибратова, Валя Васильева, Юра Мишин, Мотя Белова, Валя Кудрявцева, нахлеставшись, как говорят у нас, набегавшись по магазинам, везли теперь городские обновы — в нетерпении поскорей добраться до родной горницы, до зеркала, чтоб вновь надеть-примерить, уже без спешки, пахнущие фабрикой вещи. Сережа вон, не мешкая, еще в городе, как нахлобучил на пшеничный чуб, так и не снял «самую моднячую» у парней кепку — серую, будто сплетенную из мягких ворсистых нитей. Так же и Валя Журавлев поступил. Он в «знатной» курточке: белой да при змейке молнии-замка — от пояса до крепкой шеи. Моднятся ребята окунёвские. Пора — старшеклассники!..
Поездка в этот град-Ишим, самый ближний от села настоящий город, выпала нам с Толькой внезапно. Как подарок, который дали не насовсем, а подержать, полюбоваться. И уже не важно, как ранним утром попали мы в кузов «зиска» с набросанной в него соломой, с дружно занявшими удобные места у кабины парнями и девчатами, по-молодому самоуверенными. Почти взрослые.
Нам, отрокам, достался закуток возле заднего борта, где вдоволь натряслись и наглотались дорожной пыли. Но экая важность неудобства — пыль и эта тряска на ухабах, что веселила даже, не угнетала во время нечаянного путешествия.
Город начался с тихоструйной речки Карасуль-ки. У нас и таких речушек нет. Через нее, узким мосточком, въехали мы в Ишим. Увидели собранные в одну бучу деревянные дома и домики. Вроде все как у нас в селе. С теми же огнями гераней в окошках, с горками нерасколотых дров у ворот, со знакомым духом щепы и опилок. Ну и ну, подумалось мне, эка невидаль!
Каменный двухэтажный центр с мостовой, выложенной серым булыжником, «зисок» наш проехал медленно, как бы крадучись, озираясь на красный околыш милиционера, а потом ободрился и опять вонзился в деревянную кипень домов другой окраины. Вырулил на береговую улочку, заросшую травой, уперся радиатором в ворота ограды, за которой склады и казенное жилье. Это — «экспедиция, городское подворье нашего совхоза». Отсюда и отгружают к нам черный каменный уголь для кузниц, запчасти, крупу-пшенку, прочие продукты, нужные в страду на полевых станах с коллективным, артельным котлом.
Нам, пассажирам, чтоб ехать обратно, надлежало собраться здесь к пяти вечера.
— Ребятишки, река Ишим вон там, в переулке! Летите! — махнул рукой в нужном направлении понимающий нас шофер «зиска» Саша Кузьмин. И мы с Толькой полетели.
Знакомая по школьной карте «настоящая река», которая впадала в Иртыш (а тот в Обь, что синей и толстой жилой на карте стремилась в Ледовитый океан), текла под высоким обрывистым берегом. Нити тропинок змеились вниз, к кустам ивняка, с верхотуры казавшимися зелеными кочками.
— А где пароходы? Корабли где?
Эх, Ишим-река! Конечно, знал я, что пароходы тут не ходят, они дальше — на Иртыше, и все же!
— Подожди, приплывут! — ухмыльнулся дружок мой.
— Да пошел ты!
А потом открылось диво: в сотне метров от нас, между берегами, висел воздушный мост. И гадать не надо — мост! По нему с того берега обыденно шел мужик с удочками, и толстые стальные канаты вздрагивали при каждом шаге мужика. Когда он поднялся тропинкой на кручу берега, мы побежали к мосту. Оставить его без нашего внимания просто не могли.
Пружинили под ногой доски. Свистел ветер. И над рекой. И в груди. А под нами, далеко внизу, стремительно закручивались воронки быстрого течения. С середины моста виднелся вдалеке черный паром, тоже невиданный нами прежде, но узнанный сразу — паром…
— Здорово, а!
Заречный простор стелился далеко, к высоким лесам. А что там, за лесами? Скачут на конях казахи? Аулы бронзовеют в степи! И ковыли колышутся, простираются аж до самого Китая. По географическим-то знаниям — я первый в классе…
— Здорово, а?
А потом Толе, с чего бы вдруг, вздумалось раскачать воздушную конструкцию. И он принялся присядать да нажимать на страховочные ограждения, как на веревочные качели в Пасху, отчего конструкция загудела как живая. Застонали, заскрежетали витые тросы. И что было бы потом, не воображу, если бы с берега не понеслись матерки мужика-рыболова, посулившего, если не прекратим хулиганство, оборвать нам дурные головы!
— Ладно! — хмыкнул Толя и посмотрел на меня. — Напугался??
— Пошел ты…
Вот так всю жизнь — и в детстве-отрочестве и потом! — обзаводился я, сам «не от мира сего», отчаянными приятелями. Один лез на верхотуру топографической мачты по гнилой лестнице, другой над рекой воздушный мост чуть не угробил. С третьими в торосы Ледовитого океана полезу потом. И далее — в «ревущие сороковые» широты Южного полушария…
Но об этом что толковать: все приключится как приключится. И, конечно ж, не так, как сейчас, не с бухты-барахты, а по разумению взрослой (и к той поре не совсем уж дурной) головушки…
А пока мы — в настоящем городе. Впервые. И я нянчу в груди план наших открытий.
— На станцию теперь! Смотреть паровоз!
Толя не сопротивляется. А чего упираться: и он впервые! Каким-то чутьем угадывая направление, прошагали мы вдоль палисадников и оград Артиллерийской улицы. Название — что надо! И пара тележных оглобель, вздыбленных над забором одной из оград, нарисовала в нашем воображении стволы артиллерии малого калибра. «Большого калибра» встретятся потом — на главной улице, в настоящем военном городке — ряды гаубиц, зачехленных, а все-таки боевых, настоящих!
Травяной плацдарм улицы с военным названием наконец перехлестнулся с булыжной мостовой. И мы заскочили внутрь автобуса с надписью над лобовым стеклом — «Вокзал — Хутор».
— Следующая остановка Болотная! — громко объявила толстая тетка с сумкой на груди. — Рас-читаемся, граждане…
Потом обнаружится, что все кондукторши в Ишиме — толстые, все говорят громко, с придыханием. И сумки у них на груди бренчат мелочью. Забавно. Но надо расплачиваться.
— До вокзала нам! — сказал я вежливо и нащупал в кармане штанов мелочь. С полкилограмма ее оттягивало мой карман. Недавно повезло мне: в «орлянку». Обчистил всю орду деревенскую. «Прожженных» игроков обчистил!
— За две остановки рассчитаемся! — сказала кондукторша. — Не ясно, что ль, по двадцать копеек за остановку! Откуль такие?
Толя надавил мне локтем в бок, а другой рукой сунулся в накладной карман рубахи, вынул сотенную, небрежно помахал «портянкой» этой, выданной недавно в совхозной кассе — за труды на конных граблях:
— За обоих плачу!
— Да что вы, мальчики! Для сдачи я еще и «четверной» не наторговала. Езжайте уж так… Болотная! Следующая — вокзал!
Притиснулся к стеклу в надежде разглядеть если уж не подобие нашего Дворникова или Красулева болота, то хоть лужу с осокой, с метелками камыша. А нарисовалась вывеска железнодорожного универмага, потом возникли кусты сирени, высокие тополя, обогнув их, автобус тормознул на конечной.
Вокзал! Отсюда когда-то и пролягут все мои будущие пути-дороги. Он, вокзал, войдет в мои фантазии со всей своей предметностью — игрушечным уютным видом, с часами на фронтоне крыши, с фонтанчиком-журавлем и шарообразно подстриженными декоративными деревцами. Ими-то, деревцами, и занят сейчас садовник с большими ножницами на длинных ручках.
Я спросил его:
— Дяденька, а где тут паровозы стоят?
А дяденька даже не обернулся, занятый кропотливым «искусством».
— Он глухой и немой! — отреагировал Толя.
Мы пошли за чемоданным народом в гулкое помещение вокзала. Посмотрели на потолки, на стены, ни на чем не задерживались взглядом, с тем же народом вылущились — уже на перрон. Здесь было лучше и просторней. Да, уже потом, в будущих моих фантазиях, влюбленные герои повести «Пожароопасный период» станут встречаться именно на этом самом перроне. Здесь к той поре поставят фанерные ларьки с жареным минтаем и скумбрией, а сейчас вдоль открытого под небом дощатого прилавка-базарчика цвели бабьи платки, а на самом прилавке багрянели пучки влажной редиски. Возле пучков зеленого лука парили миски молодой картошки, выпячивались бутыли с молоком, заткнутые газетными пробками.
Мы догадались, что торговки ожидают проходящий поезд. Но поезда не было. И вообще все рельсовое пространство перед вокзалом пустовало. Рельсы и шпалы со следами мазута лежали в одиночестве. Зато — ого! — вдалеке громоздился на путях настоящий черный паровоз. Он выставил перед собой сочного цвета красную звезду и временами испускал облачка пара.
Мы двинулись к паровозу. Как не подойти? Это ж — паровоз! Все остальное — не столь важнецкое.
Тут, читатель, надо уточнить ситуацию. Как лучше в нашем положении ориентироваться в незнакомой городской буче? Надежней — спрашивать! Да. Но больше, соображал я, настроясь на лад дружка, больше нас выручит уверенность, этакая Толина нагловатость! На двоих эти понятия хорошо делятся и выглядят даже пристойно.
И мы уверенно поднялись на переходной — над рельсами — мост. Черный паровоз оказался как раз под нами — внизу.
— Твой братан на таком работает? — спросил Толя.
А в тот момент из будки паровоза высунулась голова, что-то крикнула, а вслед за криком этим раздался такой заполошный рев, что мне показалось — проваливаюсь в преисподню. Дребезжащий железный рёв вибрировал и клинился под сатином рубахи, проникал в каждую клеточку тела.
— А ну-у его! — спекшимся голосом выдохнул Толя…
Он и сейчас, в кузове «зиска», железный этот горячий обвал, стоит в груди, все еще обволакивая сердце кипятковым тугим духом. Уже вроде давно отъехали от города, шестьдесят верст за бортом — через деревни, пашни, березовые леса, степь. «Зисок» пылит уже через большое село Пеганово. И парни стучат в кабину кулаками. Ого, столовая! Шофер тормозит у крылечка. И все ринулись тратить последнюю мелочь. Набрали компота и принялись со смехом уминать хлеб с тарелок, нарезанный аккуратными кусочками. Да, конечно, здесь, как и в нашей чайной, хлеб бесплатный, дармовой.
— И тут коммунизм! Айда, ребятишки! — зовет нас шофер.
Толя пытается что-то вымолвить, но болезненно морщится, машет рукой — обойдемся! Смех и грех с Толей! Так навалился в городе на мороженки мой дружок, «съел аж двадцать четыре штуки!» Хвастался мне, а вот теперь осип, потерял голос.
Началось все в железнодорожном саду. Туда, на трубы играющего оркестра, двинули мы с вокзала. Дивился я: столько отдыхающего народа гуляет в саду! И все в хорошей одежде. А меня все смущало, томило как-то: вот народ — ходит, разговаривает, смеется, а мы, как чужие?! В деревне у нас принято здороваться и с чужим народом! И я пробую поделиться размышлениями своими с Толей. Он иронично хмыкает. У него на сей счет свое мнение? Конечно, Толя хоть и грубоват, а начитан побольше меня, имеет свое понятие! Он влечет меня от фонтана, где под струями важно плавают два лебедя, к примеченному киоску с мороженым. Мороженое, конечно, вещь замечательная, но мне хватило и пары вафельных стаканчиков. А Толя пристал к киоску, как к варенью муха, и отставать не собирался.
Хорошо, наверно, быть городским!
— Ну будет, будет! — почти силком увлек я дружка из этого нарядного парка с фонтаном, гипсовыми скульптурами, хорошо играющими трубачами и с мороженым этим.
Дошли до автобусной остановки. И тут заспорили. Куда теперь? Паровоз посмотрели! Мороженого налопались! Куда?
— Не знаю! — валял дурака Толя. — Буду кататься на автобусе, мне понравилось…
Автобус дотряс нас до центра с каменными домами.
— Госбанк! — объявила кондукторша.
Вышли почти все пассажиры. Спрыгнули на тротуар и мы. А тут уж я заупрямился:
— Мне надо попроведовать бабушку Розалью! Мама наказала. Улица — рядом с церковью. Пошли вместе? Во-он купола с крестами…
Толя уперся:
— Вон видишь вывеска — «Колхозный рынок»! Еще пару мороженок возьмем, а потом на автобусе покатаемся, двинули!
Ломать друг друга, дело бесполезное. Сошлись на одном: улица Артиллерийская — главный ориентир, придем к пяти вечера в «экспедицию». Всё!
Стало быть, надо привыкать к самостоятельности. Побренчал я мелочью и встал в очередь к киоску «газвода». Да, конечно, шипучая водица эта повкусней рабкооповского морса. И вообще столько праздничного вокруг. Одни афиши кинотеатра чего стоят!
Автобусы тоже праздничные. Даже телега и запряженный в нее коняга забавно стучат и звякают по булыжнику!
Хорошо в городе. Вон пушки из-за забора дыбятся! Настоящие! Присел на скамейку — веселей на душе! Офицер идет, сапоги поскрипывают. Погоны в золоте.
— Здравствуйте! — говорю офицеру.
— Здравия желаю! — улыбается офицер и подмигивает мне.
Девчонки в коротких сарафанах. Смеются, глазами стреляют по сторонам. Эти пусть себе идут своей дорогой.
Устало, сразу видно, что находилась по жаре, на каменные ступеньки кинотеатра поднимается женщина. Со мной поравнялась. Так похожа на нашу учительницу Анастасию Феофановну, так похожа…
— Здравствуйте!
Остановилась, пристально смотрит на меня. Лучше сказать — уставилась в недоумении. А я, будто к школьной доске вызван с невыученным правилом по грамматике. Некуда деться. Сиди уж, коль выпятился со своей вежливостью, со своей воспитанностью. А сидеть уж не хочется: нарвался!..
— А ты из какой школы, мальчик? А что не в лагере?..
— В каком лагере? Ничего я не знаю…
— А-а, понятно, нездешний. Из деревни приехал?
— А вам-то что? Ну, приехал…
Провалиться бы! Кровь прихлынула из глубины. Щеки, чувствую, пылают! Такое со мной, сколько не борюсь, приключается…
Как со стороны себя вижу. Уставился на свои тапочки в смущении. А куда еще уставиться оставалось?!
Поднял глаза, а тетенька уже топает к углу кинотеатра, пучок укропа торчит из авоськи. Зелененький…
Бабушку Розалью, ту — из загадочной для меня польской родни, нашел самостоятельно и быстро. А сначала был ориентир — церковь! С запертыми воротами, пустым двором и одиноко бродившей по двору пестрой курицей. Картина! И церковь вот так близко впервые вижу. Но — помани, кто угодно сейчас в эту ограду, хоть чем завлекай, никогда не войду. Не пионерское дело!
Жил-был поп, Толоконный лоб, Пошел поп по базару Посмотреть кой-какого товару.Прошел поп… А перед моими глазами Балда этот пушкинский веревкой чертей мутит-пугает…
Батя наш ироничный такой: «Дай, Катерина, топор, иконы твои на щепы колоть буду…»
Церковь. Кресты на куполах. Жаркий полдень в городе. Средина пятидесятых годов. Одинокая курица, порывшись в пыли, не отыскав и зернышка-крошки, отправилась в заросли лебеды, что вялыми метелками тулились возле церковного штакетника.
Пошел поп по базару.А я пошел к бабушке Розалье.
— Из Окунёва? — открыла она на стук в дверь. И я сразу узнал — она! В цветном халате, хорошо причесанная, завитая, вся — городская. В квартирке чисто, прибрано. Комод с кружевными салфетками. Глянцевые фигурки-слоники. Еще какие-то чудные безделушки, флаконы с духами. Цветы в вазе. И неживые цветы — в простенке. Яркие картинки на обоях. И часы-ходики с гирькой на цепочке. Обрадовался: у нас такие же! И качают языкастым маятником…
— Катеринин, говоришь, паренек… Я ведь гостила у вас, помнишь, конечно… Подрос! В каком классе учишься?
— Пять закончил нынче! — отвечаю, а тем временем уже усажен к столу, на котором появились яблоки, конфеты, сдобные булочки, а на керосинке, в кухонном уголке, что-то уже зашкворчало на сковородке. Бабушка Розалья, сестра моей деревенской бабушки Настасьи, все выспрашивает, выспрашивает. Я же, впервые попав в городскую «фатеру», как мама говорит, думаю о том, что живется городским — «не то, что у нас…»
Миновали деревню Карьково. «Зисок», натужно завывая мотором, поднялся на высокий увал, с которого открылась низинная солончаковая степь — без единого деревца и кустика. Никого. Лишь ближе к деревне Песьяново, что осталась справа, паслась отара овец и темнели два бескрылых ветряка.
Самое труднопроходимое для машин место — эта солончаковая низина. Не дай бог, говорят, оказаться здесь в распутицу иль застигнутым ливнем. Набуксуешься, насидишься по кюветам.
Но сейчас сухо, привольно. Девчата, приникнув к друг дружке, спохватились вдруг, завели песню, но на просторную про казака, что скакал через долину, уже не остается времечка. Скоро, скоро поднимемся на последний Крутинский увал, с которого откроется ближняя деревенская степь, такая ж солончаковая, с чудной растительностью. Под закатным солнышком простерта сейчас эта степь во всех своих красно-багряных тонах, в которые добавляли огня лучи заката.
Толя что-то безголосо промычал мне в ухо, показывая на огненные степные краски. Я понял, что и он счастливо захвачен этим неожиданным видением, происходящим, наверное, во всякий ясный летний вечер. Да вот приметить его, полюбоваться им, не всегда достает случая.
ЗЕМЛЯ РОДНАЯ ПРОСТИТ
На кромке раннего полевого утра, росистого, с легкой прохладой после ночной пахотной смены, заглушив трактора, ждем сменщиков. Должен вот-вот подъехать и горючевозчик Степан Шустов. Он, как архангел, в крылатой брезентовой куртке, восседая на передке тяжелой длинной телеги, нагруженной бочками солярки и масел, подъедет, покрикивая на лошадей, которые и так исправно тянут гужи тяжеленной упряжки.
Солнце уже встало. Будто упряжка горючевозчика, налитая на весь день соляркой, грузное, малил новое.
Не угомонились за ночь, талдычат своё «спать пора!» окрестные перепёлки. Трактористы — молодые парни, подражая взрослым, сошлись, степенно покуривают, строго поглядывают на нас, прицепщиков, как мы в своем мальчишеском азарте гремим гаечными ключами. Мы торопимся подтянуть, якобы ослабшие, болты и гайки, хватаем шприцы, закачиваем солидол в многочисленные тавотницы подшипников. Стараемся, надеясь на похвалу. Похвала в нашем положении нелишнее дело. А все же задора, радости и без нее в избытке: мы на равных с мужиками! Нам доверяют взрослые обязанности!
И утро такое! Мы еще не понимаем — какой красотой, какими чудными ощущениями владеем. Все уйдет однажды. И не повторится. Для нас. А может, и для других мальчишек нашего села, что увидят иные восходы солнца над березовыми колками, над степными весями.
Так и случилось. Иные дела сегодня в родных Палестинах. Будто Мамай прошел. Раскурочил, разрушил. Хлебные поля засеял сорной травой. Не просто «материальное» растоптал. Души осквернил, чего, собственно, не сумел сделать никакой «мамай» за нашу русскую историю. Сумели — демократы. Бывали хуже времена, но не было подлей…
А надежда на лучшее — не погасла.
Потому я стремлюсь дотянуться, хотя бы мысленно, до тех зоревых красок и ощущений, высветить жизнь не растраченным светом минувшего, запечатлеть в слове и, как сказал поэт Рубцов: «Распрощаться, может быть, навек».
Сороковые — роковые, написал один из фронтовых поэтов. И — пятидесятые, добавлю. И — все последующие за ними.
А в пятидесятых — беспечное, солнечное детство моих ровесников незаметно перетекало в отрочество. В голове отчетливей начинали бродить думы о маячащей впереди взрослости, о том — кто кем станет, по какой дороге идти в грядущем взрослом мире?! А что светило деревенскому мальчишке, скажем, к десятому классу? Окружение взрослое — вчерашние фронтовики, больше — калеки. А мужики поздоровей — шоферы, трактористы, комбайнеры, скотники-пастухи на фермах. Вокруг этого «выбора» и крутились наши наивные детские мечтания. Правда, когда в пятом классе я впервые попал в город Ишим, очаровал меня вид милиционера в яркой фуражке, при нагане в кобуре. А когда зачарованно разглядывал паровоз на станции, в мечтания мои вклинилось — выучиться на машиниста. У железнодорожников тоже красивые фуражки с «молоточками» на околышах. Старший брат Гриша, железнодорожник в Омске, правда, не форсил в этих «молоточках», но, приезжая в отпуска в деревню, «блистал» в хороших шелковых рубашках, в дорогом бостоновом костюме. А однажды, в зимнюю пору, вошел он в родной дом в кожане — крытом хромовой кожей пальто, такой же хромовой шапке, что в Окунево носил только Колька Девятияров, заезжий, прибившийся к одной молодой вдовушке, мужик. Расписанный наколками, он имел репутацию «жигана» и «приблатненного». Но брат Гриша, затмевал Кольку перед деревенскими парнями и девками «хорошим прикидом» и умением играть на гармошке-хромке. С его приездом в доме появлялись настоящие папиросы в дорогих коробках — «Казбек», «Пушка», «Гвардейские». Какие ароматные дымы вились в горнице!
Отец же курил тогда трубку и зимними вечерами рубил топором в деревянном корытце высушенный на чердаке самосад. Вздымалась горькая табачная пыль, от которой, чихая, покидал свое законное место — на брусе полатей — кот. Подгадывал к рубке табака Павел Андреев. И дружки — соседи, временами враждовавшие по пустякам, опять сходились, нахваливая по-фронтовому этот «горлодер», наполняя им потрепанные кисеты. Павел Сергеевич снимал с раненой руки глубокую рукавицу, подсаживался на голбчик, доставал сложенную четвертушку газеты, отрывал на самокрутку:
— Сыпни-ка, Василии Ермилович, корневого, чтоб продрало, етти его в дышло!
В плавающих по избе кольцах и слоящихся урманах сизого дыма удержался бы, наверное, на весу и печной ухват, если бы мама не ставила его к шестку, спасаясь от курцов в горнице. Там возле круглой топившейся печи-голландки брат Саша читал вслух «Вечера на хуторе близ Диканьки», а в переднем углу, на божнице, посиживал сам Са-вооф, поджидая, может быть, очередных посягательств отца на икону, которая хорошо хранила за своей «спиной» разные налоговые справки-квитанции, облигации, а порой и заначку из какой-нибудь четвертной или обширной сталинской пятидесятирублевой ассигнации.
Саша, обучивший меня перед школой чтению, письму и счету, в рифму сочинял длинные — на полтетради — сказки. Однажды, с изумлением выслушав сочинителя, я только и сумел вымолвить:
— Это да-а! Ты, как Пушкин?!
Пора отрочества, как бы раздвинула околичные горизонты, подружив меня с ребятней из глубинных домов и избенок, тоже еще не оправившихся от военного разорения. Хотя на деревне уже начинали стучать топоры и вырастать срубы новых пятистенников. В первую очередь у хозяев, что покрепче: трактористов, комбайнеров, шоферов.
В эту пору закадычным дружком и стал у меня Толя Рыбин. Просто — Толька. Жил он в избе на пригорке. Позеленевшие от времени доски крыши, там сям заделанные пластами дерна, колья и покосившиеся столбики не до конца сожженной за зиму изгороди, такие же полуразбитые сени с земляным полом. И — просторная изба, полная мухоты, каких-то пимных опорок, валявшихся среди прочей домашней рвани.
Зимой лютый холод в избе не могли победить и пылающие в угрюмой приземистой печи дрова. Хорошие сухие поленья, как и в доме Кукушкиных, случались редко. Печь подбирала обычно всякую рухлядь, что вышатывалась, выламывалась из изгороди иль добывалась в окрестностях — такое же гнилье, хлам.
Зато летом, в пору июля, когда поспевала клубника-голубянка, в избе стоял теплый аромат сушившихся на печи ягод и полевых трав. Такие же запахи заполняли и наш дом. Но у нас это было делом привычным — за всеми припасами к зиме следила мама. А здесь хозяйничал мальчишка. Толькина мать рано поутру уходила на работу, появлялась только в сумерках. Корову они, как и во дворе Шурки Кукушкина, не держали, жили на подножном корму, приправленном беспечным нравом, легкостью характеров. Так тогда казалось мне.
Толя подвижный, ухватистый мальчишка. Он не верховодил среди орды нашей, не завоевывал, как иные, верховенство силой или наглостью. За ним оно просто признавалось. Всей нашей ордой. Он цепко, с кошачьей сноровкой мог залезть на любую березу, на гладкий телефонный столб, на высоченную крышу. Легко, играючи, ходил на руках! Делал «шпагат», с акробатическим изяществом перекидывался через спину, несчетное количество раз подтягивался на турнике. И еще он «глотал» библиотечные книги охапками. Истории, анекдоты, байки сыпались из него, будто из «прорвы», как выражались завзятые балагуры-рассказчики. Никто не задумывался тогда — откуда брал он все эти истории. И мнится мне сейчас, что Толя просто их сочинял, имея от рождения необузданную фантазию и это самое творческое воображение.
На пригорке, возле избы Рыбиных, тоже вскипали игры в мушку, в шаровки, в клюшки и котел. Но когда мы разживались деньгами, мелочью от сданных в сельпо куриных яиц, от собранных и снесенных заготовителю железяк и старых самоваров, все эти клюшки и чижики побеждала азартная игра в «чику».
Не нужно эту денежную игру путать с игрой о «стенку». Та игра тоже требует опыта, глазомера, силы удара, но легко усваивается почти всяким, рискнувшим вступить в неё. «Чика» — игра, можно сказать, интеллектуальная, на несколько уровней виртуозней и азартней. Стопка монет устанавливалась шагах в пяти от бросающих биту — обычно старинный царский пятак, времен Николая Второго. Кто всех удачнее — ближе за чертой кона уложит биту — тот и начинал этот кон разбивать, стараясь перевернуть монеты на «орла».
Толя приносил заветную биту — кругляш медали «За оборону Ленинграда» — и азартная игра кипела до потемок.
Стоит в глазах кругляш этот, отцепленный от светло-зеленой муаровой ленты. Медаль Толькиного отца-офицера, присланная Рыбиными вслед за похоронкой…
И вот мы шестиклассники. Теперь нас уже берут не только в копновозы на коллективном сенокосе, но доверяют и конные грабли, разрешают накладывать вилами сено на волокуши, а самым ловким и сообразительным и стога вершить — под самым солнышком, под облаками. Высоченные у нас стога!
В конце сентября, после копки огородов, Толя «сблатовал» меня на доходное, хоть и очень нудное дело: заняться перекопкой картошки на колхозном поле, где колхозники трудились не так ударно, не по-стахановски. Перекопали, отнесли «добычу» приемщику в тот же сельмаг. Заимели аж пятнадцать рублей. Капитал! Деньги сберегли к Октябрьским праздникам, замыслив купить чекушку водки, приобщиться к событию по-взрослому.
К Октябрьской приспевают первые морозы, встают под лед озера, на землю окончательно ложится снег. А по дворам колют свиней. У нас несколько штатных забойщиков. Они ходят по селу с длинными ножами, предлагая услуги, тревожа воображение пацанвы, вселял страхи в богомольных старушек. Да и закаленные, повидавшие виды мужики не очень-то благоволят к ним. Кровавые дела. Нужные, необходимые, но не всякому человеку по нутру. Хотя, возможно, я лишку переусердствовал в своих фантазиях. Забойщики без клиентов не обходились, хватало их, как и работы по изготовлению ножей из хорошей стали. Мастером в этом деле считался Коля-калмык, одинокий молодой мужик, квартировавший у нашей бабушки Анастасии. Он сулил заколоть и нашего боровка, так сказать, по блату. Но отец никого со стороны не приглашал, надеясь на испытанный способ: на хорошую ружейную картечь.
Рано утром Саша принес на огород вязанку пшеничной соломы, чтоб опалить потом свежую тушу. Я стараюсь ушмыгнуть из дома, из ограды, хотя меня никто и не неволит участвовать в этом кровавом деле. Летом я пас этого Борьку-боровка на зеленой полянке, кормил пойлом-мешанкой, чесал за ушами. Боровок, считая меня за своего, позволял прокатиться на теплой щетинистой спине. Недолго, конечно. Но если я наглел, устраивая длительные катания, то боровок взбрыкивал, визжал, нес зарвавшегося седока в крапиву, хитроумно соображая, что именно так и можно освободиться от нахала. Эх, Борька!..
Я глянул в окно. Толька уже топтался возле ограды, подавал мне знаки. Прихватив, как договаривались, зеленый маленковский стакан, я сунул в карман луковицу и кусок хлеба, завернутые в газету, простелился из сеней за калитку, перевел дыхание. Мы направились в пустующую в праздник кузницу. Сразу. Будто заранее планировали. Да и выбирать не из чего.
От верстаков, от инструментов — разных гаечных ключей, зубил, клещей, молотков, разложенных там и тут, исходил могильный холод. Давние мои страхи перед этой кузницей, когда мы, страшась чертей, лазили сюда с Шуркой Кукушкиным за инструментом, подзабылись. Какие уж тут черти? Мы же нынче взрослые!
В стылом горне лежал пепельно-серый уголь с оторочками оплывшего шлака. На пыльных стеклах окон искрились блески льда. Толя выставил на наковальню чекушку-четвертинку, недавно пузырившую карман его фуфайки. Следом я выставил стакан и, развернув клок «Правды», положил хлеб и луковицу. В нашем огороде хлопнул выстрел.
— Прикончили боровка, — проговорил Толька. — Ты первый будешь пить.
— Не-е…
— Не пробовал разве ни разу?
— Бражку только…
Сургучный наплыв на горлышке чекушки осыпался под легкими ударами гаечного ключа. Потом дружок выковырял пальцем картонную пробку, наплескал водки в стакан.
— Давай!
Холодная жидкость прокатилась легко и только потом как бы замедленно, плавно ударила в голову. Сиренево и сладко рацветила сознание. Стены кузницы поплыли, и сделалось хорошо.
Когда Толя выпил свои полстакана, по-взрослому крякнув, когда свернул из газеты пробку и запечатал горлышко чекушки, в неплотно затворенную дверь донесся запах паленого. Отец с братом делали свое дело. В мутных окнах кузни плескался белесый дым горевшей на огороде соломы.
— У меня ведь день рождения сегодня! — вспомнил я, ворочая ставшим непослушным языком.
— Значит, правильно отметили! — сказал Толя. Потом возник переулок бабки Фетиньи. Минуя глухой заплот, выплыли мы на улицу. Догнали воз сена Ивана Субботина, прицепились сзади за бастриг, повисели, упали затем на скользкий, натоптанный с утра, санный путь. А как уже оказались на другом конце села — у Леньки Семибратова, почти взрослого парня, переростка, не знаю. Ленька учился с нами в шестом и гнул двумя пальцами медные пятаки, на что не способен был никто из взрослых силачей села. У Семибратовых меня начало рвать. Я выбегал во двор, разукрасил вывернутым содержимым желудка белый пушистый снег. Стало легче. Зашел в избу в том же радужном мраке и проснулся потом в полном одиночестве, в тишине. На голом сундуке, выпотрошенный, но способный уже соображать и даже самостоятельно шагать на свой край села.
Дома пахло жареным мясом. По неубранной на столе посуде понял, что были гости, попировали и разошлись. Домашние спали. Не зажигая огня, я еще потолкался в кути. Собрал со стола кости, вынес новому псу Мухтару. Любимцу отца, дружелюбному, незлому, не удосужились сколотить законную и вместительную будку, и собака обитала пока в копне сена.
В сенях я наткнулся на свиную тушу, висевшую на вожжах под потолком, шершавую, холодную. К утру её и вовсе скует морозом — до окостенения, каменной жесткости. Вот и все, что осталось от Борьки моего…
Красный праздник, краткие каникулы — мелькнули и нет. А вторая учебная четверть началась с утренней общешкольной линейки. Первым делом дали слово председателю пионерской дружины. И новый председатель её Валерка Янчук «речь толкал» так же гладко, уверенно, как прежний — Юрка Шенцов. Призвал к хорошей учебе, отличному поведению, отсалютовал и встал в строй. От директора ничего хорошего не ждали. И верно! Директор выставил перед строем Толю Рыбина и объявил ему выговор — «за безобразное шатание по улицам седьмого ноября в пьяном виде!»
Почему нас с Ленькой Семибратовым не выставили на «беспощадный позор?!» Не попались на глаза? Возможно. Хотя не попасться хоть кому-то… Не знаю, не знаю…
Торопились мы стать взрослыми. Сильно торопились.
Толя взрослел быстрее меня. Всего год разницы в возрасте обозначился уже к старшим классам. В девятом Толька «выпрягся, задурел», как сказала бы наша мать. Бросил школу. На глазах превратясь в крепенького лобастого паренька, миновав отрочество раньше сверстников, пошел в разнорабочие совхоза, дурачился перед нами, мол, теперь он: «Главный, кто куда пошлет!»
Впрочем, невысоко воспарил и я после десятого. Обзавелся «комсомольской путевкой» и тоже остался в совхозе — «укреплять сельское хозяйство». Звучало это звонко, идейно, патриотично, а на деле — те же вилы, лопата, кувалда молотобойца в кузнице за нашим огородом, где звенела все мое детство кувалда Васьки Батрака. Впрочем, как нынче понимаю, счастливая выпала мне эта короткая стезя возле кузнечного горна и наковальни!
Да опять пахнуло флотом! И вполне зримо, осязаемо. Тобольская мореходная школа юнг объявила, как сказано было в попавшейся на глаза газете, дополнительный набор курсантов.
«Толя, рванули!»
Пока уговаривал, уламывал друга, юнги-новобранцы разъехались на уборку урожая по окрестным колхозам-совхозам. И тобольские вороны с галками, вихревато кружась над старинными куполами Сибирского белокаменного кремля, вовсю орали, что припоздали мы с дружком. Припоздали!
Возвращаться с позором на глаза окуневских двоедан? Нет. Впрочем, и денег на обратную дорогу — кот наплакал.
И подались мы в рыбаки-промысловики местного рыбзавода.
Неводные тони на песках Иртыша, потом бригада озерного подледного лова, скитания по глухим таежным углам, полузабытым деревенькам, где останавливались на постой, стали, собственно, продолжением нашей привычной трудовой сельской жизни… Потом — «прошло еще немного быстрых лет», как сочинял где-то в эту же пору поэт Рубцов, с которым познакомлюсь я вскоре в литинститутских московских коридорах.
В своей первой повести «Нефедовка» и рассказал я о наших с Толей «рыбацких странствиях». Рецензенты потом похвально отметят: «Касался проблем русского села — нравственных, этических исканий героев повести, проблем корней, истоков». А пока я, потолкавшись по журналам Сибири, Урала, получая от них отказы, набрался духу и послал рукопись повести знаменитому писателю Виктору Астафьеву. В Вологду, где жил он в ту пору.
Через месяц пришел ответ. Не обманулся я в надеждах, поскольку Виктор Петрович, поздоровавшись, как положено между русскими людьми, сообщал: «С удовольствием прочитал Вашу простодушную и добрую повесть. Это зрелая, настоящая проза. Рад был познакомится с писателем, которого читать еще не доводилось. Рад и тому, что писатель из Тюмени. Не может же вечно пустовать этот город! После Ивана Ермакова, один Зот Тоболкин заявил там о себе хорошо… Повесть Вам надо предложить в «Сибирские огни». Там раньше охотно печатали такую добрую прозу. Не получится в «Сиб. огнях, пошлите в «Молодую гвардию», там Слава Шугаев сейчас прозу ведет. И в прозе сведущ, сам хорошо пишет. Если не издавались в «Современнике», соберите книжку и предложите этому издательству. План там увеличивается с 80-го года, а издавать нет ничего. Дерьма-то много, а доброго слова мало. Кстати, с удовольствием читал Вашу повесть еще и потому, что она хороша по языку, правда, несколько «общему» у героев, они говорят похоже друг на друга, и еще — народу лишковато для такой небольшой повести — человек пяток можно убрать или «смахнуть» совершенно «незаметно». Попробуйте это сделать, сами увидите, как в повести сделается просторней для действия и «жизни» других персонажей.
Ну еще раз спасибо. Пока ездил ко фронтовым друзьям, в доме скопилось около двадцати рукописей. И каждый автор ждет, чтоб его прочитали и хоть немного ему написали, ободрили. Я уже свое почти не пищу. Некогда!
Еще раз благодарю Вас за повесть! Желаю удачи… В. Астафьев».
«Нефедовка» вкупе с рассказами вышла тогда в «Современнике», с легкой руки Виктора Астафьева. В Москве! Тиражом, правда, небольшим для тех лет — тридцать тысяч.
Все в этой книге — о родине, о родных весях, о себе, о моем друге Тольке, о любви к женщине, о «меньших братьях». То было начало. Жизни нашей взрослой. Что еще блазнилось, обещалось впереди? Мы ждали светлого. Им жили.
Но через какие-то годы пришла всеобщая беда. Предательство партийной верхушки. Победа врагов России. Крах лучших устремлений народа. Разгром великой Родины — СССР — России. Как из дурной пробирки, вылущились «упыри, гады, членистоногие, чешуйчатые, кишечнополостные». Так именовали этих гадов в патриотических изданиях. Сонмище предателей. Приспособленцев, извращенцев. Духовных уродов. Откуда только взялись?!
Возникло сопротивление. Для меня не было вопроса — в какие ряды встать. В ряды сопротивления гадству. В стан патриотов.
Недоумевал я: что случилось с Виктором Астафьевым? Он шаг за шагом отступал от патриотов, подыгрывал антирусским силам. Обижал фронтовиков, сам будучи солдатом. Было больно за автора замечательных повестей: за «Пастуха и пастушку», за «Оду русскому огороду», за «Последний поклон».
В русских изданиях прокатилась череда публикаций вчерашних друзей и учеников Астафьева. Они бросали в глаза недавнему наставнику гневные, беспощадные, обличающие слова.
Общественная атмосфера была предельно накалена. Орудия били в упор, сабли сверкали наголо. Рубка шла беспощадная.
Что сдержало меня в ту пору написать Виктору Петровичу? Руки чесались. Но что-то сдержало.
Эти горькие слова сказала за меня родная бабка овсянкинского Витьки — Катерина Петровна. В «Последнем поклоне», помните:
«Витька! А штабы тебя, лихоманка, приподняло да шваркнуло! Че творишь та такое? Эко тебя родимец-то корежит!..»
Эх, думалось мне в ту пору, перечитывая астафьевскую проникновенную повесть о детстве, эх, если б вновь писатель повторил однажды сказанное, написанное — стыд от укоров родной бабушки: «Меня обварило жаром, горело лицо, кололись толсто волосы на голове, сил не было поднять глаза. Мне бы, как раньше прощения у бабушки попросить — и ей бы и мне, и деду — всем легче. Но я уже отведал зла, нажил упрямства, научился ощетиниваться против укоров…»
И еще: «Я знаю, бабушка простила бы меня. Она всегда и все мне прощала. Но ее нет. И никогда не будет. И некому прощать…»
Не так. Люди бы простили, дядя Филипп — судовой механик, павший под Москвой. Простил бы и Мишка Коршунов, что геройски погиб, воюя на истребительном катере. Простил бы и Санька Левонтьевский. У Саньки хоть и заносистый был характерец, а никуда бы не делся. Земля бы родная простила. Стоит упасть на неё, родимую, и горько выреветься, зарывшись лицом в траву, очищаясь, отходя закаменевшим сердцем. Как в детстве…
Так думалось мне тогда, следя за «метафорфозами» в поведении знаменитого писателя.
Сегодня его нет. Простим и мы его по-православному, по-русски.
Но вернусь к Толе Рыбину, другу моего детства и юности. Нет на земле и его сегодня. Давно. И многими, даже в родном селе, позабыт он. Но во мне живет не просто память о нем, а боль, печаль, вина, может быть: ведь это он по всем «параметрам», должен был стать сочинителем, так свободно работала в нем фантазия. Столько «перелопатил» он книг в библиотеке нашего двоеданского клуба, где даже по тем временам — полки ломились от мировой классики.
По воле судьбы, по крестьянскому упрямству, по генному наследству (может быть, в ближних родичах были у меня сочинители) отважился я встать на литературную стезю. Издавал книги, а в пору смуты российской — в конце двадцатого века — газету. Патриотическую. Под лаем демократов, что вылущились из партократов и прочей продажной шушеры. И они лаяли, не ведая того, что лай этот лишь удесятеряет и цементирует во мне крестьянское упорство и стойкость. И все же в минуты «горестных раздумий», когда нападки эти становились невыносимыми, а поддержки было ждать неоткуда, вспоминалось есенинское:
Они бы вилами пришли вас заколоть
За каждый крик ваш, брошенный в меня…
Есенин имел в виду своих рязанских земляков-крестьян. Мне думалось о друзьях из родного Окунёва. И вдруг обнаруживалось, что и кликнуть-то на подмогу некого!
Толи Рыбина не стало в начале семидесятых. В те же годы погиб в схватке с бандитами, бежавшими из колонии, лейтенант внутренних войск, другой мой окуневский друг — Леня Павлов. Юрку Каргаполова залягал на конном дворе жеребец — еще в детстве. Шурка Кукушкин съездил на БАМ и, вернувшись домой, умер в похмельном угаре. В омской стороне затерялся Толя Миндалев. Валера Янчук, окончив академию Жуковского в Москве, не появляется в родных весях вот уже десятилетия. Кто-то из приятелей деревенских разбился по пьянке на мотоцикле, кто-то залез в петлю. Кто-то умер так — от тоски. Иные завязли в северных нефтяных землях. Живы ли?
Никого уж нет из моих ровесников в нашем обширном селе. Да и немного нас народилось в пору войны. Кого скликать с вилами на помощь? Тщетны крики! Но надо держаться. За всех!..
Какое-то время наши пути-дороги с Толей Рыбиным после рыбзавода протекали рядом. Мы одновременно окончили училище сельских механизаторов, пахали родные черноземы. В один год нас провожали всей деревней на службу. И Толя посылал мне в Москву, где я служил в Главштабе ВМФ, фотографии из Польши, на которых он был в форме танкиста. Откровенничал, как «бегает в самоволку к полячкам», но однажды в письме попросил узнать у наших военных врачей: «Что за болезнь такая — рассеянный склероз?» Капитан в санчасти, к которому я обратился за разъяснением, насторожился: «Зачем это тебе?» — «Друг в Польше танкистом служит, после больших учений в госпиталь попал». — «Как-нибудь обойди этот вопрос. Не расстраивай друга. Ужасная болезнь».
Демобилизовался, точнее, комиссовался Толя, приехав в Окунево на полгода раньше меня. Когда я появился осенью в бушлате и бескозырке, хлестала уже ноябрьская вьюга.
Толю застал работающим помощником киномеханика. (О тракторе — по инвалидности! — и речи не было). Он переменился характером.
Как-то осел. Остыл…
Через три года в Тюмени он пригласил меня в гости:»Сыну год исполняется, отметим!» Перейдя по льду реку Туру, я отыскал его частную хибарку в Заречном микрорайоне. Хибарка, принадлежавшая родителям Толиной жены, множеством клетушек и закутков напоминала тепляки окунёвской овчарни. Отапливалась она уймой печурок, была жаркой и цветастой от занавесок. В одном из закутков мы уселись отмечать событие.
Когда за столом загомонили, произнося самодельные поздравления незнакомые мне люди, когда сам «виновник» торжества, годовалый сынок друга, сладко припадал к материнской груди, я шепнул Толе:
— Тебе ж вроде нельзя употреблять?!
— Ну нельзя… Так что теперь…
Толя был инвалидом второй группы, но подрабатывал по-соседству — топил кочегарку в зареченской школе. Пошаливал у него, как полагал я, вестибулярный аппарат или что-то подобное. Толя ходил в незнакомую, пугающую развалку, быстро уставал, то и дело искал лавочку — перевести дыхание.
Несколько раз встречались мы у меня.
В последний раз он приходил прощаться. Потом я дотумкал: зачем приходил и ТАКОЕ говорил!
В пятиэтажной «хрущобе» — рабочей общаге, где нам посчастливилось с женой, выбравшись из сельских весей в областной город, получить комнату, кипела полугородская, полудеревенская буча. Народившееся поколение у бывших сельских жильцов, возглавляемое моей дочкой Ириной, — «Шантлопа, за мной!» — гомонило по длинным «корабельным» коридорам общаги, устраивало потасовки, драки и примирения, как и мы в своё время, «лезло, куда не надо».
Когда я пошел проводить друга до автобусной остановки, он дважды присаживался отдохнуть на скамейке в кленовом скверике, потом опять шагал тяжело, расслабленно, пошатываясь.
— Зря мы этот «Рислинг» раздавили! — промолвил я.
— Не в этом дело, понимаешь…
В чем же дело, в чем? По молодости, по здоровью, полный сил, я, конечно, не так, как полагалось, придавал значение болезни друга: пройдет, выкарабкается! Мы больше вспоминали о минувшем, о заветном. О детстве, о деревенских друзьях, о наших «походах» с рыбной бригадой. Моих литературно-газетных дел будто бы и не существовало! С чего они вдруг возникли в жизни моей, с какой стати? Ничего похожего, кажется, друг мой не ожидал от меня? Обходил стороной «литературную тему». Хотя, знал же Толя: и в деревне, и на рыбном промысле я кропал в свою тетрадку? Но ведь не ожидалось, пожалуй, доужком моим, что все эти кропания выльются у меня в жизненное дело…
— Чем так жить, лучше повеситься, — сказал тогда Толя, отдыхая, переводя дыхание в кленовом скверике.
— Брось эти разговоры…
Через несколько дней он повесился. Надел петлю веревки, привязанную за перекладину стропил, шагнул в пустую — из-под угля — яму в школьной кочегарке.
Мне рассказали об этом в окунёвской МТМ, когда я — корреспондент сельхозотдела областной газеты, мотаясь по нашим южным хлебным районам, завернул в родные веси.
Стояла зоревое утро. Такое же прекрасное в природе и жизнеутверждении своём, как тогда — в пору нашего солнечного отрочества. На той утренней, парящей, черноземной пахоте. У кромки росистого поля. Где мы, зеленые, восторженные, стараемся — гремим гаечными ключами, зарабатывая похвалы старших.
Прости нас на веки, земля родная.
АНГАР ИЗ КАМЫША
Даже в нашем неординарном, талантливом Окунёво, он, Саша Кузьмин, выделялся. Непохожестью поведения, своеобразностью суждений. Меткой, прозорливой речью. Тем и неудобен был для «сурьёзных», справных мужиков. Недолюбливали? И то было. Но, скорее, побаивались Сашкиного языка. Трепетали. Попадись на прицел язвительному Кузьмину, кличку приварит, век не сносить. Иные так и состарились и даже померли с этими кличками-прозвищами. Скажем, «фараноска» — точнее не выдумаешь для отраженья свойств и характерного поведения одной бабенки; «дасбух» — это, понятно, по-немецки книга, но герой, получивший эту кличку от Саши еще в пятом классе, так и дожил с ней до 21-го века.
Кузьмин — быстрый на ногу, порывистый в движениях. Хоть и ядовит на слово, но улыбчив, ясен взором, какая-то наивная голубизна-синева проглядывала в нем. И главное — умен мужик, начитан. Для села даже слишком начитан.
Позднее я узнал, что и сочинительством он занимался. Пописывал «сатиры», фельетоны на своих начальников, с которыми зачастую не уживался. Предлагал фельетоны в газеты, но их не брали, а если и брали, то, подивившись хлесткости, отвергали за неподъемный для «районок» объем текста, а то и за несовместимость с «прокладываемым партией и правительством курсом». Саша удивлялся приговорам редакторов, считал, что пишет одну правду, «какая она есть в жизни», а мыслей против государственной политики и в уме не держит.
Начитанность у него особого рода. Выделял из всех писателей Джека Лондона. Знал сюжеты всех его рассказов, имена героев помнил, место действия. А «Мартина Идена» прямо-таки боготворил, приходил в восторг, светился, если в собеседнике обнаруживал, что тот читал «главный роман Лондона».
— Ты прочти, он в тебе все перевернет! — как-то сказал мне.
— Читал я, Саша.
— А «Морского волка»?
— Не добрался еще…
— Вот то-то и оно! — заключил он с укоризной.
С детства, с розового его начала, с васильковой, незабудковой поры, помнил я Александра. Он-то вряд ли запомнил меня, мальца, в ту пору, поскольку старше был нашей орды на восемь лет. В детстве это большая разница.
Помню у Кузьминых ограду, где полно было разных железяк — колес от конных плугов, лобогреек, ржавых шестеренок, жестянок. Мы липли к младшему из братьев Кузьминых, Ваське, он хорошо мастерил колесянки — с треском на всю улицу, четырехколесные самокаты с педалями, с этаким коленвалом, откованным в кузнице и служащим одновременно осью передних ведущих колес самоката. Васька допускал нас, мелюзгу, в свою ограду, разрешал на самокате прокатиться.
Довольно ветхий с виду, но высокий, на подклетях, с таким же высоким крыльцом и перилами, дом Кузьминой Марьи выпирал углом в переулок, ведущий к озеру. Это было признаком того, что в доме непременно водятся черти и прочая дурная нечисть. Не случайно, соображал я, в доме жилой была только первая половина — кухня-куть, где вздымалась богатырских размеров русская печь, палати под потолком, а под ними стояла железная, кованая кровать, застеленная, как во многих бедных жилищах села, спальным хламьем — телогрейками, рваными полушубками, дерюжками. Горница была заколочена крест на крест двумя тяжелыми плахами и не отапливалась. Вот тут-то, в горнице, и бесновалась, говорили, нечистая сила, едва только наступала полночь, двенадцать часов. Сами собой начинали плясать ухваты, сковородники, ерзать столы, шевелиться ведра, глиняные горшки и кринки, летала под потолком сковорода.
Не задумывался я, как выносили весь этот шабаш чертей и бесов сами обитатели углового дома. Как-то же выносили! Побывав несколько раз в доме, я с шевелением волос на голове, смотрел на перекрещенные плахами горничные двери.
Да и как было не бесноваться нечистой силе у Кузьминых, если Васька и Сашка, единственные из деревенских отроков, отваживались на кощунство — собирали на двоеданских могилках подгнившие, упавшие кресты, а то и выламывали из могил крепкий еще «материал» для топки печи. По ночам, понятно. Не страшились и покойников.
И разговоров об этом в селе — бы-ы-ло!..
Подружились мы с Александром много позднее — в пору моей недолгой механизаторской работы в совхозе, как раз перед уходом в армию. Саша приятельствовал с моим отцом. Сошлись они на рыбацком деле. Но это не вся причина. Не могли не сойтись отец и Сашка, как люди неординарные, схожие характерами, взглядами, и, более того, нетерпимостью к тупости, и главное — обостренным чувством справедливости. Она уже ведь начинала утрачиваться в атмосфере тех лет.
— Душа не терпит! — часто ронял Саша Кузьмин.
И у отца моего тоже «не терпела душа».
— Ты посмотри, что Никита начал вытворять? — говорил отец, подливая бражку в стаканы. По случаю Сашиного прихода к нам в дом отец командовал:
— Катерина, доставай чайник!
Пузатая эмалированная посудина, с которой я в детстве ходил за «голубянкой» в Васильевские ворота, выставлялась из подпола и водружалась на лавке у стола. Сашка понимающе кивал и пригублял из стакана. И разговор приобретал политическое направление.
— Распахали все солонцы, старинные рощи выкорчевали, покосы, пустоши уничтожили, бабам и ребятишкам ягод побрать негде. И это называется — освоением целинных и залежных земель. Пахотных земель полно, удобрять только надо. А они в овечьи солонцы залези. Солонцы не родят, выкорчеванный лес гниет в буртах. А медали, взяли за моду, к каждому празднику выдавать. Страмцы!
— Страмцы! Верно ты, Василий Ермилович, анализ дал! — подхватывал Саша и вновь пригублял из стакана.
— Ты выпей, выпей, Александр Петрович! — не соглашался с этим пригублением отец.
И я, слушавший разговор за горничными дверями, понимал: батя рад хорошему человеку, значит, после третьего стакана отец заведет свое, заветное, фронтовое:
На позицию девушка Провожала бойца. Поздней ночью простилися На ступеньках крыльца. И пока за туманами Видеть мог паренек, На окошке на девичьем Все горел огонёк. Высоко, пронзительно он пел: И врага ненавистного Крепко бьёт паренёк За советскую родину, За родной огонёк.— Коля, — доносилось потом ко мне в горницу из кути. — Слышишь, я с хорошим, умным народом дружу, присядь с нами.
Я помалкивал, не откликался.
— Ты там по делу или не по делу читаешь?
А за дверями опять:
— Корову признали бруцеллёзной. Смотри, Саша, что творят! В табун пускать запретили, сдавай, мол, на мясокомбинат. Ага! Не дождутся… Давай, Саша, коль налито…
Приятели принимались обсуждать свои планы возможного переустройства жизни в стране, в местном районе, в совхозе, «плантовали», как обозначала их гомон мама.
— Плантуют, а какой прок? Кузьмин этот только с толку сбиват!
— Катерина Николаевна, — ерничал отец. — Неси топор, буду иконы твои колоть на щепки.
— Не собирай никого-то! — притворно сердилась мать, продолжая шлепать в своих глубоких калошах — с тазиками, с ведрами, пойлами, мешанками, гремя чугунами, ухватами.
С религией, с верой, несмотря на прошлую «церковную биографию», у отца была если уж не напряженка, то относился он по старой комсомольской традиции к верующим старухам без должного почтения.
— Вон Бог Савооф на доске нарисован, а рядом ангелы с крылами. А ты знаешь, кто это? — однажды отец разоткровенничался со мной. — Два евреёнка нарисованы. В Ишиме была мастерская иконописная, вот евреята себя и срисовывали, потом по деревням ходили, продавали эти доски. Я их хорошо запомнил: себя и срисовывали с крылами…
Несколько лет назад отец оставил совхозную работу, где у него было столько обязанностей. Пастушество. Потом охота на ондатр. Заготовка пушнины. Выбились мы немного из нужды. Во дворе появились два велосипеда, а я, тогда еще школьник, выревел настоящий портфель для книжек-тетрадок. Появилась и новая гармонь-хромка. На ней я уже сносно играл необходимые в деревне вальсы и плясовые переборы: «Амурские» и «Дунайские волны», «Подгорную», «Цыганочку», «Саратовские страдания», под которые хорошо ложились в лад припевки и частушки вечерних улиц села.
Играл на хромке и Саша Кузьмин. Впрочем, что он не умел делать? Кажется, всё! К двадцати с небольшим у него имелись «корочки» всех технических и гуманитарных деревенских специальностей — от шофера до комбайнера, от киномеханика до парикмахера, от рыбака до охотника. Он легко оканчивал всякие краткосрочные курсы, азартно принимался за освоение новой профессии, так же скоро мог ее бросить, увлекшись очередной идеей.
В рассказе «Душа не терпит» я, насколько смог, нарисовал характер, поступки моего старшего приятеля, затронул и лирическую струну его отношения к деревенской девушке, к матери. Но как не лепил я героя рассказа с конкретного персонажа, все ж не совпал он стопроцентно с «первоисточником». Осталось, конечно, главное, что задумывалось, — написал о деревенском мечтателе Сашке Гусеве, который вместе с восьмиклассником Валеркой Тагилыдевым построил самодельный аэроплан, который, пусть и в приснившемся Гусеву сне, но взлетел-таки над крышами села, над зерно-током, над всеми мужиками из МТМ, над бабами на огородах, над школьной ребятней, вывалившей из классов на просторный школьный двор и от радости пускавшей в небо голубей с восторженным криком: «Это они летят!»
А ведь это была наша с Сашкой Кузьминым мечта: «Все сдохнут от зависти, когда мы взлетим над Окунёво!»
Работал я на тракторе. И тоже «плантовал» всякие штуки. Захотелось вдруг в передовики выбиться. Накупил брошюр о передовом опыте на косьбе пшеницы лафетной жаткой. Моя жатка вечно ломалась, приходилось то сегменты ножа клепать, то полотно чинить, то мотовило налаживать. Больше ремонтировал, чем косил пшеницу в валки. Пришел к Саше с брошюрой о скоростной уборке:
— Посоветуй, как лучше переоборудовать жатку!..
Тут надо сделать лирическое отступление, уточнить подробности характера моего приятеля и тех перемен в жизни Кузьминых, что, естественно, не могли не произойти за минувшее с нашего детства время. Старый, на подклетях, дом, выходивший углом в переулок, с чертями и всякой бесовщиной в заколоченной горнице, куда-то исчез. Скорей всего, дом этот с богатырской печью и самокованой кроватью — в пыль, в прах истолчен и развеян был по ветру трудами полночных сатанинских сил. Иль сам по себе догнил, рассыпался в труху, как рассыпались за эти годы многие избёнки и пятистенники с отпиленными в морозные зимы военной поры зауголками, сожженными настилами и стропилами крыш, напоминавшими мне безрогих комолых коровенок, которые водились в деревенском стаде во множестве.
Младший из братьев Кузьминых, Василий, к той поре перебрался в Ишим, женился. Обосновался там, говорили, прочно и пристойно, настрогал ребятишек. В Окунёво почти не появлялся, разве что по старой памяти соблазнялся приехать за карасями, как соблазняются и делают это по сию пору горожане — выходцы из нашего озерного, карасьего района.
Потом как-то случайно мы встретились с Васей в Ишиме, едва узнали друг друга. Говорить было не о чем, и мы с облегчением разошлись, даже не обещая друг другу, как водится обычно среди бывших сельчан, непременно зайти и уж потолковать «за рюмкой чая» основательно.
Шел я к Александру со своими «тракторными, лирическими» раздумьями в его новое жилище, возведенное на той же улице, в паре минут ходьбы от другого проулка, который стараниями дорожных служб превращен был в начало просторного, поднятого грейдерами, большака на Ишим, где можно было голоснуть рейсовому автобусу, а при срочной необходимости уехать в город и в райцентр Бердюжье — бортовой попутке или бензовозу.
Новое жилище Кузьминых, которое я не рискую назвать ни избой, ни домом, ни пятистенником, представляло собой довольно вместительный со многими комнатками-клетками приземистый балаган, какие мы на скорую руку возводили в детстве для игрищ и забав, или южнорусский, точнее, малороссийский казачий курень, построенный как обиталище временное, пока хозяин не возведет капитальное строение.
Помнится, Саша, вернувшись из армии, блистательный — при значках воинской славы на гимнастерке, при лычках младшего сержанта на черных артиллерийских погонах, скоропостижно решил обзавестись молодой женой. Тогда он и построил этот вместительный балаган, скорее просторный блиндаж (долговременную огневую точку), буквально за пятидневку. В одиночку построил, при содействии топора, лопаты, трехрожковых вил, ну еще ножовки и нескольких килограммов гвоздей — в том же скоропостижном аврале прикупленных на складе рабкоопа.
Со строительным материалом на жилище — бревнами, брусьями на стропила и сени, досками, плахами, дранкой на штукатурку внутренностей жилья — он не мороковал. Присмотрел за ближним Дворниковым болотом жердяной лесок, подмокший, тронутый первой гнилью, потому и годный на свободную, без квитанции лесника, вырубку. Произвел заготовку материала. Намахал, напластал жердей за полдня. Во второй день взял у совхозного полевода с конного двора Гнедка и привез несколько телег этих жердей. И стройка занялась.
Подобные жилища — свидетельство чрезвычайной бедности, порой возводились в Окунёво: ставились столбы, набивались доски с двух сторон, пустое пространство стен засыпалось землей с огорода. Насыпухи простаивали десятилетия, помаленьку облагораживались наличниками, резными фронтонами, колерами покрасок, торжеством цветущих гераней на окошках. В таких насыпухах подросла уже пару поколений местной орды, родившейся после нас…
Саша поступил, как поступали на моей памяти колхозники при возведении овчарен: набивали полые стены соломой, притаптывали, уплотняли. Ни лютые ветры, ни зимние вьюги-круговерти в таком жилье нипочем!
На третий день временное жилье (нет ничего более постоянного, чем временное!) встало под крышу. Волшебным образом или при содействии той же, нечистой, силы возникла крыша с двумя скатами, крытыми почерневшей, но вполне пригодной для дела болотной осокой-порезуньей, пришпиленной от ветров-вьюг теми же осиновыми жердочками внахлест.
Не откладывая, Марья Кузьмина собрала «помочь» из ближних околоточных баб и старух. Внутренние покои молодых промазывались, замешанной в трех оцинкованных ваннах, красной глиной. Тут же вставлялись косяки и наспех остекленные рамы. А с утра пятого дня над крышей из осоки-порезуньи завились заполошные колечки дымов. Вовсю нажваривалась для просушки свежей «штукатурки» печка-буржуйка, о которой уже давно и прочно забыло остальное окунёвское население.
Невесту Саша каким-то образом успел присмотреть в соседней деревне Песьяново. Блистая значками, усадил ее на раму велосипеда и во всех крепдешинах, в белых босоножках привез на обозрение околотка. Еще с неделю, не менее, околоток мог лицезреть счастливых молодых, их гулянья под ручку, смех, улыбки, легкомысленный крепдешин молодой, развеваемый при легком колыхании ветерка, сияние значков и сверкающий лак козырька артиллерийской фуражки ее мужа.
Никто не расскажет, при пытках не разгласит тайну скорого исчезновения молодой Сашиной жены. Этого околоток не видел, а наговаривать напраслину на Сашу Кузьмина, зная его острый язык, опасались.
Ну, разошлись. Что так скоро? «Чё не быват!»
Ну душа не терпит, так и быть по сему. Надо заметить, что и в будущие времена Саша совершал попытки прочно утвердиться в семейной жизни, но таинственные его браки распадались опять же скоротечно.
А зря!
Надо было знать места, где жили справные невесты. Полнотелые, работящие, способные к тому же к крепким семейным узам и пополнению народонаселения страны, они жили в соседнем районе Казанском, в селе Грачи. Сие было известно не только застенчивым Федям, не знающим с какой стороны подкатывать к девахам, не умеющим связать слова в пристойное объяснение в симпатии, кроме как проявить «ласку» — придавить в общей куче где-нибудь на сенокосе в игровой свалке, нашлепать корявой ладонью по мягким, запретным местам. На вышеуказанное они, Феди, были способны. И все!
Таким вот «федям» привозили невест, которых они и в глаза не видели, бойкие на язык штатные свахи просватывали, ублажали грачёвских по старым, неизбывным обычаям. Сколько этих «грачат народилось у застенчивых «федей» и «кланек», сколько обновилось на наших двоеданских дворах кровей, пойди нынче сосчитай!
Впрочем, не с этими мыслями-раздумьями отправился я к Саше Кузьмину. Пора была горячая, уборочная, так что был непременно вечер, дня просто не могло и быть. Днями колотился я со своим тракторишком и жаткой на какой-нибудь из пшеничных полос — с вечными поломками, кровяными ссадинами на руках, но при высоком юношеском задоре.
— Саша, посоветуй, как лучше переоборудовать жатку!
А Кузьмин в эти дни был обуреваем своим.
— Это всё ерунда! — сказал он. — Вот, смотри, что пишут в «Труде». Какой-то Миша построил самолет и летает… Мы разве не можем?
— Можем! — сказал я. — Но я никогда еще не строил самолета.
— И я не строил. Самое главное — рассчитать шаг пропеллера, подъемную силу крыла. Остальное соберем, железяк хватит в совхозе. Вон сколько списанной техники ржавеет.
— Наверно, из дюраля надо?
— Ну, это детали… А в общем так: увольняйся, поезжай в авиационный институт… Нет, погоди, в институте долго штаны протирать. В Омске есть при авиазаводе техникум. Два с половиной года всего корпеть. Но ведь уже через год ты будешь классным механиком нашего красавца! А?
— Через год меня в армию заберут! — заметил я.
— Тогда давай строить не откладывая…
О том, что было потом, я написал в рассказе. Саша за один вечер соорудил на своем дворе ангар. В ход пошли подручные доски, штакетины забора, куски фанеры. Но главное — он накосил сухого камыша, покрыл крышу и, обуреваемый еще неслыханным азартом, рисовал на бумаге-ватмане «конструктивные особенности воздухоплавательной машины». Я раздобыл «шасси». Отвинтил резиновые колеса от исправных тракторных боковых граблей, что стояли за нашим огородом у кузни, в загородку корове притартал тяжелый мотор «ЗИД-4,5», что валялся неисправным возле стены зерносклада. Операция по добыче подручных «авиадеталей» только поначалу прошла незамеченной. Бригадир тракторной бригады (мой родной дядя Петр Николаевич Корушин, бывший танкист, бравший Берлин и расписавшийся на немецком рейхстаге) пропавших запчастей хватился быстро. Встретив в проулке мою мать, дядя сурово попенял:
— Передай Николаю, пусть колеса и мотор поставит на место.
Вечером, возле кузницы, я повинился бригадиру:
— Мы же на время взяли. Вернем, как только…
— С кем связался! — покачал головой дядя.
Камышовый ангар еще долго золотел и возвышался над забором Кузьмина. Когда через месяц, окончив осеннюю практику, я уезжал в механизаторское училище, чтоб завершить свое образование «широкого профиля», из окна автобуса бросил взгляд на еще целехонький камышовый скат крыши, на котором сверкала цвета серебристой дюрали пороша выпавшего за ночь снега.
* * *
Я еще долго дружил с Кузьминым. Как многие окуневцы, Александр Петрович перебрался в Ишим. Поселился на окраине — на «хуторе». Так в обиходе именовалась эта возникшая после войны, а может, и раньше — «нахаловка», где селились уехавшие правдами-неправдами из колхозов жители окрестных деревень. Кто-то сколачивал времянку, а затем поднимал домик из бревен или бруса, прирезал землицу для сада-огорода, заводил скотину. То есть обживался вполне по-деревенски, но жил уже свободным горожанином-полупролетарием.
Поставил на одной из улиц хутора свой дом и Саша Кузьмин. Только раз довелось заглянуть мне в эту его холостяцкую обитель, которая сразу напомнила мне тот древний дом Кузьминых, на подклетях, с перекрестьем из двух тяжелых плах на горничных дверях, за которыми по ночам плясала нечистая сила. Та же неприбранность, то же ощущение какой-то временности жилья. Как говорят, «отсутствие всякого быта», которое подчеркивали наспех приколоченные (не наклеенные даже и потому вздувшиеся пузырями) обои, отсутствие двери в проеме, ведущем в горницу, а в кути — недостроенная русская печь, имевшая лишь шесток и топку. Так что «по причине отсутствия» лежанки, где должны сушиться валенки и рукавицы, дремать рыжий котяра, покоиться ухваты и сковородники, кирпичи и обломыши кирпичей — сразу от чувала-трубы стекали до пола. Отчего вся несработанная до конца «конструкция» напоминала первую ступень изготовившейся к пуску космической ракеты.
— А-а, все никак не соберусь доделать! — уронил меланхолично Александр.
Работал он в ту пору на машине «скорой помощи». Встретив меня на улице Ишима, обрадовался и сделал крюк, высадив докторицу у больного, подвез меня «на этой консервной банке», чтоб показать свою обитель, куда я могу «завертывать в любое время»…
Другая встреча произошла через несколько лет, когда я работал в сельхозотделе «Тюменской правды», мотался с блокнотом по южным хлебным районам области. Как-то голосуя попуткам возле приишимского села Лариха, словил я «зисок» Кузьмина. Когда он тормознул и, обрадованно сверкая глазами, распахнул правую дверцу кабины, упавшую на боковину капота с жестяным скрежетом, «зисок», окутанный пылью, продолжало трепать и бить в необразимой лихоманке. Затем, припадочно подергавшись всей своей расхлябанной железной массой, он выстрелил взорвавшейся в карбюраторе смесью бензина и августовского воздуха. Заглох. Мы попеременно поработали «кривым стартером». Когда завели машину и тронулись с места, автомобиль, лишенный амортизаторов, нещадно тряс нас на любой маломальской кочке или выбоинке разбитого тракта.
Саша, обрадованный донельзя прилежному слушателю, не обращал на это внимания. Он азартно излагал мне конструкцию «вечного двигателя», которую он «продумал до мелочей» и наконец (впервые!) решил этот вечный вопрос, способный совершить революции не только в технике, но и дать толчок «прогрессу человечества». Прогресс — прогрессом, а я первым делом взял на заметку и занес в блокнот рассказ водителя Кузьмина, который участвовал в «битве за хлеб». Как выяснил потом — успешно работал в страду! Написал для первой полосы зарисовку, где фигурировали и производственные показатели земляка-приятеля и, конечно же, светлая душа мечтателя, наивно, может быть, собравшегося разрешить многовековые устремления всех изобреталей планеты.
В пору развернувшейся горбачевской перестройки, ускорения и гласности, когда «свежий ветер перемен» поманил доверчивых русских мужиков в кооперацию, сулящую «золотые горы», Саша возник у меня в Тюмени — с папкой документов, писем и отписок. Просил помочь «квалифицированным пером». Он бился об открытии собственного рыбокоптильного предприятия на глубоком карасьем озере возле Пегановской Зимовки — в земельных угодьях разваливающегося окуневского совхоза. Доказывал районным и областным начальникам, что способен поставить дело и завалить население родного и близлежащих районов отличной копченой продукцией. Начальство, воспитанное на марксовых установках о хищнической сущности капитализма, на лютой ненависти к буржуинам всех мастей, ставило жуткие рогатки и препоны Кузьмину, мурыжило месяцами со справками. Ухмылялось и покашливало в партийные кулаки: «Ты что — хочешь богатым стать?!» Саша взрывался: «Так разрешил ведь Горбачев!» — дерзил, грозил прокурорами. Но и в прокуратурах сидели верные «псы» пока еще «народной власти». Вскоре раздастся ельцинское «фас», и все они, побросав партийные билеты, кинутся хватать (кто понахрапистей, не зевай!) эту «народную собственность». А бугры партийной и комсомольской власти — в первую голову!
Господа, едрит твою за ногу.
В августовский день 2001 года я получил из Ишима письмо от нашего окуневского стихотворца — еще одного! — от Виктора Тимофеевича Долгушина, в прошлом военного моряка, а сейчас, как он сообщил, «доживающего в Ишиме на пенсии». В письме были и строки несказанно обрадовавшие меня. Словно добрый лучик солнца и юности заглянул в мое хмурое августовское окошко: «Встречался несколько раз летом с Александром Кузьминым. Живет один, ходит быстро, широко шагает, наклонившись вперед. Улыбчив, весел, на лету ловит мысль…»
ПРО ДЕДА ПАВЛА
А какие старики жили в нашем селе!
Это теперь бы, со взрослым понятием, с запоздалым интересом подойти, расположить к разговору человека да повыспросить обо всем на свете. Что он думал в каждодневных трудах своих о смысле жизни, какую философию выпестывал в своей седой голове, долгие годы глядя на эти поляны, перелески, вздыбленные над степью увалы, меж которыми незабудковой голубизной сияют наши озера. Да растеклись по этим увалам селения — деревни с избами и домами, рубленными в венец и в лапу в стародавние и нынешние времена. Да колосятся хлеба, да шумят травы, да пылит дорога.
Да нет уж, говорю себе, припоздал.
Отстрадовали, убрались — как говорят у нас! — наши старички: кто под плакучие березы мирских могилок Засохлинского острова, а кто за рям, под вольное небо двоеданского кладбища. Ушли, кто куда пожелал еще при жизни, а точнее, куда был определен давним, уходящим в века, порядком: коль из староверов!.. Но какая теперь вера! Так, семейная традиция — хоронить там, где нашли вечный покой далекие пращуры.
И вот хожу меж невысоких холмиков под православными крестами, продираясь сквозь колючий шиповник, жизнеутверждающе полыхающий алыми соцветиями, среди крапивы, пырея, лебеды. Читаю надписи на крестах, на пирамидках под звездами. Не каждую из них разберешь: размыли дожди, ошелушили ветра, иссушило солнце. Стоят среди свежих крестов и безнадзорные знаки памяти, оседают, сравниваются с землей холмики.
Течет время.
Вот уже и могилку дедушки Павла не нахожу…
Дед Павел, дед Павел… Наш сосед. Изба его, крытая дерном, на два ската крыши, хоть и сера от старости, хоть и одинока, пуста, а цела еще — слепо поглядывает на дорогу и дальше, на озерную голубизну, голыми, без занавесок, окошками. Глядит так же, как когда-то, много лет назад, сам её хозяин, уже немощный, сунув ноги в кривые пимы, посиживая на лавочке перед избой, глядел в озёрные дали.
О чем он думал, в те свои остатние дни, на восемьдесят седьмом году жизни, пойди теперь разузнай…
Не знаю доподлинной биографии деда, только понимаю, что, родившись в девятнадцатом веке, помнил он и революцию, и крестьянское восстание, масштабно и кроваво прокатившееся в наших Приишимских местах. И еще многое он помнил. От мужиков, еще мальцом, слышал я, что дедка Павел Замякин принимал какое-то участие в этом восстании, якобы ковал в кузнице пики для повстанцев. Все может быть. А то, что уцелел после подавления восстания красными частями, так ведь многие уцелели. Конечно, наиболее активных бунтарей «законопатили» на Севера сразу, кого-то энкавэдэшники в тридцатых уже годах забрали. И — с концом.
Рассказывали, что до войны с фашистами, еще крепким стариком, торговал он в нашем сельмаге — красном кирпичном особнячке, — отпускал гвозди и керосин, отвешивал мятные «лампасейки», отмеривал метры ситца, бумазеи, сатина. Да все с шуткой, с прибауткой, с подначкой.
Я запомнил его уже в послевоенные, уже памятливые свои годочки, а то, что было раньше, до моего рождения, представлялось мне призрачным, похожим не то на сказку, не то на розовый сон, приснившийся теплой июльской ночью.
А дед Павел, как сказано уже, был завзятым рыбаком. Было б удивительным, непонятным в отношении старинного жителя наших рыбачьих мест, если б вдруг дедка Павел не имел лодчонки-плоскодонки, сетей-ловушек. У деда были еще и плетеные из ивняка морды, котцы, излаженные из тонких сосновых реечек, заостренных на концах да переплетенных гибкой и мягкой корой молодого ивняка. Котцы он ставил на мелководье, возле камышей, хитроумным способом так, что рыба, зайдя в котец, уже не могла из него выбраться на волю.
Дед Павел временами вывозил котец на берег, раскладывал его для просушки, а сам, приковав лодчонку за старую раму от сенокосилки «нарошненским замком», ковылял домой с веслом на плече.
Тут мы, орда босоногая, и наткнулись однажды на дедовы снасти. Лежат они себе на солончаковой травке, полеживают, вяляются на солнышке сотни отличных стрел, А у меня гнутый лук через плечо, тетивой томится. И у Шурки Кукушкина, и у Тольки Миндалева — деда Павла городского внучонка, тоже. И принялись мы пулять стрелами в камыши. Азартно, долго. Звено за звеном — раздергали дедов котец. А когда надоело стрелять из лука, начали кидать рейки наподобие копий: кто дальше кинет!
Вечером дед Павел бежал, спотыкаясь, от озера с длинным шестом:
— Убью!.. Острожники, колодники, варнаки-и!
Голос у него тонкий, высокий, а в голосе — горе-горькое. Хлупает резиновыми, клеенными из машинной камеры, галошами. Рубаха, линялая, навыпуск поверх штанов заплатанных. Бесполезные крики…
Вспоминается и другой момент. Сидит дедка Павел на лавочке у избы. Синие глаза такие добрые, лукавые, бороденка расчесана.
— Подойдите, ребятишки.
Мы подходим.
Дед начинает нам петь частушки. В частушках имена и фамилии наших деревенских, недавние уличные события и многое другое. Все на удивление складное, как у Пушкина.
Эх, дождик идет, Всю бригаду мочит, Степа Шустов на быке Едет и хохочет.Дед Павел смотрит на нас синим оком, легкая улыбочка на губах, словно спрашивает: ну как? И заводит тонким голосом новую частушку:
Шла машина Из Ишима, Колесо резиново. Дедка с девками гуляет, Бабка рот разинула.Вот он какой, дед Павел, думал я, тала-а-нтли-вый! А мы-то в лихие минуты донимали его с Шуркой Кукушкиным, боязливо, издалека, каким-то несуразным стишком и то не нами сочиненным: «Дедушка Павел в штаны наплавил. Дедушка Павел…» А дед поет:
Вот она ударит Погода сыроватая. Сама белого лица, Любила черноватого…Потом он опять носится по нашей окраине, размахивает веслом. Бороденка спутана, всклокочена, кожушок сползает с худых плеч, но у шапки одно ухо гоголем:
— Каторжники, жулики, подмостники! Убью-ю…
Да не убьёт, я уж знаю. Хоть и на всякий случай прячусь в хлев к борову.
А дело в том, что вздумали мы покататься на лодке деда Павла. Замок, известно нам, у лодки нарошненский: ковырнул гвоздем и — готово! Но и «миноносец» дедов тоже с норовом. Только оттолкнулись от берега саженей на десять, как в рассохшиеся борта и плоское днище, в щели, ударили струи воды. За какие-то минуты пошли мы ко дну, благо на мелком месте. Сам-то дедка Павел, отправляясь на рыбалку-охоту, запасался всегда ветошью, куделей, тряпьём разным. И ничего, все обходилось у него благополучно.
Но пришла пора вспомнить о чудачествах деда. Сердитые эти чудачества, рассчитанные на ротозеев, на людей наивных, неразумно доверчивых. Такие всюду отыщутся. Так им и надо!
Так вот, как-то наловил дед Павел на озере Окунёве (озеро славилось крупной рыбой!) больших, увесистых карасей. Лапти и лапти — по величине! Чешуя серебряная, размером в копейку каждая чешуйка. А возле озерной пристани — гороховое поле. Был, кажется, август, поскольку мы уже шастали, крадучись от объездчика, за стручками. И вот, недолго думая, нарвал и дед тех стручков и перед тем, как пластать-чистить рыбу, накормил каждого карася зелеными горошинами. Да еще подождал, пока мимо его подворья будет проходить Андреева Анна…
— Глянь-ка, Анна, — окликнул её дед Павел, — рыба на горох вышла!
На глазах у Анны распластал несколько карасей. И верно: в кишках у каждого — зеленый горох.
А у Анны такое дело — в дождь ли, в зной ли, а надо непременно пройтись из конца в конец по селу. По делу и просто так, посудачить с народом.
— Не может быть! — выслушав сообщение Анны, дивился иной мужичок. Но тотчас бежал к старику удостовериться.
В большом нашем селе таких простодушных рыболовов набралось тогда десятка два человек. И под вечер плотное кольцо сетей и ряжевок окружило гороховое поле…
Смеялся потом весь народ в округе.
Едва подзабылась каверзная шутка деда Павла, как он отчебучил новую. Она связана с круглым, пересыхающим только в очень жаркое лето, мутноватым логом, где с весеннего половодья держались талые воды, возможно, подпитываемые грунтовыми ключами. Лог этот расположен на окраине села, в нашей стороне, как раз между территорией колхозного зернотока и небольшого кирпичного заводика. На берегах лога стояли ветряные мельницы, одна еще махала крыльями. Живописное место, для ребячьих игр — особенно. Летняя воля. В логу плавали гуси — царственно, независимо. Забредали поросята, пахали острыми рылами береговой ил, подходили напиться бродячие телята. Случалось и нам, ребятне, искупаться в логу. Все ж надо было испробовать, испытать! А в логу и неглубоко, в яминах — по горло, а взрослым и вовсе — по пояс.
И вот одним ранним утром, когда, сбивая росу на лопухах и одуванчиках, прошло уже на пастбище деревенское стадо и тяжелый кнут пастуха щелкал где-то у Васильевских ворот, народ, спешащий на работы, увидел такую картину. Дед Павел, как дядька Черномор, только без богатырской дружины, выходит из лога на брег его, вынося за собой ряжевку, полную тяжелых серебряных карасей. Бьются в ячеях, трепыхаются. И дивится, разинув рот, распахнув сонные еще ресницы, трудовой люд.
А дедка Павел, равнодушно поглядывая по сторонам, садится на бугорок, деловито выбирает улов, бросая карасей в ведерко. Знатных карасей, жар-огнем горящих на заре!
И вскоре весь грязный лог — вдоль и поперек! — был обтянут ряжевками, сетями, гальянницами, установлен частоколом тычек. И гуси в тот день, погоготав от удивления на белые поплавки снастей, отправились плавать на озеро.
Ждали вечера и мы, пацанва. В логу рыба? Мы пробовали подобраться к снастям еще в середине дня, посмотреть, что попалось? Но кладовщик зерносклада, прискакивая на деревянной ноге, грозным окриком упреждал все наши попытки пробиться к логу. У кладовщика там тоже стояла сеть!
Вечером случилось непредвиденное. Пока ждали сумерек, а в сумерках снимать снасти самое сладкое дело: карась кажется ядреней, резвей. Солнышко угомонилось, не печет. А тут — стадо вернулось в село. Напитавшись солончаковыми травами, коровы азартно двинулись в лог на водопой. И разумей дело пастух, ожег бы с продергом кнутом одну-другую буренку, и все было бы не так плачевно. В азарте прошло стадо, как пропахало, лог. Половину снастей погребли коровы в донном иле, другую вынесли на рогах, заявившись к своим калиткам в невиданном доселе виде, до смерти перепугав своих хозяек.
Деду Павлу грозили «что-нибудь сделать!»
Но время шло, благоразумие брало верх, и злые шутки деда превращались в поучительные истории, в легенды, а раз легенда, то и отношение к её живому создателю соответствующее — восторженное.
А старик как ни в чем не бывало жил-поживал со старухой, кормился малой пенсией, огородом да рыбалкой.
И чудилось, вовсе не старился. Хотя, по правде сказать, куда больше-то стариться, всю жизнь, сколько помнил я его, был он дедом!
Хватало еще у деда сноровки порыбачить в раннюю весеннюю пору из-подо льда. Ни сетями, ни неводом (неводов у нас не знали. К заезжим зимним бригадам с неводом — не благоволили). А эта ловля доступна каждому, даже малому парнишке, способному уже держать в руках пешню, лопату, сачок. На загарных озерах, в конце февраля, в марте, когда карась задыхался от недостатка кислорода, всякий, не ленивый, отправлялся промышлять. Долбил во льду продолговатую лунку-корытце, с обеих сторон «корытца» делал сквозные проруби. Карась сам шел тебе в руки: гони лопатой воду, подхватывай появившихся на свет карасей.
На загарных озерах!
А дед Павел одним воскресным (в начале марта днем) взбудоражил полсела: пошла рыба на Солёном!
Соленое — известное у нас озеро. Когда в летнюю пору случается там искупаться, на коже остается белый налет горькой соли. Вода так насыщена солью, что на ней, раскинув руки, можно долго лежать на спине. Отдыхать, пока йодистый, терпкий дух не закружит голову, не запершит в носу, в горле. Лечебное озеро — для стариков, старушек. Суставы, радикулит выправляет. А живности в озере почти никакой, кроме маленьких, блошиной резвозти красных букашек, в Соленом отродясь не водилось.
Но пошла рыба. Карась-желтяк!
Парнишка, катавшийся в тот день на лыжах с Солоновского увала, прибежал в село с вытаращенными глазами: дед Павел полмешка уже наловил!
Мы подхватили инструменты и — бегом на Солёное!
Смотрим, на снегу возле дедовых прорубей стынет горка рыбы. На наших глазах старик выхватил сачком еще нескольких карасей. Тут нас совсем раззадорило. И мы кинулись крушить лед, дружно, наперегонки. До вечера баламутили мы душную горькую воду…
Ну, дед провел!
Не поленился старик, принес с другого озера карасей, незаметно подкидывая их в соленое «корыто»!..
Хожу по сельскому кладбищу. Ветер в березах пошумливает. Не громко, не назойливо. Не мешает моим думам.
Никак не нахожу могилку дедушки Павла. И уж чудится мне: он и здесь шутку вытворил! Вот выйдет из-за той необхватной березы, рассмеется в седую бороду, сощурит синие глаза, скажет: — Ловко же я вас объегорил, а? Но ни звука. Только пульсирует в думах строчка хорошего поэта: «Он нас на земле посетил, как чей-то привет и улыбка…»
ЗА ЧАЕМ
— Ты уж проводи меня, батюшко, ко Грегорию. Вот как чаю попьем, чашки помою и проводи. Я бы дак и одна дошла, как в прошлом разе, дорогу бы у ково спросила до фтобуса, а остальной путь — своим ходом. А теперь боюсь. Голову обносить стало. Вроде, ничё-ничё, сидишь, чё-нибудь делашь, в телевизер смотришь, а потом как заобносит, в глазах помутнеет и телевизеру не рада, не знашь куда детыда, к чему прислонитца. Голову в платок замотаю, полежу, вроде, отпустит. Опеть бы чё делала, а чё делать? Нечево! Кровать заправишь, посуду какую грязную поишшешь, и опеть пучишь глаза… Ты уж проводи меня, батюшко, проводи. У Грегория мне вроде как полегше. Оне поране вашего на работу убегают, меня, правда, стараютца не тревожить. Лежи, говорят, отдыхай. Воды, скажет Грегорий, я со споранку две фляги от колонки привёз, дрова вон наколоты-наношены, возле печки костром лежат, половики на сугробе вытряс. И делать нечево, лежи… Как это так нечево? Дом-то свой, не казенная квартера, как у вас, заделье всегда найдетца. А как без заделья? Мы привышны в деревне. Бегашь, бегашь — конца-краю нет. Да чё я тебе говорю, поди, не забыл, как ростили, подымали вас всех на ноги…
Ну я у Зины-снохи попросила ишо рямков всяких, хахаряшек — платьишки старые, негодные, рубашшонки: все лежит комом в кладовке. Пошто, сказала Зине, вы выбрасываете добрую одёжу? Пол мыть можно какие похуже тряпки выбрать! Вот сижу теперь, стригу на ленточки, можно потом какие дерюги под порог сплести.
Она, Зина-то, сначала не соглашалась, да и Гре-горий возрызнул на меня: на какую холеру оне сдались тебе, мама, в магазине этого барахла, сколь хочешь, куплю! Я сказала: ладно, мол, для горницы покупай в магазине, если богаты стали, а уж для сенок и под порог в избу — сплету из рямья. Вы уж, говорю, сами век доживаете, вон ребятишки большие, из армии пришли, должны понимать: копейка, какая лишняя есть, сгодитца…
Да вот и в ограду выйду, там Мухтар на грудь скачет. Чё, говорю, на цепь тебя посадили здесь, не жилось тебе дома в деревне? Отец-то отдал собаку, а потом и спохватилса — неловко без собаки, другую привел. У Ивана Барышникова сучка ошшенилась, взял. Тоже Мухтаром назвал. Мухтар — и этот Мухтар. Радуетца, признаёт. Вынесу ему че, покормлю, снег на крылечке голиком смету, ящщик с почтой проверю: может, от отца открытка пришла, и опеть — в дом. А он уж и выстывать начнет, примусь печки подтоплять, кастрюлю с супом на плиту поставлю. Пока то да сё, суп гре-етца, дрова в печке шшалкают, в телевизере поют, оно, глядишь, и солнышко садитца. Зимой-то не успешь повернутца и день прошел. Первым Грегорий стучит в ворота, после дежурства ишо на базар успет слетать, с полнёшенькой сумкой идёт. Потом Володька, потом Валерка. Оба солдаты, да здоровушши каки вымахали! Не моргнешь, как женятца, опять свадьба. Вас-то всех переженили, своими семьями обзавелись…
А ты пошто, батюшко, редко к им заходишь? Ить братья! Подружней надо жить, поласковей друг ко дружке. Чё, говоришь, интиллигенцией стал? В конторе за столом сидишь? Давно ли козанки на руках у трактора сбивал, приходил в мазуте, одне глаза да зубы сверкали! Ну ладно, сиди с бумагами, коль ученье в голову пошло… Да ладно, сиди, я сама поднимусь, налью из чайника. И пряник возьму и печенюшку. Ты поискал бы по магазинам, может, где на яблоки натакасся. Домой поеду, надо яблок взять. Пожумелим с отцом, зубов-то уж у обоих не осталось
А от давленья яблоки-то помогают и, мне сказывали, рябина хорошо. А то в прошлом разе ты, батюшко, привез полсумки энтих… Ага, лимонов, помаялась с ими. Попробовала — кислые, глаз рвёт, чё, думаю, делать с добром? Баушка Авдотья натокала нарезать парёнками и сушить в печке на листе. Уж потом и поругал меня отец ваш, уж и повыставлял. Такое добро, говорит, перевела! Чё смеёшься? Откуль мне знать, у нас их и сроду не завозили никогда. Охо-хо! Тяжело с вашим отцом стало. Уж оба не молоденьки, обо мне и вовсе говорить нечего: потолкусь возле печки и падаю на софу. И у его в последнее время нога за ногу запинатца, а всё метитца орлом выглядеть. Орёл с вороньим пером! Ладно потаскал он меня за собой по белу свету! Дак ить молодые были оба. Только-только в колхоз заступили, кобылу Булануху отвели на коллективный двор — от ее потом весь приплод в колхозе пошел. Обжились маленько, а ему вожжа под хвост в тридцать втором году попала: поедем на Магнитогорское строительство. До станции Петухово, как придется, где на подводе, где пешком, добрались, устроились в вагон, поехали. Года два всего и поробили, а ему опеть нейметца, поташшил меня в Кировград — Колотой раньше называлса — медеплавильный завод подымать. Грегорий-то уж подрастал, потом Шурка родился. Я, правда, робить не бросила, в столовой на раздаче устроилась. Полегше было. Потом опеть снялись на ново место, с новова места — домой к себе. Потом — война…
Зина мне и приговариват: месяц погостила у нас, живи хоть сколь! У неё порошков, таблеток целая коробка, она чисто врач, всё знат. Ко врачам меня тоже водила на уколы, на прогреванье. Одна женщина-врачиха послушала, посмотрела: серце, говорит, у тебя хорошее, только надцажена вся. Спрашиват: ты, бабушка, из деревни? Из деревни, отвечаю, откуль мне быть? Легше мне стало. Рецептов навыписывали, пью лекарства, по три раза в день принимаюсь. Зина наказыват, ты, мол, легулярно принимай, мама, пока мы на работе… Ты уж проводи меня до фтобуса. Пожила бы у тебя ишшо сутки, да и других сыновей надо не обидеть. Да и девчонки твои шибко карахтерные и вольные. Чё ты их не приструнишь? Мы же вас в строгости держали, а ничё, вырастили ни калеками, ни уродами. Не давай им потачку. Старшая дак прямо — звезда, ни в чем на уступки маленькой не идет. Поначалу всё возле меня, возле меня. Рассказываю про корову Зорьку, про бычишку Борьку, про борова, про куриц, она же помнит — с шести месяцев ее вынянькала, молоком топленым с пенками кормила. А теперь уж голой рукой не бери её, в школу пошла. Младшая — тоже вырви глаз! Из-за кукол разоспорили. Я советую им: нельзя, вы обе сестры, подчиняйтесь друг дружке. Шум устроили, заревели обе. Я говорю, кукол у вас целый угол, отец с матерью набрали, а им одна глянетца… А у меня невры, в голову ударило, повалилась на диван… Вот убежали недавно к подружкам, етажом выше. Мы, говорят, там поиграм, бабушка, пока мама с работы вернетца. А чё она не вернулась? Чё она до поздна? Ты пришел чин чином, а Маруси нет! На собранье, говоришь, осталась? Ну ладно тогда. Однако я не дождусь, хотела повидатца. А то утром мы на дороге у вашего дома сошлись на ходу, я её и не признала. Гляжу, подходит женшина в дорогую доху одета. Говорю, ты чья будешь? А она: ты чё меня, мама, не узнаешь? Батюшки, Маруся! Хорошо хоть тебя ишо дома застала, а то шлепай обратно. Да и ничё, я бы к самому малому, к Петрушке, ушлепала. Дом его теперь уж найду, бывала. А то в первый-то раз принялась самостоятельно искать, мне б натокатца спросить у ково, а я вылезла на остановке и побежала. Бегу и бегу, дом двенадцатиетажный высматриваю. Убежала к заводу, далёко. Оставливаю женщину, спрашиваю: воровская улица где находитца? Она рассмеялась и показыват в обратну сторону. А у меня уж метлячки в глазах. Побежала обратно… Как ты её называть? Воровского? Ну да неграмотна я: воровская и воровская…
Хороший у тебя чай. Индейский, знать? Не индейский? Все равно добрый, заваристый. Мы с отцом из самовара тоже не пьем. Чайник купили со шнуром. Анна-продавшица навеливала: купи да купи! Взяли… Ты когда поедешь к нам, смотри ничё лишнево не вози, яблок разве да дрожжей хлеб стряпать, все свое пока — молосное. Корова дохаживат, в феврале отелитца. Отец пока кормит, доглядыват. Ладно уж — до осени додержим, а там сдадим. Может, и правда к вам перехать совсем? Я бы уж и рада, надоело чугуны из печки в печку таскать, да он, холера, ни в какую! Не бросишь же, век прожили вместе! А вот гордитца, что ись в последнем письме не написал: ворочайся, мол, обратно. Я бы, конешно, все личенье бросила, полетела обратно, Ладно уж, поживу ишо с неделю, пока корова дохаживат. Поживу. Зина опеть собралась ко врачам сводить на процидуры. Да у Александра надо хоть ночку ночевать, с робятишками повидатца…
Обожди-ка, знать, кто-то в дверь постучал. Девчонки скребутца или Маруся пришла. Не подымайся, сама открою. Я сама… Ой, хватитца меня Грегорий нонче: уползла и не вернулась. Уползла и…
ПАСХА ПОД СИНИМ НЕБОМ
В останкинскую дубовую рощу мы ходили по вечерам «слушать соловья». Идиома эта затвердилась на нашем курсе с легкой руки севастопольца Вани Тучкова, с которым я прожил рядом в одной комнате все наши экзаменационные и установочные сессии, растянувшиеся на пять с половиной вузовских лет — в Литературном институте. Как раз строилась Останкинская телебашня, и всякий раз, приезжая на очередную сессию, для заочников — это месяц в сентябре-октябре, затем еще месяц поздней весны или начала лета, мы первым делом отмечали, насколько за наше отсутствие в Москве продвинулось строительство. Основание башни — этакая фантастическая лапища, упершаяся в землю наподобие инопланетного летательного аппарата, было скрыто коробками домов, и только бетонная «труба», опутанная тросами, шлангами, строительными механизмами, упорно тянулась и тянулась к небу,
Ваня дивился, глядя на «трубу» из окна нашей общаги, прицокивал языком, придумывал этой «трубе» грубоватые сравнения, наконец, измаявшись от ничегонеделания, учебники он аккуратно укладывал под подушку — «во сне сами войдут в голову!» — тормошил меня, углубившегося в книгу: «Кончай, пойдем соловья слушать!» Я сопротивлялся, мол, надо готовиться, завтра экзамен по зарубежке сдавать! «Все сдадим… Кроме Севастополя! Пойдем!»
Пафос про «Севастополь» убеждал меня — надо! Откладывал учебник, натягивал свои флотские клёши, потуже перепоясывался широким ремнем с якорем и звездой на надраенной бляхе — еще не успел отвыкнуть от недавних строгих порядков на службе! — и мы выходили под останкинские небеса.
Как пели соловьи в прохладные черемуховые майские вечера, какие трели-коленца выдавали в теплые ночи июня! Иногда, случалось это чаще по выходным, я уходил в дубовую рощу один, раскинув прихваченное одеяло, устраивался с книжкой под уютным кустом. Ходили мы еще в Ботанический сад, что рядом с ВДНХ, тоже оккупировав какую-нибудь реликтовую полянку из пахучих трав, погружались в свои конспекты. Иной раз, обнаружив сие безобразие, прогоняли нас сторожа Ботанического, и мы опять шли в дубовую рощу, где никакой стражи…
Теперь, по прошествии лет, когда судьба разбросала нас, литинститутцев, по суверенным государствам (вот и Ваня Тучков за кордоном, а говорил — «Севастополя не сдадим!»), горько сознавать (и мы виновны, дававшие воинскую Присягу Родине!), что в октябре 93-го по этой дубовой роще хлестали очередями ельцинские бэтээры, сбивая листву с деревьев, между которыми метались в вакханалии демократического побоища люди, истекали кровью, умирая с остекленевшим ужасом в глазах, вопрошая в холод серого неба: за что?!
Соловьи, соловьи…
Но это будет потом, через годы, когда в стране победит серость, а она беспощадна и мстительна, кроваво отомстит за своё прошлое многолетнее пресмыкательство, за бездарность, за нищету своего духа. Повсеместно отомстит. Во всех сферах жизни.
И где ей будет понять красоту и беззащитность таланта, патриотизм подвижников, жертвенность во имя гордого имени Отечества, Родины!
А тогда мы радовались удачной строке, каждому образу, эпитету, хлесткой пародии, эпиграмме на какого-нибудь «классика», по-хорошему завидуя успеху товарища, ценя самобытность. К нам в комнату заходили очники — Боря Примеров, Витя Смирнов — смоленский, белорус Ми-кола Федюкович, ребята с нашего заочного отделения — Саша Голубев из Воронежа, Толя Демьянов из Ижевска. Толя писал не только отличные стихи, но и заваривал чай такой чернильной густоты, после которого, по его словам, можно видеть сквозь все потолки нашей семиэтажки небесные звезды или как бегают в подвале крысы. Словом, разный народ бывал в нашей комнате — даже грозный комендант общаги Циклоп. Но поэты бывали чаще! Стихи читали без продыху. И мой сосед по комнате Миша Мамонтов, прозаик, да еще староста курса, махнув на нас рукой, уходил от нашего стихочтения, как он говорил, «пообщаться с простым народом, с работягами» — куда-нибудь на бульвар или к гастроному, где и работяги, и все прочие обычно «страивали» по вечерам.
Еще признавался Миша, дивясь нашей поэтической неукротимости, что после возвращения домой в свой узбекский Алмалык, где он водил на каком-то секретном руднике электровоз, — не может смотреть на все то, что написано «столбиком» или стихотворной «лесенкой»! Даже — на объявления!
Однажды, побывав на вечернем бульваре, Мишка вернулся в комнату расстроенный, какой-то взвинченный, никогда таким его мы не видели. Ну, рассказывай, говорим, что у тебя? Да вот, говорит он, Рубцова вашего знаменитого сейчас отчехвостил! Мы с Ваней насторожились: Рубцов, хоть в нашей комнате не бывал, но был уже известен. Читающая публика его знала, а мы, однокашники, подавно!
— Был я в столовой, где пиво продают, бар там есть, знаете, — рассказывал Мишка, — взял кружку, подсел за столик, где Рубцов сидел. Там еще одна девушка кушала. Сидим, припиваем, и тут Рубцов, с чего не знаю, начал грубости девушке говорить. Она взяла тарелку свою и перешла за другой столик. Тут я не выдержал, взорвался: как вы можете? вы же известный поэт. Вас люди читают… И вообще, ни за что ни про что! Он, правда, примолк, насупился… а вот сейчас увидел меня на улице, свернул в сторону, чтоб, наверно, не встречаться…
Тут я говорю Мишке: «Ты сильно-то Николая не задевай, сам же понимаешь, какой это большой поэт!» — «Да понимаю, — горячился Мишка, — но нельзя же так, тем более — ему…»
Впервые услышал я о Николае Рубцове в том же Ботаническом саду, на реликтовой полянке, летом 1966 года. С одним студентом из Череповца «загорали» там за книжками. Он и говорит:
«Знаешь поэта Рубцова?» — «Нет, не знаю, — отвечаю, — а хорошие он стихи пишет?» — «Ты что, замечательные?» — «Ну прочти хоть одну строфу».
Парень приободрился, прочитал:
Я весь в мазуте, весь в тавоте, Зато работаю в тралфлоте…«Ну и что, говорю, ничего гениального, — а это у нас было высшей оценкой! — не вижу».
Прошел еще год, который все переменил, взвихрил, вздыбил в поэтической атмосфере шестидесятых. Таланты блистали! Но выход рубцовской «Звезды полей» в «Советском писателе» стал особенно ярким явлением. И всем стало ясно: в России появился громадный талант! И ко всему прочему, это же был наш товарищ по литинституту, студент старших курсов. Я сумел приобрести в Москве несколько сборников «Звезды полей», привез в свою тюменскую провинцию, раздаривал: почитайте, обязательно понравится! Читали, кивали: хорошие стихи, душевные! Но один «авторитетный» местный критик все ж изрек: «Знаешь, старик, я тут больше десятка готовых стихов не нашел, остальные надо ох как дорабатывать, дорабатывать…»
Откуда такая глухота?
Поэзия Рубцова уже не просто жила во мне, она была созвучна моему дыханию, судьбе, сути, пониманию прекрасного. Он — тоже человек из деревни. И еще он тоже моряк, тоже «долго служил на флоте…» И еще он смог пронзительно, как никто другой — по-философски, образно выразить, кажется, простую мысль о маете русской души, о её божественной привязанности к родной земле:
С каждой избою и тучею, С громом, готовым упасть, Чувствую самую жгучую, Самую смертную связь.Только один эпитет — смертную! — и столько в нем точности, достоверности, смысла, поэзии. Это уж потом — при размышлении — приходят оценки-определения. Вначале — прочел, — и душу захватило. До слез…
Не было собак — и вдруг залаяли. Поздно ночью — что за чудеса! — Кто-то едет в поле за сараями. Раздаются чьи-то голоса…Как знакома эта сельская картина мне! Все так: и лай откуда-то взявшихся собак (я даже явственно представил — поджарых, верных, оберегающих хозяйское жилье), и предполагаемые упряжки лошадей (хотя их нет в стихотворении), и хозяин, отпирающий ворота, их морозный скрип, голоса: «Пустите переночевать?» И многое-многое, знакомое сердцу…
Пасха под синим небом, С колоколами и сладким хлебом, С гульбой посреди двора, Промчалась твоя пора?Промчалась, промчалась… А все-таки? Пасха на Руси, даже в долгие десятилетия богоборчества и насаждаемого атеизма, была едва ли не главным праздником.
У нас-то, в Окунёво, Пасху отмечали славно. Я слышал из разговоров старших, что наступил Великий пост, надо постовать, грех есть жирное, «молосное». Батя наш — какой уж «верующий», известно! — прибирался во дворе. После зимы дел хватало. С одним накопившимся навозом дел ни на один день! А мама устраивала большую побелку в доме. Я протирал керосинной тряпочкой иконы, рамки «патретов», фотокарточек в рамках. Тараканы в нашем доме не селились. А вот клопы — случались: таились по щелям и даже в плахах полатей. Керосином их — в самый раз! Стирались занавески, надраивались полы! А в самый канун Пасхи пекли шанежки, булочки, красили луковой шелухой яйца. Мама доставала из сундука праздничную скатерть, накрывала стол, на котором завтра, поутру, и возникнут праздничные яства.
День Пасхи всегда выдавался теплым. Парили оттаявшие, освободившиеся от снега, полянки, взгорки. Л на самых высоких местах села — мужики возводили из жердей качели. Люди принаряжались во все самое лучшее, прибереженное для светлого праздника Воскресения Христа.
Пасха под синим небом…
Власть большого поэтического таланта заставляет чистую, неиспорченную душу сопереживать, очищаться, как на исповеди, как в минуты любви и светлых потрясений…
В редкие вечера возле дверей комнаты Рубцова, обычно в глубине общежитского коридора, возле окна, не толпились его поклонники. Я не примыкал к этой компании, были там люди и не очень мне симпатичные. Любовь к стихам Рубцова заставляла меня в редкие общения с ним держаться скромно. Не навязывался, как иные, чтоб потом похвалиться панибратским общением со знаменитостью.
Однажды Рубцов, дело было осенью, подсел ко мне на лавочку в нашем скверике. Не узнал. Курил молча. Я читаю, опять к какому-то экзамену готовлюсь. И вдруг неожиданно: «Бросьте читать. Вот далось…» Я отвечаю: «Надо, знаете, я же из деревни приехал, а тут у многих уже по одному высшему образованию. Им можно и не читать!» «Из деревни?» — напускной гонорок так и сошел с Николая. Глянул как-то тепло, придвинулся. С полчаса проговорили мы о том, о сем, пока какие-то девчушки, играющие невдалеке, не увлекли Рубцова. Он вступил с ними в шутливые, «детские» разговоры, разулыбался. Я тихо поднялся, пошел в общежитие, на крылечке оглянулся, подумалось тогда: все же он отчаянно одинок!..
Как-то июньской порой идет навстречу — со стороны нашей столовки, где вчера мы пивком баловались. Ко мне утром приехала жена из Сибири, мы шли, кажется, в ту же нашу общепитовскую точку — пообедать. Остановились, поздоровались. Рубцов в своем неизменном коричневом потертом костюме, при галстуке. «Вот это Николай Рубцов!» — говорю я Марии. Он светлеет лицом и как-то часто по-особенному моргает, говорит приятные слова моей жене. И опять мы разошлись. Я почувствовал тогда: могли бы сойтись ближе. Но времени уже не оставалось…
Последняя наша встреча была в те дни, когда курс Рубцова выпустился. Прошумел у них прощальный вечер в кафе «Синяя птица». Сдали экзамены и мы за четвертый курс. Все разъезжались. В общежитии, гулком от внезапной пустоты, подзадержались четверо: Рубцов, Ваня Тучков, Алекса Абдулаев и я. Сбегал я в комнату за фотоаппаратом, вышли мы на солнце, на крыльцо. Я щелкнул своей «Юностью» несколько кадриков. Вот память и осталась. Последняя…
Потом уж, через годы, вспоминая Рубцова, написал: Осенний сквер прохладою бодрил, А битый час, нахохлившись над книжкой, Я что-то бодро к сессии зубрил, А он курил, закутавшись в плащишко. Скамья, и рядом признанный поэт! Заговорить, набраться бы отваги, Мол, я из той — хотя без эполет! — Литипститутской доблестной общаги. Он все сидел, угрюм и нелюдим, Круженье листьев взором провожая, И вдруг сказал: «Оставьте… все сдадим!» Я подтвердил кивком, не возражая. «Вы деревенский?» — «Ясно, из села!» — «Не первокурсник?» — «Нет, у нее не гений…» В простых тонах беседа потекла, Обычная, без ложных откровений. Вот пишут все: он в шарфике форсил. Но то зимой. А было как-то летом: «Привет, старик!» — рублевку попросил И устремился к шумному буфету. Теперь он многим вроде кунака, Мол, пили с Колей знатно и богато! А мы лишь раз с ним выпили пивка И распрощались как-то виновато. Потом о нем легенд насотворят И глупых подражателей ораву, При мне это тогда был фотоаппарат, Техника сработала на славу. Он знал и сам: легенды — ерунда, А есть стихи о родине, о доме. Он знать-то знал — взойдет его звезда, Но грустен взгляд на карточке в альбоме.Не знаю, смог бы нынче, в этом смутном времени, где торжествует победившая серость, писать свои прекрасные стихи Рубцов? Смог ли бы вообще он выжить? Известно, как он материально бедовал тогда, в благополучные те года! Наверное, не выжил бы…
В нашу Тюмень я приехал благодаря Рубцову. Работал в своих сельских весях, в соседнем от моего района поселке райцентровском — ответственным секретарем газеты. Формировал номера газеты самостоятельно, редактор только в свет подписывал. Часто печатал стихи. Рубцова печатал. Однажды вечером, проходя возле типографии, слышу, наша печатная машина молчит. В чем дело? Захожу. Оказывается, замредактора — шеф в командировке — снял с полосы уже заверстанную подборку стихов Рубцова: «Нельзя пропагандировать УПАДНИЧЕСКОГО автора!»
Вынести этот идиотизм было не в моих силах. Вернувшемуся из поездки шефу я положил на стол заявление об увольнении из газеты. Уговоры — передумать! — не помогли. Уехал.
Грустно, и так кстати пульсировали и в душе строчки поэта:
Я уеду из этой деревни… Будет льдом покрываться река, Будут ночью поскрипывать двери, Будет грязь на дворе глубока…И осень была грустной. И мысли, и чувства. И все же то был свет поэзии, тот свет, о котором пел нам когда-то соловей в дубовой останкинской роще.
ТОСКА ПО РОДИНЕ
А потом было Аравийское море. Тихое, знойное. Теплоход-сухогруз, будто в густом, чадящем, догарающем вязком жире, лениво крутил винты, проталкиваясь всё дальше — северным курсом — к Бомбею. Море горело оранжево-белесыми красками, как-то нереально, фантастично для меня, хотя повидал уже разного за долгие месяцы тропического плавания. Летающие рыбки, недавно привычно выстреливающие из-под бортов, словно присмирели, подрастеряли азарт и резвость, а потом вдруг чуть ли не совсем запропали. И эта внезапная отчужденность моря, липкая жара над палубами рождали тревожные мысли о прошумевшей где-то экологической трагедии — разлитой в море солярке из гигантского танкера, либо о разбомбленном нефтяном промысле в Персидском заливе: судовое радио вещало об арабских войнах. «Да нет же, нет! — объясняли мне. — Это вода цветет…» Непомерно радостно разошлись встречным курсом с корабликом под либерийским флагом: за последние дни — живая встреча! А ночью, заткнув тряпкой сломанный регулятор кондиционера в подволоке каюты, — нагнало столько холода! — смотрел я в иллюминатор на крупные алмазы индийских звезд, на Южный Крест, на бледноватую Деву, на античные очертания Паруса…
Еще я в ту пору остро тосковал по дому. Как объяснить это несколько банальное — «тосковал по дому», ведь за годы странствий по миру, к зрелому возрасту, чувство ностальгии должно видоизмениться, перейти в новое качество, не столь острое, как в юности?! У кого — как! А я тосковал.
Правда, давно уже перестало сниться пшеничное поле с разделяющей его надвое теплой дорогой, по которой шагал я в каждом сне босиком, с каким-то библейским посошком — под стрекот кузнечиков, всхлипы перепелок, под легкий шелест колосьев: покой, тишина, солнышко светит… Все это едва ли не каждую ночь виделось в Южно-Китайском море на переходе из Осаки в Бангкок. Тогда было начало рейса, первые его недели, по ощущениям сравнимые, пожалуй, с первым моим в жизни путешествием в соседнюю деревеньку Полднево к тетке и дяде Ипатовым.
Кажется, годочков пять от роду мне и было. А до сих пор помнится, как дичился я незнакомой улочки с редкими палисадниками и огоньками гераней в бедных, без занавесок, окошках, как духмяно, остро пахло лошадиной сбруей в широком, крепко обустроенном дворе родственников. А дядя Петя Ипатов, колхозный бригадир, хорошо так улыбался, говорил какие-то сердечные слова, заводя в оглобли легкого ходка игреневого бригадирского коня. Он говорил и говорил, мой дядя, моложавый тогда, с ржаным чубом, в комсоставских «должностных» галифе и френче (в ту пору эта была униформа всякого сколь-нибудь приметного начальства). А потом тетка Катерина кормила меня окрошкой и всё подкладывала шанежки с морковкой, с творогом, да еще «картовные». А потом уж я очутился на зеленой лужайке за околицей, где блестело стекло озера и гоготали гуси. Гусей было много, злых, поминутно шипящих и вытягивавших шею в сторону предполагаемого обидчика. Они зорко охраняли пушистеньких, желтых, с куцыми крылышками гусенят и холодно поблескивали дробинками глаз на ребятню, что резвились поблизости, доглядывая выводки. У нас дома гусей не было. Не было и обязанностей пасти их. И познал я к этой поре иную летнюю волюшку-волю: где хочешь — бегай, играй. Вот и не понравилась мне эта полянка чужой деревни, эти чересчур озабоченные ребятишки — мои ровесники. Потом еще что-то не понравилось, кажется, малочисленное коровье стадо, бредущее из поля (дворов в Полднево немного!). И мрачноватый закат, и солнышко, уходящее в тучу, напомнившее, что ночевать придется не дома, где мама, кот возле черепушки с парным молоком и все такое родное, привычное…
В сумеречном вечернем доме Платовых шли хлопоты — звякали ухватами, ведрами, пахло жареной картошкой, мягко стучала дверь в избу, а я плакал. Сидел на лавке в переднем углу под иконами и горько безутешно плакал.
— Ну что ты, что ты — вдруг? — виновато всплескивала руками тетка Катерина, не зная чем утешить. — Ну заскучал, дитятко, ну завтра дома будешь, успокойся…
Заходил с улицы Валерий — двоюродный мой братишка, старше меня лет на шесть, говорил весело:
— Не реви! Хочешь гороху? — и все сыпал мне на колени, выгружая из-под рубахи, зеленые тугие стрючки,
За горохом забывался я, просторнело в груди от участия, не помнилось, как и заснул…
А потом было Аравийское море! (Как просто: волею пера взял да и перенес себя аж на несколько десятилетий вперед. И вроде ничего, ладно). Море цвело оранжево, фантастично. И думалось мне хорошо: завтра увижу Бомбей, ворота Индии, погуляю в пестроте улиц огромного города.
Но опять в ностальгических думах своих переносился я на родину. И казалось (субъективно, пожалуй!), что так остро грустит о своих пределах только русский человек.
Во второй половине аравийской ночи восходила огромная, прямо-таки ощутимо тяжелая луна, море поигрывало рябью желтых бликов, уводя далеко, в чернильную даль теплой ночи, лунную дорогу. И воздух, словно в выстывающей баньке, умеренно мягкий, йодистый, так и одевал с ног до головы, когда выходил я в шортах на корму или прогулочную палубу. Там уже теплился огонек цигарки боцмана или второго механика.
— Не спится? — ронял боцман и не ждал ответа. Он думал о свадьбе, наверное, которую предстояло играть после возвращения из рейса — старшей дочери. О хлопотах думал, о расходах, да еще о том — не забастуют ли вдруг бомбейские докеры, как недавно бастовали в других портах Индии (тогда пиши-пропало, никак не поспеть домой к намеченному сроку)…
— Не спится? — спрашивал и второй механик. Он ждал разговора. И мы толковали о том о сем. Пустяшные разговоры, вспоминать не стоит. Второй механик, наверно, думал о повышении — на днях его приняли в партию! — представлял себя: как это он — стармех, «дед»! И, видно, пьянило его от этих дум, и малиновый уголек его цигарки вспыхивал при затяжке весомо и значительно.
Наконец, выстрелив окурком в фосфорическое мерцание забортной воды, второй механик степенно шел к себе в каюту. Потоптавшись, отправлялся спать и боцман. А я оставался один на один с низкими колючими звездами, с огромной тяжелой луной.
… А луна там огромней в сто раз… Как бы ни был красив Шираз, Он не лучше рязанских раздолий.Приходило на память есенинское. Ни в Ширазе, ни на Рязанщине мне не доводилось бывать, потому, может быть, строки эти воспринимались несколько украшенно и абстрактно. Даже раздражали, казались искусственными, слащавыми, как «лубочно-трубочный» портрет самого поэта. Другой портрет мне был ближе, понятней — тот, что с бунтарской дьяволинкой в синем взоре:
Я вам не кенар, а поэт, И ни чета каким-то там Демьянам…Да что там!..
Сухогруз шел и шел. Висела луна — моя деревенская, из сибирских, тюменских моих пределов. С теми же щербинками и оспинками на лике, с кратерами, морями, с рубчатыми отметинами от луноходов, с припорошенными неземной пылью следами астронавтов.
Вдруг вспоминался — ассоциативно, что ли? — как нечто омерзительное, невинно-приятельский вопросик домашнего знакомца, к тому ж — начальничка, подписывавшего мою характеристику для плавания: «А ты не останешься там, за границей?» За вопросик приятелю-начальничку по-рабочекрестьянски полагалось бы врезать. Но не врезал, стерпел. Оформлялся в рейс… Что ж! Ту интеллигентность, ту «терпимость» к мерзости, хоть и плохо, но оправдывали, извиняли теперь два пережитых тайфуна, в коих трепало нас недавно, грозя поглотить в пучине вод навсегда.
Но вопросик все же остался без ответа. И в те последние дни перед вылетом во Владивосток чувствовал я кожей, интуицией, эти «невинные» разговоры за спиной: «А вдруг там останется? Нам ведь не поздоровится из-за него…»
«Будьте оне прокляты, окаянные, со всем лукавым замыслом своим, а страждущим от них вечная память трижды!» — так вот проклинал врагов своих и мучителей неистовый протопоп Аввакум.
Что же мы тогда, нынешние праведники, — думалось мне в эту ночь, — возвысившиеся над природой, Богом, планетой своей, штурмующие вселенную, так робки порой перед заведомым гадом, пресмыкающимся перед сильными мира сего, подобно флюгеру, держащим нос по ветру? Что же? Придет ли когда настоящий день?
И опять не было ответа.
Утро качало нас крупной зыбью. Но боцман все же выдал из шкиперской намордники-респираторы и приказал «доколачивать» облупившуюся краску надстройки. Пулеметно молотили обивочные машинки, вдалбливая в мое сознание очередную порцию романтики дальних морских дорог и экзотических приключений. После обеда и адмиральского сон-часа увидел я выдвинутые в море, словно форштевень огромного судна, высотные кварталы Бомбея.
— Бомбе-ей! — зачем-то усмехался боцман.
— Ага, Бомбей! — весело, без иронии, отвечал я.
Я все еще не привык, не перестал удивляться, ждать от предстоящей ночи или дня чего-то непознанного, невероятного. И «боцманюга», как выражался капитан наш, видел меня насквозь.
Потом был вечер. С недолгими лиловыми да багряными красками заката, переливом оттенков и теней на слегка утихшей зыби. Вечер вдруг обнаружил, что мы не одни на рейде: столько всяких судов и суденышек поджидают разрешения войти в порт. И собрались мы в этот вечер в пятый или в шестой раз смотреть «Вокзал для двоих». Едва задернули шторки салона, едва застрекотала узкопленочная киноустановка «Украина», едва артисты Гурченко и Басилашвили встретились на нашем игрушечном экране…
— Тревога! Человек за бортом! — раздался в динамике голос вахтенного штурмана.
И заразговаривали под каблуками железные палубы. И был я через какую-то минуту на ботдеке, где старпом и боцман командовали спуском шлюпки.
— Что случилось-то? — недовольно бубнил чей-то голос.
— Батумских охламонов понесло течением…
Шлюпка и мы в ней плавно приводнились, механик добыл из дизельного моторчика шлюпки жизнь, полетели, рассекая волны.
— Где они, эти охламоны?
— Будем искать! — отвечал, сидящий на кормовой банке, у руля, второй штурман.
Гулко, как по днищу пустой бочки, ударяла в шлюпку волна. Вздыбленный нос, где сидел впередсмотрящим молодой матрос, немилосердно осыпало брызгами, долетали и до нас, неожиданно прохладные, зябкие.
Дело, если уж не трагическое, то обидно-несуразное произошло у соседа по рейду — батумского сухогруза. Объявили шлюпочные учения. Спустили первый мотобот, не смогли запустить мотор. Понесло течением в открытое море. Спустили второй — та же картина…
— А-а-а, э-э-э, Василий! Ты где-е? — тонко взывала на позднем озерном берегу моя мать, когда отец до густых сумерек задерживался на рыбалке, когда уж все лодки, промерцав смолеными бортами, вернулись домой. — А-а-э!
— Ну чего всполошилась? — откликался из ближней курьи отец. — Рыба попалась, выбираю… Скоро буду!
На рейде золотисто мерцали огоньки. Но еще зорок был взор в лиловых сумерках. Ночь тропическая скорая вот-вот накроет. Крикнуть бы: «Вы где там, мореходы! Э-э-э!» Неловко кричать, не в деревне. Там далеко на западе — Аравийский полуостров, за кормой, уже в огнях, огромный город Бомбей. А вон могучий утюг американского сухогруза, почему-то туда, к американцу, правил шлюпку второй штурман; «дых-дых, цок, цок!» — разговаривал выхлопной и клапанами шлюпочный мотор.
Я поднял взор к высокому срезу борта «американца». Черные, чугунно застывшие в сумерках, негры-матросы равнодушно посматривали с высоты на нашу посудинку, хлюпающую на малых оборотах возле невероятно огромного снизу океанского мостодонта. И вдруг острой молнийкой грусти и жалости о чем-то далеком опять прострелило душу, и парни в шлюпке, натужно подшучивающие друг над другом, показались столь родными, словно вещая сила, неведомая до сей поры общность, объединила нас в этой скорлупке посреди чужого и коварного моря. Да, пожалуй, впервые в жизни вот так остро осознал я это родство душ, необъяснимый на простом языке аромат далекой родины нашей. Тяжелая якорная цепь американского сухогруза гипотенузой уходила в черноту воды, и на ней, на цепи, словно привидение, чудом примостившись на чужой суверенно штатовской территории, в плавках и «пиратской» косынке с торчащими у затылка концами, «загорал» русский мореман.
— Братва, — обыдено произнес он, — мы тут находимся.
Парень держал чалку бота, намотав ее на якорную цепь, а сам бот где-то во тьме прижимало к скуле форштевня и, почти слившись с темнотой, батумцы баграми отталкивались от железа чужой территории.
— Ну, тогда поехали домой! — также обыденно сказал наш кормщик. Мы быстренько закрепили буксир, механик добавил обороты мотору. И мотор, радостно зарокотав, окутал всех едким родным дымком.
— Ребята, вы что? Подмогните кто-нибудь! — плеснуло вдруг у нашего бортика и на волне возникла голова в «пиратской» косынке.
— Жить тебе надоело? Акулы… Мы ж подрулили бы…
— Думал, забыли… Акулы… Хы-ы! — выплюнул воду матрос, — Давно из дома, а? Дайте закурить! — и по-свойски устроился на банке. — Тетки у вас на пароходе есть? У нас есть, да все старые…
Ах ты, Боже мой!
И этот незадачливый «пират», заговоривший по-русски из пучины аравийской волны, показался вдруг едва ли не корешем, закадычным другом, с которым — эх, черт возьми! — и море по колено.
Ночь окутывала рейд темнотой, звездами, огнями судов. Отбуксировав потерпевших к борту батумцев, мы еще отыскали вторую шлюпку, так же благополучно выловив её среди волн и звёзд, неуправляемую, одинокую, вернулись досматривать фильм, но уже не было киношного настроения.
В каюте я выключил свет, но не сразу провалился в забытье сна. Еще долго пылила, поднятая прошедшим коровьим стадом, сельская улица, малиново и ярко пылали в окошках соцветия гераней. Кто-то проскакал на диком коне вдоль заборов и плетней, пахнуло полевым ветром…
«Ну что ты, что ты… Хочешь гороху?»
Потом другой голос — протяжный, мамин, на озерном берегу, у мостков, где пахло нагретой за день морогой, тиной, зеленым молодым камышом.
«Ты где та-ам? А-а-а, э-э-э…»
В иллюминатор заглядывала большая, прямо-таки ощутимой тяжести, луна. И, конечно же, над мачтой, чуть внаклон, в сторону Индийского океана, висел Южный Крест. Потом уж, во второй половине ночи, всходил ковшик Большой Медведицы — привычное глазу созвездие северных российских пределов.
СОСЕД ПО РЕЙДУ
Он стоит на якоре в пяти кабельтовых от нас, пережидая, как и мы, забастовку в порту, в надежде взять в свои пустые трюмы какой-нибудь груз, чтоб не тащиться порожняком оставшиеся моря и мили — до порта приписки. Ободранный, побитый в арктических льдах, он больше похож на пиратскую посудину, на флибустьера, каким рисовало его моё, уже наработанное, морское воображение…
Подобрался к рейду он в вязкой тропической ночи, а утром мы разглядывали его — от клотика до ватерлинии — в восьмикратный бинокль, дивясь его ободранности, его воинственному, заносчивому виду. Высоко задранный над водой форштевень напоминал грудь старого бойца в рваных доспехах, и мы согласно нарекли соседа по рейду «самоходом». Почему? Что-то было в нем и «этакое»!
Вскоре стала известна и причина появления в здешних водах убого-живописного покорителя арктических широт, каким и в самом деле был «самоход», не сумевший в минувшее лето, как многие суда, работавшие короткий летний сезон в арктических морях, пробиться из Чукотского моря сквозь невиданные нагромождения торосов в Беринговом проливе. Пришлось в сопровождении ледоколов двигаться на запад, в Мурманск, а там, оформив загранпаспорта членам экипажа, совершать вынужденную кругосветку — в стремлении добраться до родного Приморья — во Владивосток. Да, соседство неприглядное, когда кругом блистательные суда сверкают колером бортов и надстроек. Но «самоход» — соотечественник! Истосковались мы по родному, русскому!
Двенадцатые сутки укачивает нас круглосуточная монотонная зыбь Бенгальского залива, двенадцатые сутки наш теплоход стучит обивочными машинками, сдирающими вековечную тропическую ржавчину. Тратим припасы нитро-и масляной краски. Начинаем сиять. Хорошо! Одно неудобство — все заметней и катастрофичней истончается в кранах подаваемая раз в сутки пресная вода. Конечно, в каких-то полутора-двух милях лежит «страна чудес» Индия. Сегодня это порт Мадрас, куда пришли мы глухой ночью, а утром, на ранней апельсиновой заре, дивились неописуемому количеству рыбацких «фелюг», бегущих под разномастными и разнокалиберными парусами за кромку бенгальских бирюзовых вод. И так всякое утро.
По вечерам это зрелище повторяется в обратном порядке: «фелюги» летят к городским берегам. И кто-то из полуголых рыбаков-индусов, осклабясь в улыбке желтыми зубами, пытается предлагать нам для покупки или обмена небогатый свой улов. Ничего мы не меняем, не покупаем. «Не положено» — констатируют просвещенные в заграничных тонкостях мореманы. Зато на корме, в курилке, дают волю иронии относительно качества и вида этих утлых, но поразительно мореходных индийских суденышек: «Две плахи сколотили, подняли на кривой мачте рваные штаны, и вот тебе — рыбацкое судно!»
Вдали золотеет шпилями, башнями дворцов и храмов сам город Мадрас. Там бродят, как и всюду в «стране чудес», бесхозные священные коровы, а в порту, где привычные глазу моряка рукастые краны, разгуливают, никого не боясь, нахальные и тоже священные — крысы, каждая величиной с доброго сибирского кота. И еще — вороны! С одной уже здесь, на рейде, я успел познакомиться. Прилетела, опустилась на бизань-мачту — «кар-р!» Чего надобно? А ничего! Оповестила, что тоже священная!
Ну, «самоход», ну, земляки бедовые! Пока мы выдумывали причину, чтобы встретиться, найти знакомых, они сами проявили инициативу. Прибыли в каком-то фантастическом железном боте, какими обычно оснащают танкеры, в боте, способном прорываться сквозь огненный кошмар пылающих в море солярки или бензина. Подошли, потребовали подать трап, и через какие-то минуты горластая ватага рассредоточилась по теплоходу, каждый по «своим» каютам и ведомствам. Первый помощник раздобыл у нашего полуторамесячной свежести газеты, сварщик выцыганил у сварного две пачки электродов и моток проволоки, боцман — краски в подшкиперской, а старпом разжился в артелке каспийской селедкой, консервами, просил сливочного масла, но наш чиф не дал, за что тут же получил характеристику «жлоба».
— Да ладно, мужики! Не обижайтесь! — сказал старпом «самохода». — Приезжайте завтра к нам на товарищескую встречу по волейболу! Идет?!
Ну, а как же не идёт! Как же! Последнее развлечение такого рода было в Бангкоке, на площадке в советском посольстве. Там состязались в «земных условиях», цивилизованных, с представительским кофе, бутербродами, с которыми наши бойцы-спортсмены и не посчитались, надрали заносчивых и самоуверенных москвичей посольских. Не бог весть с каким перевесом в счете, а все же!
Как же — не идет!
И на следующий день, в шестнадцать ноль-ноль, желанное объявление по трансляции — «отплывающим захватить с собой индивидуальные спасательные средства!» — собрало нас на спардеке. Сошлись при полном параде, в чистейшей экипировке, с собственным мячом, у соседей лопнул еще в Средиземном море, а переклеить не удосужились.
Снаряженная боцманом шлюпка с ржавым скрежетом тросов заскользила к воде, плюхнулась и заплясала на зыби вместе с приводнившимися в ней чифом, четвертым механиком и матросом. Они поочередно крутят ручку движка. Он отлаивается двумя дымными выхлопами, глохнет и из выхлопного коллектора ударяет гейзер воды.
— Подготовили, называется, плавсредства… Деятели! — недоволен на спардеке стармех. Высокий, жилистый, молодой еще для деда океанского — теплохода, он явно рисуется перед «толпой», недавно назначенный на эту высокую должность.
— Вы уж там не подкачайте! — подходит к «толпе» помполит, человек в годах, как всегда в застегнутой до горла непроницаемой рубахе. Меня он успел проинструктировать заранее, после игры в волейбол полярники пожелали послушать мою «литературную лекцию», как выразился помпа, и, конечно, «смотрите там! — задавать будут всякие вопросы!» Я попытался было отбояриться, но разговор с помполитом мог принять и нежелательный оборот. Да и вообще-то, кому из собратьев приходилось прилюдно звенеть рифмами посредине Бенгальского залива? Не припоминаю. А перед первым помощником я малость все же покочевряжился:
— Вообще-то я третий механик по судовой роли, Николай Гаврилович, а не лектор!
— Понимаю… Не Пушкин Александр Сергеевич… Но — надо. Честь экипажа… Так что… вот так!
Ишь ты, вот так… В Бангкоке помпа устроил унизительную проверяловку всем побывавшим на знаменитом бангкокском базаре. Разложили мы в салоне барахлишко из полиэтиленовых пакетов. Ничего вроде недозволенного, если б не пара календарей с эротичными тайками-красавицами, обнаруженными у матросов. «Так что — вот так! Предупреждаю пока…»
В шлюпке зафырчал движок, она как-то неуправляемо рванула от борта, минуя спущенный к урезу воды трап, куда мы устремились было оранжевым горохом.
— Пошли на ходовые испытания!
— Айда лучше на полдник чай пить… Никто никуда не поедет! Видишь, неисправная…
— Наладят…
Наконец, шлюпка какими-то острожными рывками подобралась к трапу. И мы в оранжевых жилетах валимся вниз. Поехали.
Освобожденность, ощущение возвышенного простора неожиданно охватывает меня в тесной от народа шлюпке: вот она стихия и пучина совсем рядом, до неё можно дотянуться рукой, попробовать из ладони на вкус! И восторг подхватывает и возносит до поры дремавшее в груди романтическое, флибустьерское.
На полярных морях и на южных, По изгибам зеленых зыбей, Меж базальтовых скал и жемчужных Шелестят паруса кораблей…Хорошо! Но бог мой, какие паруса! Какие базальтовые скалы! Фантазии поэта Гумилева… Но я уже чувствую, знаю, что запомню на веки вечные вот эти ощущения как бы вдруг обретенной свободы, не ограниченной никакими условностями. Просто — густой тропический воздух, просто — кипение соленой воды у борта многоместной шлюпки. Вода осыпает нас дождиком, пока стремительно и вольно одолеваем эти пять кабельтовых до борта «самохода», который и не ведает о своем ироничном имени.
И — тихое поматеривание чифа — старпома нашего — забыли опознавательный кормовой флажок. И ворчание стармеха-деда: что-то неладно с охлаждением второго цилиндра, не заклинило бы…
Но стихия, простор, праздник. И — подходим уже! И — с высокого борта «самохода» смотрит на нас женщина. В легкой панаме, в развевающемся на ветерке светлом платьице. Женщина! О-ооо!
— Женщин только не трогать!
— Своих не трогаем, а чужих и подавно…
Ржавый трап «самохода» спущен к воде почти
вертикально, но все равно — до крайней ступеньки высоко. Мы с ловкостью акробатов ловим моменты, когда шлюпка поднимается на бугор зыби, поочередно цепляемся за ступеньки, поручни, ползем наверх.
— Здравствуйте!
Как только плавают полярники?! Ржавчиной всевозможных расцветок и форм пропитана всякая железная снасть, палубы, стрелы кранов, настройки. Ржавчина тут же въедается в подошвы обуви, поскрипывает при ходьбе, кажется, вот-вот заскрипит на зубах и осыплет коричневой пудрой чистейшие наши футболки. Но, однако! Тут и там сквозит порядок бедности. Старательно свернуты одеяла, матрасы, пакеты, простыни, полотенца, — отчего палубы похожи на биваки или обжитые туристами лесные лужайки. Кондиционеров, понятно, на старом судне нет. И команда дни и ночи обитает на «свежем» воздухе. Притулившись к надстройке, по-домашнему стоит бачок с питьевой водой. И алюминевая кружка на цепочке, как в каком-нибудь общественном месте: автовокзале, стройконторе в глухой российской провинции. Чуть в стороне, сколоченный из горбыля стол, пара скамеек — пристанище доминошников, некий «красный уголок», где воля-вольная анекдотам, историям, прочей морской травле свободного от вахт народа. Но, похоже, здесь и вахты несут лишь по необходимости: машинеры, электрики, конечно же, камбузники…
Прохаживаются живописного вида личности: молодежь в шортах, то есть в грубо обхватанных ножницами донашиваемых джинсах, народ постарше — в одутловатых суконных трико. Поджарые, подсушенные уже на тропическом солнышке, словно индусы-рыбаки на снующих «фелюгах».
— Приветствуем земляков! — из ржавой рубки возникают моложавый капитан и первый помощник — наглаженные, в неожиданно белых форменных рубашках, при погонах, щедро благоухая отечественным «Шипром».
И вот уже волейболисты лезут по скобтрапу в глубочайший трюм, где натянута вполне приличная волейбольная сетка. Непременное построение. Физкульт-привет! Свисток судьи. Подача. Начали!
Настороженная минутами раньше, а теперь азартно реагирующая рвань болельщиков «самохода», по-воробьиному усыпав кромки растворенного трюма, с высоты следит за поединком. А рыжее солнце, не успевая остывать, настойчиво садится в залив. Коснувшись воды, словно брошенная для закалки поковка с горячей наковальни, с шипением пара гаснет, распространяя в окрестностях банный вечерний парок. В этих парах и я спускаюсь в сражающийся трюм.
— Переход. Переход… Давай, Витек, подавай внимательней!
Вспыхивают прожекторы, подсветки, на миг ослепляя сражающихся.
— Переход, переход…
Пустой куб трюма вдруг напоминает мне совхозную мастерскую, из которой после ремонта выгнали на посевную всю технику. Но пахнет не мазутом, не железными опилками, а стойким духом квашеной капусты, огурцов, лука, выгруженных «самоходом» в каком-нибудь Тикси или Амбарчике. И дух этот, не выветрившийся за долгий путь судна, навевает знакомое…
… Вот и мы в Арктике. На траверзе мыса Шмидта. Ледяной рейд. Столпотворение сухогрузов, желающих поскорей опростать свои трюмы. В чреве нашего тоже бочки и ящики всяких припасов для «заполярных товарищей». А рядом — борт о борт — другой сухогруз, полный австралийской баранины, пришел из Сиднея. Портовики, проявляя героические усилия, торопятся, пока не схвачены, не прошиты морозной дратвой разводья, завершить разгрузку, иначе — хана и труба в долгой зимовке.
Мы ходим в тяжелых, застегнутых до подбородка шубах, стучим валенками о ледяные трапы, а по утрам, как дворники городских далеких микрорайонов, аврально скидываем деревянными лопатами палубный снег за борт, принимаем чалки с зачуханных самоходных барж, которые, приняв порцию бочек солонины, рады рвать когти сквозь разводья к утлой пристанешке.
Торчит в иллюминаторе снежная скала мыса. Застревают во льдах самоходки. Льдины напирают и на наши океанские борта, лезут на якорные цепи. Мы меняем место стоянки, где побезонаснее.
На берег бы! И мы с приятелем, раздобыв длинные шесты, отваживаемся — на свой страх и риск дал добро чиф! — добираемся по льдинам до берега. Эх, это уже земная твердь, засугробленная, но с колеёй гусеничного вездехода, с утрамбованной колесами «Уралов» центральной площадью посёлка. У нас «боевая задача» — запастись куревом для команды, опустить письма, возжелавших послать их домой из ледовых широт, по-пластунски ползем к замеченному в сугробе голубому почтовому ящику, бросаем письма: летите с приветом! С ответом разберемся, когда вырвемся из этого дикого льда, так стремящегося не пустить нас в такое же неуютное, но уже талое Берингово море…
«Самохода» льды не пропустили…
— Физкульт-привет!
Отыгрались. Соперники приветствуют. И наши приветствуют валясь с ног от непривычной нагрузки. Два-два. Победила дружба. Ура! Наверху галдят. Пообщались. Знаю, когда наши приедут домой, выйдет к борту капитан и спросит: «Надо ли поднимать вас на борт? Может, не заслужили?!»
Едва не ночь на дворе. «Самоход» в огнях. Пахнет теплым морем, ржавчиной, а от камбуза несет жареной рыбой. Аккуратно, тем же манером, что поднимались, сползают наши волейболисты и болельщики в шлюпку.
— Счастливо! — кричат землякам «самоходы». Страдальцы! А ведь, господи, так ходили в кругосветки в предшествующие века многочисленные герои-Колумбы, Куки и прочие Васко да Гамы. Какие кондиционеры, какие холодильники-рефрижераторы! А какие дали, континенты открыли!
— Завтра-то хоть возвращайся! — кричат мне из шлюпки.
Отсияв последними оранжевыми красками, небо густеет до липкой синевы, затем столь же стремительно чернеет, вылущивая желтые фасолины крупных созвездий. Вот-вот на северной небесной кромке вспыхнет ковшик Большой Медведицы, напоминая, что мы все же находимся в своем родном Северном полушарии…
В кают-компании, слава дизелям и генераторам, электричества, как и живописных шевелюр и бород, в изобилии. И только крахмальная форменная рубашка первого помощника — не столько укором своим, сколько знаком внимания к гостю.
Два наждачно жужжащих настольных вентилятора обдают секущей крупкой горячего воздуха, как бывает, наверное, в песчаную бурю-самум где-нибудь в близкой отсюда Сахаре или Аравийской пустыне. Но — итак!
Итак — домино. По столешнице лупим. В глазах сумасшедшинка. Дым и огонь. Уже погорел мой четверочный дупель, Глазастый «ваян» обжигает ладонь.Сочинял это в Сангарском проливе. Мы возвращались из тяжелого штормового рейса в Петропавловск-Камчатский. Светились в ночи японские берега, вскидывались на волнах, опасно перебегая нам дорогу у самого форштевня, рыбацкие суда. Фосфоресцировали во мгле шары-поплавки сетей, и наш вахтенный матрос, запахнувшись в ватник, неотрывно дежурил с биноклем на крыле ходовой рубки.
Задорные тройки выводим в атаки, Ошибки соперников вносим в актив, Как люстры, прошли у борта кавасаки, Как елка, расцвечен Сангарский пролив.Грохала тогда доминошными костяшками столовая-салон. Азартно, словно этот азарт мог приблизить возвращение в родную гавань… Вот, говорят еще, домино — второе «интеллектуальное» занятие после перетягивания каната. Что ж!..
Да что я! Пора бы уж вырвать победу! И — с маху костяшкой. И — полный вперед!Ожившие лица, взоры, благодарная реакция. Попадаю в «струю» желаний одичавшего за долгие месяцы экипажа: полный вперед! Привычные к северным морям, куда ходят эти мужики всякую навигацию, неожиданно, за краткий срок, побыли еще в средних широтах, хлебнули бискайских ревущих сороковых субтропиков, и вот недавно, огибая Индостан и Цейлон, едва не зацепили форштевнем и ржавыми мачтами — горячий экватор!
Нет, нет… Что это — заговорили вдруг, запечалились о малой родине?! О снегах. И моя малая — снега и вьюги девять месяцев в году.
— Проведите по карте перпендикулярную прямую от нашей стоянки, как раз она пройдет по моим сибирским весям!
Там, конечно, под снегом крыши И морозная ночь долга. Вот и дочка из дому пишет: «Нынче прямо до звезд снега».— Тайга и тундра, степные косули и северные олени… Да еще знаете, ребята, родина Гришки Распутина. Григория Ефимовича…
— Знаем. Мы только недавно читали Пикуля у «Последней черты»… А дом Распутина живой, стоит?
Я был в Покровском, когда дом еще стоял. Добротный, он возвышался над остальными, приютив в себе сельскую мастерскую по пошиву легкого платья. Вышла из флигеля старушка, сказала, что знает о Григории Ефимовиче «все на свете». И еще сказала, что приезжает много ученого народа: не сохранилось ли чего? Сохранилось, только она, пока жива, никому не отдаст подлинные распутинские — часы с кукушкой…
Какие разговоры ведем под Южным Крестом! Русь наша — Родина! Везде она с нами… Русь многострадальная…
Я говорю мужикам, что и дом снесли. Как-то по-варварски. Зачем? Деревенские мужики с кольями в руках противостояли. Не получилось…
В ту же пору убрали и Ипатьевский дом — узилище последнего православного русского царя. Какие силы? Теперь я знаю, какие. Но скажи тогда изголодавшимся по информации «самоходам», завтра откровения сии будут известны нашему идейному помполиту. Он бдителен. Он не пьёт даже тропическое вино, которое выдает из артелки чиф — по две бутылки в неделю на «рыло». Он употребляет демонстративно, при свидетелях, разбавляя водой, как рекомендует медицина, но… об этом молчит наш судовой доктор. «Толпа» употребляет цельное, неразбавленное…
Ну вот и все — выполнил задание помпы! Ладно — не Пушкин… Удачи вам, полярники, на оставшую дорогу!..
В лоцманской каюте, куда определён на ночлег, та же духота и зной. Те же скрежещущие вентиляторы гонят колючую жару. Ее иглы, будто осы, впиваются в лицо. И все тело в липкой испарине, как у больного. Что ж, теперь стану ценить преимущества наших морозов. На дворе, конечно. Когда в избе пылает печурка и припасена вязанка березовых дров. Конечно, воспою и былые ночевки в снегу, когда, раскидав горячую золу от бурно сгоревшего костра, стелил еловый лапник и засыпал мертвецким сном под тулупом в соседстве таких же таежных путешественников…
А моя каюта на цивилизованном теплоходе!
Завтра выкатит из моря солнце, спустят на воду этот фантастического вида мотобот и доставят домой.
— Ну как, — спросит первый помощник, — поработали?
— Да, — скажу, — Николай Гаврилович, поработал! Поддержал честь флота! Пора и на вахту.
Но — печет. Но вибрация от молотящего в глубине корпуса двигателя. Обычно вибрация привычна со временем, но эта колотит такими припадочными толчками. Вызванивает пробка графина на тумбочке. И мутная водица колеблется в лунном луче, заглядывающем в квадратное окно-иллюминатор.
Выхожу на ботдек, где раскидались в маятных снах обитатели «самохода». Пробираюсь к трапу, перешагиваю через чьё-то лицо, откинутое покрывало, задеваю пустое ведёрко, оно оглушительно опрокидывается, катится, звеня, словно будильник.
— Кого носит?
— Спите, спите…
В окрестностях полубака скользят тени, что-то размашисто летит за борт, плюхается в воду, и пара косматых голов свешивается с фальшборта в напряженном внимании. При полной луне, облившем медным светом окрестные воды, хорошо вырисовываются мачты, могучая труба «самохода» выдвигается в небо черной колонной, а там, на полубаке, среди темнеющего такелажа, усердствуют рыбаки, кои присутствуют на любом судне. Их и хлебом не корми, дай закинуть в море какую-нибудь ловушку. На рыбу-иглу, скумбрию, живописного морского окуня, что хватает наживку так же азартно, как на какой-нибудь степной речушке. Здесь, в Бенгальском заливе, в моде звероподобный, с фосфорными глазами, тунец.
— Тунца промышляете? — подбираюсь к рыбакам.
— Вот ведь зверюга — на обыкновенную блестящую ложку идёт, но срывается… Попробуем острогой подлеть?
— У нас пробовали, подвесной насест изобрели даже, но гарпунщики мажут…
— Мы не промажем!..
Как там на родном борту? Может быть, завтра поставят нас в док под погрузку. А?! Там привычно подкатит к трапу машина из нашего консульства — с почтой, с письмами из дома. И, знаю, какая сладость вчитываться в долгожданные строки: что там, как там?..
Третий месяц распочали, как вышли в этот рейс, а конца-краю ему еще и не видно. На «дворе» конец марта, так что набирайся терпения, морячок, еще на пару с хвостиком месяцев до возвращения домой…
Мерцает приглушенный фонарным плафоном свет на корме. Иду туда, попив мимоходом по дороге из знакомого бачка с кружкой на цепочке. И опять пробираюсь на этот кормовой свет, в котором угадывается фигурка женщины.
— Это ведь вы встречали у трапа нашу шлюпку?
Переступают на железе палубы каблучки. И свет желтого плафона теперь ложится на нас двоих, падая за корму на близкую воду, где снует рыбья мелочь. Женщина доверительно смотрит на меня: в загорелом лице, во взгляде — расположение, интерес. И возникает ощущение, что мы где-то встречались раньше. Это ощущение растет, углубляется по мере того, как возникает и у меня доверие к её живому взгляду, крепенькой фигуре под легкой тканью светлого платьица. Пожалуй, ей, как и мне, где-то за тридцать…
— Я была в кают-компании, слушала вас…
— Вы сидели в дальнем уголочке, молчали…
— Да, да. Хочу спросить: вы ведь на Ямале бывали. А я в Салехарде работала, так что, выходит, мы земляки…
— Даже так! Что ж, в самом деле мир тесен… А здесь, пожалуй, вы за буфетчицу или за доктора?
— Фельдшер.
— Гляньте, какая страхолюдина подплыла!
Желтый круг воды молнией прострелила рыба-игла, распугав мелочь, а из донной глуби показался не то внушительных размеров краб, не то морская черепаха, плавно помахивая неуклюжими ножками-плавниками.
— Какой ужасти тут только не водится! Я люблю вот так стоять вечерами и наблюдать. Впервые попала сюда, ведь все больше во льдах, в холодах…
Качнулась на каблучках, обожгла прикосновением.
— Говорите, ужасти!.. Вот при мне в одном рейсе случай был… Хотите, расскажу. Вы ж доктор, в обморок не упадете. Ну так вот… Любовь у нашей буфетчицы приключилась. К молодому механику. Поначалу все было, как всегда — взаимность, встречи, страсть, все прочее. Рейс долгий. И к концу рейса что-то разладилось между влюбленными. Домой шли. Южно-Китайским морем. И она решила не то испытать, не то просто попугать парня. Тихо было, солнце жарило. Шли полным ходом. Свободные от вахты — кто в курилке сидел, кто в бассейне плескался. Механик в курилке байки травил с мужиками… И вот она, Ларисой её звали, подошла к нему, что-то сказала и… на виду у всех перекинулась через кормовой борт… Наверно, ее винтом ударило, без крови, понятно, не обошлось. Потому что через какие-то мгновения в бурунах вскипели акульи хвосты. Крикнуть не успела… Когда застопорили ход, оказывать помощь, спасать было некого. Чистое море. Ни приметы, как говорят, ни следа…
— Да, это ужас…
— Вас Верой звать, правильно?
— Да, Верой…
— А почему не спрашиваете, откуда знаю?
— Наверно, у капитана спрашивали.
— Совсем нет, Вера!.. Вы помните ямальский поселок, вьюгу, чум возле посадочной площадки для Ан-2? Помните, мы неделю не могли улететь в Салехард на о-очень Большую землю. Ненец, хозяин чума и главный аэродромщик, кормил нас строганиной из печени оленя, а парни-попутчики бегали в магазин за спиртом, томатным соком и мы пили «кровавую Мэри».
— Выдумываете! — засмеялась женщина. — Да я никуда из Салехарда не выезжала тогда, работала в санчасти аэропорта…
— Ну хоть один-единственный раз выезжали… Всего один?
Подошел контейнеровоз, огромный, японский. Заслонил полнеба, кромку луны, загремел якорными цепями. Еще один бедолага — ждать и ему, когда индусы закончат бастовать.
Присели на лавочку. Я закурил.
— Вы помните, Вера…
А в небе горит неправильный четырехугольник Южного Креста. И упрямая зыбь накатывает, шумно поддает в задранную корму. Бог мой, лови редкие лирические мгновения морячок! И она уже не сопротивляется рассказу, уютно дышит рядом, руки на коленях, русалочья россыпь волос.
— К вечеру мы уходили на ночлег в какое-то общежитие, а может, это была гостиница оленеводческого совхоза. Там никого не было, кроме нас да парней-попутчиков. Охотниками они назвались, мехами хвастались… А через трое суток пурга улеглась, приземлился Ан-2, но взял только одного пассажира из местных, тому надо было «вовсе позарез». Вечером мы снова пили «кровавую Мэри» в этой гостинице…
— Вообще-то кроме шампанского я ничего не употребляю, — укоризненно-весело говорит женщина. — Ну и дальше…
— А дальше мы оказались с вами одни в комнате и отчаянно целовались…
— О, ваши приключения…
— Это уж потом парни мне рассказывали. Потом, в салехардском ресторане, когда через неделю туда добрались. Юра, один из парней, и говорит: «Захожу в комнату, а он целует мою невесту». Я, говорит, мехами обещал ее, то есть вас, завалить, если выйдет за меня замуж!
— А он вам ничего не сделал, этот Юра?
— Вообще-то я не предполагал, что вы его невеста!
— Ну вот, приехали…
— Представляете, прошло ведь двенадцать лет, а надо же — где встретились!
— Господи, спать вы собираетесь?
— Пробовал, не получается… А ведь у нас не будет вот такой индийской ночи. А, Вера?! Никогда! И разве вам не интересно, что потом с нами было?
— Двенадцать лет назад я, действительно, вышла замуж. За летчика. Он все летал да летал. Долетался…
— Погиб?
— Разошлись мы шесть лет назад… История скверная и для северян нередкая. Пил… Дальше больше. Кем стал, вспоминать не хочется… Собрала дочку и махнули мы куда подальше. Во Владивосток. Родственники там у меня…
— Печально… Но это все было после… А в тот декабрь мы так и не улетели из этого поселка. Еще пару дней просидела в чуме. Пришел вездеход гусеничный, а в кузове, под брезентом, народ. Такие же страдальцы, как и мы. Всем — на Большую землю! Водитель вездехода почему-то нас с вами, Вера, выделил, залезли мы в теплую кабину. Помните, как уютно тарахтел мотор, а мы полдороги пели, водитель тоже пел. Потом вы задремали, уснули и так сладко приникли… Я это хорошо помню, прямо осязаю эту дорогу сквозь вьюгу…
— Допустим, так и было. С вами было! — улыбается женщина. — Ну вам не привыкать фантазировать, а наши завтра скажут, что доктор Вера Николаевна гостя на корме завлекала…
— Мы тогда бы точно заплутали в тундре, сгинули в пурге, если б не взяли ненца-проводника. Закутали его в меховую малицу, в тулуп, усадили с хореем на кабину. Водитель и держал курс по этому хорею…. В Салехарде вы как-то сразу исчезли. Искал вас… А в ресторане гостиницы пел хромой солист и часто объявляли: «По желанию гостя из Яр-Сале исполняем песню на слова рязанского поэта Сергея Есенина «Не жалею, не зову, не плачу…» Юра все заказывал. И целый вечер добродушно долдонил за нашим столом: «Парни, — это как же, а? Захожу, а он мою невесту обнимает! А ты, друг, не обижайся! Я тоже не обижаюсь… Но захожу, а он…»
Остаток ночи провожу в санитарной каюте, на прохладном клеенчатом топчане. «На сегодня это лучший закуток на судне при такой жаре!» — сказала женщина.
Когда поднялись в надстройку, прошли в коридор командирских кают и она открыла ключом дверь в пахнущую лекарствами и ровно гудящую во тьме холодильником каюту, как-то поспешно и голодно приникли друг к другу. Целуюсь, позабыв все на свете.
— Прошу, оставайся, Вера…
— Нет, нет… Пароход же стеклянный, понимаете…
— Все равно оставайся… Это ж невозможно так! — настаивал я отрешенно и тупо.
— Хорошо, — вздохнув, произнесла женщина, — Вы только не закрывайтесь, я скоро приду…
Утро встало желтое, прежнее, солнечное. «Самоход» монотонно раскачивало, и я, будто впервые за эти часы, расслышал, как он скрипит и жалобно постанывает железными вздохами — от глубоких пустых трюмов до мачтовых рей и клотика. На ржавых палубах коричневели слабые лужицы ночной конденсации, на поручнях трапов, леерах светились бисеринки. Скоро, скоро их высушит, испарит горячее небо.
На палубе, в закатанных до колен трико, делал физзарядку моложавый капитан. Остановился, поинтересовался о самочувствии, сказал, что наши связались по радиотелефону, просили доставить меня к завтраку.
— Готовы?
— Все при мне.
Потом боцман быстренько снарядил железный бот, залез в него последним, нас опустили на воду. Механик завел мотор. Оттолкнувшись багром от ржавого борта, мы побежали, взбираясь на пологий, какой-то тягуче-резиновый бугор зыби.
Никто не махал вослед.
Вечером сосед по рейду, не дожидаясь погрузки, выбрал якоря и ушел в море.
ВЗГЛЯД
Ну что еще надо? В комнате тепло, уютно, мягкий ворс паласа под ногой, стенка книг до самого потолка — можно взять любую, откинуться на диван или в кресло, читать, забыв свои печали, думать, погружаться в чужую жизнь, мимоходом, мелко отпивая из кружки горячий чай. Хорошо. Да-а…
Что с того, что скверно на душе — с родных отчих мест пришли печальные вести: жизнь там никак не «процветает», разлад сплошной, неурядицы. И куда она катится, жизнь?
Да и за окошком холодный день поздней осени. Холодно и на душе. Но! Хоть эта милая картинка: воробей на перила балкона принес хлебную крошку, подлетели еще два воробья — веселый пир у них пошел! Голуби стаями вьются, ребятишки высыпали из детсадика, построились в колонну по два, шествуют за воспитательницей. Но как-то понуро шествуют, без ребячьего азарта…
И день серый. И дома серые — башни, пятиэтажки, расставленные в продуманном кем-то, расчерченном кем-то порядке. Но нет ощущения долговечности, прочности в их стандартной обреченности, геометрически правильной заданности. И такие же хлипкие, однообразные — голые сейчас — ряды тополей, словно, кроме них, воткнутых в болотистый грунт лет пять назад (наспех, для планового озеленения) и деревьев-то никаких на земле не существует.
На что скудна природа в наших солончаковых, местах, а все же — березы, осины, краснотал, боярышник. И — сиреневая кипень старых усадеб, буйная в мае-июне, богатая медовыми ароматами!
Может быть, все образуется, наступит новая привычка, покой? Вот и снег повалил. Настоящий сибирский. Ведь мечтал о нем, грезил в жарких странах.
Не знаю, не знаю…
И здесь, на родине, нет равновесия, того самого «покоя и воли», что, по определению Александра Сергеевича, даётся взамен несуществующего счастья.
И тогда приходит женщина — далекая, загадочная. Чувствую на себе взгляд её — сначала быстрый, мимолетный, а потом всё более пристальный, с глубинной жалинкой, все по-матерински понимающий.
Да, вот так и бреду и странствую мысленно в лабиринтах недавних дорог своих, портов и морей, встреч и расставаний. И вдруг вспыхивает этот взгляд, озаряет теплым хорошим светом, как наша лесостепная, короткая августовская зарница.
И далекий Кочин-порт вспыхивает. И я в нем! Городок этот самый благополучный, самый развитый в южном индийском штате. «Самый-самый» это из лексикона помполита. И ты смотришь уже под другим «углом зрения» на покатые, в новой чешуйчатой кровле — темно-бордовые крыши как бы нарисованных домиков на другой стороне бухты — вся их бордовость явственно (опять и опять!) напомнит наши солончаковые Палестины. А толчея стволов пальмовой рощи с желтыми, будто бы издающими тихий звон, кокосовыми плодами, кажется тебе преддверием земного рая — дармового, вечного — на веки веков.
И еще… Как прохладно, обволакивающе сладко пахнет сандаловым деревом в старинных, уже музейных апартаментах дворца магараджи, где на фресках стены пленительные подружки повелителя ласкают его — все вдруг! — на малахитовой зелени лужайки.
Индия без красавиц — в нежных тонких сари, с кастовыми знаками на лбу! — не Индия.
Помнится…
— Да вот и они! — легкая улыбка тонет в богатых черных усах нашего корабельного электрика Андрюхи, нашего красавца мужчины — с черной кудрявой шевелюрой. — Индейки пожаловали!
— Сам ты индейка! — дразнит Андрюху вахтенный матрос у трапа.
На палубах и в каютах пусто — воскресный день. И все свободные от вахт ушагали в увольнение — покупать бусы и ожерелья далеким русским женщинам. Драгоценные камушки здесь не дороги.
И я уже походил по Кочину. Поклонился могиле первооткрывателя Индии Васко да Гамы. Не могиле, собственно, а ограждению на каменном полу католического храма. Отсюда прах Васко давно уж перенесен в Португалию, на родину именитого мореплавателя. И я что-то писал в толстой церковной книге — слова восхищения смелому человеку.
Да-а… А сегодня и наш теплоход-сухогруз примечательность. Да какая!
— Братцы, гости идут!
— Индусы шумною толпою…
— Не балабоньте! — резковато обрывает матроса помполит — высокий пожилой дядька. Все на нем от запонок на рубашке с длинными рукавами — в такую жару! — до коричневых кожаных полуботинок, подчеркнуто своё, отечественное, ни грамма «фирмового», зарубежного. Фасон давит, как мальчишки-практиканты мореходки, что в японских джинсах, что наши судовые дамы — в «сафари» сингапурских.
— Андрей, ты свободен сейчас? Проводи гостей по судну, покажи, что полагается…
А я жарюсь на навигационной палубе возле китайского бильярда. Сверху многое видно, слышно. И музыка ультрамариновой бухты, и скрытый там, за пальмами, город, и портовый поселок с вольготно бродящими священными коровами по чистеньким улочкам, флагом пароходной компании «Феско-Индия». Вчера там, на фоне флага, фотографировались на память, кормили буренку одну индийскую бананами. «Красуля, Красуля… Люська, Люська!..» — окликал я коровку знакомыми мне окунёвскими коровьими именами, чесал её кирзовой мягкости шею. И старик-торговец в тюрбане, продавший нам бананы, весело блестел глазами, улыбался, щерясь кривыми коричневыми зубами.
«Люська, Люська… Красу-у-ля-я…»
Корова уверенно и цепко захватывала резиновой твердости языком зеленую кожуру банана, отворачиваясь почему-то от сладкой сердцевины, требовательно тыкалась слюнявой бирькой в мою ладонь, наивно хлопала густыми ресницами своих по-восточному раскосых и длинных! — коровьих очей. Ну дела! Хохотали мы все, уныло звеня в карманах неувесистой мелочью…
Гости поднялись по трапу. Мне пока слышны их голоса да глуховатый басок Андрея. Он что-то пытается там, на спардеке, растолковать им по-русски. Хохоток — сначала сдержанный, вежливый, потом всё открытей, раскованней и рискованней — женский мелодичный смех.
Гости взошли на шлюпочную палубу — ботдек, гомонят, развлекаемые Андрюхой, возле палубного бассейна, из него на время стоянки в порту спущена вода, и еще сверху видно, как на корму, возле люка камбузных отходов, уверенно уселась чернявая, как монашка, священная индийская ворона. Она сердито клюёт кормовой наш багряный флаг, что колыхаясь мешает ей сунуть в люк свой нахальный клюв.
Жарища! А в груди сладкий трепет. И понимаю — откуда он, из каких глубин вырастает, охватывает душу, воображение: индийские женщины! И ни где-нибудь в толчее улицы, в толпе (красивые и не очень. Насмотрелся на них в портовых городах, всяким раз невольно сравнивая с красотками из раждкапуровских фильмов), а прямо у нас, в нашем палубном, грубоватом быту.
К своим-то судовым женщинам мы привыкли. Свои они и есть свои — хорошие «парни», переносят с нами вместе «тяготы и лишения» флотской работы, как трактует Морской устав. Готовят нам, пекут и стряпают, прибирают в каютах командиров, запросто заходят поболтать, валяются, когда и где выпадет роскошь, чуть ли не голенькие на горячем пляже среди здоровых, невыболевших мужиков наших. Каждая линия, каждый изгиб тела, всякая родинка на коже, открытая рисковым купальником, у наших известна. Да и биографии — подробности личного (чаще всего несостоявшегося) счастья, известны: когда развелась, отчего не сложилось (обманулась или её обманули), к кому «приклеилась» на судне, и кто «приклеился» сам из парней — холостых, разведенных, а то и женатых. Все это обыденная, текучая жизнь с нечастыми радостями личного, зато с частой изматывающей болтанкой в океане, от которой наши женщины отнюдь не становятся краше и привлекательней.
Но вот есть минуточка, «окошечко» в работе, и какая-то из наших пяти морских дам выпросталась из сарафана, раскинула одеяло на горячем палубном железе подальше от глаз, распласталась под южно-индийским солнышком. Кулачок под щеку, рыжую косу, чтоб не мешала загорать спине, в сторону, толстые пятки врозь… Кто это? Судя по солидным выпуклостям давно не точеной фигуры, буфетчица Лариса! А я и не приметил как-то, азартно шуруя кием китайского происхождения. У меня тоже отдых между вахтами. Скинул в каюте пропахшие машинным маслом штаны, с удовольствием нырнул в шорты, в майку с альбатросами на груди и айда на верх, на жару, на волю!..
— Андрюха, — голос того же матросика у трапа, — ты там не охмуряй индианок…
Черт побери, совсем развольничался — молодой!
Да вот они и сами — гости наши. Четыре женщины в сари, три из них обвешаны голозадыми ребятишками-детишками, два моложавых индуса в цветастых рубахах на выпуск. И Андрей среди них — всем свои чернобровым и черноусым обличьем вполне сходит за индуса. Но куда денешь говорок — мягкий славянский басок с украинскими, чуть заметными, интонациями…
Ах, как расстилается он перед одной, не обвешанной детишками, статной, хоть и чуток полноватой, но без излишеств, красивой индианкой!
— Андрей, как успехи? — кричу я парню.
— А вот выяснил: из дальней деревни приехали, чтоб посмотреть русский пароход.
— Ишь ты! Всё так и понял?
Гости вежливо топчутся возле Андрюхи, застенчиво улыбаются. Ох уж эти вечные индийские улыбки! Затем неловко оступаясь в своих легких сандалиях, взбираются крутым трапом ко мне. Что ж! Как-то и мне надо проявить себя, оказать внимание гостям.
— Попробуйте вдарить! — подаю кий индусу, — А ну, попробуйте!
Как мотыгу, как топорище, берет он кий и под вежливые улыбки спутников делает неумелый удар.
— О’кей! Ничего! О’кей!
Андрюха глазами так прямо и источает мед на красавицу индианку, и робость, черт побери, в нем откуда-то взялась, и движения плавные, замедленные… Эх, Андрюха!
И она — я вижу! — понимает, ах, все понимает: взгляд этого русского нечто большее, чем любование её красотой, — томление, внезапно возникший любовный трепет и — несбыточность, тщета, сожаление…
Да и сам я — в каком-то облаке очарования!
И она, ободренная столь явным, пусть робким| поклонением, веселей и смелей посматривает на нас обоих. Да, и мой восхищенный взгляд замечен, — и отмечен этой здоровой — кровь с молоком — деревенской красавицей.
— Васильич, сфотографируй нас всех вместе! протягивает мне Андрей свой «Зенит».
И потом, на фотографии, будет веселый и гордый взор женщины, её глаза (по глубоким и жарким зрачкам которых навожу я резкость объектива), а рядом — глаза Андрея и что-то в них такое; запечатлится и увековечится сейчас, чему, наверное, сам Андрей будет дивиться через много лет, глядя на снимок, и вспоминать с душевным трепетом, одному ему ведомым.
— Ну вот! — вздыхает Андрюха. И все молчат. Неловкая пауза, освещенная вежливыми улыбками. Мужчины-индусы скромно косятся на поджаренные на солнце телеса нашей буфетчицы Ларисы и робко идут к трапу. Андрюха вихрем скатывается вниз, страхует спускающихся по ступенькам женщин. Опять улыбки, взгляды и — удивительно! — ни одного писка прильнувших к мамашам малышей…
— Что? — говорю Андрею, когда гости сходят на берег и всей цветной и улыбающейся компанией исчезают за ближними пальмами. — Никак влюбился?
— Кажется, да! — легко, с неожиданным откровением кивает кучерявой головой парень.
— Да ты что?!
— А вот тебе — и что!
— Ну и как теперь…
— Не знаю… Ну вот не знаю! — и загорелое лицо парня светится изнутри грустноватым и возвышенным светом…
И вот теперь, среди русских снегов, в теплой городской квартире, вглядываюсь в карточку, подаренную Андреем, и спрашиваю себя: зачем эта женщина пришла в твою память? И не такая уж она и красавица, судя по этому любительскому фото. Да, встречались ярче и блистательней на индийских перекрестках — раджкапуровские звезды из бледнолицых и высших каст.
Но не было таких вот глаз, такого пристального, горделивого и понимающего взгляда… Даже имени её не знаю, но представить хочу — индииская деревня, жара, пальмы со звенящими кокосовыми плодами, она — прямая и статная, не идет, а проходит, как царица, неся на мягком плече кувшин с родниковой водой, или хлопочет у очага, или обихаживает детишек, или…
Не знаю. Не знаю.
Зачем я думаю о ней? Разве не о ком думать на своей земле?! А, впрочем, не такая уж тут сложная философия: среди распада и жизненных печалей, закравшегося в душу неверия в справедливое устройство мира вдруг пронзительно и остро возникает потребность в красоте, может быть, и придуманной тобой, но пронзившей однажды душу теплым хорошим светом, как наша лесостепная августовская зарница…
Ничего не случилось тогда в Кочине. Не было продолжения. Просто был горячий, жаркий денек, был Кочин-порт, судовой электрик Андрей, внезапно воспылавший любовью к чужой индийской женщине. Были её глаза, все понимающий взгляд.
И мне хорошо сейчас от этого взгляда. И легче.
СЕНОКОСЫ ДЕТСТВА
— Опять про сенокосы?! — дряблая, розоватая кожа на его лысом черепе собирается в гармошку, в глазах наигранное удивление и плохо скрытая ирония. Он поднимается из-за стола, оставив початый фужер вина и девицу, небрежно пускающую дым из алого рта.
— Ну, спасибо, старик! — картавит он и преувеличенно бодро трясет мою руку. — Обязательно прочту, старик…
Ресторан гудит, отлаженно, с достоинством снуют между столиков зоркие официанты. И дым сигаретный величественно поднимается к дубовым сводам высокого потолка, к резным балкончикам и витражам готических окон. Тепло и уютно. А мне одиноко: каждый занят собой, приятельской беседой, разгоряченной напитками и острыми блюдами. Говорят об успехах, о славе… Но и у меня должна быть радость: в Москве вышла книжка, скромный такой по объёму томик. Я купил его в Доме книги на Новом Арбате. Зашел в этот ресторан литературного клуба, а знакомых — только вот этот тощий и бодрящийся возле молодой, но подержанной девицы человечек, с которым как-то свела судьба в совместной поездке на северный литературный праздник.
«Опять про сенокосы!» Мне, конечно, понятна незамысловатая ирония знакомца, его антипочвеннический настрой и едва прикрытая ирония. Разговаривать, снисходить до широкого общения он не собирается: ну, ездили…
Да, черт с вами, со всеми! — решаю я наконец, подхожу к стойке бара, выпиваю стакан сухого и выхожу в серую московскую вьюгу.
Зябкий, сумеречный, еще не поздний час. Тщетно кручу телефоны-автоматы в надежде пообщаться хоть с кем-то из однокашников по институту, осевших каким-то способом в Москве, пустив слабенькие, неуверенные побеги сквозь твердокаменный столичный асфальт. Мне пришло на ум — такое вот практическое! — как-то с запозданием, когда с легкой грустью покинул столицу и потерял временные студенческие возможности. И опять я оказался в своих лесостепных, солончаковых да разнотравных весях,
— Гав-гав! Приветствую тебя! — кидался ко мне широкогрудый, разомлевший на жаре, пес Тарзан. Пахло коровьей стайкой и подсыхающими на проволоке, растянутой поперек двора, распластанными карасями, озерной водой, огородом. Я знал, что опять я — ненадолго в гости, мать, охая, бегала из кути в сени — приехал! — семеня и запинаясь в своих «дворовых» калошах, собирала на стол.
Приходил со двора отец, улыбался глазами, подавал левую, не перебитую на войне, руку. Знакомо притаскивался сосед Павел Андреев, в рыжей щетине, в валенках среди лета, приносил старинный, неистребимый запах моршанской махры, устраивался на крышке голбчика, потом сползал на доски пола, до боли знакомо вертел свою «оглоблю», сладко пыхал и спрашивал:
— Однако, САМОГО-ТО там, в Москве, видел?
И я фальшиво кивал. А потом за разговорами, за куревом, за кудахтаньем кур во дворе и звоном подойника, невидимыми вроде бы хлопотами родителей, от которых они старательно ограждали меня по случаю приезда и «устатка с дороги», подкрадывался долгий июльский вечер с народившейся за дальним лесом луной и спелыми звездами. Острей пахло отсыревшей травой возле ограды, и огородные запахи ботвы поднимались вместе с исходящим от земли теплом в звенящее мошкарой небо. Я всматривался в вечерние сумерки, ловя душой и сердцем эти простые, до осязания памятные, звуки, вспоминал скрип мельничных крыл, что махали вон там, на взгорке, пугливый голос не слышной нынче перепёлки, веселый стук фургонных колес о сухую прикатанную дорогу, когда возвращались с совхозного луга звенья стогометчиков.
Ах, сенокосы! Поэзия моей сельской колыбели, сладкая пора малиновых утренних зорь, огуречная свежесть прохладной росы, незамутненная ясность распахнутого детского взора и великая вера в справедливое устройство мира… На все четыре стороны — полевые дороги, чистый свет родниковых небес и посреди этого пространства — наш старый дом под дерновой крышей, двор с курами и воробьями, с телегой и чугунком колесной мази у забора, так остро и дурманно пахнущий по утрам.
Вот отец выносит из сарая литовки, чуть тронутые ржавчиной, обтирает их смоченной в керосине тряпочкой, а затем уж неловко, со сбоями, раненой рукой стучит молоточком по их податливому, упругому полотну. Тук-тук-тук — откликается в других подворьях. И вся округа, весь раннеутренний восторг предстоящего дня исходит на монотонные, но такие сладостные для крестьянского сердца, железные, дробные звуки.
Вот отец заводит в оглобли телеги нашу комолую корову Люську, которую специально не пустили в табун. Люська покорно подставляет морду под хомут, переступает копытами, когда отец затягивает супонь и поднимает на седёлке.
Моя обязанность — смазать каждую ступицу колес телеги. А мама, отхлопотав возле печи и шестка, собирает в сумку нехитрую снедь — картовницу да яички, огурцы да молоко, да еще желтый шмат сала кладет в сумку. Наработаемся, съедим!
Еще надо не забыть бидон чистой колодезной воды. Там, на жаре сенокосных рёлок, — первая услада.
Уложены литовки, грабли, брошены на телегу какие-то драные лопотинки, чтоб мягче было сидеть, старенький дождевичишко на случай дождя. Отец отворяет ворота, мама по-мужски берет вожжи, садится на облучок. Пора! Люська косит черным блестящим оком на хозяйку, роняет слюну в сухую пыль ограды и, натянув гужи, трогается. Железные колеса телеги гулко стучат по кочкам, выносят нас на торную дорогу улицы, успевшей закаменеть после недавнего дождя и покрыться коровьими лепешками, опушиться по краям изумрудной щетиной конотопа.
Так мы едем и едем, монотонно и долго, минуя Засохлинский увал, движемся солончаковой степью, вдыхаем её терпкие запахи; недалеко сверкает блюдце озера — в зарослях камыша и осоки, а ближе к дороге, вывернутый колесами и копытами, сизоватый грунт с белым соляным налётом да красная, мясистая, какая-то неземная растительность. Она брызжет под железным колесом кровянистой влагой. Впереди плывут степью несколько других телег, опередили нас, выехали пораньше и тоже правят в Васильевские ворота, где столько рёлок, ягодных пустошей и колков. И трава, разнотравье июльское. И — самая пора — успевай закоситься, занять примеченную еще с прошлого года Палестинку с визилем, кукушкиными слёзками, с пением иволги и ремезиными гнёздышками в густоте старых берез, под которыми так хорошо укрываться от дождя, от грозы, где так веет груздя-ной прелью и мерещатся дивные сказки.
Когда-то потом, позднее, в зрелом возрасте, я пойму уже не только сердцем, разумом, всю скудность и бедность этого бытия: запряженную в телегу корову Люську, нашу поилицу-кормилицу, которой привольней бы гулять среди степных ковылей, а не напрягаться, не натягивать сыромятные гужи, не отбиваться от злых оводов, жадно набрасывающихся на голое вымя. И горячий пот из-под косынки матери, и неловкие, от увечной правой руки, отцовские прокосы. И частые передышки его, и наждачные всхлипы оселка над полотном литовки. А пока они, родители мои, помолодевшие, счастливые — вовремя поспели к хорошей траве, натокались на добрую поляну, а за ней, вон через молодой лесок, другая пустошь, где к вечеру можно напластать еще пяток копён.
Люська, привязанная за колесо вожжами, резво помахивает хвостом, захватывает языком сочную лесную траву. Я ворочаю грабельцами позавчерашние, подсохшие рядки кошенины, посматриваю на Люську. И невдомек мне, объятому счастьем детских видений мира, шмелиным гудом, шелестом стрекоз и близким пением иволги, что через какие-то недальние лета и года, «признают» у Люськи нашей неведомый нам бруцеллёз, понуждая сдать кормилицу на ближнюю бойню скота, поскольку где-то там, в верхах, напористо и энергично пообещают русскому крестьянскому человеку близкий рай и полное изобилие от государства. И верховный наш руководитель, поверив в магию и силу опрометчивых своих распоряжений, произнесет однажды перед иностранцами, при обильном правительственном застолье, сытохмельные слова: «Ешьте, пейте, господа! У нас, у коммунистов, всего много!»
Эх, Люська! Но мы еще станем сопротивляться, не веря «диагнозу» совхозного коровьего лекаря, что, заглушив стыд и утопив совесть в вине, чересчур рьяно выполнял волевое, всевышнее указание: «Вперед, к коммунизму!» Но без личных люсек и сенокосов, кои надо срочно распахать под посевы «королевы полей», без домашней, из-под вымени, кружки молока, от которой упругим соком наливается деревенское детство силои ума и здравым рассудком, солнечной сказкой о мире полнится душа, что потом и в зрелые годы станет держать в себе здоровый, протрезвелый дух, при котором человек не должен лихо споткнуться на многоликих ухабах жизни…
Но не сразу захиреют лесостепные мои дали и травы. Еще целое лето по вечерам будет тосковать в лугах перепелка. И в просторную загородку нашего двора, в этот домашний концлагерь для Люськи, поскольку ей откажут даже в соседней от дома полянке, буду я носить в мешке траву, нажатую серпом в болотной ляжине, да теплую, пахнущую морогой, озерную воду для Люськиного питья. Целое лето, аж до поздних заморозков, когда уже порыжеет и кипень отавы, когда задубеет и забамбуковеет озерный камыш, иней сморит огородную ботву. Терпение и воля кончатся. Прощай, Люська! Переживем, вынесем твой мифический бруцеллёз, не пристанет никакая хворь от твоего «заразного» молочка. Но — прощай. Пошагаем мы налегке — к самому светлому будущему, к коммунизму…
А еще через несколько лет повезут наш бескозырочный, матросский взвод — охранников Главного Военно-Морского штаба — на зеленых машинах в какое-то неведомое подвальное московское книгохранилище. И сам генерал в отставке, начальник этого книжного склада, прикажет — и ему приказали! — выдирать портреты из книг — того человека, что сакраментально произнес в недалекие годы: «… у коммунистов всего много!» И мы, люди военные, генеральский приказ станем выполнять тщательно и аккуратно, без особого, правда, рвения и вышколенного правительственной нашей частью старания.
Что же там происходило — в высших сферах? Нам ведь, нам обещал этот простецкого вида энергичный человек, вскинув однажды высоко над головой кулак с зажатым в нем увесистым кукурузным початком, нам обещал, тогда девятнадцатилетним, мол, «нынешнее поколение… станет жить при коммунизме!» Так же точно — через годы! — свершив криминальную революцию, пообещают нам продолжатели «дела» этого человека, демократы: «светлое будущее — капитализм!..»
«Бойцы, матро-о-осы, мор-р-ряки, переживем и этот культ!» — взовьётся в те дни, убеждая нас и себя, батальонный наш комиссар-замполит. И вспыхнут в памяти недавней — танки на Садовом кольце, и военные регулировщики на перекрестках. Подготовка к Октябрьскому праздничному параду? Нет. Другое что-то, размышляли мы взводом, проезжая по Москве в караул. Оказалось — в лязге танковых траков, в броне, шла в Кремль новая власть. Верней, её временщики!
Переживем и…
Но Люська, наша кормилица Люська! Сколько тебе осталось шагать в тесном, немыслимом хомуте, в оглоблях, по сухой горячей дороге? От скольких паутов, комариных полчищ предстоит отбиться на зеленых лужайках и пустошах, пока хозяева твои «тяпают» за прокосом прокос — один под проценты совхозу, другой — на собственное подворье? В каких еще травах и росах искупается раннее мое, незамутненное горькими думами, детство?
Вот уже солнышко высоко-высоко забралось в полуденный зенит. Жарко. И птицы-иволги смолкли, притихли. И теперь уж по всему сенокосному краю потянулись косари в тень телег и фургонов, расстилают платки и полушалки, распаковывают, расставляют крестьянскую снедь. Обедать пора! Неведомая сила, само земное притяжение, удесятеренное усталостью в теле, тянет распластаться на полянке возле тележного колеса. Береза над головой пошевеливает вислыми ветками, говорливой листвой и крепкими сережками, на одной из которых устроилась стрекоза, да муравей путешествует по белому стволу, да где-то рядом звучно и грозно гудит шершень. Но достанешь из сумки свежий огурец, отломишь хлебную корочку и так аппетитно похрустываешь, запивая молоком из бутылки. И тебе вовсе неведомо пока, каким счастливым состоянием души ты обладаешь. Ведь не будет потом, через многие годы, таких вот самых пахучих в мире трав, самой волнующей иволгиной песни, синевы над головой, близких и теплых вздохов Люськи, что тоже нагулялась, прилегла на полянке и смотрит на хозяев большими добрыми глазами.
Останутся эти сенокосы где-то на донце сознания и души, как теплый комочек изведанного счастья.
Но будто нервные токи охватят тебя, будто химические дожди прошумят над головой, что станет тебе в этом мире неспокойней и горше, но… однажды в аргентинском порту Мадрин разбудит меня петушиный голос.
Осветит каютные уголки субтропическое солнышко другого полушария. Глянет первым лучом в иллюминатор, будто в оконце далекого — во времени и пространстве! — деревенского, сибирского сенного сарая. И вздрогнет счастливо сознание моё и душа, генная память крестьянского человека: пора вставать, косы налаживать пора, на сенокос сегодня!..
Или в белых миражных далях восточной Арктики вдруг пригрезятся степные да полевые дали с березовыми колками, с теплыми воспарениями и струящейся дрожью сизоватого воздуха, то вырастая, то прижимаясь к пространству, движется телега, издалека постукивая и гремя уложенными в нее вострокрылыми косами. Белый мираж!
До сих пор в причудах света Так и вижу наяву: Кто в белом поле этом Косит белую траву…Опять про сенокосы?!
Шагаю сквозь мутную и колючую московскую вьюгу, просвистевшую уже разудалым русским свистом закоулки, колодцы дворов старинного центра столицы.
Всегда любил я картины этой зимней старинной Москвы…
Редкие прохожие. Приземистые двухэтажные особнячки в тяжелых шеломах крыш чудятся мне зародами и кладями, аккуратно уложенными в знойном июле. Да — про сенокосы! В пору ракетных громов, потенциальных и реальных чернобылей, в пору экологических и нравственных катаклизмов, в пору сумасбродства масскультуры, мне, повидавшему виды в разных уголках планеты нашей, так хочется еще раз напомнить о первоосновах — о свете, о добое, что заложены в нас детством и зеленым миром природы.
Может быть, еще ничего не поздно? Вернуться к первоосновам? И возвысятся думы о простом естестве жизни, которую в эгоизме и жажде вещного накопительства, жажде удовольствий и власти, сам человек подталкивает на край пропасти.
Будьте ж вечны и благословенны вы, сенокосы детства!
СОН В ПОЛУДЕННЫЙ ЗНОЙ
… И так мало еще позади. Почти ничего. Ни прожитой пестроты взрослых лет, ни осознанной радости вдохновения и работы, ни первой строчки, ни женского поцелуя, ни тяжести сердечной от несбывшегося — всё это и другое-разное постигну потом, через годы. Потом. И за все будет заплачено — любовью, грустью, болями душевными или телесными, потому как за все в жизни человеку полагается заплатить.
Все еще предстоит мне.
А пока — синь и солнце. Жара полудня. И там, под застрехой июльского неба, на самых верхних, недосягаемых глазу жердочках-насестах, исходит на трели жаворонок, висит медленный коршун, плавно покачивая жестяными крылами. И я, десятилетний, ошалев от простора и воли, гоню по степи велосипед, еще из-под рамы верчу педали — с седла высоковато, не достают ноги. И сухая, уже притомившаяся к зениту лета степь пахнет богородской травой, тмином, солончаковой прелью. Ядреный пырей, обхватанный коровьими языками, побитый копытами, позванивает мелодично о спицы колес. Редкие султанчики ковыля, фантастичные до восторга в нашей местности, шелковисто ласкают босые ступни.
Стрельнуло синью озеро впереди, потянуло духом камыша, осоки, широпёра, гусиного лука — свежо и терпко: еще не успели перебродить зеленые их соки, задубеть от жары, горячих ветров. И вот все ближе. Тонко наплывает медовый нектар кувшинок, лилий — тоже диковинных для меня водяных цветов, потому как на домашних озерах они не растут. Не встречались. Там все растения попроще, погрубей, пообыденней. А тут! Над озером этим, над степным его зеркалом, над его колодезной глубиной и чистотой, даже стрекозы снуют азартней и веселей.
Мне радостно. Я еще не знаю другой красоты, чтобы в сравнении до конца постичь эту, данную мне с рождения, но я уже понимаю восторг, поднимающийся в груди. Чувствую краски и запахи мира. Они чисты, ясны, без полутонов. Прекрасны в первозданности детского восприятия.
Вон там, в пойменной низине озера, в плотной зелени болотных трав, ворочается, растекаясь и снова сбиваясь, пестрое коровье стадо. Деревенское стадо, которое пасут отец с моим старшим братом. Насытясь, шумно отпыхивая, стадо потечет вон туда, на озерную пристань, спасаясь в воде от злых полдневных оводов. И так будет торчать час-полтора над водой рогатыми и комолыми головами, цепенея от блаженства и неги. И возле пастушьего балагана-шалаша вскипит на сухих кизяках котелок с заваркой смородинного листа. И что слаще и ароматней смородинного чая в степи?!
Но у меня сегодня — работа. Кручу педали, поторапливаюсь по делу. На руле, в сатиновой старой кошелке, глиняный горшок с похлебкой, свежий подрумяненный каравай, недавно вынутый из печи матерью. Снарядила она, отправила заранее: поезжай, как раз успеешь к полудню, а там вместе отобедаете.
Близко она уже, озерная пристань. И черный треугольник домика-балагана, крытого дерном. Лодка у мостков, ряжевка, развешанная на шахах — кольях, издалека светит бельмами берестяных поплавков. Стан. Становище — пастушье-рыбацкое.
Гладь торной сухой степи всасывается в рыхловатые коровьи тропинки, течет по бородавчатым кочкам и оспинкам копытных выбоинок. Тряско. Веду велосипед в руках. Не расплескать бы похлёбку!
Но вот и — на месте! Кладу велосипед на траву у балагана, вольготно раскинувшись рядом, смотрю в небо. Переднее колесо моего «коня» еще крутится на весу по инерции, выбивая опять мелодию. Что там? Прутик, брошенный кем-то, цепляется о спицы. И небо опять полно торжественности, музыки — непонятной, завораживающей, чуточку тревожной. Не могу еще ни сердцем, ни разумом представить, постичь его бесконечность. А ведь где-то должен быть конец? Как у всего живого, близкого, понятного мне! Но что тогда за концом? Пустота, как за стеною, чернота, как в ночном чулане? Жутко. Не может быть, чтоб не было предела?! И страшно опять, и невесомо становится от этих дум.
Коршун заскользил к дальнему синему лесу Тундровского острова. Качнул, как аэроплан, негнущимися крылами. Принесло из-за озера, от Красулева болота, два облачка. Они ватно, мимоходом потерлись о солнышко, и оно опять засияло нестерпимым для взгляда полуденным блеском. Пилят своими наждачками кузнечики.
И вдруг слышу тонкий птичий всхлип. Картонный всплеск крыла и — стремительный ястреб-чеглок уносится прочь с жаворонком в когтях. Драма, в какие-то секунды, разыгралась совсем рядом, над землей. Наверно, жаворонок летел ко мне, искать спасения у меня, маленького человека. Не успел, не дотянул. Я запоздало вскакиваю, машу руками, кричу. Три серых перышка, еще живые, кружась, оседают на траву…
И я уношусь мысленно под другие небеса, во взрослые свои года. И вижу их так явственно — в детстве бывает такое прозрение! — так осязаемо, что перед глазами встают будущие живые картины. Вот когтистые лапы торосов возле арктического мыса Шелагский. Они вонзаются в железную плоть нашего теплохода. Жаждут крови, влекут нас в холодный зев ненасытной пучины. Они… Вот вам! Вижу, осязаю и девятибалльные обручи двух встречных циклонов, сжимающих наш сухогруз у горла Авачинской бухты, в двух десятках миль от её спасительного затишья. Мы дотянем, дотянем! А это что? Да это ж Диана — тайфун с милым женским именем, божественным именем, совсем не по-божески трепавший нас возле Филиппин. Здесь погиб недавно пароход. Рассказывали мне: долго носили теплые волны оранжевые от жилетов, стоймя стоящие в море тела матросов, обглоданные по пояс акулами… Не дотянул тот пароход. Мы дотянем!
… Всхлипнула гагара. На светлую галейку озера серая утка вывела из камышей утят. Диковато хохотнул вдалеке мартын. И снова тихо. Но вот и стадо зашевелилось вдали, вытекая из дуролома ивняка и осоки на сухое. Напиталось, скоро будет. Ударила басами гармошка старшего брата. Пасет он с музыкой. Идиллия. Раньше, он рассказывал мне, пастухи играли на рожках, дудочках. У брата — хромка. Эх, выдает:
Когда б имел златые горы И реки, полные вина…Я собираю сухие коровьи лепешки окрест становища. Они отслаиваются легко, невесомо — стоит подцепить щепочкой. Под одной лепёшкой — уже устроили себе обиталище худосочные полевые муравьи. Под другой божья коровка нашла себе тень. «Божья коровка, полети на небо, дам тебе хлеба…» Откинула, будто створки, два оранжевых в крапинку панцирька, вылущила слюдяные крылышки. И — нет её. «Божья коровка, полети…»
Взахлеб гляжу в тягучую глубину синевы.
«Жизнь моя, иль ты приснилась мне?..» Но потом это будет, потом. Пронзительное, есенинское. Однажды попадет мне в руки томик с гравюрной березкой по голубому полю обложки. И воскрылит душа. И заболею нежными порывами. Надолго. На всю юность. И еще чуть подольше. Но унесет меня воинский эшелон от сибирских березняков. От окунёвских, от приишимских…
«Да, мне нравилась девушка в белом…» Азиатское, скуластенькое, наверное, чуточку нерусское лицо её с длинными глазами все годы, отмерянные присягой, будет со мной, во мне.
«Да, мне нравилась…»
И шагну на знакомый ишимский перрон однажды — в ленточках бескозырки и при золоте якоря на флотской пряжке. И найду домик под белым цветом сибирских дичков-ранеток. «Она вышла замуж», — скажет её сестра. — «Почему же?» — тяжело спрошу я. — «Так долго сейчас не ждут…»
Так долго?
«Спасибо, что ты была!» — это уже строчка из моего стихотворения, написанного в те дни.
И вот через годы… Лазурь Индии, желтый берег Бенгальского залива. Каменные дива. Каменные Будды. Храмы, вырубленные столетия назад трудолюбивыми искусными мастерами прямо в скалах. Каменный город — название сего места. Искушение в каждой сувенирной лавчонке. Цыганистые молодые торговки атакуют на улицах. «Рус, купи… Не карашо… Хитрай какой…» «Давай лучше сфотографирую!» — огорошиваю торговку. Растерянно улыбается… Вот наши ребята из экипажа теплохода стоят кружком возле уличного фокусника. Фокусы нехитрые, но забавные. Ловкость рук! Затем он демонстрирует схватку мангусты с коброй. Всё по правде. Только у кобры подпилен ядовитый зуб… Мы уже идем к автобусу, чтоб ехать на свое судно, разгружающееся у причала в большом порту Мадрасе. И тут я вижу её! Гибкая, пружинистая — даже под лохмотьями, обтекающими её фигурку, чувствуются точеные линии тела. Присела на камень в отдалении от праздной публики. Одна… Навожу объектив фотоаппарата. «Нельзя!» — останавливает меня многознающий об Индии товарищ мой, моряк. — «Почему же?» — повторяю я, как в давнее утро. — «Это неприкасаемая», — говорит товарищ.
Я поражаюсь его словам, хотя знаю, что в Индии существует такая каста — неприкасаемые. Автобус тронулся. Девушка все сидела на камне и, мне показалось, смотрела нам вслед. «Почему же так бывает на земле?» — застыло в горле горьким комом.
… Зной плывет над степью. Над полями, лесами, над моей родиной. Над Засохлинским островом, над Чащинским увалом, над Дворниковым болотом и дальше — над Васильевскими воротами, над одинокой старой березой возле Одышкинской дороги, над озёрами, над всем, что в недавних битвах отстояли наши мужики. Сибирские богатыри с простыми русскими фамилиями, что так привычны уже на моем маленьком веку, — Андреевы, Саломатовы, Киселевы, Каргаполовы, Пегановы, Семибратовы, Никитины, Корушины, Копытовы, Сорокины, Кудрявцевы, Сысолятины, Васильевы… Славные имена нашей округи. А фамилия-имя моего отца-фронтовика? И она тоже!
Не все бы из названных встали сейчас на голос ротного старшины. Знаю об этом. И моих сверстников в селе, чудом родившихся в разные годы войны, можно пересчитать на пальцах одной руки. Нас тоже словно повыбило. И обожгло войной. Надолго. Может, на всю жизнь.
Что вспомню я потом, через годы?..
Зеленая полянка возле нашей ограды. По ней сделал первые шаги в мир. И такая она зеленая, что режет зеленым светом глаза. А мы играем в войну. У нас деревянные автоматы, винтовки. Чуть под хмельком, инвалид Ананий Васильев наблюдает со своей завалинки, выставив вперед, как ствол пушки малого калибра, круглый алюминиевый протез. «Вот застрелю!» — кричит на нас Ананий, щелкая протезом. Мы — кто куда, в конопляные заросли, в лопухи, в огороды.
Вспомню — с пустым рукавом гимнастерки — Андрея Сысолятина. И медали дяди Пети Коруши-на, совсем молодого, бравого старшины-танкиста, бравшего Берлин. Его первый отпуск из Германии — со сверхсрочной. И красный флаг над фургоном Петра Ивановича Андреева, который он приколотил, возвратясь из поля, на свои ворота. Председатель колхоза сам вручал ему флаг за рекорд на стогометке! И песни, песни — на полевых вечерних станах, на комариных улицах — вдоль теплых оград, завалинок, домишек, плетней. И на шумных гулянках в честь красных советских праздников.
«Родина, простая и великая!» — как не позаимствовать строку у любимого мной современного поэта. Потом — опять повторяю! — через годы, в дальних землях и морях, Тайландах и Сингапурах, Малайзиях и Индиях, Аргентинах и Венесуэлах, шагая по экзотическим весям бразильских тропических широт, в ностальгических думах и снах не раз привидятся мне твои, родина, озера и березовые колки, незабудковые и ягодные пустоши, текучие коровьи стада и рыжеватые увалы, где поспевают хлеба. И снова пойму, что не найду я ни вдохновения, ни нужных слов, ни лирической пронзительности без твоей, родина, синевы, увиденной однажды в детстве.
… Кажется я задремал на солнцепеке. А может, кулички с хохолками на головках отвлекли мое внимание от других картин, от воспоминаний о будущем… Но вот уже вижу я красноватые в метельной ночи огоньки домишек Полднева. И скрип снега под валенками, и порывистые толчки ветра не кажутся такими пугающе-зябкими. Только что миновали отрезок пути через Уктузскую березовую рощу. Там, по слухам, минувшим летом убили человека. И всякий раз, после школьной недели, это жуткое место минуем бегом. Открытая степь встречает ветром в лицо. Это вот пострашнее: можно сойти с большака и, потеряв под валенками твердь, убрести в сторону. Но слава тебе, огонек! Хоть самый малый, ламповый, убогий, но огонек. Стучимся в крайнюю избу: «Пустите погреться!» «Голодные, поди?» — сползает с печи старуха. Отламывает полкалача. Мы делим по кусочку. «Картошку в мундирах будете?.. Поросенку варила… Угостить больше нечем, извиняйте». Господи, доброта людская! И на этом, понятно, спасибо! Мы и крапиву едали и лебеды прихватили в ранние свои годы. А тут картошка — царское блюдо! (А через годы, на службе, богатырского сложения калужанин Леня Бизенков, матрос моего отделения, с гордостью будет мне внушать: «Я на картохах произрастал!»). Обогрелись, подзаправились, можно дальше топать. Переметенными низинами, через Смолиху-увал, откуда видны уж огоньки родного Окунёва. И вот они, действительно, полоснули в небо во всю мощь, ярко, празднично. Да это ж электрические фонари на столбах! Неделю назад электрики жестяные люстры вкручивали, тянули провода. И вот — полыхает! Красота…
Набегался за куличками по бережку, наловил на пятки колючек. Сморило совсем. Сладенькой слюнкой потекли другие сны, другие, новые видения. «Заплатишь, заплатишь и за эту красоту, — стучат они пульсирующей жилкой возле виска, покалывают в мягкую ладошку. — Судьбой заплатишь, радостью необыкновенной, да недолгой будет твоя привязанность». — «Почему же?» — «Не знаем, — вещают сны. — Только не женские чары станут твоей разлучницей с землей. Ты захочешь любить весь мир, а женщине этого не надобно, женщина создана для конкретной любви, чтоб при ней и с ней, а фантазии хороши для неё в девичестве… Попомни!»
Нет уж, черта с два! Вот иду ранним утром — росистым! — на наряд в контору, фермы. Экипирован, как учили в школе механизации: сапоги кирзовые пахучие, комбинезон, фуражечка. В сумке с лепешками мамиными, с молоком — гаечные ключи, про запас купленные в городе, вызванивают: горы переверну! Доверьте только трактор поновей да полоску с загонами на два километра вдаль!
Мужики на крылечке, кто пораньше пришел, по делу и просто так, для разговоров, в чистых рубахах под ремешками, причесаны, побриты. Дымно в конторе, семечек налузгано.
— Работнички прибыли! — иронично посматривает на меня и моего друга Толю Рыбина полевод Тимофеич — Григорий Тимофеевич Киселев. — Ну, ну, — черкает, пишет он в тетрадке. — На Т-75 к Анатолию Чекунову в сменщики пойдешь.
Поехали! Гагаринский, вселенский задор давно ношу в себе как праздник, как залог успехов. Поехали… И вот — пашу землю. Мальцевским и обычным способом — с предплужниками. Кошу травы. Ставим стога. Снова пашу. На известных со старинными именами увалах, на маленьких полосках, что химическим карандашом не без юмора, наверное, нарек в тетрадке своей самоучка-полевод Тимофеич: «Штаны», «Где сумка висела», «Где Толя Пеганов в борозде спал».
Белые чайки летят с озер, садятся на пахоту, шагают бороздой, как грачи. По утрам, на ранней зорьке прилетают, когда уже дурею в кабине от дремоты, поклевываю в рычаги носом. О, белые чайки, белые чайки! Не вы ль поманили потом в моря-океаны!
Но те поля, что мы вспахали, Подняли к солнцу зеленя, Его, гагаринские дали, С родной землей соедини.Пишу стихи. Учусь в литинституте. Москва. Открытый мир знаний, книг, культуры, памятных встреч. В поэтическом семинаре Виктора Бокова и Михаила Львова нас десять дерзнувших идти в литературу парней. Большинство — вчерашние жители села. Случайно ли не случайно — взял нас в свой семинар Боков — большой поэт, широкой русской натуры человек.
Мечтаю о первой книжке. Боков подписывает мне свою «Лето-мята»: «Иди смелей и говори правду!» Львов вторит ему: «Главное — выразить себя искренне, полно!»
Завет дорогих учителей…
Езжу с корреспондентским удостоверением по сельским районам. Пишу статьи, корреспонденции, репортажи. Лучшая командировка в родные места. Встречает отец, он уже пенсионер, побаливают фронтовые раны: «Все пишешь? Работал бы на тракторе. Такую специальность бросил…» Не верит в мои писания, в их пользу. Однажды поверил, смягчился. Появилась моя статья о беспорядках в родном совхозе. (В итоге — сняли директора). Сам, когда писал, сомневался: имею ли право, ведь здесь вырос, вскормила эта земля? «Все правильно, — сказал отец. — Мужики всем МТМ вслух читали, все одобрили. Нашелся, говорят, человек наконец…»
В юности отец порой наставлял меня: «Слушайся начальства». Наверное, по-родительски хотел предостеречь от лишних неурядиц. Сам же, вразрез своим наставлениям, всегда слушался правды — до конца, до могильного холмика с пирамидкой под красноармейской звездой…
Течет, колышется стадо. Ближе, ближе. Наяривает хромка брата. Разухабистая «Подгорная» уступает дорогу медлительным и величавым, как сама степь, «Дунайским волнам». Коршун в небе висит. Тяжелая тень его крыла скользнула по щеке. Мне десять лет. Так мало. Всё впереди. «Проснись! — слышу строгий, надтреснутый на жаре, голос отца. — Давно ждешь?»
Давненько. Целую вечность.
ОБ АВТОРЕ
Поэт и прозаик Николай Васильевич Денисов живет и работает в Тюмени. Коренной сибиряк крестьянского происхождения: родился и вырос в селе Окунёво Бердюжского района, что на самом юге обширной Тюменской земли — в Приишимье. В детстве и юности мечтал стать моряком дальнего плавания. Мечта эта осуществилась в пору, когда уже окончательно выбрал для себя литературный путь. В составе экипажей различных судов, в качестве матроса, корабельного кок-повара, механика, побывал во многих портах мира, пройдя все океаны планеты.
А в начале трудового пути был разнорабочим в совхозе, окончив сельское профтехучилище, работал трактористом, рыбаком на Тобольском рыб-заводе, корреспондентом районных и областных газет. Возглавлял бюро пропаганды художественной литературы. Служил в ВМФ. Одновременно учился на заочном отделении Литературного института им. А.М. Горького. Дипломной работой (1971 г.) стала первая книга стихов «Проводы».
В 1975 году по рекомендации Шестого Всесоюзного совещания молодых писателей принят в члены Союза писателей СССР. Автор двадцати книг стихов и прозы, которые выходили в издательствах Москвы, Екатеринбурга, Тюмени, Шадринска. За сборник стихов и поэм «Снега Самотлора» (издательство «Современник», 1977 г.) присуждена премия Тюменского комсомола им П.П. Ершова. За книгу прозы «Арктический экзамен» (издательство «Современник», 1988 г.) — премия им. И.М. Ермакова. Книга стихов и поэм «Заветная страна» (издательство «Банк культурной информации», серия «Библиотека поэзии Каменного пояса», 2002 г.) отмечена Всероссийской премией им. Д.Н. Мамина-Сибиряка.
Николай Денисов — Почетный гражданин Бердюжского района Тюменской области. В настоящее время — главный редактор газеты «Тюмень литературная».






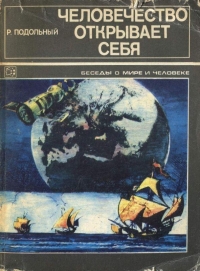


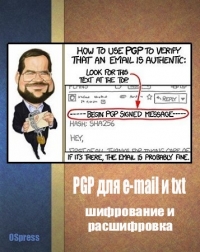
Комментарии к книге «На закате солончаки багряные», Николай Васильевич Денисов
Всего 0 комментариев