Сергей Дубавец Русская книга
СРЕДА И КРОВЬ
Знаешь, я и сам не могу понять, где эта моя среда, место, где мне было бы совсем уютно. То есть не мне, а людям этой крови. Ни в аптеке, ни в бане, ни, пожалуй, даже в лесу… Хотя в лесу есть главное условие моего уюта, о котором я уже догадываюсь, — это одиночество. То есть я не могу понять, где моя среда среди людей.
Я не хочу жить в той, в которой вырос и в которой живешь ты. Я не могу назвать эту среду своей. Она не проникает в меня, она вторична и бесплодна. Она стремится меня усреднить.
Эта среда — твой минский русский. Я не хочу быть до такой степени плоским. Я хочу выше. Я хочу глубже. Но эта среда не может использовать меня для большего, чем я есть.
А я хочу большего, чем могу.
За 200 лет расползания по этой земле эта среда не создала чего- либо первичного. Из фантастических глубин своего океана она приносила и несет сюда лишь пену прибоя.
Но я не хочу…
Знаешь, если я уже только говорю по-белорусски, то я сразу же выделяюсь среди других. Сначала я делал это наперекор нотациям, ведь говорили — не высовывайся. Потом я понял, что этого потребовала моя кровь. Это самое глубокое чутье, мотивации которого теряются где-то в космосе. Доказывать бесполезно.
Я могу называть даты, имена, тысячи имен, хоть лучше было бы просто завезти тебя в глушь, в прошлое и испробовать твое чутье, если оно у тебя есть. Ты бы вспомнила себя рыбкой, белочкой, тараканом и всем, что там еще было в процессе эволюции человека. Достаточно услышать в себе свою кровь.
Мы, люди, находим друг друга по крови. Ты чуешь мою кровь? Нет? Значит, мы пройдем мимо друг друга, не оглянувшись. Да? Значит, я буду добиваться тебя. И ты мне ответишь.
В этой среде я могу найти тебя только по крови. Мы наморочим друг друга словами, а объединит нас кровь. Кровь — наша общность. Которая отделит нас от среды. Это как взлет, как переход из плоского состояния в объемное, как…
Ты скажешь: а при чем здесь язык? Язык — это кровь наших предков. Одно дело пребывать в этой среде и совсем другое — пропускать через себя поток световых лет.
Минский русский — голос среды. На нем не свяжешь и двух слов правды. Тысячи людей пробовали делать это до нас — напрасно. Потому что среда порождает ложь, а кровь говорит правду и порождает общность, которая становится обществом. Среда — это гиблое болото, в котором главное — не торчать. Но ты ведь хочешь торчать, правда?
Я знаю, что ты не поверишь мне, как не веришь в метафизику, как не веришь в Бога. Единственное, что для тебя что-либо значит, — это свобода. Но свобода — такое же просто слово, как «бог», если в нее не верить.
В этой среде много просто дверей. Не сразу поймешь, за которыми из них — вход. Нужно поверить.
Язык — неприметная дверь. За которой сидит зверь.
Национализм — хищный зверь. Но тебе ведь нравится смотреть, как резвятся на поляне волчата. Как много в этом жизни! — восклицаешь ты.
Ты ведь хочешь, чтобы было много жизни?
Тебя пугают «издержки», неконтролируемое зверство. А лучший контроль — свобода. Посмотри, как все более подконтрольными становятся мои слова. Я как будто обмяк от своих принципиальных признаний. И мне остается сделать одно, последнее, вдогонку.
Знаешь, я постепенно сам стал превращаться в свою среду. Еще немного, и я совсем перестану нуждаться в твоей. И конечно же у меня будет больше права на жизнь. Потому что я — океан. Ты — только пена прибоя.
ПИСЬМО К БИОГРАФУ
Уважаемый К.К.!
Получил письмо с вашими вопросами и немного разволновался. Весьма порадовал меня, одинокого старика, ваш молодой энтузиазм, ваш интерес к моей персоне, к судьбе скромного белорусского писателя.
Я мало знаю ваше поколение, не могу назвать себя этаким поклонником молодежи, да и наше с вами личное знакомство только предстоит, а вы уж требуете от меня доверительности. Впрочем, я охотно соглашаюсь. Ведь биографов не выбирают. Тем более такие литераторы, как ваш покорный слуга, чей жизненный путь столь же долог и неотрывен от биографии Отечества, сколь скромен и неприметен. И раз уж вы решились составить мою биографию, — я оказываюсь в полной вашей власти. В том смысле, в каком многоопытный наставник оказывается в плену у своего молодого ученика. Надеюсь, вас удовлетворит такое разделение ролей.
Вы удивляетесь моему возрасту. Мне действительно слишком много лет. А чем я объясняю свое долголетие? В какой-то мере наследственностью. Но в большей степени — определенным состоянием духа. Впрочем, не ищите прагматического объяснения. Его нет. Есть взгляды, идеи, которые не стареют. И не стареют благодаря людям, представителям этих взглядов. Время условно, и все, происшедшее в истории, отражается в нашей сегодняшней жизни, все происходит сейчас.
В конце концов, если вам так удобнее, считайте, что я несколько прибавил. Главное то, что и сегодня, в конце XX века, вы можете получить письмо оттуда, их середины XIX.
Итак, вы спрашиваете меня об участии в событиях 1863, а точнее 1864 года. Понимаю ваш интерес и постараюсь помочь вам. Так сказать, для общего представления. Ибо этот эпизод моей биографии никак не отражен в моем творчестве и вряд ли имеет какую- либо литературоведческую ценность.
Как вы знаете, я больше описывал межвоенный период, первые пятилетки, особое внимание уделял борьбе с религией, много писал для детей. А в последние годы уже и вовсе стал «детским писателем». Словно и не было никогда моих «За подписью дьявола», «Мура- вейницы»… Сошел, как видите, на нет Микола Батрак — полемист, эпик, драматург. Впрочем, всему, наверное, свое время. И сегодня людям больше нужны «Сказки деда Миколы», нежели суровая, реалистичная «Муравейница».
Когда-нибудь потом мы с вами порассуждаем на эту тему, даже подготовим интервью. Ведь вы молоды, и пока будет длиться работа над монографией, вам нужно как-то устраивать свои дела. А поскольку детская тема у нас — одна из больных, то в журнале охотно возьмут такой материал.
Что же касается 1864 года, то у нас с вами получится скорее житейский, чем литературный, даже, может быть, совсем не для печати разговор.
Я, знаете, вообще никогда не рисковал обращаться к той давней истории и уже, наверное, не рискну. Дело в том, что я не вижу в ней достаточно серьезных и поучительных конфликтов, глубоких проблем, которые бы сохранились и способны были волновать современного человека. Я хорошо помню многие места, факты, даже выражения лиц, но придумывать, «натягивать» несуразные параллели, подобно тому, как это делал покойник Короткевич или делает ваш сверстник Орлов, не могу.
Теперь стало модным увлечение историей. Кто-то даже сказал, что все забытое повторяется, а значит, мол, ничего, никакую мерзость забывать не следует. И это тоже — мода. Во-первых, потому, что не логично (уж коли забыто, так и не повторится!), во-вторых, сколько хвалы воздано классиками всех времен и народов способности мозга нашего забывать! Именно забывать — мерзкое, пустое, лишнее. А то ведь оно как раз и повторится.
Именно поэтому, получив ваше письмо, я сразу решил было не отвечать о 1864-м, дабы не повредить вашей работе этим весьма запутанным эпизодом. Даже готов был уже написать, что-де обойдетесь. Но позже подумал: ведь, получив такой ответ, вы тотчас обратитесь к книгам, а книги, знаете ли, оставляют место для суждений. Некий ловкий автор-подтасовщик спешит (чтоб выделиться) преступления превратить в подвиги, а подвиги — в преступления. Это же черт знает как интересно! Интересна и модна, почему-то, совсем не историческая правда, но всякая историческая клюква. И начинается из ничего брожение умов. Начитавшись подобной «литературы», уж кто-то хвалит Бонапарта, а кто-то хулит Суворова. «Суворов, — говорит мне один такой «читатель», — по Беларуси кровью прошел!» Заманчиво ему вот так хлестать кумира скабрезным фактом…
Нет, я не знал лично ни Калиновского, ни Сераковского и т. д. Слишком молод и незначителен был я и для знакомства с графом Муравьевым и другими военачальниками. Однако могу вас заверить, что сегодня это все совершенно другие люди, чем были при жизни. Не одна «переоценка ценностей» прошла по их могилам. Впрочем, не только по их. Взять хотя бы И.В.Сталина. При жизни — отец народов, символ Отечества. Не скажу, что без него мы проиграли бы эту войну. К чему крайности?! Но без символа проиграли бы непременно. Однако стоило ему умереть, как тут же символ этот — в грязь! Вот ведь какая история не в первый раз повторилась. Помнимая история.
Или наоборот. Какой-нибудь Высоцкий. Пока жив был — хам и матерщинник, а умер — народный певец…
Но ведь со смертью своей эти люди никак, ни на йоту не изменились. Калиновский, тот что в земле, — польский сепаратист, Сераковский — дезертир, Муравьев — блюститель высшего интереса — целостности Российского государства и т. д.
Наверное, если бы каждый хвалящий или бичующий со смертью хвалимого или бичуемого не изменял своего к нему отношения, то это и была бы настоящая историческая правда, которая передавалась бы из поколения в поколение честно, без передергивания, без лжи.
Что же касается меня, то я принимал и принимаю события такими, какими они были. Мне незачем превозносить инсургентов, делать из них революционеров, так как не одни лишь симпатии вызывают они во мне. Однако мне незачем и хаять их. Разве что в искаженном толковании их поступка я вижу дурной пример для сегодняшней молодежи. Мне так же незачем превозносить, как незачем и поливать грязью тогдашнего русского солдата, того самого «москаля». Ибо я слишком хорошо знаю этого служивого, настоящего работягу, который всегда выносил на своих плечах главную тяжесть всех раздоров и войн.
Кстати, какое-то время у нас с историей так и поступали. Исследовано, определено, оценено — и уж незыблемо. Пустое и лишнее — прочь. Да и не принято было рассказывать историю «своими словами». Иначе какой же прочности это будет фундамент для настоящего и будущего?
А теперь? Вы чувствуете, как заходила земля под ногами? Все поставлено под сомнение, все неопределенно и шатко: факты, кумиры, сама твердь.
События 1863–1864 годов до последнего времени были мало отражены в популярной литературе. И разве мы не обходились без них?! Но вот сегодня уж и первый, и второй, и пятый раз встречаю я этакого безусого «косинера», который, начитавшись неизвестно где «Мужицкой правды», выкрикивает националистические лозунги. Это теперь называется борьбой за родную мову. И если бы только юнец!
Уж и газеты поднимают какой-то удивительно однобокий, политически близорукий шум о белорусском языке.
Действительно, белорусский язык ушел из общественного употребления как непригодный. Но ведь он не умер, не погиб, нисколько не ущемлен. Наоборот. Наша мова стала достоянием литературы и нескольких ретроспективных наук. В периодике она постепенно превращается в русский язык, и это тоже весьма интересный процесс. Совершенно абсурдной представляется идея навязывания белорусского языка для общественного употребления. Это и в самом деле было бы ущемлением народного интереса.
Не удивительно, что столь же пустой выглядела эта ничем не подкрепленная идея мовы и «самостоятельной Беларуси» в 1864 году. Я сужу хотя бы по крайней малочисленности представителей такой идеи. В основном же те далекие события возникли на почве польского сепаратизма и католической религии. Я не склонен придавать большое значение социальному аспекту, который сегодня особенно популярен в науке, поскольку жил здешний крестьянин (что уж говорить о шляхте) значительно лучше и богаче, обеспеченнее, чем, скажем, наш, серядинский. Серядино, как вы, наверное, знаете из автобиографии, — это имение моей матери, которое находилось в нынешней Тамбовской области. Теперь это, кажется, центр сельсовета.
Белорусский мужик занимал, как правило, крепкую хату, держал скотину, никогда не голодал, не пьянствовал. Зарабатывал неплохо. Тут бы первей взбунтоваться нашему, серядинскому. Но серядинский не бунтовал. Потому как некуда ему было «отделяться». Из такого сравнения я и делаю вывод, что земля и хлеб были в событиях, так сказать, сопутствующими лозунгами. Основой же послужило польское влияние, католицизм.
Тот же Калиновский, в отличие от приписываемых ему в наставники Чернышевского и Герцена, совсем не был атеистом. В отрядах его было много ксендзов, отправлялись религиозные обряды. Подавшемуся в инсургенты совершенно не обязательно было отрекаться от веры в бога. Наоборот. Свой личный мятеж он мог успешнее оправдать и подкрепить религиозными догмами, чем если бы пошел сражаться против Калиновского.
Развивая эту в корне правильную мысль, вы сделаете для себя, возможно, совершенно неожиданные выводы. Костел целиком служил «косинерам», а церковь — русской армии и русскому государству. И события 1863–1864 годов были не чем иным, как продолжением очень старой религиозной борьбы, спора двух конфессий. Таково мнение очевидца, который в то время не знал еще будущих социальных и национальных толкований.
Дальше больше. Основываясь на библии, костелу было значительно легче оправдать свою политику, нежели церкви. И глас, и перст божьи были гласом и перстом костела, но не церкви. Вот ведь что получается.
Сейчас же предпочитают об этом умалчивать, ибо как выглядела бы «крестьянская революция» нового времени во главе с боженькой! Все, все пришлось бы поставить на свои места, то есть с головы на ноги. А как выглядели бы называемые сегодня чуть ли не марксистами «революционеры»!
Лично в моей жизни те события сыграли благую роль. В них я раз и навсегда расстался со «своим» богом. Еще совершенно не зная основ научного атеизма, я уже знал, что бога нет. Не стало во мне той веры, которую вдалбливали в меня с малых лет, превращая в существо послушное и зависимое.
Теперь, если вам это интересно, меня, убежденного атеиста, одолевают порой иные сомнения. В минуты особенного одиночества, какого-то прямо торжественного одиночества, сдается мне, что коли я так долговечен, то, может, и совсем уж вневременен? Да, да. Именно. Какое-то растворение происходит во времени, в истории. О таких, как я, между прочим, обычно говорят: человек-легенда. Я, знаете ли, столько познал в жизни, что порой приходит убеждение, что я, Александр Ганебников, сам и есть жизнь! Нет, не подумайте… На трезвость ума я не жалуюсь. Да и вниманием не обойден. Хоть бы и вашим. Ведь одним днем живем, одной, так сказать, солью. Все немножно черти…
Однако пора обратиться к делу. Надеюсь, что не совсем утомил вас таким долгим вступлением. Но иначе нельзя. Ведь сегодня, когда события 1863–1864 годов поистерлись в толкованиях, такое вступление необходимо. Теперь же мне предстоит напрячь память и вспомнить весну 1864 года. Как раз тогда я и прибыл в Белоруссию в качестве юнкера российской армии.
Замечу сразу же, что не вдруг я узнал и полюбил этот край. Как не вдруг стал и белорусским писателем Миколой Батраком. Вы, должно быть, знаете, что долгое время я писал свои рассказы в качестве русского писателя. Много позже, когда стали выходить белорусские газеты, по просьбе редакции одной из них я начал переводить написанное на белорусский язык, что, кстати, делаю и сегодня. Но это уж, так сказать, творческая «кухня», о которой я расскажу вам в другой раз.
Вы спрашиваете о моем дворянском происхождении. Это весьма принципиальный вопрос. Да, я всегда считал и считаю себя русским дворянином. И революцию я принял как дворянин и как дворянин приветствовал. Ибо дворянин, даже если вас это удивит, — не есть, по моему убеждению, мерило классовости, но есть мерило чести и благородства. Незачем, думаю, и сегодня стыдиться этого слова, подменять его иностранным «интеллигентом». Смысл-то в них один, а вот преемственность утрачивается. Столь неинтеллигентен был Калиновский, что даже поспешил отречься от своего дворянства. Так оно, конечно, проще. Ведь так — никакой ответственности перед историей и будущим своего народа. Что значит — дворянина повесили? Это словно бы сам народ повесили. А безродного хама вешают неприметно, как кота. Да, хамы всегда были, вкраплялись среди номинальных дворян. Есть они и среди так называемых интеллигентов. Среди творческих, например. Взять хотя бы и наш союз писателей, где хамов всегда хватало и хватает. Но о цехе нашем я расскажу тоже когда-нибудь потом.
Итак, весной 1864 года я прибыл в уездный городок Погост, в котором был расквартирован казачий эскадрон. На дворе стоял март, когда всякий город и пейзаж выглядят малопривлекательно. Остатки снега, грязь, почерневшие строения, свинцовое небо и так далее. Наверное, я тогда не очень обращал на это внимание. Не знал еще, что такое перепады погоды и промозглая сырость. А жизнь в эскадроне бурлила, и я старался участвовать во всем: и в долгих, до утра душевных беседах, и, что греха таить, в лихих казачьих попойках, и в походах к девкам. Таковы были нравы того времени. Не берусь судить, насколько они изменились.
Уже в первый месяц моего пребывания в Погосте и произошел тот самый эпизод, о котором я все собираюсь рассказать вам, — единственный эпизод моего участия в событиях 1863–1864 годов. Очень может быть, что это был последний эпизод и самих событий. Отгремели бои, кто-то был наказан, остальные разошлись по домам. Многие сами наказали себя бессрочной эмиграцией. Вот в такой обстановке и произошла эта запоздалая и в общем довольно нелепая история.
Подбил людей на выступление, конечно же, католический священник. Но, видимо, настолько никчемная была его идея, что выступление получилось крайне малочисленным. Как раз эти-то и объявили своей целью не хлеб, не свободу и даже не польскую независимость, а белорусскую мову. Нелепость, правда? Но ведь кто знает, какой костер на свежем пепелище мог разжечь этот уголек!
В Погосте я был прикреплен к военному начальнику Саяпину, тогдашней уездной власти. Это был настоящий офицер. Глядя на него, я даже сожалел, что прибыл так поздно, когда все уже утихло и местная жизнь выровнялась.
Народ я нашел тихим и вполне угодливым, каковыми вообще слывут белорусы. Только в казачьих рассказах действовали какие-то местные «абреки», сильные и жестокие, каждая победа над которыми обязательно заканчивалась медалью на солдатской груди. Мне тогда совершенно удивительно было слушать об этом. И вот однажды Саяпин объявил мне, что с ночи предстоит рейд за десять верст в небольшое селение Любиша, где организовался лагерь инсургентов. Из рассказов я уже знал, что «косинеры» всегда начинали свои действия с устройства лагеря (обоза).
Выехали мы назавтра, как и было задумано: сам Саяпин, я и еще несколько солдат. Было холодное утро, и мы предварительно напились горячего чаю.
У меня была флинта в чехле, револьвер, на мне — поверх сюртука — чья-то простая солдатская шинель… Впрочем, что вам до этих подробностей. Признаюсь только, что, вспоминая их, я иногда жалею, что не использовал этот достаточно благодатный в художественном отношении материал. И, пожалуй, у меня получилось бы поправдивее, чем у наших современных «исторических» писателей. Тот же Коротке- вич здорово напоминает мне этих сегодняшних взбалмошных «коси- неров» от сытости и праздности, которым все равно о чем шуметь — о родной мове или о западной барабанной музыке. Правда, Короткевич, при всем своем бузотерстве, четко держал нос по ветру. Что теперь раскупают? Детектив, историю, фантастику. Давай-ка замешивать их в одно. И сентиментальным девицам найдется свой кусок пирога, и патриотам батьковщины. И не кусок — объедение. Сверх всякой меры. Ведь Короткевич и неандертальцу готов был в рот вложить, что тот — белорус. Но конъюнктура изменчива. Станут завтра покупать бытовой роман, и где тогда будет Короткевич?.. Но я снова не о том.
Скорее всего, это было самое обычное служебное дело. Начинался обычный мартовский день. Мы подъезжали к деревне по обычной дороге. Разве что деревья вдоль дороги были спилены в охранительных целях. Но в те годы это тоже было обычным делом в Белоруссии.
Первой в Любише стояла хата того самого ксендза. Этакий белый каменный домишко, покрытый черепицей. Сам ксендз, худощавый, молодой, но уже плешивый, крутился во дворе. Что-то собирал, выносил из дома и из сарая какие-то сумки. Ружье у него было. Одет был по-походному, и только из реплики Саяпина я узнал, что это и есть здешний священник.
Саяпин о чем-то говорил с ним. Помнится, о чем-то смешном. Мы вообще все тогда были в приподнятом настроении. Когда же уставщик вскочил на коня и поскакал к лесу, один из нас, старый фельдфебель, вскинул было флинту. Саяпин же сказал, что стрелять нет надобности, так как ксендз сейчас сам свалится от страха. Все засмеялись, затем двинулись в деревню.
Война — это, конечно, дело военных. Но ведь война не происходит где-то в абстрактной местности, на каких-то только для нее предназначенных площадках. Она совершается в мире, занятом городами и деревнями, заселенном людьми. Порой, когда бойцов охватывает военный азарт, они врываются в селения своих противников, собирают дань, захватывают пленных. Разве не так?
Позже я понял, почему Саяпин позволил ксендзу уйти. Ведь рейд наш утрачивал бы всякий смысл, излови мы зачинщика в самом начале. Можно было бы только сожалеть, что судьба послала нам не крепкий отряд инсургентов, а одного несчастного ксендза. И Саяпин отпустил священника для того, чтобы тот «облип», так сказать, сообщниками, чтобы хоть как-то была представлена противоборствующая сторона.
Так вот, мы направились в деревню. Уже зная врага в лицо, мы могли более решительно вести себя в его пределах, как если бы мы просто приехали в селение вверенного нам уезда.
Любиша была вотчиной местного помещика, который, кстати, помер в ночь накануне, не дождавшись нашего приезда. Помещик этот имел усадьбу и несколько охотничьих домов. Кроме этого, в деревне находился большой каменный костел, все остальное были хаты.
Как-то после я поинтересовался судьбой этого селения. Нигде в новейших источниках никаких сведений о нем нет. Только в одном очень старом словаре я вычитал, что в глубокой древности Любиша была крупным славянским поселением, даже городом, центром удельного княжества. Но так быстро происходил ее упадок, что уже в 1864 году от нее осталась лишь небольшая деревня в 20 или 30 дворов. Трудно было предположить, что некогда тут стояла величественная крепость, державшая оборону еще в шведскую войну. Теперь же лишь высокая песчаная гора подле обмельчавшей, давно несудоходной речки могла напоминать о замке и былом расцвете селения.
Встреча с уставщиком придала нашему отряду решительности и солдаты без команды взялись за привычное для них дело. Они выводили людей из хат и направляли их на небольшую площадь у костела. Теперь нужно было, чтобы жители деревни сами рассказали о лагере инсургентов, о том, куда направился ксендз и кто его сообщники.
Двое или трое солдат заходили в хаты, вынося на пригнанную неизвестно откуда подводу какой-то хлам, тряпье.
Не знакомый с рейдовыми обязанностями, я оказался посторонним наблюдателем и ходил подле начальника, слушая разговор Саяпина с местным войтом. Как раз войт и сообщил нам о смерти здешнего помещика. Саяпин был сильно возбужден, и когда войт на вопрос о зачинщиках отвечал, что не знает, сильно ударил его по лицу. Войт упал, а Саяпин, не дав ему встать, спросил, куда подевалась вся деревенская скотина. Войт ответил, что стадо с утра выгнано на выпас. Это совершенно вывело начальника из себя, и он стал бить войта ногами.
— Я те покажу выпас, март месяц, снег в поле лежит, я тя самого на выпас, — приговаривал он.
Действия Саяпина послужили примером для солдат. Среди нескольких десятков крестьян было всего трое или пятеро взрослых мужчин. Им-то и досталось по первое число. Старых и малолетних почти не трогали, хотя и они отказывались говорить о лагере. То ли действительно не знали, то ли не понимали наших вопросов.
Возбуждение Саяпина передалось и мне. И я крикнул в толпу:
— Вскоре всех вас поведут в Сибирь. Но нам не нужны вы все. Нам нужны зачинщики.
Саяпин хорошо поглядел на меня и воскликнул:
— Правильно, Саша. Знают ведь… их мать, все они тут знают. Только припугни — сразу расскажут. Гоните-ка их, Саша, в сарай за плебанией, туда, где уставщика отпустили. Там живо заговорят.
Я подошел к толпе. Было немного боязно, однако я сразу сообразил, зачем били именно мужиков. Теперь эта толпа уже не могла нам сопротивляться. Они ведь сразу и послушались моих команд. Солдаты обступили толпу конвоем. Впрочем, никто из пленных, кажется, и не собирался убегать.
— Черта им в Сибирь! — кричал Саяпин.
Все совершалось очень быстро. Словно само время сорвалось с привязи и понесло нас сломя голову. В сарай возле дома священника крестьяне вошли так же без пререканий. Солдаты запирали ворота, вытягивали из-под крыши солому и обкладывали ею строение.
— Хоть дымку понюхают, а то запрятались тут, и война им не война, — тяжело дыша, говорил Саяпин. — Зайдемте-ка в дом, Саша.
Мы поднялись на крыльцо. Дверь была не заперта.
В светлице Саяпин подошел к маленькой иконе на стене и, рассмотрев ее, присвистнул:
— Святой Иосафат Кунцевич. Вот тебе и ксендз! Вы, Саша, возьмите Грязнова и Сопрыкина да постращайте этих дураков. Они, наверное, ничего не знают, но все-таки. Не тащить же нам их с собой.
— Одним махом руки Саяпин сбил со стола на пол высокую стопку книг и продолжал: — А мы с отрядом поедем, поищем в лесу этого «библиотекаря»… Чушь какая-то. Глупо гибнет. Ладно бы еще за деньги, за женщину… Да хоть бы за водку, черт возьми. А то ведь за ерунду, за наречие. Не понимаю…
Уже в дверях он добавил:
— А вы, когда закончите, идите за деревню, на дорогу. «Будэм абрэка стрэлят!» — и рассмеялся.
Непросто описать тогдашние мои чувства. Поначалу задание казалось мне легким, даже пустячным. Ведь не предстояло ни перестрелки, ни рукопашной, о которых я думал, выезжая в рейд.
Мысли мои путались. То ли Саяпин пожалел меня и поэтому не взял с собой, то ли посмеялся надо мною, оставив при немощном здешнем населении, то ли еще что. И успокаивался я лишь тем, что получил приказ, который обязан исполнить.
Когда я вышел из плебании, весь двор был уже окутан клубами едкого дыма. Я прошел сквозь эту завесу к воротам сарая и приказал солдатам отпереть их. Они отперли. Против моего ожидания никто не бросился на меня изнутри. Сильно возбужденный, я кричал в сарай что-то вроде: «Что сбились? Где ваш треклятый ксендз? Или жить надоело?» Голос мой звучал неуверенно, не как голос командира, и это уж совсем разозлило меня.
— Грязнов, — крикнул я солдату, который был ближе, — запирай двери.
Вместо того, чтобы как-то действовать, я отошел в сторону и стал наблюдать за первыми языками пламени, прорывавшимися кое-где среди дыма…
Уже через минуту я бегал вокруг сарая, звал солдат — Грязнова и Сопрыкина, но никто не откликался. Только позже я увидел этих подлецов на дороге, вместе с отрядом.
Теперь же я понимал, что происходит что-то лишнее, совсем ненужное, и мне не хотелось верить, что солдаты сбежали. Одному, мне становилось совершенно не по себе возле этого горящего сарая с людьми. Гулкими ударами билось мое сердце. Я то решался что-то делать, то сразу же раздумывал. И так бросался из стороны в сторону, пока не услышал, что в сарае завыли бабы и кто-то пробует высадить ворота. Как- либо помочь им, даже просто подступиться к сараю я уже не мог. Тогда и нашло на меня помрачение.
— Скоты! — закричал я, не помня себя, и, выхватив револьвер, стал стрелять по воротам. Стрелял и стрелял. Остановился только тогда, когда уже не слышал бабьего воя, когда сарай прогорел насквозь.
Тогда меня и совсем повело и, стошнив, я в отчаянии вновь стал звать Грязнова и Сопрыкина. Не получив ответа, я бросился было прочь и снова вдруг вернулся. Не соображая, что делаю, рванул обугленные ворота сарая. Они повалились, и я бросился внутрь, но тут же выскочил назад.
— Выходите, — звал я тихо, так как сорвал голос.
Но никто не шел, никто не отзывался…
Весь выпачканный в сажу, я, наверное, был похож на лешего, когда выбрался за деревню, в лес. Еще какое-то время я бросался с места на место, то рыдал и звал на помощь мать, то, зверея, отчаянно матерился. И потерял сознание.
Очнувшись, я долго смотрел в небо, ощущая в себе только страх и ничего более.
Не имелось у меня еще настоящего мужского опыта войны. Да и, знаете ли, предрассудки. Поначалу я даже пробовал молиться. Даже, помню, руки воздымал к небу. Но вот и сейчас перед глазами то небо, предательски пустое и страшное, какое часто бывает в Белоруссии. Ну, конечно же, я искал в этом небе бога — и не находил его.
Вы, наверное, улыбнетесь над этими строками. Но, в самом деле, тогда, по молодости, мне казалось, что над нашим Серядином в небе живет бог. Само небо у нас было ярко-голубое, пахло блинами и яблоками, домом. И ходил в том небе этакий румяный дедушка в беленькой рясе, улыбчивый и добрый. Я старательно хранил этот образ в себе, как светлую детскую мечту. А вот тут, где все небо от горизонта до горизонта было затянуто одной свинцовой тучей, «дедушки» моего не было.
После, идя через лес по извилистой дороге, я забыл себя и все, что со мной произошло. Словно не было меня тут. И не сразу заметил человека, бодро шагавшего навстречу. Это был кругленький такой мужчина средних лет, улыбчивый, с глазами-искорками.
— Скажи, батюшка, — обратился он, поравнявшись со мною. — Далеко ли селение Любиша?
— Здесь… — промямлил я в ответ, указав рукой.
— Спаси бог, друг любезный, — сказал человек. — А я, значит, новый здешний свяшенник. Был псаломщик в Сызрани, а теперь, значит, поп. Иду, как видишь, осматривать нивы своя.
— Но там никого нет, — заметил я без интереса. — Кому служить?
— Будут, батюшка, — ответил поп. — Переселенцы будут…
И мы разошлись. Я, кажется, даже отрезвел от этой встречи. Лес понемногу расступился в стороны, и дорога вывела меня в поле. Здесь-то и намечено было ждать.
Собрав кое-каких сучьев, я развел костерок и присел подле него, размышляя о том, что сегодня, похоже, что-то изменилось во мне. Закончилась моя юность, наступала зрелость. Совсем нелегко, как видите, наступала, непросто.
Так вот, у костерка, и встретил я наш отряд. Возглавлял его Саяпин на пегом жеребце. Следом ехали солдаты. В конце небольшой колонны двигалась та самая подвода с тряпьем. Рядом с подводой шел утренний ксендз. Подле него поспешала вторая пленница — девчонка-гимназистка, как я узнал позже. Тогда же я думал: неужто, коли дело их правое, божье, неужто богу угодно, чтобы воевали такие!..
Третий пленник, с перебитыми ногами сидевший на подводе, тоже был не боец. Темный мужик с бессмысленным потупленным взглядом, он, кажется, и не поднял глаз до самого конца.
Сейчас, в иных условиях, через многие-многие годы, та встреча вспоминается мною совершенно спокойно. Но тогда все было иначе. Я встречал отряд, как побитый волчонок, готов был ненавидеть и Саяпина, и наш рейд, и весь этот неприветливый край. Как вы понимаете, в те минуты я более всего ненавидел себя. Неосознанно, конечно, ненавидел. Я даже бросился на Саяпина, выкрикивая нечто вроде: «Это вы во всем виноваты!» Начальник же принял меня спокойно. И ровным голосом заметил:
— Возьмите себя в руки, юнкер. Найдитесь сами отвечать за свои поступки.
После мне подали коня, и колонна двинулась дальше. Будто ничего и не произошло.
Оказавшись среди своих, я вновь обрел уверенность и стал быстро успокаиваться. Уже через несколько верст мой внутренний бунт совершенно затих, и я чувствовал только уныние и, пожалуй, безразличие ко всему, что произошло и еще произойдет.
Саяпин, видимо, заметил это, и теперь, едучи рядом со мною, рассуждал вслух о том, что дело оказалось пустячным, как, впрочем, и весь этот мятеж. Бузят по трое-пятеро, народ за ними не идет и т. д.
Наконец, когда мы повернули на волость, Саяпин спросил у меня отчета о том, что я делал без них в деревне. Я сделал вид, что не расслышал вопроса. И он, казалось, сразу забыл о своем интересе.
Сейчас я иногда думаю, что то давнее умолчание дорого обошлось мне. Ведь получилось так, что я взял все это дело на себя. Я ушел из армии. Бездарно жил. Работал в почтовой конторе…
Какие-то изменения, какой-то смысл привнесла в мою жизнь только революция. Я был начитан, я читал атеистические лекции и понимал, что нужен людям. Я писал. Не притворись я тогда глухим, все, наверное, пошло бы по-другому. И этот давний рейд забылся бы накрепко. Как видите, невысказанное — запомнилось.
Еще через версту после поворота Саяпин остановил коня и приказал всем спешиться. Здесь, прямо посреди поля, стоял длинный сарай. Пленных подвели к глухой стене и расстреляли.
Уже перед самым Погостом нас нагнал казачий разъезд, который тоже возвращался на квартиры. Теперь уже все ехали без ранжира, одной нестройной толпой, со смехом и криками. Куда-то девалось дневное напряжение, и возвращалось так свойственное молодости безудержное веселье.
Впрочем, я сдерживался тогда от общей радости. Ведь утаив от Саяпина доклад, я нарушил устав. А в армии, знаете ли, нарушение устава может вызвать целую ломку. Все вдруг пойдет наперекосяк.
Однако я был молод, несколько слабоволен и упрям. До сего дня я никому не рассказывал о своем смятении. Как вы понимаете, могут быть толкования. А мне незачем и не перед кем оправдываться. Ни перед богом, ибо я давно атеист, ни перед самим собой я не грешен. Ни даже перед Отечеством. Хотя кто же не грешен перед Отечеством?!
Конечно, разное происходит в человеческой жизни. Что-то более важное, что-то — менее. То, что я поведал вам здесь, — бесспорно, важно. Важно и неоднозначно. Поэтому не жду от вас похвалы своему поступку, как не жду и хулы. Необходимо понимание — и только. Понимание того, что стране нужен был мир. И мы добыли этот мир. Конечно же, не без жертв. Вообще, очень многое в наше истории, что претит боженьке, мы делали для достижения мира. И это правильно.
Однако я, кажется, уже и ответил на ваш вопрос о моем участии в тех далеких событиях. Что-то, как вы понимаете, пришлось реставрировать в памяти, что-то и совершенно упущено, забыто. Но в целом картина такова. Поможет вам мой рассказ в понимании моего жизненного пути или нет — смотрите сами. Одно лишь прошу учесть. Все это рассказано исключительно для вашего понимания. Ибо такая интимная история никак не годится для широкого круга. Поэтому хочу убедительно просить вас: когда прочтете это письмо, выбросьте его или лучше сожгите. Пусть этот маленький символический огонек станет началом нашей с вами дружбы. А воспоминание пусть превратится в сажу и пепел. Дабы не повторилось.
С уважением А.Г.
ПОЧЕМУ МЫ НЕ СТАЛИ РУССКИМИ Читая забытый роман
1
Одно из откровений последних лет — почти полный провал двухсотлетней кампании русификации нашего края. Из поколения в поколение воспитываясь по-русски, на образцах русской культуры, в русскоязычной государственной и общественной среде, мы так и не стали людьми русской культуры, русской метафизической природы. Если бы это произошло, то, может быть, индивидуально мы и не чувствовали бы себя меньшими, младшими, вторыми — то есть униженными. Просто одну свою национальную и человеческую полноценность мы сменили бы на другую, и уже во втором поколении «швы» бы разгладились. Белоруссика стала бы приобретением ретроспективных наук, как латынь, как античность… Но этого не произошло. Русскими мы не стали.
Я думаю, что дело здесь не в сопротивлении народа, который в массе своей особенно и не сопротивлялся и часто, хоть и не вполне осознанно, так и называл себя — русским. Правда, в последние годы ситуация с самоназнанием решительно изменилась. Что лишний раз говорит о безуспешности двухсотлетней кампании.
Дело и не в слабом напоре русификации — вся идеология, весь державный аппарат только и предупреждали любое проявление не национализма даже, а отдельной национальности.
Дело в другом. Суть его, между прочим, изложена в одной забытой книге, которая для меня стала недавно открытием.
«Роман из общественной жизни западного края» Н.Ланской, который так и называется — «Обрусители» — вышел в свет в Петербурге в 1880-е годы. (Мне попалось второе издание, 1887 года.) Вышел вполне официально в то время, когда многие авторы за подобные обличения могли заплатить свободой и жизнью. (Хотя это, так сказать, общий взгляд на эпоху. Существует еще и частное мнение, согласно которому в 80- е годы петербургских либералов захватила чуть ли не мода посмеиваться над графом Муравьевым и его чи- новниками-обрусителями, что так рьяно и тупо взялись за внедрение в Беларуси российской идеи.)
Так или иначе, а легкость, с какой вышел этот роман, может быть объяснима тем, что обличения Н.Ланской — как бы из другой плоскости, в другом жанре. Автор никак не похожа на революционерку из числа поклонниц Герцена и Бакунина. Она не идеолог. Ее писания — как бы вне политики. В свое время они могли восприниматься как женские опыты в журналистике, письма недовольной провинциальной дамы.
Кстати, петербургская «Неделя» в № 4 от 25 января 1887 года так писала об «Обрусителях»: «Сюжет названного романа — деятельность русской администрации в западном крае… Мы не можем понять только одного: зачем это обличение написано в форме романа? Интереса собственно художественного оно, конечно, не имеет. Оно важно и интересно лишь настолько, насколько содержит в себе действительную правду, так как это в сущности даже не картины нравов, а просто описание целого ряда «преступлений по должности». По- настоящему такое произведение следовало бы писать с документами в руках, а отвечать на него — назначением сенатской ревизии».
Несмотря на такую оценку, «Неделя» рекламировала «Обрусителей», и вскоре роман вышел вторым изданием, а перед этим, в 1885 году, был переведен и издан по-украински. В предисловии к львовскому изданию говорится: «Каждый добрый обыватель Галичины повинен вва- жати за свой святый політичный обовязок — показати австроугорским Русинам внутрешне житье родных им и исторично близких народов, а особливо показати им долю народу, що подбила Россія.
Для того то й подаемо отсе в перекладе образ, представляючій долю народу белоруского под панованем россійскім, урядованье тамошних институцій громадских, мировых судіев и властей політичных, названых там загально обрусителев, т. е. людей, котори хотели бы змосковщити, а притом ободрати зо всего все не россійски народы в Россій.
Образ се правдивый, а зовсем несходный з деклямаціями россійских славянофильских комитетов и их прихильников…»
Выходит, что не тот жанр «Обрусителей» и послужил маскировкой — скорее всего, независимо от желания аполитичного автора — для политики, которую сразу же использовал достаточно развитый в то время украинский национализм. Белорусский тогда лишь начинал оформляться в произведениях Ф.Богушевича — как бы на том берегу, — в среде выходцев из польской культуры и католической веры. На этом — был «западно-руссизм», более радикальный, но менее известный «Гомон» и совсем уж неизвестные сепаратисты.
Что до самой Н.Ланской, то, похоже, написав множество корреспонденций и жалоб, она исчерпала возможности документальных жанров и с верой в силу художественного слова принялась за роман. Дабы показать всю подноготную приезжих администраторов. Возможно, роман (как роман) не удался, но показать — показала, привлекла внимание к проблеме русификации. Впрочем, ненадолго. Еще в прошлом столетии «Обрусители» были основательно забыты (в белорусской литературе они, кажется, вообще никогда и нигде не упоминались), как забыта была и сама писательница. Что-то о Ланской я нашел в «Словаре псевдонимов…» И.Ф.Мосанова, во втором его томе (Москва, 1957). Там Н.Ланская — это псевдоним Надежды Владимировны Яковлевой, издавшей в конце прошлого века несколько книг публицистики и прозы, в том числе и «Обрусителей». В «Неделе» она регулярно публиковала письма из Лоева, а также петербургские эскизы, новеллы… Еще более бегло упоминается об Н.В.Яковлевой в словарях Н.Н.Голицина, А.Арсенье- ва, С.И.Пономарева. И все…
Сама тема обрусительства позже, в 1920-е годы, будет основательно раскрыта Александром Цвикевичем в его труде «Западно-русская школа и ее представители». Правда, А.Цвикевич писал научные очерки об идеалогии и идеологах, из жизни столиц — Вильни, Варшавы, Петербурга, не вдаваясь в частности провинциальной жизни, которым посвятила свою книгу Н.Ланская. Тем не менее, авторы обеих книг в своем стремлении: первый — к эмоциональности, вторая — к документализму, — достигают порой одинакового пафоса. Примеры этого я приведу позже, как и другие уместные дополнения и иллюстрации Н.Ланской из А.Цвикевича. Пока же обратимся к «Обрусителям».
Вопреки забвению, многие страницы этой книги сегодня воспринимаются вполне злободневно. Тогда, в конце XIX века, все это было на слуху публики, искавшей в романе прежде всего художественную ценность, тогда это были актуалии, проблемы, которые лишь возникали, чтобы просуществовать в неразре- шенности целое столетие и стать корнями уже наших проблем.
Итак, в начале 1860-х годов в Беларуси проводилась известная реформа, началось и закончилось восстание 1863-64 годов, сотни участников которого погибли, а многие тысячи были высланы либо подались в эмиграцию. Одновременно происходил еще один, возможно, менее известный, но не менее грандиозный и значимый процесс. Население края в результате восстания и его подавления не уменьшилось, а наоборот, росло, как на дрожжах. То есть, если до 1851 года за 13 лет оно увеличилось на 17 тысяч, то за следующие 12 лет — на 675,5 тысяч (данные БелСЭ). Цифры впечатляют, но еще более впечатляет качество этого потока, о котором в «Обрусителях» пишет Н.Ланская:
«Посредник Лупинский приехал в западный край как раз вовремя. Несколько лет тому назад западный край был центром, куда стекалось великое множество людей великорусского происхождения преимущественно и православного исповедания непременно. В то время край представлял собою арену, где, не рискуя ничем, можно было тысячу раз отличиться, выйти, что называется, в люди и затем, успокоившись на лаврах, произнести со спокойной совестью: мы обрусили. Сюда стремились все те, кто был чем-либо не доволен у себя дома: всякий, кого обошли чином, местом или наградой, чей не приняли или возвратили проект, чье имение, вследствие новых порядков, пришло в упадок, а приняться за дело не было ни уменья, ни сил — все это спешило в западный край. Здесь стекались люди всяких профессий, возрастов и положений: молодые, старые, любившие пожить и прожившиеся вовсе, разочарованные в любви, обманутые в жизни и обманывавшиеся сами, — все стремились сюда с лихорадочною поспешностью. Если было много званых, было много и избранных. Это был пир, на который шли все те, кому нечего было терять, у кого ничего не осталось за душой дома. Здесь можно было только выиграть, там уж нечего было проигрывать. Это была ежечасная эмиграция. Манивший их стимул был таков, что мог расшевелить самого равнодушного и неподвижного человека, и действительно: равнодушные и неподвижные, за немногими исключениями, превращались здесь в исправных приобретателей… Кроме того, человек, ехавший в этот провинциальный [?] край на службу, часто считал это таким со своей стороны подвигом, за который никакое вознаграждение не могло быть достаточным; такой жертвой, которую оценить надлежащим образом мог, разумеется, только тот, кто ее приносил. И хотя, в большинстве случаев, в жертву приносилась полуграмотность, если не вовсе невежество, свободное время, которое было некуда девать, пустой карман, который надлежало наполнить… а иногда и не совсем безгрешное прошлое — тем не менее иные считали себя благодетелями guand meme… Находчивым и смелым людям тут было раздолье; тут можно было сделаться помещиком без гроша; не купив леса, выгодно продать его, совершить какую угодно сделку, назваться чьим угодно именем…
Аттестатов никаких не требовалось: достаточно было приехать из России и заявить себя православным, чтобы получить право на такие льготы, права и преимущества, которые превращались в настоящий рог изобилия. Можно поэтому представить, какая масса разной дряни наводнила собой эти несчастные 9 губерний! Какой контингент лжи, низости, всяких обманов, подкупов, подлогов и нравственного растления принесла с собою эта православная армия алчущих и жаждущих, чающих и ожидающих! Как саранча, бросились они на готовые места, торопясь захватить все то пространство, которое было для них насильственным образом очищено; церемониться было ни к чему, и под видом обрусения и пропаганды православия эти завоеватели преследовали такие цели, которые не имели ничего общего ни с религией, ни с нравственностью, ни даже с политикой действительного обрусения…»
«Возбужденные» публицистические страницы книги сменяются спокойными, описательными и вовсе «бледными», собственно «романными», и я опускаю их, отдавая предпочтение общим, эмоциональным характеристикам:
«В то время — это было в шестидесятых годах — гроза только что стихла и в атмосфере начинали появляться симптомы чего-то нового, какие-то пришлые элементы: с востока повеяло новым духом. Прежде всего наехали новые чиновники в форменных фуражках; хотя это были люди не последней формации, но они привезли с собой семена новой флоры. Прежде, бывало, наезжал из казенной палаты какой-то господин в зеленом вицмундире — и все знали, зачем он приехал и что надо делать… Зеленый вицмундир объезжал таким образом города, вверенные его попечению, и, получив должное, даже не заглядывал в лавки. Потом вдруг совершился переворот: приезжий из палаты бросался прямо в лавки — это было уже новостью, — осматривал, измерял, прикладывал печати, подводил статьи, даже параграфы статей, и хотя в результате система обвешивания и обмеривания оставалась та же, но дань получалась удвоенная… Затем наехали землемеры, мировые посредники разных фракций, акцизные чиновники, предводители дворянства по назначению «со стороны» и часто не дворяне и пр., и пр. Прокуроры и адвокаты были последним словом этого обновления… Главной задачей было изменить то, что было худо, насадить новые семена и ждать плодов обрусения. Пока все это приводилось в исполнение, паны «будировали» по своим замкам; сбитые с толку крестьяне переживали разные направления, идущие из генерал-губернаторской канцелярии; догадливые евреи, смекнув своим безошибочным чутьем, на чьей стороне окажется право, учились говорить по-русски. Народилась новая культура.
В это время в пределах обетованного уезда появился Петр Иванович Лупинский».
По Ланской выходит, что Беларусь после реформы 1861 года и восстания 1863-64 годов, давшего повод к дискредитации и изгнанию прежних, нерусских панов и их администрации, напоминала Клондайк, золотой прииск. Правда — разработанный прииск, готовое место. И если на Клондайк ехали отважные авантюристы, то тут отваги не требовалось, сюда ехали мародеры.
Эмоциональный пассаж Ланской через полвека словно подхватит в своей научной работе, и сделает это не менее эмоционально, А.Цвикевич:
«Восстание и начатый после него разгром польской экономической силы в крае раскрыли перед этим классом (мелкобуржуазным классом русской культуры) самые соблазнительные перспективы. Высокие пенсии, наградные, ордена, возможность легко заработать и выдвинуться по службе, реквизиции по польским имениям и городам, бесконтрольный разгул всесильной администрации, которая объявила войну всему польскому, теплые места администраторов, судей, посредников, полицейских, учителей, наконец, вакханалия, начавшаяся в крае с насильственной ликвидацией польских имений, что продавались с молотка по казенной оценке и которые можно было купить при казенных займах за чужие деньги в рассрочку на несколько лет и без всяких налогов, — все это вместе взятое не могло не увлечь чиновной и поповской православной интеллигенции и не оформить ее политического мировоззрения. Муравьев знал, что делал, когда собственно на основе экономической заинтересованности задумал создать в крае свою социальную партию. В этом смысле он опирался не столько на крестьянство, как классовую силу, сколько на эту мелкобуржуазную армию чиновников и волостных писарей, которую он завлекал одновременно и идеей российской народности и российским рублем…
На этой почве возникла в Вильне и вообще во всей Беларуси 60-х и 70-х годов та ядовитая, гадкая атмосфера, на какой пышным цветом зацвел политический «западно-руссизм»…
По степени своей экономической заинтересованности в русификации Беларуси, по шкурничеству, продажности, беспринципности «западно-руссы» Гаворского мало чем отличались от великорусских колонизаторов, для которых ничего, кроме голого денежного интереса, не существовало. Поставленное на почву фаворитизма, российское культурное землевладение в «северо-западном» крае совершенно логически развилось в аферу, спекуляцию, кулачество. О государственных и национальных интересах не было и речи. Каждый из пришельцев жаждал только что-нибудь урвать в крае и скорее оставить его. Поляки часто бывали правы, когда говорили о примерах москальского варварства, которое приносили с собою эти культуртрегеры».
Заметим, что этот многотысячный наплыв и не мог быть иным. Ведь речь идет не о стихийном переселении, а о сознательно вызванной и организованной колонизации, которая была регламентирована десятками и сотнями инструкций, предписаний, законов.
«Временные правила для народных училищ Северо-Западных губерний», изданные Муравьевым 1 января 1864 года, поставили школу на совершенно неслыханную основу, — пишет А.Цвикевич. — Новый закон определенно не доверял местному учительству, независимо от того, было ли оно католическим или православным. Таким доверием с его стороны пользовались только «истинно-русские учителя», настоящие великороссы из внутренних великорусских губерний, на которых не лежало и тени чего-либо здешнего и симпатии к краю. Во-вторых, новый закон делал твердую ставку на православное духовенство, опять-таки из центральных великорусских губерний, на которое была возложена задача высшего нравственного руководства народными школами в Беларуси».
Интересная деталь. «Несмотря на приглашения и вызовы через попечителей и через газеты, долгое время не появлялось охотников занимать места в Западном крае, — жаловался начальник Виленского учебного округа И.Корнилов и объяснял, — служба в Западном крае требует от русского большего труда, энергии и такта, чем в центральных губерниях. Сама жизнь в уездном городе или в бедном местечке, вдали от всего родного, среди людей, чужих по вере и по убеждениям, а очень часто просто враждебных, является малоутешительной. Вне службы жизнь российского чиновника, полная тревоги и неприятностей, ограничивается узкими рамками семейного или товарищеского кружка».
«Единственной возможностью приманить сюда на службу великоросса, — продолжает А.Цвикевич, — было дать ему как можно большую пенсию. Деньги — вот чем вместо прежней идейности и патриотического служения интересам империи начали привлекать Муравьев и Корнилов российское учительство и чиновничество… Программа «обрусения Беларуси» с этого момента ясно определилась не как культурная или национальная задача, а как узко экономический, попросту сказать, шкурный интерес тех «деятелей», что начали с 1864 года ехать на Беларусь на теплые места, на двойные пенсии, награды, подъемные, ордена и т. д.
Понаехало этих «деятелей», надо заметить, необычайное множество. «Толпы тех, что находились при (ген. — губернаторе) и по (управлению краем), с каждым днем все увеличивались», — пишет в своих воспоминаниях А.Мосолов, чиновник особых поручений при Муравьеве. Работы для них в самой Вильне не хватало, и многих посылали по местам просто без определенного назначения, в распоряжение губернаторов. Стремление этих господ к службе было огромно — каждый ехал сюда либо для того, чтобы проложить дорогу по службе, либо для того, чтобы исправить прежние ошибки и неудачи. На провинции, рассыпавшись по глухим уголкам Беларуси, вся эта чиновная сила действительно чувствовала себя не слишком хорошо — должна была жить во враждебном окружении, и от тоски, как говорят, «пила горькую» и играла в карты.
Наплывая из глубины России с единственной целью — напихать себе карман — и не имея абсолютно ничего сдерживающего, вся эта орава чиновников, полицейских, посредников, учителей, а то просто офицеров тех бесчисленных жандармских и казачьих постоев, которые тучей покрывали после восстания «укрощенную» Беларусь, — внесла в край необычайный нравственный распад, осквернила и обесчестила общественную жизнь в самых основах. «Единственным счастьем для края, — пишет об этих временах один из современников, — была чрезвычайная жадность этих псевдопатриотов к деньгам. Только во взятке можно было найти себе в то время спасение от этой власти; нужно было откупаться во все стороны, чтобы избежать обысков, ревизий, скандалов, которые оставляли после себя следы полного опустошения». Только в редких случаях попадали в Беларусь люди общественно честные, желающие действительно служить делу, а не деньгам».
Но прервем пока цитирование А.Цвикевича и вернемся к забытому роману. Тем более, что картина — усилиями двух авторов — написана впечатляющая. Ниже мы попробуем проанализировать — что же это все-таки было, как следует квалифицировать этот наплыв, это нашествие. До сих пор Н.Ланская представила нам только одного героя своей истории.
2
«Он приехал в этот далекий край завоевать себе состояние, положение, сделать карьеру; он слыхал, что западный край был золотым дном для находчивых людей, а он, Петр Иванович, был несомненно находчив.
Петр Иванович был человек умеренный, особенно сначала, когда взяточничество, утратив деликатную форму добровольной сделки, превратилось здесь в бесцеремонный побор. Петр Иванович был настолько строг к самому себе, что довольствовался арендной платой с какого-то конфискованного [!] имения, что в ту пору было поистине гражданским воздержанием».
Таким образом, нам известен главный герой, и теперь посмотрим, куда же он прибыл.
«Недалеко от исторического Витязь-озера, в непроходимой глуши лесов, расположилась со своими деревнями одна из больших волостей Полесья, под названием Волчья».
Витязь-озеро — это в реальности Князь-озеро в нынешнем Житковичском районе. Во времена Н.Ланской это Мозырский уезд Менской губернии. Дополняют топографию романа упоминания Турлова (Турова), Мелешковичей — деревни на пути из Мозыря в Житковичи, Юрьевичей (Юровичей). Губернский Менск назван в романе Болотинском.
Н.Ланская весьма критично описывает состояние края. Заметим — не своего края. Взгляд ее поверхностен, как если бы она с той же, свойственной ей критичностью, писала о Кавказе или Дальнем Востоке.
«Леса, например, этот клад, который на западе берегут как зеницу ока, — уничтожаются в уезде самым варварским образом». Или вот — о Припяти, на которой стоит Мозырь; «У людей предприимчивых эта река принесла бы миллионы, но у нас она год от году мелеет… Горы и река — эта краса, это богатство края — пропадают даром… В социальном отношении это было самое невзыскательное место на всем земном шаре, без всяких претензий на какие бы то ни было современные усовершенствования и удобства». Последнее сказано уже о Мозыре — «городке в полном смысле еврейском».
«В городе было несколько домов, которые составляли свой кружок, где хранилось ядро общественного мнения. Первым считался дом Лупинских…
Они, разумеется, не выписывали ни книг, ни журналов, запирали на ключ всякую дрянь, вычитали с прислуги за каждую разбитую тарелку и пропавшую салфетку, но гостей принимали с достоинством».
Так от характеристик края автор переходит к характеристикам людей. Портреты жителей города — градоначальника, судьи и прочих, их нравы и уклад жизни — словно списаны с известных типов советских времен. Впрочем, вся русская литература XIX века словно бы специализировалась на советских типах. Что, видимо, и обеспечило такое внимание к ней именно в советское время.
Однако на первом месте в романе все-таки крестьянские типы. «Православные имели церковь, переделанную из костела…» Но в основном крестьяне — это крестьяне-униаты. Они у Н.Ланской примитивны, лубочны, неинтересны, но именно с ними связана завязка романа — история крестьянского бунта в Сосновке — деревеньке из той самой Волчьей волости.
Описание крестьянина-аборигена без какого бы то ни было отождествления себя с ним и проникновения «в него» позволяет уточнить жанр произведения — это русский колониальный роман. В отличие от российского крестьянина, этот не называется и не признается «нашим», «своим», субъективно никак не выявляется, да и говорит на не очень понятном языке.
Мужик у Ланской — при всей ее назывной симпатии к нему — бедный, голый, дурной. «А между тем эта бедность, эта голь неприкрытая составляла ту силу несметную, которая кормила, поила и одевала бесчисленное число тунеядцев, оставаясь в то же время тупой, невежественной, покорной, полуодетой, полуголодной. Эта сила умела только давать… Мужик имел одно неотъемлемое право: он имел право платить всякому, даже не спрашивая, за что он платит…»
Причиной бунта стало наказание крестьянина Макара Дуботовки, который «в Сосновке родился, жил и кое-как работал… У Макара Дуботовки была совсем кривая старая изба, и надо было удивляться, как дождь не размыл, как ветер не разнес этих ветхих, разъехавшихся во все стороны бревен… Макар Дуботовка был мужик смирный, задумчивый и вялый; он носил на голове колтун, ходил в теплой шапке зимой и летом, и по праздникам посещал шинок, где… под влиянием водки… становился решителен и смел… платил подати беспрекословно, работал не рассуждая, боялся волостного старшины хуже черта… напившись же, не признавал властей и готов был лезть в драку с кем угодно».
А занимался Макар починкой дороги, так как «сам губернатор едет». Многие крестьяне откупились, а ему нечем.
«Починка дорог, составляя здесь натуральную крестьянскую повинность, была совершенно ненатуральна в своем отправлении. Дорожные участки были распределены таким удивительным способом, что крестьянам приходилось отправляться в отведенные им места за 70, 80 и даже 100 верст». Обычно крестьянин, чтобы как-то уклониться, сдавал свой участок за плату жиду, а жид, «получив квитанцию в исправном состоянии путей, оставляет дороги на произвол всех стихий…»
Однажды случилось так, что Макар отказался ремонтировать дорогу. Старшина Кулак избил его и посадил в холодную, где Дуботовка и помер. Вот из чего, собственно, и вышла вся история.
В селе появляется «подбухторщик». Это крестьянин дядя Гаврик Щелкунов возвратился из солдат.
«В речах Щелкунова многое было не только новостью, многое было диковинкой для крестьян: им как — то не верилось, что в той далекой «Россее», откуда пришел он, солдат, есть посредники, которые не дерутся кулаками, мужики во многих местах обсуждают свои крестьянские дела сообща, миром и старшин выбирают сами.
Они полагали, что Петр Иванович существует только затем, чтобы делать сметы и раскладки, собирать подати и недоимки, отдавать в рекруты, а больше всего затем, чтобы распределять то количество розог, которое ежегодно отпускалось на волость, подобно тому, как отпускается из казначейства жалование или из кухмистерской обеды. Слова мировой посредник сливались у них как-то неясно со словом закон… Для местного крестьянина нет страшнее слова закон… И чем менее он понимает, чего закон от него требует, тем сильнее он его боится… Это отлично поняли те ловкие местные эксплуататоры, которые построили на его невежестве, простодушии и беспомощности свою финансовую систему».
Крестьяне продолжают беседовать в корчме.
«— Ну, ты этого, дядя, не кажи, — вступился Степан Черкас, — во всех так. Вот намедни дядя Боровик из Малковской волости сказывал, что у них страсть что делается: посредник, говорит, аж чистый зверь. Взял он это, братцы, большущее имение на аренду, ну и хочется ему деньги с прибытком вернуть… Обложил, говорит, барщиной, воздохнуть не дает, и чуть что — сейчас к себе на конюшню: сам покуривает, а тебя дерут… И пьет же шибко, сказывают: водку, говорят, ведрами с графского завода доставляют… Вот, говорит, вам, подлецы, закон, а сам кулак показывает.
— Отколе он такой? — спросили в один голос Бычковы.
— Из «Россеи».
— Там, значит, братцы, таких не требуется! — сострил Хмелев- ский, и все засмеялись.
… после целого ряда поучительных бесед Щелкунов добился того, что крестьяне сочинили жалобу на безбожные поступки еврея- арендатора Цаплика… и с великими предосторожностями отправили ее в главную контору княжеских имений». Безрезультатно.
«Старшина Волчьей волости Сидор Тарасович Кулак… распоряжался имуществом, трудом, честью и даже, можно сказать, жизнью нескольких тысяч людей… в его арсенале исправительных и карательных мер, кроме произвольных штрафов, арестов и розог, был еще и собственный здоровый кулак, его однофамилец…
Как-то раз избитые мужики вздумали пожаловаться посреднику, но тот их вытолкал и слушать не стал; мировой съезд хотя и выслушал, но ничего не сделал, а губернское по крестьянским делам присутствие, руководствуясь, конечно, законом, передало жалобу тому же исправнику, на которого жаловались».
Мужики решают «законным путем» в очередные выборы перевыбрать плохого старшину Сидора Тарасовича Кулака.
«Подождем до срока, теперь уж недолго! — сказали сосновцы и стали ждать срока. О принятом решении оповестили соседние деревни. Крестьянский мир тихо волновался, готовясь выразить свое неудовольствие и, в случае надобности, дать отпор».
Старшина Кулак о крестьянах-выборщиках говорит так: «Их желаньев-то не больно кто спрашивает». А посредник «Петр Иванович и без того уже решил, что, кроме Кулака, не будет старшиной никто другой». И вот — сама процедура выборов:
«— Ну, вот что, ребята, — говорит ласково посредник. — Голоса между вами разделились, так чтобы не было никакого сумления, — подделывается он под крестьянскую речь, — сделаем вот что: пусть те из вас, которые хотят старшиной Сидора Тарасовича, становятся направо, понимаете? а те, которые хотят кого- нибудь другого, пусть становятся налево…
Почти вся толпа, за исключением родственников и приятелей Кулака, переходит налево… Посредник не сказал ни слова: повернувшись на каблуках, будто делая пятую фигуру кадрили, он прошел мужду рядами разделившихся крестьян с одного конца в другой, и та сторона, что была от него налево, естественно стала правою: Сидор Тарасович был выбран в старшины огромным большинством, о чем тут же составлен приговор».
Бунт тем не менее продолжал тлеть, несмотря на эти выборы и на то, что «подбухторщика» Щелкунова выгнали из волости, а остальных высекли…
Но вернемся к колонизаторам, в среду, которая для Н.Ланской и «наша» и «своя», которую она критикует до уничижения, но при этом и знает лучше, и себя от нее не отделяет.
«… когда избрание на должность предводителей дворянства было заменено назначением их, Петр Иванович попал в предводители уездного дворянства, сделавшись в то же время председателем съезда мировых посредников. Эти два одновременные повышения чрезвычайно подняли его в собственных глазах. Перед этим он лихорадочно работал: он вдруг пропадал на несколько дней, и в городе проходил слух, что он ездил в губернию и играл в ералаш с самим Степаном Петровичем. Степан Петрович был фат, многие выражались о нем еще резче, но он знал все привычки и слабости его превосходительства Михаила Дмитриевича, и поиграть с Степаном Петровичем в ералаш было все равно, что получить награду; проиграть ему было еще выгоднее.
Назначенный после губернского ералаша предводителем дворянства, Петр Иванович тотчас же переменил все аллюры: вместо кухарки-бабы взял повара, повесил в гостиной новые драпри, выписал жене рояль и детям бонну. Он даже собирался выписать бильярд, находя игру на бильярде весьма полезной в гигиеническом отношении, но почему-то отложил, решив предоставить заботу о своем здоровье местному клубу.
… вместе с правом именоваться «паном маршалком», добился привилегии дворянского мундира, что для него, человека маленького и незаметного, с отсутствием видных предков, было чрезвычайно поощрительно.
… он облекался в мундир, привешивал шпагу, которую евреи величали «шаблей», украшал свою грудь орденами и, стоя с серьезным лицом перед зеркалом, приказывал подавать лошадей.
… он чувствовал себя таким счастливым, что готов был подать милостыню каждому нищему, хотя и слыхал, что это противоречит ученым теориям политической экономии.
К чести Петра Ивановича, надо заметить, что он поддался искушению не вдруг, уступал шаг за шагом, но, раз решив в принципе, что не брать нельзя… он уже не мог остановиться».
Тем временем на место Лупинского посредником в Волчью волость был назначен Михаил Иванович Гвоздика, который «приехал в западный край с решительным намерением нажиться». Этот Гвоздика ссорится со своим приятелем, опять таки из-за Кулака, и приятель подговаривает крестьян Сосновки против Кулака.
Тем же временем изгнанный Щелкунов «дошел до Петербурга». Оттуда в Сосновку прислали запрос, на который местный писарь ответил, что Щелкунов… «человек… вроде как бы не в своем уме и приключилось ему это повреждение от водки…»
А что в это время крестьяне? Они «решили, миновав посредника, написать просьбу и на этот раз нести ее в губернию самим. Это было дело трудное и даже опасное, потому что Гвоздика не допускал в своем участке никаких отлучек, и ослушники, как настоящие дезертиры, карались самым строгим образом…»
Все-таки не удержусь от сравнений и вспомню в этом месте о беспаспортном режиме в деревне, о военизированной мирной жизни… Не при Сталине это началось. Как, впрочем, и все, что было при Сталине.
«Старый, но еще видный из себя статский генерал Михаил Дмитриевич Столяров удостоил их выслушать, улыбаясь непонятному говору крестьян.
— Guel jargon! — обратился он к Степану Петровичу Овсянскому.
— Impayable! — ответил тот, ничего не слыхав…»
Несколько позже в салоне Степан Петрович вспомнит об этой аудиенции:
«— И потом этот польский язык…, который я, разумеется, опускаю, как совершенно невозможный для передачи».
Аудиенция также не принесла никаких результатов, и наконец бунт созрел. Крестьяне кучей наваливаются на Кулака, срывают с него медаль, отбирают печати. Все уездное начальство едет в Волчью. О Кулаке они говорят — «не принял решительных мер».
Приехав первым в Сосновку, исправник Кирилл Семенович Уланов «начал с того, что немедленно послал в соседнее местечко за старой водкой, потом созвал крестьян и, никого и ничего не слушая, надел на Кулака медаль, провозгласив его первым старшиной в губернии. Бунтарей заковали в кандалы, а прокурор резюмировал: «Вы говорите: правда — как будто уж лучше правды и выдумать ничего нельзя?»
«В тот же вечер в «губернию» была послана эстафета, сообщавшая о благоприятном исходе бунта, а на другой день комиссия отправилась в обратный путь».
Вот тут-то и появляется в романе «третье лицо» — Татьяна Николаевна Орлова, провинциальная дамочка с обостренным чувством справедливости. «Орловы — люди в этом крае новые — отличались независимостью мнений и строгой замкнутостью своей жизни». Несомненно, что Орлову Н.Ланская списывала с себя.
«Татьяна Николаевна, с величайшей горячностью принимавшая к сердцу участь крестьян, ждала прибытия комиссии с болезненным нетерпением. Она прожила в северо-западном крае шесть лет и все ее симпатии легли на сторону белорусского племени, этого смирного, добросовестного, немного ленивого, терпеливого и невзыскательного племени, которое с такой безропотной покорностью несло тяжелое бремя своей жизни».
Белорусы здесь для нее — еще племя. Точнее — уже племя. Свои администраторы, политики, интеллигенция этого племени либо уничтожены в присоединительных боях, либо, оставив край, подались в Польшу и далее, где ополячились, офранцузились и т. д. Массово «обрусевших» еще не было, еще не выросли. В крае запрещены университеты, повешен домоклов меч сепаратизма, новая администрация преподает свои «уроки восстания»…
«Она знала, что только доведенное до крайности притеснение могло истощить терпение этого терпеливейшего народа настолько, чтобы вызвать его на отпор».
Замечательная деталь. Сколько еще будет сделано для поддержания этого стереотипа «терпеливейшего народа» впоследствии! Белорусы — самые скромные, смиренные, безответные. Словно сам наш патриотизм — это культ собственного убожества. Мол, нас не поймут, не признают за белорусов, ежели не стерпим, не промолчим, ежели высунемся. Так воспитывался этот культ лжи, подобострастия, иждивенчества, комплекс младших…
Результаты комиссии не удовлетворяют Татьяну Николаевну, и она решает разобраться во всем сама.
«Собрав положительные сведения и цифровые данные, заручившись некоторыми официальными документами, Татьяна Николаевна облегчила свое горе тем, что приготовила корреспонденцию в одну из петербургских газет и написала письмо губернатору…
Прошло две недели. О происшествии в Волчьей волости стали понемногу забывать. Гвоздика по-прежнему производил суд и расправу. Кулак был возвращен к должности старшины… а шестеро обвиняемых крестьян сидели в остроге, искупая чьи-то чужие грехи».
И тут, словно гром среди ясного неба, — вот она, роль средств массовой информации! — письмо Татьяны Николаевны в газете.
«Петр Иванович, ударив себя по лбу, воскликнул:
— «А что я говорил!» Впрочем, он немедленно успокоился, найдя, что сведения, сообщенные в корреспонденции, не только не компрометируют его, но даже выставляют в весьма выгодном свете».
По публикации назначена ревизия. К ним едет ревизор! Но никто не кричит: «Как — ревизор?!» «Гвоздика, бывший в приятельских отношениях со всеми губернскими чинами, отправился его встретить на первой станции, и вместе торжественно и дружно совершили они въезд в уездный город».
Лупинский говорит Орловой:
«— Что же я могу сделать… Нет-с, Татьяна Николаевна, пока начальник губернии прежде всего стоит на том, чтобы «не дискредитировать власть»… до тех пор разные Гвоздики… как у Христа за пазухой… Вы пишете корреспонденцию, я предоставляю его превосходительству факты, а ревизующий от присутствия член находит, что корреспонденция раздута, и в волости все благополучно… А все для того, чтобы «не дискредитировать власть».
Вот ведь он вроде бы и искренен, и иронизирует, понимая весь идиотизм такого устройства. Сколько же таких, как он! А менять они ничего не хотят. Наоборот, они стремятся как можно лучше изучить правила этой игры и стать ее виртуозами.
Смерть исправника. Деталь из чиновничьей жизни. Н.Ланская пишет о дочери исправника: «Она думала о своей молодой жизни, иногда утирала слезы, соображая, как лучше сделать оборку, куда пришить бант, и когда утром знакомые и сослуживцы покойника собрались на парадную панихиду, она вошла в глубоком трауре и очень интересная». Знакомого из русской литературы XIX в. сарказма здесь все-таки меньше, чем «женского взгляда». О чем свидетельствуют и упомянутая лубочность крестьянских типов, и многие эпизоды мещанского быта, близкого и желанного Н.Ланской, но которые она, как автор социального романа, позволяет себе лишь изредка, как, например, вот: «… на углу главной улицы открылся модный магазин «пани Липской», с заманчивой вывеской, где дамская шляпка походила издали на мужское седло, а шиньон с локонами напоминал пучок вместе связанных колбас».
Это, кстати, эпизод уже из второй части романа, где основной сюжет понемногу иссякает, а перо автора все более места заполняет описанием все новых и новых типов прибывающих обрусителей.
«Со времени «бунта» в Волчьей волости прошло полтора года, и в уездном городе многое изменилось: прибыли новые люди, ушли со сцены некоторые из старых, и печальная история «прискорбных недоразумений», как было официально озаглавлено происшествие в Сосновке, почти всеми забылась.
Простоватого посредника Грохотова, не умевшего даже поживиться как следует, заменил прибывший из Вятки или Перми г. Шнабс, поживлявшийся уже решительно всем».
А что же главный герой?
«…бедному «пану маршалку» недоставало самой малости: спокойной совести — и этого решительно негде было взять!.. Теперь у него была одна задушевная мечта: прослыть за честного человека».
Н.Ланская явно симпатизирует обрусителям «первой волны», видимо, — своей волны. И явно недолюбливает тех, кто приехал попозже. Ведь она и ее приятели здесь уже почти местные, прижились за два-три года. А эти, лупинские какие-то, понаехали без году неделя, и занимают начальственные кресла. И еще, наверное, этой разницы в два-три года умышленно не замечают. И взятки берут!..
Похоже, именно такое раздражение, такая нервность водит рукою автора. По крайней мере, она стимулирует больше, чем обида за обделенных крестьян.
«Петр Дмитриевич [Колобов] принадлежал к эпохе первых реформаторов Полесья; он служил в проверочной комиссии при Якушкине и тех первых посредниках, которые, прослыв «красными» в глазах «ясновельможных», впоследствии прослыли чуть ли не сумасшедшими, когда настало другое время и пошли другие взгляды. Тогда времена менялись быстро: то с мужиком носились, как ни весть с какой драгоценностью, мужика сажали рядом с паном, даже выше, ему не только возвратили его образ и подобие, его вознесли, его почти открыли… Пан имел право только соглашаться, чаще всего его даже не спрашивали; мужику, напротив, внушили, что он может требовать, и его не только слушали, ему подсказывали. Это было почти как на театре и также скоро кончилось…: явились другие люди, сверху пошли другие циркуляры, и, поиграв с мужиком, ему, как в сказке о рыбаке и рыбке, опять оставили одно дырявое корыто… Пошла переоценка земли, леса, угодий, и у мужика отняли то, что он начал было считать своим. Долго ли сбить с толку темного, безграмотного человека? Когда, отнимая, ему сказали, что это делается на законном основании, он стал совершенно в тупик, потому что на том же самом основании ему давали. Кое-где он вздумал даже упираться и бунтовать… Расходившегося мужика поспешили унять… нагайками и штыками, потом его и совсем закрепостили, заменив старое ярмо барщины, которому все-таки предвиделся когда-нибудь конец, ярмом чиновничьего произвола, которому и конца не было видно. Тогда, почуяв добычу, явились на службу обрусения Лупинские, Гвоздики, Ванины, Болванины, Акулы, Овсянские, Ля-Петри, Свистовские и, наконец, Столяровы… Словом, целый легион хищников-обруси- телей».
«…неприятность корреспонденции усиливалась еще тем обстоятельством, что в Болотинск только что прибыл новый губернатор, про которого ходили такие слухи, что из конца в конец вся Болотинская губерния вздохнула о блаженной памяти уволенного Михаила Дмитриевича — «Умел взять — умел и другим дать!» Начались увольнения.
«В то время ходил еще весьма распространенный слух, будто самое назначение это состоялось с целью очистить воздух Болотинской губернии — и это аллегорическое выражение было понято всеми в надлежащем смысле. Впоследствии все это так и осталось на степени аллегории; но тогда с умилением рассказывали, что новый губернатор принял даже какую-то бабу из самой дальней волости и, по ее жалобе, немедленно назначил строжайшее расследование».
На группу прогрессистов, сплотившуюся вокруг Орловой после того, как она заговорила о взятках Лупинского, посыпались доносы от группы Лупинского. «Вслед за грязным, бессмысленным и лживым доносом на Зыкова явился донос на Шольца, которому ставилось в вину немецкое происхождение и сомнительность его брака; на Колобова, обвинявшегося в распущении каких-то, волнующих общество, слухов; на Комарова за противодействие и оскорбление полицейской власти; на судью Натан Петровича за какую-то игривую надпись, сделанную им на бланке и, наконец, на Орлова за непосещение им храма Божия в торжественные дни, что, как было сказано в доносе, «возмущало патриотическое чувство русских людей».
Такие вот «вечные темы». Представляете? А жена Орлова в сердцах говорит: «Ах, негодяи! Да я про них роман напишу! Да так и назову: «Обрусители». Воистину непредсказуемы пути, которые доносят до нас правду давнего времени!..
Наконец, «пан маршалок» поехал жаловаться куда- то так высоко, что захватил с собой все деньги. Но правое дело, как это водится, все- таки победило. И еще через два года Лупинского отдают под суд.
3
Выбравшись, таким образом, из фабулы романа, перейдем, вслед за Н.Ланской и А.Цвикевичем, к обобщениям, к механизму обрусительства в целом, к ответам на поставленные в ходе чтения вопросы.
А.Цвикевич цитирует К.Кауфмана, заместителя Муравьева, сменившего впоследствии его на посту генерал-губернатора края:
«Все мероприятия, влекущие в Западный край российский народ, российское просвещение, российские капиталы, одинаково нужны и полезны во исполнение высочайшей воли обрусения края». «По плану Муравьева, — продолжает А.Цвикевич, — этой цели дожны были служить систематические мероприятия власти как в области административной, экономической и религиозной, так особенно в области культурно-общественной и просветительской. Вместе с выпиской из центральной России полицейских, урядников, великорусских попов и целой тьмы «истинно-русского» чиновничества, вместе с сохранением в крае военного положения и массы войск, — началось насаждение в Беларуси российской школы, книги и прессы».
Как это насаждение происходило на местах?
«Вестник Западной России» обратился с призывом «к свежим русским людям, которые прибывают в Западный край для деятельности на пользу коренного здешнего народа», где просит дружно помочь великому народному православно-русскому делу… Во всех уголках Западной России довольно найдется российских рук и голов, чтобы настойчиво сделать это дело, — исторической, политической и религиозной сознательностью доказать, что мы здесь «исконные владыки».
Обратим внимание на этот эпизод. Кому — доказать? Поверженному краю, который, утратив свою субъектность, превратился на время в молчаливый фон деятельности новых властей? Западу, которому Россия не слишком старалась что-либо доказывать? Да нет. Себе! Для себя самой она искала оправдания своей насильственной и слишком уж безнравственной политики. Она сама — голосами своих прогрессистов — осуждала и высмеивала «обрусителей», увязнувших в «Западном крае». И она же — голосами Гаворского и ему подобных — оправдывалась, доказывала. И тогда доказывала, и прежде, и потом. Именно из этих оправданий и составлена целая идеология, внушение всяческих братств, единств и исконностей.
«Босота, сволочь, пустая ноздревщина, непроходимая семинарщи- на, отребье местной жизни» — вот эпитеты, которые посылались из петербургской прессы Газорскому, когда Муравьева сменил Кауфман, допустивший, по свидетельству современников, необычайный разврат среди российских чиновников, и когда за Кауфманом пришел А.Потапов.
«Главным тормозом, сдерживающим в Западном крае российское дело, — писал редактор петербургской «Вести» Скорятин, — является пролетариат, состоящий из чиновников, прибывших сюда на службу по призыву власти… те вредные босоногие патриоты, которые принесли на алтарь отечества в жертву свою нищету для того, чтобы суметь пристойно одеться, а будет возможность — и разбогатеть».
Но это все лишь идеологический аспект — школа, церковь, «краеведение»… Основу же обрусительства составила политика новых властей в области землевладения. Вот что об этом пишет Н.Ланская:
«В это время всех чрезвычайно занимал исход так называемого Ловишинского дела, представляющего собой яркий образец той системы, которая, строя принцип обрусения на крупном землевладении, проводила его в жизнь продажею конфискованных имений, лесов и угодий на таких льготных условиях, что собственно термин продажа употреблялся тут скорее в виде простого приличия, нежели для определения самого факта.
То был период крупных подачек, разных пожалований, беззастенчивых приобретений и наглых вымогательств; тогда была возможна самая произвольная перетасовка испокон века установленных прав собственности, и авторитет закона подкреплял такие сделки, которые были явным нарушением всяких прав». Имеется в виду конфискация земли с применением войска, осады и т. п.
Далее — из А.Цвикевича:
«Как известно, одной из самых главных мер борьбы Муравьева с польским влиянием в Беларуси была конфискация и продажа с публичного торга польских земель, в первую очередь тех помещиков, которые непосредственно принимали участие в восстании… Вместе с этим была выдвинута грандиозная программа насаждения великорусского землевладения в Беларуси, вместо землевладения польского. В своих записках на имя Александра II, поданных 14 мая 1864 года и 5 апреля 1865 года, Муравьев высказывается об этих экономических мероприятиях с самой острой решительностью… «Заселить край россиянами сколько можно систематичнее, не выделяя старообрядцев, ибо они более других сохраняют российскую народность; создавать колонии из уволенных солдат; бить поляков по карману, чтобы все было спокойно; заселить край великорусскими крестьянами, продавать всем россиянам, независимо от состояния, конфискованные, секвестрованные и просроченные в кредитных учреждениях земли; решить вопрос о проведении таможенной линии между Царством Польским и Северо-Западным краем, чтобы пресечь саму мысль жителей этого края, что они могут образовывать когда- нибудь одно целое с Царством Польским».
В проекте закона о конфискациях и публичных продажах имений польских помещиков было отмечено, что «право на льготную покупку ликвидированных имений, на всяческие привилегии и поддержки со стороны правительства» имеют вообще все российские граждане «непольского происхождения». Стоит ли уточнять, что коренное население Беларуси, если и признавалось «неполяками», то и в привилегированную категорию «истинно-русских» не входило. Оно — повторю — было молчаливым фоном, на котором выясняли свои отношения та и другая «категории».
Наконец, еще один важнейший фактор обрусительства — присутствие российской армии в Беларуси.
«Число российского войска в Беларуси возросло в ту эпоху до необычайных размеров, — пишет А.Цвикевич. — Если под конец 60-х годов мы видим в Вильне только штаб 27-й пех. дивизии, штаб местных войск с артиллерийским складом да губернский батальон с обозными командами, то в начале 80-х годов здесь было уже около десятка окружных военных управлений разных типов, штаб армейского корпуса, артиллерийская бригада, четыре пехотных полка, кавалерийская дивизия, саперный батальон, полевой жандармский эскадрон и т. д. и т. п. — огромное количество войск, словно крепость в западном секторе огромной империи.
Вызывать войска из центра государства, как это было во времена восстания для его удушения, сейчас в случае чего не приходилось: «Северо-Западный край» мог с избытком одолжить этой силы для придушения беспорядков в столицах. Кроме того, войско в Беларуси, благодаря заведенной 1 января 1874 г. всеобщей воинской повинности, с успехом выполняло огромную русифицирующую роль».
В самом конце романа Н.Ланской мы узнаем, что все ее «герои» — не просто приезжие, а люди, так или иначе связанные с российской армией. Оказывается, в Мозыре стоит гарнизон, которым командует ротмистр Александр Данилович Зыков, а все перечисленные выше обрусители — действительные или отставные армейские чины. Тот же Лупинский, как выясняется, — майор в отставке. И я не сдержусь, чтобы не провести еще одну параллель.
Кто-то из современников назвал Беларусь «страной отставников». Это правда. Ведь до последнего времени офицеры советской армии, уходя в отставку и выбирая себе место жительства, отдавали нашему краю абсолютное предпочтение. Причем все — и здешнего происхождения, и нездешнего, и совсем уж далекого. Словом, и эта «практика» началась вовсе не при Сталине, и не после революции.
Многое еще в этом романе звучит публицистически злободневно («… получая 7 р. 51 коп. в месяц, ухитрился выстроить два дома»), но я прекращаю и без того обильное цитирование. Возможно, его будет достаточно для представления забытого романа, а главное — самой проблемы обрусительства.
Глядя на тогдашние и теперешние проблемы и изъяны нашей общественной жизни, я думаю: а может, так оно было всегда, может, это какая-то заданность? И только культура, язык и сама природа возвращают присутствие духа? Но откуда тогда эти культура, язык и природа? И как они — наша книжность, архитектура, фольклор, менталитет — на протяжении столетий сохранили в себе свою первородную чистоту?.. Нет, явно было и по-другому. И явно другая у нашего края и у нас заданность. А в таком случае, когда же началось все это? Ответ подсказывает Н.Ланская, чье произведение и посвящено собственно началу этого: не началось, а — пришло, принеслось, внедрилось.
Глядя из России, это была банальная аннексия, когда одна империя получила свою долю в результате раздела Речи Посполитой между тремя европейскими монстрами того времени. Глядя из Беларуси — это была оккупация, вызвавшая три антироссийские восстания 1794, 1831 и 1863 годов, сливающиеся в одну освободительную войну. Единственное, что мешает сегодня согласиться с этим юридически точным определением — то, что у этой оккупации не было и до сих пор нет конца.
Видя и зная теперь характер этого нашествия, можно ли допустить, что это было «освобождение» или «воссоединение с Россией», — как толковала нам прежняя пропаганда? Можно ли говорить о каких- то благотворных плодах этого нашествия, как, впрочем, и всех последующих административных нашествий с «большой земли»?
В сущности, ответом на эти вопросы и будет то, почему мы не стали русскими. Потому что вместо русской природы, языка, культуры нам предлагались природа, язык и культура чиновнические. Мы, народ, превращались не в русских, а в денационализированных чиновников — вбирая в себя эту психологию, этот тип достоинства и ценностей. Они входили в нас не вместо нашей белорусской сути, а лишь потеснив ее, приглушив своим объемом, своей массой. Мы так и не почувствовали ничего русского в себе, называя этим словом лишь цепь своей зависимости от системы, а не пуповину, которая могла бы связывать нас с национальной жизнью соседней страны. За двести лет мы так и не дали ни одного выдающегося явления русской культуры, литературы, гуманитарной науки.
Характеристики Н.Ланской точны и универсальны для всех последующих административных наплывов из России в Беларусь. Ехали сюда и деятели культуры, но они, лучшие из них, сразу же интегрировались в белорусскую стихию (горецкая профессура, литераторы Замотин, Вознесенский, искусствовед Щекотихин и другие). Худшие становились чиновниками аппарата. В основном же ехали партийные, советские, комсомольские, милицейские и чекистские кадры, деятели пропаганды, ехали чиновники от образования, парторги и председатели колхозов… Ехали на место многих тысяч взращенных нашенивством и первой волной белорусизации, но тут же расстрелянных или высланных. На место интеллигенции ехали служащие — те, кто, в отличие от интеллигентов, несли не культуру, а идеологию, не язык, а канцелярит, не человеческую природу, а субординационный нюх. Настоящими проводниками русификации стали у нас люди, пожалуй, без исключения малокультурные, неинтеллигентные, бездуховные. Они и сами уже не были русскими, а лишь «с южным типом лица», как пишет о них Н.Ланская. Они, «всесоюзные», всеимперские граждане и положили начало тому «русскоязычному населению», для которого развал империи стал утратой родины, эмиграцией на месте. Их русификаторство заключалось в навязывании лишь «материальной части» своего языка, нескольких постулатов идеализированной своей истории, городского фольклора да нескольких до неузнаваемости адаптированных «народных сказок», что никак не назовешь культурой. Да и возможно ли — навязать культуру? Можно, конечно, заставить ходить в кокошнике, играть на балалайке и сносно говорить по-русски. Но внутреннюю культуру, ее духовную, интимную часть можно только воспитать и только не во вред чему-то уже воспитанному и привитому.
Время и идеология оставили в сознании сегодняшних людей много всяких комплексов, совершенно необъяснимых с точки зрения здравого смысла. Например, само слово «русификация» воспринимается многими как оскорбление русского народа и чуть ли не подрыв добрососедства. Это от той же чиновнической услужливости, заискивания не младшего перед старшим и не меньшего перед большим, но народа-подчиненного перед народом-начальником. А также, возможно, от подсознательного стыда за собственную русифициро- ванность. Ведь русифицированный — не русский, а лишь обезду- ховленный. Теперь мы знаем, кто и когда этот механизм завел.
В романе Н.Ланской совсем нет «культурных вопросов», а обрусительство — это деятельность именно экономическая, социальная, административная. У нее это — экспорт административного аппарата, который в экспортном варианте — наихудший, ибо ставит ниже закона и власти (т. е. ниже себя) не просто человека, а чужого человека, инородца. Ведь Беларусь — это край, куда еще двести лет назад россияне приходили только с мечом, как захватчики. А тут это все делается без меча и каких бы то ни было заслуг.
Словом, все это шло к нам, но никак не меняло нашей национальной сути. Это все было временно, как «оперативная память», и при первом же поветрии куда- то исчезло.
Самосохранение нации, словно в метафоре, видится мне в одном довольно распространенном у нас в прежние годы явлении — когда какой-нибудь ответственный работник тайком от системы, от начальства, от сослуживцев, но в согласии с родней и внутренней своей природой, вез свое новорожденное дитя — к попу.
БЕЛОРУСЫ УХОДЯТ
Меня преследует ощущение ухода. Вот уже год… Или нет. Лет пятнадцать. С тех пор, когда я начал осознавать, кто я, появилось и это ощущение — настойчивое, страстное, непреодолимое желание уйти… Я бе-ла-рус… Может быть, самоосознание и самоопределение — одно и то же? «Вплоть до отделения»… Вдруг все изменяется, и ты — не тот, за кого тебя принимают и за кого принимаешь себя сам, поэтому в этой декорации ты уже неуместен и хочешь одного — уйти. Чем это желание отличается от желания свободы? Несвобода — это, видимо, и есть — несоответствие. Осознанное несоответствие.
То же, когда я берусь рассуждать о своем народе, о белорусах. Первое мое ощущение, желание, направление — ощущение несоответствия, желание уйти. Направление свободы. Белорусы уходят — откуда? куда? по какому пути?…
Если мысль, достаточно ее произнести, представляется ложной, если слово, «писавшееся кровью сердца», лишается всякого смысла, если многие знания, кажется, не приносят уже ничего, кроме печали и скорби, — значит, нарушилось соответствие между словом и его первородным смыслом, между содержанием и формой, между миром и мировоззрением, и настало время вернуться к изначальному смыслу, с небес идеологии — на землю, от эмоций — к ratio.
Возможно, это был чудесный полет: парение, скорость, высота… Пока птица, одержимая стремлением «сказку сделать былью», не вздумала остаться на небесах, свить себе там гнездо и вывести в этом гнезде потомство. Осуществление иррационального замысла всегда абсурдно и жестоко. И это не «последняя надежда человечества» — социализм — потерпела фиаско, а очередная попытка поставить мир «на попа», построить царствие небесное на земле. Очередное искушение несоответствием.
По-моему, дело здесь в том, что подчинено, а что главенствует, что в контексте чего. Если ratio в контексте эмоций, то даже самые простые и конкретные истины (например: чтобы не голодать, нужно поесть) не являются аксиомами. Потому что голод — не просто голод, а поесть — не просто поесть. Свобода, Родина, Беларусь здесь — господствующий над нами «шаблон пустых слов». Их не определишь, не измеришь, не вычислишь, они выше понимания, выше логики, выше твоей никчемной земной жизни. И при этом они — ничто. Всё-ничто.
Например, Родина. Родина как СССР. Умереть за нее — подвиг, а изменить ей — преступление, ведущее опять-таки к смерти. Жизнь для нее — высший смысл существования. И — высшая бессмыслица. Потому что любые попытки вникнуть, понять, размыслить — кощунственны. Главное — верить. Иначе фатально пропадает значимость всех этих жизней и этих смертей, принесенных на алтарь Родины.
«Родина или смерть» — знакомый лозунг Кубинской революции. Абсолютное (смерть) и относительное (Родина) здесь перепутаны, поменялись местами. Смертью невозможно измерить степень преданности, идейности, убежденности человека. Смерть — измерительная линейка с одним делением. А даже самый-самый ортодокс не может быть таковым на все сто процентов. Рано или поздно у птицы деревенеют крылья.
Между почим, если вернуть мир в естественное положение — поставить с головы на ноги, вспомним, что еще у древних римлян место кубинского лозунга занимало здравое: «Жизнь короткая, Родина вечная»…
Возможна ли совокупность Родин? Возможна, поскольку мы все земляне. Что же касается какой-либо промежуточной совокупности, то она не оправдана никаким здравым смыслом и является плодом чистой идеологии. Как правило, идеологии имперской, потому что в империях главенствующую роль среди Родин, роль «главной жены» играет метрополия с ее культурой, средствами массовой информации и «главным стадионом страны». Да, я об СССР, о Родине Октября и ее творцах. «О будь они прокляты! — крикнула как- то в сердцах одна героиня белорусской литературной классики. — Они хотят сделать признаки своей национальности интернационалом для нас, — спасибо за милость… Уж как-нибудь постараемся сами войти в интернационал как равные со всеми, без этой дополнительной формы развития!»
Увы. Сами не вошли. До сих пор находимся в «дополнительной форме»… развития ли?
Родина СССР — это искушение логики. Шестая часть мира, а почему не пятая или седьмая? Почему для белоруса Родина и Курилы, и Сыктывкар, и даже Бухара, а совсем близкий Белосток — заселенный белорусами же город «социалистической же» Польши — не Родина?.. Детские вроде бы вопросы. Родину полагалось «не обнять», «не понять» (в тогдашнем стихотворении, неосознанно: «Твае ня вызначыць мне межы и не намацаць твой выток»). Родину полагалось любить. И вот, помню, мы, школьники, задавали друг другу смешной, как представлялось, вопрос: «Расскажи, как ты любишь Караганду?» Так незрелое сознание противилось абсурду, ибо на понятийном уровне мы уже тогда четко представляли себе, что Родина француза — Франция, китайца — Китай, белоруса — Беларусь. В случае же с Советским Союзом такой понятийной связи не ощущалось. Ее не было. И предлагаемое нам определение «советский человек» не было определением ни биологическим (человек), ни персональным (Адам), ни этническим (белорус), ни географическим (американец), ни даже социально-политическим (житель соцстраны). Это определение просилось в какой-то иной, несуществующий ряд: графский, муниципальный, советский… человек, — от формы власти. "Человек из «Замка»” Кафки.
А смешным вопрос представлялся потому, что на него был готов совершенно серьезный, но совершенно крамольный ответ: да никак, никак не люблю Караганду, Самарканд и Набережные Челны. По крайней мере, не больше, чем Аделаиду или Гонолулу.
Совокупность тысяч факторов — от климата и времени суток до языка и тембра голоса — создает подсознательно узнаваемый, совершенно интимный и в то же время общий для определенной группы людей образ. Родина — теплые места сознания. Ее невозможно абсолютизировать. Как, кстати, и смысл жизни. Абсолютна сама жизнь, а не ее смысл.
Между прочим, в чем смысл жизни? (Здесь положено снисходительно улыбнуться.) Понятие настолько «поднято» над реальным существованием куда-то в ряд «вечных», что вопрос о нем стал риторическим, безответным и тоже смешным. Вопрос обо всем- ничем. Абсурд какой-то… Вполне рассудочное кредо: «Прожить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы», — звучит из постели раздавленного своей целью комсомольца. И через 70 лет получает жестокую, но не менее рассудочную отповедь:
«А мне мучительно не больно за годы, прожитые с целью»…
Так в чем же смысл жизни? В продлении жизни смысл всего живого. А конкретно смысл жизни моей, твоей, пятого — в том, каким смыслом я, ты и пятый наполняем каждый свою жизнь. Это если «опустить» понятие, переставить его опять-таки с головы на ноги.
Вот только конкретизировать не рекомендовалось. Тут был найден свой промежуток — между тобою и всем живым. И смысл этого промежутка был в строительстве коммунизма на земле и прочих подобных делах.
Но это все было. Мы оттуда еще не ушли, но уже представляем себе — откуда. И сейчас самое время повернуться и представить — куда.
В другое измерение, туда, где эмоции в контексте ratio. Здесь наоборот — даже самые абстрактные логические умозаключения (например, известное: относись к другим так, как ты хотел бы, чтобы они относились к тебе) имеют столь же предметный вид, как аксиома «чтобы не голодать, нужно поесть». Здесь голод означает — голод, а поесть означает — поесть. Здесь действует причинно-следственная связь, здесь все стремится к соответствию.
Побывав в зоне Чернобыльской катастрофы, один приезжий экстрасенс говорил людям о том, что им для спасения, кроме всего прочего, следовало бы разговаривать на языке своих предков, ибо в нем многими поколениями накоплена наиболее адекватная энергия. Именно в таком соответствии он видел неиспользуемые резервы человеческого организма в борьбе с излучением. Можно ли считать такую рекомендацию нездравой? Ортодокс в стремлении к стопроцентной ортодоксальности убивает свой организм. Вспомним замуровавшегося Кирилу Туровского, вспомним уже упомянутого комсомольца, вспомним многочасовые изнурительные доклады Л.И.Бреж- нева… Другая крайность тоже известна. Ее обычно передают фигурой из трех пальцев, где большой палец — голова, а остальные — плечи. В нашем же примере с экстрасенсом речь идет о гармонии духовного и физического, о соответствии как силе и защищенности человека. Но это только здесь, в этом измерении.
Вот как выглядит «усиленная» характеристика этого измерения (по Достоевскому): «А что, если так случится, что человеческая выгода иной раз не только может, но и даже должна в том состоять, чтоб в ином случае себе худого пожелать, а не выгодного?» Шахматная логика. Добро влечет за собой добро, зло порождает зло. Чем дальше мы видим причинно-следственную цепочку, чем на большее количество ходов вперед мыслим, тем лучше.
Здесь Свобода, Родина, Беларусь (а если хотите, то и Ленин, Партия, Коммунизм) — понятны не только сердцем, но и рассудком. Здесь прежде них и прежде всего — безотносительное существование человека, а они — уже не царящие шаблоны пустых слов, а лишь методы, методики, методологии этого существования, жизненные проекты. Какой выбрать?..
Для ответа у меня уже есть кое-какой «инструментарий». Ощущение ухода, от иррационального к рациональному, направление свободы, путь. Понятие «белорусский путь» понемногу приживается в нашей литературе. Мы не говорим о «белорусской идее» или о «белорусском вопросе». В качестве связки у нас называют именно путь.
Дело в том, что всякое национально-освободительное движение пишет на своем знамени слово «свобода». Свобода есть самоответст- венность. Чем адекватнее и безраздельнее эта самоответственность, тем полнее свобода. Чтобы точно определить круг своей ответственности (в том числе за себя и перед собой), необходимо точно определить себя. Для общности людей это «себя» наиболее полно выражается в определении нации, то есть определенной культуры, породы (может, грубо, но в ratio наиболее точно) данной общности.
Если свобода — понятие общее, общечеловеческое, космополитическое, — то понимание свободы, наполненность ею, внутренняя ориентированность на нее, готовность к ней — разные, национальные. В какой мере, скажем, русская идея или еврейский вопрос — это идея и вопрос свободы? Насколько белорусский путь — это путь к свободе? Так же, как идея, вопрос, путь здесь тождественные и разные понятия, так и свобода — одна для всех, и у каждого своя.
Между прочим, замечу, что «белорусский путь», по- моему, еще не самое адекватное определение, и я использую его только потому, что оно весьма условно. История еще не привела нацию к такому состоянию, когда связующее понятие между словами «Беларусь» и «свобода» определенно и канонично. Я бы даже заменил слово «путь» словом «уклонение», если бы последнее не было методологически размытым. Нас же теперь интересует именно методология, а методология национального кодируется именно в названном связующем понятии. Поэтому оставим пока условный «белорусский путь».
Философия свободы (самоответственности) уже названа вершиной философии экзистенциализма (первичности существования). В свою очередь, экзистенциальное сознание пришло в цивилизованный мир вместе с урбанизацией. Человек потерялся в большом городе, и здесь, вдали от святынь, важнее и ценнее всего, абсолютнее всякого прочего абсолютизма, показалась ему его никчемная жизнь.
Происходило ли, и как это происходило в Беларуси? Попробуем эскизно нарисовать путь нации к сознанию свободы.
Абсолютизма Беларусь не знала никогда. Точнее, она слишком хорошо знала соседские абсолютизмы — религиозные, национальные, государственные в самых нечеловеческих проявлениях, — чтобы самой произвести на свет какой-нибудь свой белорусский абсолютизм. Неприятие мессианских, фундаменталистских, романтических идей выразилось в национальной уклончивости, в терпимости, которую «зашкаливало» порой вплоть до самоотречения.
Мы так и не обрели «своей» религии, воспринимая предлагаемые соседями православие, католичество, протестантизм, как чужое. Нация постоянно делилась надвое между неизменно русским православием и польским католичеством, и будь она хоть немного фанатична в религии, мы давно уже говорили бы о белорусах как об исчезнувшем народе. Удивительно, что между двумя, принадлежащими к враждебным, причем ярко окрашенным в национальные цвета — русский и польский, конфессиям, частями нации так и не произошло фатального раскола. Не здесь пролегла кривая денационализации. Не слишком охотно белорусы становились поляками или россиянами. Куда как охотнее переставали быть белорусами.
Когда соседние державы стали использовать в своей политике наше «вплоть до отречения», белорус начал пренебрегать своим языком, он уже побаивался быть белорусом, брезговал кровными связями… Но это позже. Изначально же самоотречение было продиктовано чрезвычайной осторожностью старобелорусской государственной политики в ее симпатиях и антипатиях, толерантностью, как ее основополагающим принципом. Вспомним привилей Великого князя Витовта евреям, гонимым тогда по всей Европе, или — попытку в унии примирить две враждующие конфессии, или — выборы великого князя… Все явно здравые, рассудочные деяния. Никаких эмоций. Разве что в поздней уже поэзии доведенное до крайности самоотречение находило свою противоположность:
Любі чужое аж да пакланеньня, Сваё любі да самазабыцьця…Думая об интенсивности ассимилятивных процессов, об этом многовековом изощренном прессинге, о слабой вроде бы сопротивляемости, невольно приходишь к мысли о предопределенности, точнее — о закономерности возникновения белорусской нации, о ее живучести. Странно… Этот десятимиллионный народ уже несколько десятилетий обезглавленный, почти не говорящий на своем языке, не знающий (да и не знавший никогда) своей истории, все равно при каждой новой переписи заявляет о своем существовании, о том, что он по-прежнему десятимиллионный… Как этот народ, не знавший деспотизма, агрессивности, абсолютизма в собственной политике на протяжении всей своей тысячелетней истории, народ, территория которого была ареной всех мировых войн, деспотизмов и абсолютизмов, многократно укорачиваемый войнами на четверть, на треть, наполовину, — как он выжил?
А может, поэтому и выжил? Вынужденный постоянно держать в напряжении свое «генетическое сознание»… И стоит теперь ослабить внешнее воздействие, как ослабнет и иммунитет. А «благоприобретенные рефлексы»: национальная государственность, наука, культура, экономика, — либо отсутствуют, либо настолько слабы, что вряд ли воспрепятствуют искушению другими мощными национальными государственностью, наукой, культурой. И языком.
На протяжении всей нашей истории над головами нации перекатывались две волны: западная экспансия и восточная, польская и московская. То одна волна покрывала весь край, то другая (писатели часто сравнивают Беларусь с Атлантидой), то сталкивались они посредине, то вдруг расходились. И тогда между ними появлялись словно те пушкинские тридцать три богатыря или уитменовские 28 мужчин — белорусы. Уже как субъект политики и истории. Вся наша тысячелетняя история представляется мне таким вот то явлением, то исчезанием в чужестранных волнах.
По-разному называли эти экспансии — то освободительной миссией, то походом дружбы, то воссоединением… Но всегда это была не наша, не белорусская инициатива.
Возможно, когда-то, исходя из такого представления, будет написана «История Субъекта», то есть собственно белорусская история. И будет создана периодизация, которая свяжет все субъектные проявления Беларуси в истории в одну линию, в один единый процесс. Пока же я могу говорить лишь об общеизвестных эпизодах нашей истории, многие из которых, кстати, — самая настоящая идеологическая ложь.
Например, «Киевская Русь», в том смысле, в каком ее трактует имперская идеология. Это миф, краеугольный камень легенды о российской государственности (не с Москвы же, в самом деле, начинать. Всякая империя выводит себя из доисторических времен, из легенды — от палемонов, рюриков и т. п.), символ родства восточнославянских народов. Центральная фигура этой сказки — славный князь Владимир, креститель, красное солнышко. «Красное солнышко…» — шепчет за учителем белорусский школьник где-нибудь в Полоцке. Да, в том самом Полоцке, ставшем колыбелью белорусской государственности в то самое время, когда Киев был «колыбелью восточнославянских народов». В том Полоцке, куда славный князь Владимир пришел, чтобы надругаться над здешним княжеским родом. Сначала на глазах у князя Рогволода изнасиловал его дочь княжну Рогнеду, а потом на глазах у Рогнеды убил ее отца и двух братьев. Такая вот кровавая получилась «колыбель». И все равно ведь не покорили Полоцк… Но это уже детали. Главное, что на века была запущена сказка о братстве и дружбе. Позже эту дружбу значительно развили и укрепили московские царственные особы, часто и щедро поливая белорусскую землю кровью ее жителей.
Интересно, что бы сказал сегодняшний полоцкий учитель ученику, если бы тот откуда-то вдруг узнал правду и отказался повторять заклинание о «красном солнышке»? Обычно такие кровавые деяния стараются оправдать незапамятностью времен, дикостью нравов, неци- вилизованностью тогдашних людей… Между тем, в Полоцком княжеском дворе читали книги, ценили науку, хорошо знали об опыте античности, осуществляли вполне рациональную политику. Кроме чисто эмоциональных, у нас нет никаких оснований утверждать, что мыслили тогда менее логично, а действовали менее гуманно, чем сейчас.
Легенда о «Киевской Руси» была призвана заслонить собою знание о началах белорусской государственности. Ведь именно в Полоцке, а затем в Новогрудке и Вильне оформился и проявился субъект Беларуси в истории. Интересы этого края, этого народа были представлены и защищены собственным государственным образованием, Старобелорусской державой, Великим княжеством Литовским, Русским и Жмудским. Это крепкий союз народов в одном государстве был скреплен в боях с немецкой агрессией. К этому времени относится величайшая в истории белорусов битва под Грюнвальдом 1410 г. Интересно, что с тех пор предки современных белорусов никогда не воевали, не ругались и даже не спорили с предками современных литовцев. Два неимперских народа удачно дополняли друг друга в Великом княжестве, что привело к расцвету этого крупного европейского государства.
Но вот Москва, Московское княжество окрепло после татарского нашествия, уничтоженное и оплодотворенное этим нашествием одновременно. На Востоке у Беларуси появился геополитический сосед — молодая империя, жаждущая захватывать, присоединять, расти.
Историк Г.Саганович начало «московской инициативы» датирует 1500-м годом. В битве на Ведроши белорусские войска терпят сокрушительное поражение от Московского княжества. С этого времени Беларусь ищет союзников. Наиболее постоянна — уния с Польшей, приведшая к созданию федеративной Речи Посполитой. Так появляются две упомянутые волны, начинаются две экспансии.
Конечно, следует их различать. Полонизация Беларуси в лице ее органов власти была в значительной мере делом добровольным, вызванным угрозой совершенно насильственной русификации. Отличались и сами эти экспансии. Вот, "например, характеристика из народного предания, записанного и опубликованного в прошлом веке: «Поляки русских ярмом давили, работами обременяли; а русские разгуляются, — вырежут поляков, и женщин и детей». Или вот слова
К.Калиновского: «Сеть, обхватывающая нас во всех классах и соединяющая с Польшей, имеет столько оснований в традициях и даже в предрассудках, что распутать ее, уничтожить и воссоздать что-либо новое, составляет вековой систематический и разумный труд». Есть много свидетельств ориентации белорусских деятелей на Польшу, но есть и обратные свидетельства. Каждый раз малейшее возвышение Польши вело к ее экспансии в Беларуси, к полонизации главным образом через католицизм. Понимающие это белорусские деятели искали иного геополитического союзника для своего государства — в лице шведов, французов, немцев…
Но вернемся к 1500-му году, ставшему для Беларуси знаком упадка. Да, еще впереди славная победа гетмана Острожского над московитами под Оршей, впереди — столетия войн с Москвой — и побед, и поражений. Впереди — эпоха Возрождения, которую Беларусь прошла «в составе Европы», впереди времена Реформации, самый расцвет, но… Есть у поэта такая стилистически неуклюжая, но весьма уместная здесь строка:
Росквіт възначыць заняпад…
А древние китайцы говорили, что империи, близящиеся к гибели, изобилуют законами. Старобелорусское государство не было империей, но законами изобиловало, было вполне, так сказать, правовым. Именно к этому периоду расцвета относится Статут Великого Княжества Литовского, созданный на старобелорусском языке свод юридической мысли европейского уровня.
Расцвет! Расцвет науки, культуры, человека. Возможно, как раз полнокровно пройденный исторический этап Ренессанса и предопределил живучесть нации на все последующие столетия. Но…
Бокалы пеним дружно мы И девы-розы пьем дыханье, — Быть может… полное Чумы!Вырождается в интригах государственная жизнь. Шумят балы, соймики, шляхетские съезды, куда каждый приходит со своим войском. Игры-битвы князей, графов, всяких подскарбиев. Они сами не замечают, что разговаривают уже по-польски. Полонизированное дворянство отрывается от простонародья. Средневековый демократизм заканчивается развалом и упадком. Беларусь делят и кусками присоединяют к России.
Дальнейшая история убеждает в том, что Великое Княжество Литовское, ядром которого была Беларусь, есть закономерность географическая (стратегическая), этническая (сочетаемость ментали- тетов предков современных белорусов и современных литовцев), историческая. Не потому ли оно просуществовало полтыся- челетия, а если бы и не существовало, то его следовало бы придумать. И ведь придумывали. То Александр I в противостоянии с Наполеоном пробовал реанимировать Великое Княжество Литовское, то Наполеон — в противостоянии с Александром. То в 1915 году возникает идея конфедерации Великого Княжества Литовского — во время первой мировой войны. То уже большевики создают Литовско-Белорусскую ССР. Правда, процесс разрушения скоротечнее процесса созидания. Войны заканчиваются, а буферное марионеточное государство так и не успевает встать на ноги.
После аннексии Речи Посполитой Российской империей в XVIII веке одно за другим вспыхивают три мощные антицарские восстания. Но они тоже не успевают достигнуть своей конструктивной части и остаются в истории разрушительными мятежами, обогащая нацию лишь «антуражным» достоянием — именами героев, прокламациями, датами битв и казней. Субъект не проявляется, не вызревает. Пока…
Интересный из сказанного можно сделать вывод. После утраты субъектности Беларусь не только сама стремилась возродить свою государственность, но и геополитические соседи предпринимали такие попытки. Подрывая ее (Беларусь — указами о запрете языка, печати, миграционной политикой, русификацией и полонизацией…), они хотели видеть ее подчиненной, но существующей.
Лишь в начале XX века началось восхождение к субъекту. Появились люди, желающие национального возрождения Беларуси. Они пошли в народ, занятый социальными проблемами, рабочим движением, революционными событиями. Они включились в это движение, и произошло… «Перед нами неслыханно интересное явление, — писал о тогдашних белорусах польский публицист-современник, — перерождение революционно-общественного движения в движение национальное. И трансформация эта происходит почти независимо от воли ее инициаторов. Социалистический агитатор шел «в народ» будить ненависть к панам и протест против государственного устройства… Сеял ненависть к другим, а взошла из нее любовь более сознательная к своим».
Вот что произошло начиная с 1905-го года. Теперь мы уточним — должно было произойти. И наблюдая за сегодняшней активизацией рабочего движения в Беларуси, уточним еще раз: должно произойти.
А то, что митинги забастовщиков проходят сегодня под национальными знаменами, — подтвердит наши слова.
В 1906-м на шестом номере перастала выходить первая белорусская газета резко радикального направления «Наша Доля». Вместо нее появилась «Наша Ніва». Появилась на десять лет, чтобы объединить белорусов, сформулировать их интересы и цели, дать жизнь национальной культуре, науке…
Вершиной восхождения к субъекту стало провозглашение независимой Белоруской Народной Республики, вершиной мировоззренческих поисков нашенивцев стала работа Игната Абдираловича «Адвечным шляхам».
БССР была создана из Москвы как прямой ответ на созданную «из Минска» БНР. Москве не нужна была самостоятельная республика вместо традиционного уже послушного буфера, которым можно было торговать, отдавая по частям то Литве, то Польше, то Украине, которым можно было спекулировать, возвращая при случае «отторгнутые земли». Но возможно также, что БССР — это и память о Старобелорусском государстве, косвенный ответ ему, чье могущество, как свет погасшей звезды, ощущалось еще в начале XX века.
За 70 лет своего существования БССР, конечно же, не стала собственно белорусским государством, как и суверенным государством вообще. Все, что было наработано в начале века, было с корнем уничтожено. Уничтожались люди — живые носители национального сознания, уничтожались документы и книги, памятники и природа края, память, правда и совесть людей. И тем не менее сегодня мы вновь говорим о новом восхождении к субъекту. Откуда что берется?
Дело в том, что в роли субъекта нация живет в исторической перспективе, потому что сама является творцом истории. В роли же объекта, по определению философа И.Бабкова, нация живет в космосе. В своем космосе. Это традиционное состояние, берущее начало еще в пору язычества. Есть наш дом, наша семья, не нами заведенный уклад, есть традиции предков, есть наша деревня — замкнутый микромир, и есть небо над головой. Все остальное, пока оно нас не трогает, для нас реально не существует.
Пока белорусы имели хоть какие-то условия для такого «законсервированного» существования, существовала и нация. Но вот пришли колхозы, идеологизация крестьянства, индустриализация сельского хозяйства с восьмиэтажными свинарниками, бездумная мелиорация, милитаризация с военными базами, частями, городками по всей земле, наконец — Чернобыль… Одним словом — выхолащивание тайников белорусской культуры.
Кстати, о военных городках. Некоторые считают, что именно из этих лепрозориев расползлась по нашей земле проказа пренебрежения к крестьянскому труду, а заодно и ко всему белорусскому. Крестьянская нация, кажется, возненавидела самую себя и ринулась в город, где ее ждала «городская культура» — русско-советская. И пошло- поехало, сдобренное партийным лозунгом об интернационализме отречение народа от самого себя.
Возрождение, отречение, возрождение, отречение… В зависимости от наплыва тех упомянутых волн.
Уничтожена деревня — космос нации. И вот несколько лет назад белорусы вновь стали появляться на арене событий, начав было исчезать уже окончательно.
Таков эскиз белорусского пути, эскиз метода, сулящего «странные» открытия, «переоценку всех ценностей», изменения на пьедесталах.
Не к этому ли методу стремились нашенивцы и Абдиралович, выразивший их стремление в своей упомянутой выше работе в 1921 году? Уже тогда Абдиралович предложил уникальные этюды той самой философии свободы, о которой в 1956-м, после венгерских событий напишет разочарованный в коммунизме Сартр. Абдиралович умер в 1923-м. После него в Западной Беларуси начался откат к фихтеанству, к созданию «классической национальной философии» (Самойла), а в БССР — к глухому марксизму-ленинизму… до сих пор. Но это лишь к слову. К необходимости начать снова и оттуда — от Абдираловича. То ли вернуться, то ли уйти далеко вперед…
Порой мне думается, что это самое человеческое желание — уйти. Если ты некстати, если тебе невыносимо… Безнравственно уйти разве что в одной ситуации — оставляя кого-то в беде. Но нравственно ли остаться, отчетливо представляя, что все равно погибнете вместе?..
Рассказывают, что какой-то американский полковник выбросился из окна Пентагона с криком: «Русские идут!» Наверное, это страшно, когда — идут. Можно себе представить ужас в глазах гонца, вбегающего в ворота средневекового города с криком: «Татары идут!»… или — паренька, кричащего на всю деревню: «Немцы идут!» Не армии, а этносы идут. Культуры. Культурные экспансии. Когда одни идут, другие либо обороняются, либо уходят. Белорусы уходят. В том числе и на поиски смысла своего ухода.
Это предопределено. Неосознанно, еще веря в свое «темное прошлое», в извечную зависимость нации, не зная правды собственной истории, белорусы, тем не менее, несут ratio, несут свою Беларусь, несут свободу в своих генах. Они уходят.
Без деклараций молодое поколение интуитивно ускользает от мифов, фантомов, идеологий вчерашних воспитателей и вдохновителей народа. Они уже хотят просто жить, уже чувствуют, что просто жить здесь невозможно. И они уходят. Вместе со своей страной Беларусью. Они возвращаются в Европу. Хватит ли им сил дойти?
БЕЛОРУСЫ ВОЗВРАЩАЮТСЯ В ЕВРОПУ
Белорусы возвращаются в Европу. Так говорят. Причем под Европой понимают Запад, как их тип цивилизации, а под возвращением — свое национальное возрождение. Есть ли здесь противоречие?
В популистском сознании (где «лозунг должен быть прост и неясен») это противоречие теряется. Но оно тут же становится явным, когда начинается путь — «к себе» и «к ним» одновременно. Вдруг становится явным, что это два чуть ли не противоположные направления, а поэтому следует разбиться на два лагеря. Противоречие обозначается по расхождениям в приоритетах: национального государства и гражданского сообщества, прав человека и исторической справедливости, всеобщей сознательности и интеллекта. Противоречие обозначается… Но оно вовсе необязательно. Я еще не знаю, можно ли его избежать в нашей ситуации, в Беларуси. Я еще только начал эту статью.
Вообще, по-моему, ничего не может быть. Вот говорят — прозы нет, нет критики. Нет. И не может быть. Почему? Вопрос в другом: а было ли? Если не было, то ничего и нет, и не может быть. То есть можно видеть прошлое таким образом, что, хоть оно и будет представляться достаточно богатым, эффект от него будет никаким, оно не будет работать сегодня и завтра, не будет продолжаться, ибо оно — непродуктивное прошлое. Точнее — прошлое, увиденное непродуктивным. А чтобы понять, каким оно увидено — продуктивным или нет, и чтобы ответить на вопрос: а было ли? — нам потребуется неудобное слово «контекст».
В прежние годы контекст целиком служил делу правды, потому что в тексте следовало помещать ложь. А теперь, когда вся правда помещается в тексте, контекст оказался как бы и неуместен, он как бы уже и не нужен. Как-то уже не думаешь о нем, когда вписываешь Купалу между Петраркой и Уитменом. В такую минуту надеешься, хотя бы и подсознательно, что не заметят. А «не заметить» следует именно его — контекст. Не заметят, потому что отвыкли, что контекст может иметь не только знаковый, но и содержательный смысл.
Купалу между Петраркой и Уитменом вписывают украдкой, виновато или даже воровато, вопрос, которого избегают, — где титаны нашей нации? Избегают не столько потому, что нечего ответить, или что боятся, или что за нацию будет обидно, сколько потому, что это уже не национальный вопрос. Наши гении — для домашнего пользования. Наши трагедии — бури в нашем стакане.
Но титан не рождается приказом по нации. Так рождается только национальный титан. А приказов по человечеству не бывает. Титана нельзя инспирировать. В какой-то степени нивелировать — можно.
Вот Скорина. Возрадоваться бы такому собственному богатству, но что-то не дает, что-то настораживает. Ничем не заделаешь в этом имени тот изъян, что — сам не назвался ни разу белорусом. Вот ведь проблема! Великий — да, по делам. Наш — да, безраздельно, никто больше не претендует. Но не признается. И вот охваченные усилиями по маскировке «горбика» интерпретаторы не понимают, что на самом деле они этот «горбик» — ищут. Эту ровную спину приспосабливают к условиям домашнего пользования. Как еще засунешь к себе в дом фигуру европейского масштаба? Только сгорбивши.
Вся наша история… Ее будут горбить, расчленять, выкраивать какой-то кусок из единого тела истории Европы, чтобы затянуть к себе, захватить и сказать: наше! В этом смысле история Беларуси — это какая-то сорок седьмая часть истории, науки, сорок седьмая часть истины. Как разделить Грюнвальд? За теми кустами сидели вы, за этими мы, а там — поляки. 1410 год. А кто, собственно, победил?..
Чей Мицкевич? Наш! Нет, не ваш! Полу-наш — полу-ваш. Полу-их. Так в энциклопедических дефинициях: белорусско-польский, польско- белорусский, белорусско-литовский… Думал ли тот же Мицкевич, что он чьих-то — чей-то? Мицкевич и Мицкевич. Тем и дошел, что более других был духовно целен. Польско-литовско-белорусско-еврейско- французский поэт! Но как это неэнциклопедически длинно!..
Я не знаю, что делать с «привитием народу гордости за свою историю и своих героев». Но я знаю, что делением Мицкевича, например, между нациями-претендентками ничего не умножается. Я знаю, что патриотизм — это необходимое подножие цивилизованного сознания, но мне скучно рассказывать, как я люблю наши святыни. Почему мне так скучно? Потому что примитивно? Или потому что — в сотый раз?
Снова и снова произнося или продумывая имя «Калиновский», я чувствую себя чуть ли не истязателем, пытающим образ. Потому что нет Калиновского, нет Скорины, нет Купалы. Есть какие-то барельефы. Я пытаю эти образы, пытаясь увидеть, ощутить их. Но, видит Бог, до чего же они неприступны!
Нет интерпретаций. Нет контекста. Скорина. Несколько романов, фильмов и пьес, масса книг, статей, стихов… Огромная Скориниана. Но нет Скорины.
А кто есть?
Есть Моцарт, например, после фильма Милоша Формана.
Возможно, у белорусов нет ни одного титана, потому что нет ни одного Формана. А Формана нет, потому что «у белорусов». Потому что Форманы бывают у Европы. А потом уже ими могут гордиться и венгры, и французы, и австрияки. А у белорусов есть только те, кем могут гордиться только белорусы. Абсурдной представляется сегодня идея игрового фильма о Колумбе или об Акутагаве, снятого белорусскими кинематографистами в Голливуде.
Вообще, что такое Беларусь? Один из узлов европейской истории, литературы, культуры. Этот узел мы условно, почти только географически, называем Беларусью.
Да, но как тогда быть с самобытностью?
Она в узле. Это этот узел.
Мы пытаемся проследить в нем какую-то одну веревку. И высматриваем отдельные фрагменты. Наше — не наше… Но нет ничего ненашего, если нас интересует правда. Это как с генетикой, тоже было «ненашей»
Но что делать с языком… с Родиной… с этой любовью? Нельзя же любить узел. Можно — Беларусь.
Я думаю, что здесь что-то нарушено. Любовь — это вообще чувство индивидуальное. Можно ли воспитать его централизованно? И нужно ли? Вспомните, что пробудило в вас чувство Родины? Березка с буденовкой?.. По-моему, у каждого свое. А лучше всего воспитывает это чувство (причем непредсказуемо) искусство (причем все равно чье — здешнее или японское, лишь бы оно было искусством). У современного горожанина ощущение Родины может вызвать и запах смога — от завода на улице детства. Дым Отечества конца XX столетия…
А язык — это, кроме прочего, основополагающий общественный институт, функционирование которого регулируется законами. Но это совсем другая тема.
А не произойдет ли так, что все всё себе захватят (или уже захватили), а мы останемся ни с чем?
Похоже, сегодня больше стараются всучить, чем присвоить…
Как представить себе нашу национальную культуру в европейском контексте? Вообще все национальное — школу, армию, государство?..
А может, я залез в такие математические дебри, где дважды два уже пять? Наукой доказано! Хотя в школе все равно ведь будут учить, что четыре. Выходит, сфера воспитания и сфера науки — противоречивые сферы? Но ведь наука — это истина. Неужели воспитание — это ложь?.. Ложь во благо?
А может, культурологической стезей я зашел в святая святых человеческого общества, где на вопросы наложены табу, ибо так условлено, так принято? Так должно быть. Иначе не будет ничего.
Я прохожу мимо мокрых каменных стен, на которых выбиты эти условные истины. Вот аксиома счастья, аксиома семьи, вот аксиома мяса, аксиома Бога, аксиома стыда. Тысячи сумасшедших оспаривают это каменное молчание. Еще тысячи убиваются в этой безысходности, создавая трагедии — большие и малые. Остальные просто живут.
А вот аксиома Родины.
Так принято. Не будешь же говорить об этом школьнику.
А почему бы и нет? Можно ведь сказать, что путь человечества вымощен этими табу. И человечество проходит по ним вперед. Постепенно, частями оно справляется с запретами, без которых еще вчера было бы невозможно его существование. Где-то уже прошли табу необходимости войны, тоталитарного единства…
А почему где-то прошли, а где-то еще нет? — спросит школьник.
Да потому, — отвечу ему я, — что где-то созрели, опыта достаточно, и так сложились обстоятельства. Вот, например, в Дании… И я стану рассказывать ему о Дании.
Постой, — перебьет школьник, — а у нас?
А у нас, — скажу ему я, — в квартире газ. И расскажу ему о нашем пути. Ведь национальный путь — это и есть преодоление родимых пятен человечества через свой тип цивилизации, обусловленный ментальностью, опытом и историческими обстоятельствами.
Ну, а что я скажу солдату? Ему ведь нужно — о славных победах, полководцах и военной доктрине. Чтобы крепить боевой дух! А может, здесь произойдет что-то похожее на то, что произошло с марксистско- ленинским атеизмом, который повсюду превращается в историю религии? Ведь в профессиональной армии — работают. Это в любительской — проникаются духом и сознательностью.
Наконец, что я скажу так называемому простому человеку, который должен в короткие сроки стать нормальным патриотом, поверить правительству и перетерпеть реформы? Я скажу ему то, что у нас богатая земля и масса ресурсов, нужно только все это хорошенько отладить.
Будет ли это разрешением противоречия? Не знаю. Но я не стану вместо национального пути создавать национальный миф. Если мы с опозданием начали продумывать свой тип цивилизации, то это вовсе не значит, что и сам тип наш есть опоздание. Относительно немцев, французов или японцев. Вообще, что такое эти типы цивилизации?
Свой тип осмысливается через отношение к упомянутым выше родимым пятнам, табу, аксиомам. Скажем, отношение к смертной казни или искусственному умерщвлению безнадежных больных, к эротике… — в разных странах разное. Белорусам же еще только предстоит задать себе эти вопросы, войти в европейский контекст.
Замороженное было противостояние Востока и Запада вдруг разморозилось, и начались взаимовлияния, взаимоотношения, взаимопроникновения. Целый поток отношений и влияний. И рефлексий, главная из которых выглядит так: но Запад! То есть целый спектр чувств — от обожания до предостережения и отчуждения. Преобладает, пожалуй, осторожность.
Вы ощущаете этот пугающий холод Запада?
Там все свободны, но все оставлены, предоставлены сами себе. Все посторонние, чужие. Каждый человек — один на один с глобальной ситуацией бытия. Люди счастливы в меру собственных усилий. Так выглядит западная цивилизация.
Иное дело цивилизация советская. Ты не свободен, но и не покинут. Ты свой. Глобальные (страшные) вопросы — не в твоей компетенции. Ты можешь быть счастлив, не прилагая усилий, ибо ты изначально — молекула большого счастливого организма.
Две взаимонеприемлемые цивилизации. Помнится, с коллективистских позиций советская цивилизация выглядела совсем нормальной, западная — нет. Теперь все наоборот. Разве что «там не хватает теплоты». Почему? Потому что там немцы, итальянцы, шведы на основе собственных культур создали свои типы цивилизации — немецкий, итальянский, шведский. Это их типы, которые для них самих вовсе не холодные, а родные. Им-то как раз теплоты хватает. Это мы, примеряя их одеяния на себя, говорим об отчужденности и бесчеловечности. Ведь человечность в этом смысле — явление национальное. Существенно и то, что их типы для нас виднее своей универсальной гранью. И мы говорим о холодности.
То, что делалось в России после 1917 года, было попыткой своего типа цивилизации. Тоже и весьма активно стремящейся к универсальности. Советская культура была попыткой российского типа культуры в новом времени. А белорусская советская культура входила в эту попытку органической частью, и как самоценное явление рассматриваться не может.
Советский тип цивилизации получился тираническим, тоталитарным. Поэтому «отчужденность и холод Запада» (теперь уже в кавычках), несогласие на «зря прожитую жизнь» заставляют российских писателей-демократов искать свой плюсик, пусть даже в тоталитаризме, например, «в положительной роли цензуры как творческого стимула». Говорят также о специфической российской роли писателя- пророка, противопоставляя его «западному» писателю-профессионалу. Что тоже характерно для недоразвитого общества, потому что наличие пророка предполагает наличие бессознательной массы ведомого пророком народа, толпы. Одновременно такой критерий литературного труда, как профессионализм, не учитывается.
Но попытка осталась попыткой. И россияне бросились менять вехи на старые, дореволюционные. А белорусы, которые всю свою профессиональную культуру вложили в «часть российской попытки»?.. Что делать белорусам? Проводить глобальную переоценку всех своих ценностей? Только ли это?
Вся белорусская советская культура была сгущена на весьма ограниченном пространстве. Остальное пространство лежало невспаханным полем… И лежит. Были бы средства.
Для каждого национального типа цивилизации вопрос существования — это вопрос восхождения к универсализму. Возможно ли это для белорусов? Да. Ведь до сих пор главными предметами нашей национальной гордости были толерантность, открытость, некичливость. А это черты «национальной гордости» человечества, это и есть универсум. Вот почему всякое приспосабливание культуры и истории к домашним условиям — это стремление возродить у нас вовсе не свое, а как раз чужое варварство. Мол, начинать, так с простейших форм? Но дело в том, что «уже написан Вертер», и не начинать надо, а продолжать. Возвращение в Европу — это продолжение собственной национальной жизни.
Мировоззренческий пик этой жизни — в нашенивстве, в периоде до 1920 года. 70 лет — ощутимое расстояние, когда протягиваешь руку за эстафетной палочкой. Рука не то что не дотягивается, а в чем- то вязнет. 70 лет не были годами пустоты. 70 лет культура бежала, пристроившись, взявшись за палочку в чужой руке, которая (да простит мне читатель такую стилистическую абракадабру) бежала не туда. 70 лет рутинного, почти совсем непродуктивного опыта. А результат — вожделенное отношение к чужим приобретениям при полном самоуничижении…
Нация, чья история и культура состоят из фольклора и личностей, вдруг загорелась поиском собственного «мы». Ей вдруг понадобился киношный тип какого-нибудь своего Ивана Грозного, на всю глотку кричащего: да мы! да за Русь!.. Ей захотелось своих «Скифов».
Что же произошло?
Советская культура стала для Беларуси «универсумом», властно требующим отказаться от собственных попыток на основе собственного мировоззрения взойти до универсальности. Сейчас все идет к тому, чтобы советский универсум заменить для нас западным, чтобы присвоить этот «холод чужих стандартов», из той имитации культуры войти в эту. Одомашнивание собственных творений способствует этому и следует из этого. О том, чтобы вырастить до универсализма собственную культуру, тое есть ввести эту культуру в контекст и тем самым дать ей возможность остаться, речь пока не идет.
Собственно, возвращение в Европу есть возвращение в контекст — не более того. Как это может выглядеть в нашей ситуации?
Вместо эмоционального переживания утрат, культурология начинает осмысливать утвердительный, созидательный опыт национальной культуры. Для этого с самой культурой ничего делать не надо. Тут вся суть в интерпретации. Знак «плюс» заложен в белорусской культуре так же, как и знак «минус». «Минус» более видимый. Более текстуальный. И если стихи Купалы, Богдановича, Коласа рассматривать как воззвания, а не как поэзию (чем и занималась наша вульгарная социология), будет виден один лишь этот «минус». Плач нации над украденными Родиной, языком, историей. Сказать при этом, что литература — это всего лишь игра слов — будет просто кощунственно.
Но раз все-таки позволительно называть игрой слов (конечно, чудесной игрой!) творчество Петрарки и Уитмена, то почему бы не попробовать и наших…
Творчество Купалы и Коласа — это игра слов. Со своими правилами и «маленькими хитростями». Одну из таких «хитростей» — гиперболизацию народного горя — прямым текстом раскрыл Алесь Гарун в стихотворении «Поэту»:
Прашу цябе, мой брат, сьпявай аб нашым горы, Аб тым, што ёсьць цяпер i што даўней было, I што на ўсякі твар кладзець, як плуг, разоры, I што ў мільёнах душ разоры правяло. Прашу цябе, сьпявай аб горы песьнь адну ты I наш гаротны лёс рабі яшчэ цяжэй, Тагды, убачыш сам, парвуцца духа путы I будзе ясны дзень для нас тагды бліжэй.То есть — утрируй, брат. И — только о горе. Гиперболизация привносит в этот манифест нотки иронии. И если бы Гарун сам последовательно не «пел о горе песнь одну», то можно было бы подумать, что он весьма тонко посмеивается над своими коллегами по перу. А коллеги его были нормальными людьми, в разной степени наделенными филологической интуицией. И писали не только о горе. Иной раз они просто изнемогали от этой магистральной заданности национальной поэзии. Сознательное пересаливание по части плача Гальяша Левчика, например, довело до отчаяния, и он воскликнул:
Зламайце мне дудку маю вербавую, Хай песень сумлівъж ня грае, Хай горкага болей я плачу ня чую, Хай сьлёзаў ніхто больш ня знае!.. Зламайце мне дудку маю вербавую, — Пацехі даўно я ня м, аю… Я дудку другую сабе прыгатую I песьню вясельшу зайграю.Положительный смысл этих плачей — не в катарсисе, что могло бы сделать их достойным приобретением национальной культуры, а именно в литературной игре, в игре слов.
Да, национальная литература вместе с языком оказалась уделом низшего социального слоя — бедноты, пролетариата. И все эти социальные противостояния князей и бондаровн — это прежде всего сопротивляемость языка.
Но, повторю. Несмотря на призывы гиперболически рыдать, белорусские поэты, в том числе и сам Гарун, не только рыдали. Возможно, именно это «не только» станет главным смыслом нынешней переоценки их творчества. В отличие от прежних интерпретаций, когда речь велась только о минусовом знаке, а все утвердительное считалось маргинальным.
Весьма интересным был бы опыт выделения из национальной поэзии — начиная от Богушевича — стихов с утвердительным смыслом. Мы бы наглядно увидели собственную нацию в совершенно ином свете. Конечно, речь идет не о советских стихах и не об эмоциональных патриотических восхищениях, а именно об эстетической утвердительности. То есть о лучших именно с эстетической точки зрения стихах. Именно в них заложены возможности восхождения белорусов к универсализму. Именно они могут интегрироваться в контекст мировой поэзии. Именно в таких творениях, акциях и личностях — выход из того противоречия, с упоминания о котором я начал эту статью.
Метко кто-то сказал — дай Бог в Европу не возвращаться через Азию. «Белорусы возвращаются в Европу»? Я, пожалуй, целиком зачеркну этот тезис. Дай Бог не возвращаться. Дай Бог не возрождаться. Каждый раз сначала. Ведь также как всякое развитие несет в себе черты деградации, так и всякое возрождение чревато вырождением. Дай Бог рожденным однажды — творить.
ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ Белорусская идея как идея лучшего человека
Эта весна так долго сражается с зимой, словно хочет привлечь наше внимание к важности перемен. Нечто этапное есть в этом сражении. Обычное ежегодное отмирание и возрождение превращается в рубеж эпох. Все, что было прежде, уже не таит в себе загадки и надежды. А вот что народится ему на смену — пока секрет… Наше национальное возрождение, последний его этап, начавшись на рубеже 70-х и 80-х, заканчивается сегодня.
Мы будто спускаемся в подвал и видим, что запасы этих двадцати лет, плоды и энергия нашего возрождения — исчерпаны. Эта сказка заканчивается. Ее герои уже не сотворят ничего сверхобычного. На смену им приходит следующее поколение — тех, кто начнет новую сказку — белорусское возрождение XXI века.
Конечно, им не хватает опыта. Но, пожалуй, уже не того опыта, которого не хватило их предшественникам, что, возможно, и помешало предшественникам осуществить свой идеал.
Одно из таких препятствий — это популизм возрождения: ставка на массовость, на толпу, на тираж, и, как результат — потеря на этом пути высокого идеала.
ВОЗРОЖДЕНИЕ ПО-СОВЕТСКИ
Если бы сегодня можно было открутить время назад — на рубеж 70-х и 80-х, то национальную идею следовало бы сформулировать по- другому. Не как идею символики и языка, а как идею лучшего человека. Иначе говоря, не как идею атрибутов, а как идею носителя. По-моему, сегодня не столько партии, движения и харизматичные лидеры, а именно лучшие люди должны принести Беларуси освобождение от хамства, разрухи и плена. В этом смысл возрождения.
Ведь что толку, если на следующих выборах президентом Беларуси станет домком Швондер? Пусть даже и национально сознательный? Первое, что сделает Швондер-президент — это откажется от языка, флага и независимости. Чтобы убедиться в этом, нашего национального опыта уже достаточно.
Говоря о лучшем человеке, я имею в виду, конечно, не микеланджеловского Давида или ницшевского Заратустру. В каждой человеческой группе встречаются люди притягательные — более свободные, опытные, культурные, аккуратные, обязательные, надежные, большие профессионалы в своем деле. Это и есть лучшие люди. Они знают себе цену, но — без гордыни. Они — элитарные, но без снобизма. Нормальные люди. Те, о ком другие обычно говорят — порядочный человек. Лично я не встречал ни одного порядочного человека, который бы выступал против белорусского языка и независимости. Но вот в чем здесь проблема.
Стереотип порядочного человека у нас сформировался в советское время, когда была единая система воспитания, и каждый с детства знал, «что такое хорошо, что такое плохо». Для белорусов это был российский стереотип, который приходил к нам вместе с книжками про дядю Степу, про «значек ГТО на груди у него», про волшебное слово. При всем уважении к витковскому Васе Веселкину, он, вместе с Миколкой-паровозом и полесскими робинзонами, оставался с краю воспитательного процесса, да и не претендовал на формирование национального стереотипа порядочности.
С развалом союза рухнула и общая система воспитания, а вместе с ней — и тот монолитный российский стереотип. Смыслом национального возрождения народов стало утверждение своего стереотипа порядочного человека. И, видимо, только в Беларуси этот смысл ограничился формальной стороной — атрибутикой независимости.
Трудно представить себе, чтобы где-то в Эстонии и Латвии — при всей их демографической драме, когда половину населения составляют советские люди, — чтобы там ставили целью язык, флаг и герб. Все это было, но лишь как форма. Целью же там ставили утвердить национальный стереотип порядочности и привести к власти порядочных людей.
Кстати, результат такой постановки национальной идеи виден уже сегодня. Почему это русскоязычное население Балтии, наперекор прогнозам, не восстает в массе своей, а как бы и совсем притихло? Да потому, что эстонцы, латыши и литовцы задали на порядок более высокий нравственный стандарт, не говоря уже об уровне и качестве жизни. А русским Балтии хватило разума не протестовать против порядочности. Они, русские, хотят жить в таком, в лучшем обществе. А для этого нужно всего лишь слегка знать язык, историю и конституцию страны, в которой живешь. Вот где только появляется язык в балтийском варианте национальной идеи. Он изначально рассматривался не как проблема возрожденцев, а как проблема русскоязычных.
В Беларуси произошло иначе. На руинах дяди Степы и волшебного слова какое-то время гулял ветер, до тех пор, пока туда не вскарабкался «совок» и свой жизненный мотивчик не объявил моральным кодексом белорусов.
СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ
Несколько лет назад, когда так много писали о сталинских преступлениях, и порядочность была на взлете, также на взлете была и национальная идея. Но что-то помешало им соединиться. Помните, когда ВС принял закон о языке, декларацию о суверенитете и символику, было такое ощущение, что все это — на поверхности, что оно не проникает в глубь общества.
— Да не насилуйте вы нас вашей мовой! — возмущались одни.
— Да как это можно — не уважать родной язык! — отвечали другие.
Недоразумение возникало из-за отсутствия единого этического стереотипа, комплекса представлений о порядочности — общего как для первых, так и для других.
С этого момента национальная идея и порядочность стали постепенно терять высоту — каждая в отдельности, но всегда параллельно — как в обществе, так и одна в другой. И вот результат. Сегодня лучшими людьми публично признаны не порядочные, а другие — моторные, хамоватые, в меру безграмотные, хитрые, оборотистые непрофессионалы.
Национальная идея также потерпела этапное поражение, так как не ставила на нормальных, а ставила на массовость, не растила нормальных и, что главное, сама не стала идеей нормальности, культом лучших качеств человека.
Булгаковский Швондер встречается сегодня и в вертикальном госучреждении, и на митинге — с бело-красно-белым значком. Его можно найти и в президентской редакции, и в независимой газете. «Собачье сердце» Михаила Булгакова — пожалуй, наилучшим образом подходит для иллюстрации темы лучшего человека, поэтому я перечитываю именно эту книгу.
Национально-сознательный «совок» — явление вроде бы новое. Тем не менее, корни его уходят в далекую историю.
Белорусское движение, в отличие от других национализмов, еще не обрело отпорности к социальной антисанитарии. 70 лет совдепа и сталинская «селекция» пришли на благодарную почву. Культ толеранции и равенства, который в самой белорусской крови, постепенно был подменен культом уравниловки. Впрочем, еще в начале нашего века белорусская идея делала свои первые шаги нога в ногу с социализмом. Первая наша политическая партия — Белорусская
Социалистическая Громада. А еще раньше, в 1864-м, Калиновский декларирует из-под виселицы: «У нас нет дворян, у нас все равны». Помню, как любили обыгрывать эту фразу белорусские советские писатели. Но если «оживить» эти слова сегодня, то они будут звучать так: «У нас нет лучших, отличных от толпы». Извините, но за кем тогда идти, на кого смотреть, кого слушать, с кого брать пример? Для чего вообще что-нибудь делать? Говорить по-белорусски? Но, как замечает булгаковский проф. Преображенский, «это еще не значит быть человеком».
Быть человеком — знать, как жить, и уметь жить. Так, думаю, понимает это среднестатистический белорус.
У нас же возрожденцы всегда ставили на государство. Мол, оно — свое, не свое или не совсем свое — должно законами ввести в употребление язык, символику и национальные приоритеты. Наверное, так оно когда-то и будет, но, как говорится, только после того, как. Государство — не бог и не волшебник, исполняющий желания. Это лишь инструмент.
Помню, еще в советские времена была такая литературная дискуссия — должен ли писатель подниматься выше уровня народа, или все же его призвание — в доступности? Сегодня в литературе это уже никого не волнует. Сторонники доступности так и не добились высоких тиражей, потерпев фиаско от индустрии коммерческих книжек. Зато их позиция целиком победила в политике. На выборах последних лет возрожденцы явно умерили манеры и интеллект, дабы уподобиться, так сказать, народу, а на самом деле — более удачливым политикам популистского типа.
Совместное с коммунистами прошлогоднее застолье и предопределило завершение этого этапа национального возрождения.
Таким образом, национализм, возникший в элитарных научных и культурых кругах, «пошел в народ», а пришел к «совку», потому что народа, объединенного единым представлением о добре и зле, единым стереотипом порядочности, у нас пока нет. Сам возрожденец не стал воплощением этого стереотипа — лучшим человеком. Должен был, но не смог. Да и задача такая не ставилась. Ставилась скорее обратная — ближе к людям.
Первым эту близость почувствовал на себе язык. До 90-х годов в Беларуси не было ни одного альтернативного объединения, ни одного издания, которые бы пользовались советским правописанием 33-го года, так называемой наркомовкой. Именно несоветский белорусский язык стал в те годы языком демократии и высокого национального идеала.
После того, как круг возрожденцев расширился, зазвучали голоса в защиту наркомовки, мол, народ и такого языка не знает. Так говорили те, кто присоединился. Люди, не вырвавшие из себя «совка», ибо не склонны в принципе чем-либо жертвовать. Они — за независимость и демократию, ибо кто же против сыра с маслом? И уже то, что они «за», вроде бы избавляет их от каких-либо изменений собственной сущности. Мол, они же не против, значит, сгодятся и такие. Так в круги возрождения пришел демократический «совок». Именно требование наркомовки и стало знаком этого прихода.
Вслед за этой «заботой о народе» прозвучало следующее требование — ввести русский язык в среду возрожденцев и в независимую печать. Ввели. Дальше — больше. Разговаривать доступно! Это значит, если понадобится, то и по фене. Но и здесь не конец. Не будет ничего удивительного, если завтра именно среди воз- рожденцев возникнет дискуссия о самом белорусском языке, мешающем нормально заниматься демократией и сражаться с диктатурой.
Воистину, нет границы сближению с народом. Нет дна у этого падения в народ…
Почему я говорю о падении? Потому, что так же, как язык не может быть принципом возрождения (принцип — порядочность), так и Беларусь не может быть «совковой», не-порядочной. В принципе не может. Вот оно все сегодня и валится.
Надо думать, что новое белорусское возрождение начнется именно с лучшего человека. Ведь для того, чтобы быть им, нужно не так уж и много. Хватило бы чистоплотности. В том числе и социальной. Порядочный человек всегда несет в себе сакрум, который нельзя полапать руками, изменить либо уничтожить. И пускай их, возрожденцев, будет в сто раз меньше, но они обязаны быть элитой нации, теми, кто несет в себе сакрум. Иначе на смену им придут другие, которые поднимут упущенный в толпе олимпийский огонь.
ЭЛИТА НАЦИИ
Белорусская идея — это по сути не популистская идея. Популистские овладевают массами с помощью демагогии и примитивизма. Здесь лозунг должен быть прост и неясен. Земля — крестьянам, фабрики — рабочим, мир — народам… Мы обречены жить вместе с Россией, «я свой народ за цивилизованным миром не поведу», народ требует от президента диктатуры сталинского типа…
Национальная же идея овладевает массами, благодаря стремлению каждого человека приобщить себя к элите, к моральному большинству, к сообществу порядочных людей. При этом национальный идеал остается недостижимо высоким. Он в принципе остается, не исчезает. Соответственно и носители этого идеала — люди, своей порядочностью и умением стимулирующие других подтянуться.
Примеры порядочности и профессионализма в сегодняшней Беларуси есть. Только вот рассмотреть их невероятно трудно, почти невозможно.
Казалось бы, вот он — нормальный человек, а вот — действительно благородный поступок, а вот — потенциальный лидер нации. Но все это какое-то не то что ненастоящее, а невостребованное. Все происходит будто не на широком экране.
Вспомните голодовку Хадыки и Сивчика, суд над Адамовичем или, скажем, порыв Захаренки возглавить демократическое движение. Ведь все это — полновесные страницы современного национального эпоса. Вот только эпос этот не пишется, а значит, не становится тем эволюционным опытом, который уже не придется познавать вновь.
Сидит в общественном сознании какой-то червяк сомнения — а вдруг это не эпос? Утрата элитарности — это утрата и
профессионального уровня. Смотришь на то, что происходит, а дать оценку — уже не умеешь.
Точно так же и стоицизм порядочного человека в нашем обществе рассматривается другими будто через подзорную трубу, перевернутую обратным концом. Почему?
Потому, что в послесоветской Беларуси уже сложился иной набор человеческих приоритетов. И порядочность в этот набор не входит. Это, кстати, — первый признак недооформленности нации, которая не выработала и не утвердила своего национального стереотипа порядочности. Энергичные популисты, занявшие белорусский престол, утверждают в обществе криминальное сознание, подозрительность, веру в светлое вчера, политическую, культурную, этическую полуграмотность.
Примеры этого — в каждом спиче Лукашенки и его компании. Достаточно вспомнить высказывания о двух великих языках и недостойном своем, о не только плохом Гитлере, или — панибратские обращения к митрополиту Филарету на публике. «Я православный, бывший атеист, — говорит Лукашенко в пятитысячный зал, — Филарет подтвердит». И этот пожилой человек, которого зацепили всуе, действительно кивает головой.
А что же на все это оппозиция?
Оппозиция видит свое призвание в публичной критике власти, и уже поэтому как бы вынуждена говорить на том же языке, существовать в той же системе координат, то есть ценностей. Вот почему и оппозиция не включает порядочноть в список своих приоритетов. Как нечто сегодня ненужное.
Странно бывает наблюдать, как вчерашние интеллигенты, белая кость нации, — пролетаризируются, превращаются в людей улицы. Они уже не мыслят высокими категориями вечности, их жизненный горизонт виден лишь до ближайшей манифестации.
Сегодня — 200 арестованных, завтра — первая кровь, потом — массовые репрессии… Даже если это судьба Беларуси, то этого мало. Если все возрождение ограничивается уличной борьбой, то в этой борьбе неизбежно девальвируется ценность человеческой жизни и цена насилия. Вот откуда берется разница между румынским и чешским, между албанским и балтийским путями развития. Там, где олимпийский огонь национальной идеи принадлежит элите общества, возможны только бархатные и поющие революции.
Тем временем в Минске массовые «посадки» и голодовки манифестантов превращаются в своеобразные будни, в быт. А рядом с этим не возвышается, не вырастает никакая моральная альтернатива. Оппоненты власти будто смирились с тем, что падение нации должно произойти до конца, и тогда, мол, начнется какое-нибудь восхождение. Но даже если так — откуда оно возьмется? Откуда вообще берется нравственный потенциал?
Лично я не знаю, какую Беларусь принесут с собой современные оппозиционеры. Думаю, они и сами не представляют. Их цель — народная революция, а не то, средством достижения чего могла бы эта революция послужить. Иначе они уподоблялись бы собственному нравственному идеалу, а не своим политическим противникам. С другой стороны, «революция для революции» приведет лишь к тому, что в Беларуси установится такой климат и такой политический механизм, при котором на место свергнутого Лукашенки смогут в принципе приходить только такие же лукашенки.
Куда же подевался позитивный идеал?
Совсем недавно на такие мои размышления один старый приятель, деятель оппозиции, брезгливо поморщился: «интеллигентские штучки».
Порядочный человек сегодня в Беларуси либо попросту не замечается, либо буквально прячет свою порядочность. Причем одинаково он это делает и в райотделе милиции, где за такие вещи можно и схлопотать, и в штабе оппозиционной партии, где ему сейчас же заметят, что он оторвался от народа.
Действительно, как-то неудобно мыть руки, когда все твои единомышленники сразу прошли к столу. Неудобно петь в ноту, когда вокруг не строят. Неудобно в дискуссии сослаться на пример Польши или Балтии (здесь вам не там!). «Интеллигентские штучки». От таких метаморфоз, бывает, теряешь чувство места и визави. То ли перед тобой старый большевик (50 лет в партии), то ли идеолог из ведомства Титенкова, то ли деятель оппозиции, которая все еще называется «Возрождение».
ПОИСКИ УТРАЧЕННОГО ИДЕАЛА
Спасение от всей этой пролетарщины, от безмерной народности и толпомании можно найти только в деревне. Там, где еще можно отыскать обязательный и единый для всех стереотип порядочного человека. Но для того, чтобы он заработал и в городе, общество должно радикально изменить свое отношение к деревне.
Дело в том, что белорус не преодолел барьера урбанизации так, чтобы остаться при этом белорусом и сохранить лучшие качества человека. Наш вчерашний крестьянин завоевывал город количественно, а не качественно. Он приспосабливался, а не утверждал свое. В результате он занял в городской иерархии человеческих качеств едва не последнее место. Он часто при должности, но это только потому, что его много. Вовсе не потому, что он лучший человек. Будь его меньше, он мел бы улицы и подавал пальто. В определенном смысле он сейчас этим и занимается. Даже будучи при должности.
Наши деревенские мигранты ничего, кроме кумпяка, с собой не привезли. Ничего своего. При переезде они отбросили лучшие качества человека, которым учили их мать и деревенский обычай. До сих пор помню, как удивленно моргал один совсем городской парень- первокурсник, заговоривший по-белорусски, когда сокурскники — вчерашние крестьяне — вынесли на это свой приговор: «Ну и езжай в свою деревню».
Таких анекдотов в Беларуси масса. Только вот не пользуются они популярностью. Через перевернутую подзорную трубу все это — не смешно.
Нечто совершенно обратное произошло у литовцев и латышей. Они — такие же деревенские мигранты — утверждали в городе свои нормы порядочности и морали, привезенные из деревни. Они присвоили город. Есть у нас такое расхожее представление о культурности балтов. Так вот, и в Вильню, и в Ригу они привезли свою культурность из деревни. И советский гражданин — «совок» — отступил: либо уехал, либо окончательно спился, либо, что произошло с несомненно лучшими представителями, подтянулся, принял правила игры, среди которых был и язык. Язык стал знаком присоединения русского к моральному большинству, к элите, где его, кстати, охотно приняли и признали. При том, что половина Вильни и сегодня говорит по-русски, а все до одного литовцы по-русски понимают, это не их, не литовцев проблема. Это ваша проблема — если вы не умеете по-литовски. Они, литовцы, могут вам только посочувствовать. И это логично.
Ибо человек, владеющий двумя языками, имеет интеллектуальное преимущество над тем, который владеет только одним. В Минске сегодня господствует обратная логика. Белорусскоязычный, владеющий двумя языками, становится вдвое более беззащитным перед хамством одноязычного, чувствующего свое преимущество. — Чыво?
— огрызается на него молодуха- продавщица. — Ты што как няруски!
— журит его коллега по работе. Так происходит потому, что белорусскоязычный — слишком доступен, он не олимпиец, он не создал в обществе своего, пусть небольшого, морального большинства, элиты. Он — наоборот — стремится быть «ближе к народу».
У прибалтов деревня неизменно остается национальной святыней лучших человеческих качеств. У нас она была обозвана деревней, колхозом и т. д. Крестьянин, едущий в город, осознавал свое «хамское» происхождение, отбрасывал его, и таким образом становился настоящим хамом в городе.
Сменились времена, и нам уже не нужен человек, который что-то свое — отбросил. Поэтому в поисках национального стереотипа порядочности мы, городские, поедем в деревню. В испохабленную предсе- дателями-паханами, разграбленную, отселенную, и все-таки еще живую. Возможно, мы зайдем не в каждую хату, но уцелевшие гнезда человечности найдем именно здесь. Не даром ведь так держались за деревню белорусские писатели всех времен. Правда, так и не добились они одного — не создали из деревни святыню, моральный кодекс нации. Вслед за ними проигнорировала эту надежную почву под ногами и национальная оппозиция.
«НЕ ЛЮБЛЮ НАРОД»
Кстати, почему так произошло? Видимо, по той же причине социалистичности белорусского национализма.
Наши писатели, за исключением, может быть, Максима Горецкого, не вывели героя — порядочного человека — через противопоставление его хаму. Так, как это сделал Булгаков в «Собачьем сердце».
— Знаете, профессор, — говорит пролетарская активистка Преображенскому, — вас надо было бы арестовать!
— А за что? — з интересом спрашивает профессор.
— Вы ненавистник пролетариата!
— Да, я не люблю пролетариата, — грустно соглашается Преображенский.
Вот чего мы не находим в белорусской литературе. Она так и не сподобилась произнести эту сакраментальную фразу. Ее социалистические симпатии и стереотипы не позволяли. Но рано или поздно она вынуждена будет сделать это. Ибо если сегодня так называемый народ большинством голосов отказывается знать, куда идут деньги из госбюджета, и избирать себе начальство, нормальный человек не может не испытать это чувство: если народ — это темнота, тогда — да, я не люблю народ.
Здесь, видимо, следует развести понятия. Народ — это, конечно же, не стадо баранов. Это даже не население. Это не физическое, а моральное большинство, сообщество, суб'ект. Это вовсе не бессознательная масса. Народ, он ведь может и в леса пойти. А те, что «абы тихо», «как все», «не знаю, и знать не хочу» — это даже не толпа. Это биосфера.
Современная белорусская литература ищет именно эту тему — противостояние нормального человека хаму. Пока никто не отваживается нарушить социальную девственность. Никто не зафиксирует это противостояние, заполнившее саму нашу жизнь сверх всякой меры.
Признаться, сначала, не найдя выразительного и для всех приемлемого нормального человека в современной жизни и литературе, я даже подумывал смоделировать его. Но получился у меня банальный набор прописных истин, о которых все знают с детства. И тогда я понял, что нормального не следует типизировать. Ведь он не герой, в смысле героизма, и слишком индивидуален, чтобы делать из него типаж. Этим он и ценен, этим и нормален. Что до обобщения… Делай то, чему учила твоя мама, не забывай чистить зубы и произносить волшебное слово, работай профессионально, не приноси другим вреда и старайся не приносить забот. Просто будь нормальным, и все, Большего не скажешь. Типизации же требует как раз не-нормальный человек.
Идея лучшего человека станет важнейшей для народа, когда народ устанет восхвалять безродного и ни на что не годного хама. Причем — хама в себе самом. Никто ведь не обращается к врачу, чтобы тот «нашел» у него здоровье. Диагностируются болезни, а не норма.
Со школы все знают стихотворение Янки Купалы «А хто там ідзе?» Своеобразное кредо белорусской нации, переведенное на 80 языков мира. Так вот, в этом стихотворении, при всей утвердительности последней строки: «Людзьмі звацца» — не содержится Задачи и Выхода. (А что, мы и так не люди?) Чтобы действительно людьми зваться, сегодня нам нужно от чего-то отталкиваться. От того, что так плохо в нас и вокруг нас. Нам надо не утверждать себя такими, какие мы есть. Нам нужно вырывать из себя черты «совка», которые на глазах становятся нашими национальными чертами. Словно тот колтун, который сделали нам главным национальным отличием в XIX веке.
Между прочим, есть у Купалы и другое стихотворение. Написано оно тоже в начале века, на пару лет позже. Это также кредо. Вот оно:
Хто ты гэткі? — Свой, тутэйшы. Чаго хочаш? — Долі лепшай. Якой долі? — Хлеба, солі. А што болей? — Зямлі, волі. Дзе радзіўся? — У сваёй вёсцы Дзе хрысьціўся? — Пры дарожцы Чым асьвенчан? — Кроўю, потам. Чым быць хочаш? — Ня быць скотам.«ОН НАС ВСЕХ ПОЛОЖИЛ НА ЛОПАТКИ!» Основные черты политической жизни РБ
«Но, как он их всех положил на лопатки!» — говорит мне приятель о Лукашенко. И радуется при этом чисто по-болельщицки. Я соглашаюсь; да, положил. Не честно, правда, не по-спортивному. А главное — что дальше? Ничего же не поправилось за эти почти три года в нашей жизни. Вот и выходит, что он не только их, политиков, положил, а и нас, всех, народ — положил. Вот мы и лежим. Думаем…
ПЯТЬ ПРАВИЛ КЛАССИЧЕСКОЙ ДЕМАГОГИИ
Переспорить демагога так же трудно, как убить дракона. А если демагог у власти, которую демагогией же и завоевал, то переспорить его невозможно. По крайней мере, Лукашенко у нас еще никто не переспорил. В его лице Беларусь едва ли не впервые столкнулась с классической демагогией, тем, чего не было у прежней коммунистической начальственной братии. Не было у них такого коварства и ударов ниже пояса. Хотя там, конечно, действовали другие законы. Там били сразу в зубы.
Возможно, классическая демагогия — это еще один «подарок» белорусскому народу ко времени его становления. Необходимая фаза развития. Так же, как у ребенка абсолютно необходимая фаза — ходить в штанишки.
Вообще демагог — это вождь народа. По крайней мере, так это понимали древние греки. И суть явления не изменилась до наших дней. Только само слово «демагогия» понимается сейчас по-другому. Практическая политика дискредитировала многие слова. Сегодняшняя энциклопедическая дефиниция говорит, что демагогия — это обман преднамеренным извращением фактов, лживыми обещаниями, лестью; лицемерное подлаживание под вкусы малосознательной части масс для достижения политических целей. Критерий нравственности произнесенного слова слишком расплы- вист и нефиксирован. Поэтому демагогия живучая, может быть, даже вечная.
С ними невозможно спорить. Они говорят: «Так хочет народ». Оппоненты в ответ: «Референдум был фальсифицирован». Они: «Да перестаньте, кто доказал?..» Вы им: «А почему тогда Запад не признает?» Ответ: «Ну, вот вы опять — Запад, Запад…» Что здесь скажешь?
Вы вслушиваетесь в аргументы, в том числе и те, которые против вас. Вы готовы изменить точку зрения, если их аргументы будут сильнее. Сегодня так часто цитируют слова о том, что я, мол, с вами не согласен, но готов умереть, лишь бы вы высказались… И в этом ваша ошибка. Потому что они твердо усвоили, что никакая истина не рождается в спорах. Их задача — сказать свое, нравится оно вам или не нравится. Они — сегодняшнее белорусское начальство — говорят не для того, чтобы их услышали, а только для того, чтобы забить гвоздь.
Это и есть классическая демагогия. Буря и натиск. Какие могут быть аргументы? Мы обречены жить вместе с Россией, что вам здесь еще неясно? Действительно, что здесь ответишь? Что мы не обречены?.. Ну-ну. Сколько вам понадобится слов и времени, чтобы это доказать?..
Журналист российского НТВ ведет передачу «Герой дня» — с депутатом Госдумы Тихоновым. Журналист хочет логики, игры аргументов. Тихонов хочет заявить свою точку зрения — вбить гвоздь. Разговор о белорусско-российском союзе. «Они, — говорит журналист о белорусском начальстве, — запретили передачу информации за рубеж, в частности, нашим корреспондентам НТВ!» Тихонов отвечает: «Э-э, Саша или Петя (или как там этого журналиста), вы ведь знаете, что опытный телеоператор из двухсот демонстрантов может сделать две тысячи». Что тут ответишь? Что телеоператор может сделать и наоборот? А о чем разговор?..
— Да они же били людей! — говорит журналист, путаясь в своих фактах. — Я сам видел в кадре разбитое лицо милиционера.
— Правильно, — хватает подачу Тихонов, — так кто кого бил?
— Но режим Лукашенко посадил за решетку вице-спикера Геннадия Карпенко! — достает журналист последний козырь.
— А как вы думали? — отвечает Тихонов. — За разбитое лицо милиционера надо нести ответственность. И суд должен разобраться, Карпенко разбил ему лицо или не Карпенко.
Журналист, хотевший устроить искрометное шоу и точными аргументами разбить белорусско-российский союз с блеском драйзеровского адвоката, — окончательно загнан в угол. Его слова отлетают от мраморной улыбки визави, словно теннисные мячики. «Ладно, — говорит журналист, надеясь уже не на победу, а на сочувствие, — если честно, вы действительно считаете, что в Беларуси демократический режим, и нам надо с ними объединяться?»
— Да, — отвечает депутат. — В Беларуси демократический режим, более стабильный, чем у нас в России. А за объединение с Россией уже высказался белорусский народ. На референдуме.
Круг замкнулся…
Понятно, кто победил, точнее, чей метод оказался более железобетонным. У депутата была задача сказать — как выстрелить, а у журналиста — доказать что-то депутату, зрителям и себе самому. Не вышло. Ибо очевидно, что первый выхватил свой кольт и произвел выстрел быстрее, чем второй находил в гроссбухах своих доказательств нужные протоколы.
Классическая демагогия побеждает не только в беседе начальника с журналистом. Вы можете тоже быть начальником и занимать более выгодную позицию, но если вы не демагог, вы проиграете.
Помните брифинг претендентов в президенты Беларуси? Лукашенко против Кебича. Кебич: Скажите, Александр Григорьевич, а как вы собираетесь запустить заводы? Лукашенко: У нас, уважаемый Вячеслав Францевич, есть методы. Нужно обеспечить людей работой, сохранить рабочие места, не разбазаривать народное добро. А что делали вы?..
На это Францевичу остается только усиленно моргать. Ну, делать
— не делал, но говорил ведь все время то же самое.
Вася и Зина смотрят все это по телевизору. Вася чешет затылок: А вот ведь как будет запускать — не ответил. Зина: Но хорошо же говорит, правильно…
Публику выигрывает тот, кто эффектно стреляет, а не тот, кто копается в томах с протоколами и предлагает публике думать, напрягать мозги, связывать аргументы и факты в причинноследственные связи. Мясо демагогии всегда хорошо прожевано. Хоть и не нами.
О лукавстве Лукашенко написано много. Уже есть целые антологии этого лукавства и даже целый кинофильм на 60 минут — «Обыкновенный президент». Но пока вы предлагаете публике целый час вникать в ваши доказательства и остроты, ему достаточно секунды, чтобы выхватить свой кольт и произвести очередной эффектный выстрел. Например, о том, что народ требует от него сталинской диктатуры.
Завтра, когда, к примеру, он репрессирует всю оппозицию и понастроит концлагерей, он заявит вам: вы же сами этого хотели, вы, народ… Что тут скажешь? Что мы не народ? Или что народ не хотел? Доказательств так много, что нам никто не поверит. Ибо если доказательств много, то они наверняка слабые. Нужно только одно доказательство. Убийственное.
Кстати, о сталинской диктатуре. Последнее время в печати почти пересох недавний поток обличительных статей о сталинских преступлениях. Вернулось прежнее настроение — мол, при Сталине и порядок был, и в магазинах — почти коммунизм. Классическая демагогия снова берет этот мотив на вооружение.
Я снова сравниваю ситуацию с соседними балтийскими странами. В Литве, например, несколько траурных дней в году, когда вся страна вспоминает массовые отправки в Сибирь. Установлены памятники. Тема сталинщины не сходит с телеэкранов, раскрываются все новые факты и судьбы. Весь архив местного КГБ в Вильне превращен в научный архив геноцида. Приходи — изучай. Кстати, в Беларуси при Лукашенко архив КГБ перестал показывать уже даже и обложки от тех репрессивных дел. Замуровались наглухо. Словно чувствуют свою преемственность.
В принципе, все триумфы Лукашенко базируются только на демагогии и лукавстве. А белорусская демократия еще не научилась «стрелять» в ответ. Здесь важно усвоить метод, и тогда, избегая вранья, можно бросаться теми же «ядрами», махать таким же «ломом». Он говорит, что народ хочет сталинской диктатуры, мы говорим — а культура не хочет! Противится, знаете ли, культура… Мы же знаем, что народ вообще ничего не хочет, кроме как жить лучше. Просто — жить лучше.
Вот несколько важнейших приемов лукашенковской демагогии:
1. Не оспаривай оппонента. Завали его сразу же валом собственного словоблудия — о чем угодно. Главное, чтобы глаза горели и был соответствующий прижим в голосе. Представь, что в известном сравнении «с ножом на паровоз» паровоз — это ты.
2. Чаще употребляй имя оппонента. «Знаете, Света…», «А вы, Семен Петрович…», «Скажите, как вас звать»… Чтобы оппонент чувствовал свою потенциальную вину уже за то, что взялся спорить, и уже за то, что он такой вообще есть. Это как в школе, когда называют твою фамилию и при этом добавляют: «к директору», — ты уже мандражируешь. Хотя, может быть, директор хочет тебя за что- нибудь и похвалить. Называние на людях — словно высвечивание человека, подчеркивание его с тем, чтобы после — зачеркнуть.
3. Употребляй всякие «извините», «я вам очень благодарен за ваш вопрос», «пожалуйста» и т. д. Это усыпляет бдительность оппонента, создает иллюзию твоей вежливости при том, что ты уже держишь руку у него на горле.
4. Умей убить оппонента неожиданным оружием. Понятно, что журналист может спрашивать у президента страны о его происхождении и т. д. Президент же, спрашивающий у журналиста о том же, стремится уничтожить его, поставив в несвойственное положение. Так было, например, во время интервью Лукашенко российскому журналисту Караулову. Президент, утомленный размышлениями о том, как его воспитывала мама, вдруг жалит: «Кстати, Андрей, а кто были ваши родители?» Что здесь скажешь? И о чем разговор?
5. Разговор всегда должен быть не о том или не совсем о том. Пусть оппонент запутается. Он — о высылке журналистов, а ты — о способностях телеоператоров. Он — о твоих родителях, а ты ему — о его. Пусть поищет аргументов, скажем, в справочнике по оптике, либо начнет лихорадочно перебирать, как ему представить собственных родителей в совершенно неуместной для этого ситуации, как выставить их на всеобщее обозрение, под сверхтребовательные камеры, направленные на тебя, на президента.
Несомненно, азы демагогии Лукашенко штудировал в совхозе. И это особая тема — демагогия маленьких начальников, колхозносовхозных председателей, тех, для кого величайшее наслаждение — унизить человека. Это даже не ленинский стиль и не геббельсов- щина. Ибо колхозный пахан владеет не авторитарной, а абсолютной властью над людьми при том, что в целом в стране сохраняется видимость некоторой свободы и демократии.
Чтобы сегодня понять, к чему приводит абсолютная власть демагога, надо поехать в деревню. Отношение между людьми или, точнее, к людям, здесь такое же, как в муравьевские времена, сразу после восстания Калиновского. Вот когда хам ринулся на начальственные должности и получил неограниченную власть. Вот когда униженные без всякой меры крестьяне не могли и пикнуть, разве что донести на повстанцев… Но эта тема — нравы нашей современной деревни — для другой статьи.
Что касается классической демагогии, то, никуда не денешься, пора вводить ее отдельным предметом в университеты молодой белорусской демократии. Вместо классической филологии, например. Как говорят, против лома… Переспорить демагога так же трудно, как убить дракона.
ПРОВОКАЦИИ И ПРОВОКАТОРЫ
В тюремных дневниках поэта Славомира Адамовича есть такое кредо: «Мы не поддаемся на провокации, мы их создаем сами».
Провокация — это жанр. Адамович провоцирует. Пишет стихотворение «Убей президента», попадает за это в тюрьму на 10 месяцев и становится наиболее известным современным белорусским поэтом. Протестуют PEN-центры, стихи переводятся на несколько европейских языков, Адамович по-английски — уже в интернете, в Болгарии по-болгарски выходит его сборник… Я думаю: если бы не «Убей президента» и не тюрьма, всего этого не было бы. По крайней мере, сегодня.
Московские «Известия» печатают снимок — милиционеры ведут Адамовича в «воронок». Как заметил кто-то из читателей, слава ищет Славу. В Минске многие его не любят за то, что провокатор. А он, словно возвращает им это чувство, и называет свой стихотворный сборник — «Зваротныя правакацыі».
Провокация — это стиль жизни, общественное настроение — как запах ацетона, разлитый в воздухе. Провокация мысли, чувства, поступка. Главное — не заснуть, не втянуться в рутину, не замелькаться в толпе, не исчезнуть в истории и мире.
Провокация самой Беларуси — да оживи же ты! пробудись! сбрось свое одеяло, так похожее на саван. Разрыв между тупо-казенным единообразием БССР и живой жизнью европейской золушки-Беларуси настолько велик, что преодолеть его за короткое время эволюционно — не представляется возможным. А так хочется увидеть Беларусь нормальной, здоровой и белорусской, хотя бы увериться, что она такой действительно будет… Так хочется, что энергия мечты концентрируется в шок — в провоцирование.
Сколько уже писано-переписано о провокациях Лукашенко, чья политика — от лиозненского инцидента с простреленным лимузином до наездов на фонд Сороса — вся провокация. С другой стороны, сколько раз сказано о резких, провокационных выпадах З.Пазьняка.
Но не только президент, лидер оппозиции и поэт творят у нас в жанре провокации. Сознательно или нет — этим живет вся нация. «Сталина на вас нет», — провоцирует тетка публику в трамвае. «Мужик, закурить не найдется!» — звучит мрачный окрик в темном переулке. Самый популярный товар, который ежедневно рекламирует белорусское радио — электрошокер Волман. Это как бы компенсация за непроведенную в экономике шоковую терапию. Покупайте Волман и шокируйтесь на здоровье…
Вся жизнь страны и народа становится более понятной, если увидеть ее сквозь призму всеобщей ориентированности на провокацию. Эпицентр этой жизни — шествие протеста. Мирное шествие. Я — один из них — знаю, что никто здесь не хочет драться с омоном. Мы за то, чтобы нас выслушали, и только. У нас есть свое мнение насчет языка, символики и интеграции в Россию. Услышьте нас и учтите наше мнение. Вот и все.
Идет шествие… Шастают фронтовцы со своим традиционным: не поддавайтесь на провокации. Идут рядом провокаторы — многих здесь уже знают в лицо. Потом они дадут нужные показания… Вдруг четверо милиционеров вскакивают в толпу и начинают вытаскивать оттуда парня. В этом сюжете «не поддаваться на провокации» значит — отдать парня. Толпа не отдает. Возникает драка. Летят стекла в милицейском «воронке». Но выбивать стекло рукой неудобно. И на следующее шествие парень положит в карман камень. Так изменяется характер шествия. Мы уже не за то, чтобы высказать мнение. Мы — против вас. Так власти провоцируют движение сопротивления.
Камень в кармане демонстранта означает новый этап возрожденческого движения. Послепровокационный. Там уже нет места для провокаций, там они уже сработали. Там — открытое противостояние — лицом к лицу. Но это, пожалуй, будет завтра…
До сих пор же белорусское движение еще продолжает существовать на том этапе своего развития, который можно назвать провокационным. Возрожденцы провоцируют почти безжизненное тело нации, оккупанты провоцируют возрожденцев, журналисты провоцируют зарубежное общественное мнение. Все кого-нибудь провоцируют. Процесс этот тянется уже полтораста лет, ибо не развивается, а каждый раз при новых обстоятельствах возобновляется снова.
Когда-то, в самом начале, саму белорусскую идею называли с разных сторон то польской интригой, то большевистской аферой. Кастуся Калиновского выдал провокатор. Позже — нашенивская публика — была насквозь пронизана тем, что сегодня называют «стремопатией», а сама газета с особенной дотошностью описывала все перипетии дела известного провокатора Азефа. После — БССР, сталинские времена. Там каждый сам подозревал в себе шпиона, саботажника и кулака. Лукаш Бенде — наиболее яркое имя провокатора тех лет в литературе. В Западной Беларуси Бронислав Тараш- кевич распространяет предвыборные призывы против некоммунистических белорусских организаций. Призывы начинаются словами: «Кто не хочет провокаторов…» — голосуйте, мол, за коммунистов. Фабиан Акинчиц откликается на это целой брошюрой, которая так и называется — «Провокация белорусского народа»… Войну и послевоенное время я опускаю. Тут еще очень долго историки будут отделять зерно от плевел. Наконец, 80-е годы. Первые студенческие спевки. Первые патриотические суполки. Почти все разговоры в кулуарах — о том, кто среди нас стукач. И это были не преувеличенные страхи. КГБ действительно «пасло» и «Майстроўню», и «Тутэйшых», и «Талаку», и БНФ — как свох стратегических «клиентов». Ведь они проходили в разряде — организации…
Только после куропатских «Дедов» в 88-м, когда дело дошло до открытого противостояния, «стремопатия» на несколько лет улеглась. Но этих лет не хватило, чтобы отвыкнуть от нее навсегда. И с приходом Лукашенко жанр провокаций вернулся — словно давняя мода — в обновленном виде. Чем еще, как не провокацией, была шумная, но безрезультатная борьба Лукашенко с коррупцией (из-за чего он и выбрался президентом).
Провокация стала примадонной двора, первой и в политике, и в экономике, и в культуре. Кто подружился с ней, тот поднимал свой рейтинг и шансы на большие карьеру и деньги. Все остальные — отваливались, ибо не той энергетики люди.
Провокация — самое эффектное, но совершенно непродуктивное средство. Иное дело — сколько во всем этом чьей-то воли, а сколько объективной заданности, судьбы нации и страны. Все же пропасть, которую должны преодолеть Беларусь и белорусы от самодовольного бээсэсэровского сна до деятельной цивилизованной жизни — слишком велика, чтобы ее можно было перескочить без стресса…
О Лукашенко когда-то в газете вспоминал его односельчанин. Мол, Саша был самым заядлым драчуном на танцах в деревенском клубе. Наверное, с тех времен он не изменился. Только сейчас выходит биться с целым народом, с госдепартаментом США, с НАТО, с врагами интеграции в Москве. Причем провоцирует драку всегда сам. Но вот что здесь стоит учесть. Результат провокации для сегодняшней Беларуси не может быть однозначным. Не известно, сколько выходит плюсов, а сколько минусов.
Народ на провокации президента не поддается. Он сонливо соглашается со всем. Ну, хочешь такой флаг — ну, бери; ну, хочешь, чтобы мы не знали про бюджет и все такое — ну, ладно, мы и не претендуем… Не выходит народ биться с президентом. В понимании последнего это значит — поддерживает.
Что касается зарубежья, то здесь при Лукашенко сделан огромный стрессовый шаг. О Беларуси говорят. Правда, говорят в основном об уличных столкновениях и нарушении прав человека, но это тоже этап. Беларусь зацепилась своими яркими телевизионными картинками в сознании миллионов людей. Можно себе представить, что в правительствах других стран сегодня штудируют историю ВКЛ и БНР. Откуда что взялось? Кто там диктует свои условия странам НАТО? Кто выбрасывает из страны американских дипломатов? Где это в тюрьмах сидят журналисты и поэты?..
Недавно мне пришлось отвечать на эти вопросы чешским тележурналистам. И я почувствовал, как надоело в сотый раз одними словами комментировать очередное шествие, побои, посадки и «феномен нашего президента». Будто это все, что я могу рассказать о моей стране. Чехи словно поняли это и спросили об истории Беларуси — о тысячелетней истории от самых начал.
Так уличные драки провоцируют интерес к нам — уже нормальный, позитивный. Но разве приехали бы в Минск те же чехи, если бы у нас все было просто нормально? Думаю, нет. Как не рвутся сегодня сотни журналистов в Чехию, где все нормально.
Но Чехия уже есть. Она уже прошла этап самостановления и самоутверждения. Мы — еще не прошли. И как только у нас не происходит очередная гадость — о нас забывают. Нет информационного повода. А для закрепления в информационном поле одних провокаций мало.
Сколько раз приходилось читать в независимой печати о том, что именно Лукашенко своими действиями спровоцирует создание полноценной белорусской нации. Так сказать, от противного. Если развивать этот сюжет, мы неизбежно придем к неразрешимому выбору — между независимостью и демократией. Когда первую будет воплощать диктатор Лукашенко, а вторую — либеральная Россия со своими реформами.
Лукашенко, который начинал свою депутатскую карьеру на митингах БНФ в Могилеве, который сам принес бело-красно-белый флаг в овальный зал ВС, который говорит, что сделал для белорусского языка больше, чем кто-либо другой, — этот Лукашенко сегодня совершенно провокационным образом вталкивает Беларусь в ряд «равных» между Россией и США. «Мне нужно посоветоваться с Минском», — говорит Ельцин Клинтону.
По одному из сценариев развития событий, либеральная, но от этого не менее имперская Россия, хочет заглотить Беларусь, представляя это как освобождение от диктатора. (Тут следует напомнить, что все в истории присоединения Беларуси к России всегда преподносились, как освобождение нас от чего-либо.) Вот откуда может возникнуть выбор между независимостью и демократией. Когда Шейман на танке выедет на защиту суверенитета Беларуси, истинные сторонники независимости окажутся перед сложным выбором…
Так выглядит абсолютно абсурдный, но, согласитесь, весьма белорусский сценарий.
И обнадеживает в этой ситуации вот что. Провокация — это лишь этап, который в развитии неизбежно должен быть преодолен. Рано или поздно в сельском клубе на танцах появляется другой боец, либо мужики собираются вместе и ставят задиру на место.
Новый этап национального возрождения, который начинается сегодня, отличается от прежнего как раз этим. Он и его герои не ориентированы на провокацию, ибо рождаются не в кулуарах бээсэсэровских суполок, а в открытом противостоянии режиму.
ДЕЛО В ПРИНЦИПЕ
Можно ли всерьез анализировать суб'ектов политической жизни РБ, если у них, суб'ектов, нет принципов? Никаких действительно серьезных намерений, целей и представления о том, что и как должно быть. А есть только: у кого напористая энергия, у кого — опыт других стран либо — понимание общечеловеческих ценностей… Поэтому ничто никуда не движется, и все только ждут: кто внешнего воздействия, кто провидения, кто окончательного крушения экономики, например.
Жаль этих дней и лет, посвященных всеобщему ожиданию. Жаль жизни — большой и малой, которая не складывается, потому что нет под нею твердой основы. Нет принципов.
Лукашенко может разогнать шествие протеста, а может и не разогнать. Как он поступит, до последнего момента не знает никто. В том числе и он сам. Непредсказуемость — главная черта. И не она ли, кстати, обеспечила ему все его триумфы.
В картах всегда везет новичку, который еще не знает правил. И в белорусской поэзии мне приходилось встречать начинающих, которые удачно рифмовали, потому что… не знали языка. Правда, когда они овладевали предметом, их парадоксальная изобретательность иссякала, а сами они оказывались банальными графоманами. Тоже самое, кстати, и в картах. То же — в политике. Либо сформулируй принципы, либо с тобой перестанет считаться весь мир.
Похоже, «молодой президент» рассчитывал, что принципы придут сами, что они спрятаны где-то в подсознании и, когда понадобится, вылезут на поверхность, оформятся. Сегодня самое время им объявиться. Но нет. Нет принципов.
Чтобы почувствовать эту материю, стоит сравнить два праздника — два дня независимости. День 27 июля, когда была принята Декларация о суверенитете, не закрепился в сознании народа. Не успел. На последнем референдуме его перенесли на день освобождения Минска от немцев. Почему именно на этот — никто не знает. Теперь этот день будет называться Днем республики. Будто республика возникла с освобождением от немцев…
Суть дела в том, что такой праздник не назначается и не отменяется. Он — принцип. Назначай или отменяй Пасху, люди все равно будут ее празновать. Будут ли в этом году отмечать 27 июля — неизвестно. Потому что непринципиально.
А вот День Воли 25 марта отмечался 80 лет и будет отмечаться всегда, независимо от того, утвердит его очередная власть или нет. Здесь — принцип. Начало республики. Кстати, принцип так и переводится с латыни — начало.
Беспринципная деятельность — хаотична, и результат ее — двоякий. Проводя последний референдум, Лукашенко, с одной стороны, укрепил свою власть, а с другой — подорвал собственную легитимность. Возможно, он уже действительно примеряет ключи к Кремлю. Символизируя собою устремление всех нас…
Его жена раздает интервью московским газетам. Она не думает, что и по ее словам будут судить о нас всех. Почему вы не появляетесь на официальных приемах вместе с мужем? — спрашивает ее «Комсомольская правда». — Мы считаем, — отвечает она, — что время пиршеств еще не пришло… Она говорит: разве важно, как ты одет? То есть, она хочет сказать, что это непринципиально.
А вот российские демократы Боровой и Старовойтова на газетном снимке сжигают портрет Лукашенко. Ей богу, в любой другой стране любой гражданин бы возмутился. Мол, этот все-таки наш, какой бы ни был, а те чужие. Это же в общепринятом понимании они нас, наш совокупный портрет палят со злорадным ехидством…
Но мое возмущение тоже непринципиально. Потому что я вспоминаю Титенкова, уничтожающего на крыше ЦК наш национальный символ. Тоже ведь не флаг рвет, а наше совокупное достоинство топчет.
Так одна беспринципность порождает другую, и ни к чему хорошему это не приводит.
Я думаю: есть ли еще хоть одна страна нашего региона или «формата», где бы первым, что бросается в глаза, была беспринципность? Россия? Но там все обусловлено интересами кланов. И это весьма жесткая обусловленность, принципиальная. Польша? Украина?
Чехия?.. Везде действуют причинно-следственные связи, интересы, везде дает о себе знать законодательство. И только у нас…
Бывший секретарь российской полозковской компартии Иван Антонович становится министром иностранных дел независимой Беларуси. Лукашенко вдруг приглашает в живой телеэфир Юрия Хадыку, хотя после всего, что сказано президентом в адрес БНФ, их встреча может происходить только у расстрельной стены.
Образцово-показательная беспринципность — две палаты президентского собрания. Никто не дискутирует, все согласны. Люди на кормлении. Они прекрасно понимают, что никакие они не политики, и что их срок предрешен от начала. Следовательно, единственная их забота — набрать, пока не разогнали, жилья, денег, должностей…
Принципы и интересы обычно занимают святое место. Если нет своих, приходят чужие. Лукашенко сконцентрировал в своих руках всю субъектность Беларуси и теперь с этим капиталом включается в политические игры России. Рано или поздно субъектность придется выставить на кон. Но час икс все не настает.
В понимании президента он — игрок первой лиги, фаворит, приглашенный в сборную страны. Сказать о том, что он уходит, в своей команде пока неудобно. И он тянет паузу. Но и все свои возможности в этой команде он уже исчерпал (он это давно понял). Только вот и те — в сборной — все что-то медлят с окончательным приглашением. Поэтому все, что происходит здесь — уже непринципиально, а там — еще непринципиально.
Жалко страну. Мы сегодня вынуждены копаться в непредсказуемых мотивациях Лукашенко потому, что все другие политические субъекты, от кого можно было бы ждать изменения ситуации, исчезли, пропали.
Это произошло в конце прошлого года.
Тогда Лукашенко, многократно нарушив Конституцию страны и проигнорировав избранный народом и признанный в мире парламент, создал в стране ситуацию двоевластия. С одной стороны, остался он со своим нечестным референдумом, результаты которого не признал никто, кроме Москвы, с другой — законный Верховный Совет, Конституционный Суд, почти полный кабинет министров, почти все политические партии…
Двоевластие болезненно для страны. Но само по себе оно не болезнь, а средство излечения. В нашем случае это средство вернуть страну в правовое поле, избежать диктатуры, оттенить хунту на фоне законной власти. У людей появился бы выбор.
В ситуации создания нового и опять же неконституционного союза России с одним из политических субъектов РБ, другой субъект этой страны — конституционный — получает все права на преодоление двоевластия и на международную поддержку. Так могла быть сохранена государственность.
Но, как видим, и государственность еще не стала для Беларуси принципиальной. Три спикера, один из которых — действующий, вместе с бывшими министрами возглавляют шествие оппозиции, получают омоновской дубиной по спине, попадают в кутузку, платят штрафы…
Расскажите кому — не поверят. Спросят: а где ваша законная власть? — В оппозиции…
Нечто совершенно похожее происходило в Литве в 1991-м. С одной стороны — законный Верховный Совет, с другой — коммунисты на платформе КПСС (читай, президент на платформе возвращения советских порядков и интеграции в Россию. Цели те же). Противостояние носило психологический характер. «Кто кого пересмотрит». Литовский ВС мог ведь просто выйти из здания парламента и стать оппозицией. Но они «держали взгляд» и кричали на весь мир, что хунта в их стране совершает переворот. Платформисты занервничали и погнали по улицам танки. ВС обратился к народу. У здания парламента собралось 300 тысяч человек. Так в стране установилось реальное двоевластие, которое длилось 9 месяцев — до августовского путча в Москве. Двоевластие установилось, но конец его был предрешен.
Тоже самое происходило у нас в конце прошлого года. Только наш ВС вышел из своего здания, и спикер призвал народ… разойтись.
Вы скажете, что если бы они заявили на весь мир о своей законной субъектности в стране, если бы рядом с вертикалью воссоздали систему советов, если бы собрали на площади 300 тысяч народа и т. д. — если бы они все это сделали, то Лукашенко сразу же свернул бы им голову?
Кто знает… Но это была бы уже совсем другая история. Здесь же дело не в этом. Как говорит один мой коллега, права не просят, их берут. Вот в чем дело. Дело в принципе.
«СЕМЕЙНЫЙ СПОР» И «БРАТСКИЙ ПЕПЛ» Почему администрация Лукашенко запретила книгу рассказов по истории Беларуси
В «послужном списке» администрации Лукашенко не только экономическая стагнация, политическая неразбериха, создание примитивной модели власти; не только запрещенные средства информации, репрессированные политики и журналисты; не только арестованные деятели культуры, закрытые национальные школы, оскорбительные выпады в адрес белорусского языка и так далее. В этом списке — книги. Причем, книги лучших белорусских авторов. «Свабода» уже писала о запрещении нового сборника прозы Василя Быкова. Сегодня речь пойдет о книге Владимира Орлова «Адкуль наш род».
«Рассказы по истории Беларуси для младших школьников» — таков подзаголовок этого красочного, иллюстрированного издания. Владимир Орлов — сорокалетний писатель и историк, издавший уже десяток популярных книг о нашем прошлом, получивших признание у читателей. Он хорошо знает свой предмет, любит свою страну и умеет передать чувство гордости за нее детям. Книга «Адкуль наш род» — суммирует знания о белорусской истории в простые, понятные детям образы выдающихся людей и событий. Неброское название книги обретает особый смысл, когда читаешь об обычаях наших далеких предков, еще язычников. Например, «сапраўдны мужчына мусіў абавязкова ведаць, кім былі ягоныя дзяды, прадзеды i прапрадзеды. Таго, хто ня ведаў, часам нават выганялі зь сялібы, бо лічылася, што такі бяспамятны чалавек лёгка можа зрабіцца здраднікам».
И еще: «Галоўны бог меў некалькі імёнаў, але найчасьцей яго называлі Род. Ён гаспадарыў на зямлі i ў небе, кіраваў вятрамі i рухам сонца i зорак. Зь імем гэтага старажытнага бога ў нашай мове зьвязана шмат вельмі важных словаў: радзіма, народ, родзіч, продак, нараджэньне, прырода, ураджай, адраджэньне…»
Так постепенно автор начинает восстанавливать разрушенное советскими идеологическими стереотипами представление о древней белорусской истории. В соответствии с этими стереотипами, история белорусов началась в 17-м году. Точнее, все в нашей истории, чем могли бы гордиться мы и наши дети, началось именно тогда. Революция, первые пятилетки, ЧК, партизанское движение, послевоенное восстановление народного хозяйства… До 17-го года — тысячелетнее безвременье, угнетение, лапти, колтун, болото, нищета (в том числе, подразумевается, — и духовная). Пишется, конечно, что-то о Рогнеде, Скорине, Гусовском, Калиновском… Но это все как бы из сферы специальных знаний. Вот мы все слушаем радио, а о природе радиоволн осведомлены лишь специалисты. Остальным это ненужно.
Владимир Орлов рассказывает о «тысячелетнем безвременьи» ярко и концептуально. Как прозаик, он оживляет минувшие эпохи, передает суть происходящего так, чтобы эта суть была понятна детям. Владея огромным фактическим материалом, он избавлен от потребности что-либо искажать, умалчивать или подтасовывать. Ведь его задача — воспитать любовь. А воспитать любовь можно только «своими словами», то есть, субъективно и искренно. В.Орлов справляется с этой задачей. В результате мы получаем лучшую на сегодня книгу по истории Беларуси для детей. Кроме этого, книга вносит серьезный вклад в создание национальной идеологии независимого Белорусского государства.
Но вот в игру вступает воскресший при Лукашенко советский идеологический стереотип. О какой, мол, любви и гордости можно говорить до 17-го года?!
«МЕРТВЫЙ ХВАТАЕТ ЖИВОГО»
Сначала, в «Настаўніцкай газэце» появляется официальная заметка под названием «У Міністэрстве адукацыі»:
«У апошні час у рэспубліцы рознымі выдавецтвамі выпускаюцца кнігі, якія не праходзілі экспэртызу ў Міністэрстве адукацыі… Асобныя з гэтых выданьняў не адпавядаюць мэтам школьнай гістарычнай адукацыі».
Готов поспорить, что в упомянутом министерстве нет ни одного специалиста в истории Беларуси, способного полемизировать с Орловым. Не зря ведь в заметке содержится ничем не подкрепленный приговор: «не адпавядаюць мэтам». Более того, убежден, что все министерство вместе взятое не способно внятно сформулировать эти самые «мэты» касательно старой белорусской истории. Ну, да Бог с ними. Их задача — дать наводку. Далее в игру вступает печально известный полковник Заметалин. Он пишет другому крупному администратору и патриоту власти социологу Е.Бабосову следующее письмо:
«Просим рассмотреть названную книгу и дать заключение по вопросам искажения исторических фактов, тенденциозности, разжигания национальной розни и межконфессиональных конфликтов, неприятия современной государственной символики Республики Беларусь в содержании книги для принятия решения о правомерности распространения данного издания в книготорговой сети и в школах республики».
Сам этот документ — пример тенденциозности и юридической некорректности. Полковник не знает презумпции. Он спрашивает, отвечая: как вы думаете, это плохая книга? Конечно, вторит ему Бабосов, очень плохая…
Вот строки из ответа Бабосова: «основное содержание книги чрезмерно политизированно и идеологизированно с субъективистски- предвзятых, враждебных России и русскому народу позиций. В книге нет и намека на то, что политика царизма и интересы русского народа совпадали отнюдь не всегда. Русские почти во всех разделах книги характеризуются как темные, неграмотные люди, а в отношении к белорусам как враги, захватчики, изуверы. Делая чрезмерные, ничем не обснованные обобщения, автор пишет: «В Российском государстве всегда умели из черного делать белое».
Мы еще вернемся к этой цитате — единственной в экспертном заключении Бабосова. Все остальные обобщения эксперта не подкреплены ни цитатами, ни обратными доказательствами, поэтому действительно, говоря его словами, «необоснованны». В отличие, кстати, от книги Орлова, где каждый вывод делается из совокупности фактов. Но вернемся к экспертизе:
«Еще более русофобскими являются неоднократно встречающиеся в тексте книги утверждения автора о том, что во время завоевательных походов на белорусские земли русские войска были более жестокими и кровожадными (такого слова в книге Орлова вообще нет. — С.Д.), чем немецкие рыцари, татарские и шведские завоеватели. Если поверить автору, то во всех перечисленных в книге битвах, включая Грюнвальдскую и Куликовскую, решающую роль в разгроме противника сыграли белорусские полки, что не соответствует действительности (!). Весьма спорной является и характеристика Великого княжества Литовского как исключительно белорусского государства». Вывод, — запретить.
Наверное, вполне корректно было бы председателю Госкомпечати Заметалину спросить у ответственного за школьные учебники Бабо- сова его мнение о книге, о ее воспитательном значении и получить от эксперта ответ, в котором бы тот оспаривал выводы Орлова, противопоставляя его фактам свои. Но, очевидно, академик Бабосов не настолько осведомлен в белорусской истории, чтобы оперировать фактами. Его сфера — с глубоких советских времен — администрирование, идеологическое обеспечение — тогда ЦК, а теперь администрации президента.
Замечательно, что в документах обоих властных кураторов школьного образования встречаются грамматические ошибки и описки. Но речь не об этом. И не о том даже, чтобы полемизировать с голословными утверждениями полковника и академика. Интересен побудительный мотив всей этой истории, рожденный в сфере белорусско-русских межнациональных взаимоотношений. Этот мотив — центральный в российской имперской, а позже — советской историографии, давно требует внимательного рассмотрения.
Особенную живость проблеме придает то, что оба куратора — россияне, приехавшие кто раньше, кто позже в Беларусь. Видимо, будь они поляками, их внимание привлекла бы фраза Орлова «Палякі хацелі стаць гаспадарамі ня толькі ў сябе дома, але i на нашых землях». Да и для татар, шведов и представителей других национальностей, поставленных курировать белорусскую школу, нашлись бы в старой белорусской истории свои «неприятные моменты». Но наши полковник с академиком русские и стоят на страже исключительно российских интересов.
ОПЯТЬ «ОБИДЕЛИ» РОССИЮ
Историки знают, сколько старателей на окраинах великой империи испокон века «охраняли» великие интересы и тогда сами — маленькие — становились вроде как побольше. Господа, — просили они при случае, — передайте Борису Николаевичу, что есть де в Белоруссии такие администраторы А. и Б., недремно бдящие о добром имени государства Российского.
Россия, конечно же, совсем другим величием великая, терпит их. Авось пригодятся. Кто-то же должен вешать Калиновского, гноить в тюрьме Батыршу, усмирять Шамиля, утверждать на местах российскую идеологию с неизменной готовностью получить свою «Медаль за усмирение польского мятежа».
200 лет мы, белорусы, с ними живем, под ними обретаемся, от них терпим. Нашествие этих чиновников «из центральных губерний» началось в прошлом столетии. Тогда десятки тысяч администраторов хлынули на захваченные земли, чтобы возглавить тут новые военные и цивильные учреждения, школы и церкви.
Орлов про такие вещи не пишет. Щадит детское воображение. Слишком много правды у нас еще бывает. А детям ведь жить, может быть, рядом с их русскими ровесниками. Впрочем, русско- белорусский человеческий контакт у молодежи обычно и возникает на понимании всей правды и на общем неприятии охранительного бдения родителей. Сколько угодно примеров, когда молодые граждане Беларуси — русские по крови юноши и девушки — выходят на улицы Минска против родительского омона — за свою родину — Беларусь. Им нужны книги Орлова. Оттуда рождаются их самые светлые чувства, главное из которых — любовь, которой нет и не может быть у отцов-охранителей.
Нет сомнения в том, что белорусы всегда будут благодарны тем россиянам, которые, приехав к нам, включились в созидательную работу, изучили язык и внесли немалый вклад в возрождение нашей родины либо действительно спасали наших людей от расстрелов и унижений со стороны всякого рода оккупантов. Но, к великому сожалению, приезжало к нам из России слишком уж много разрушителей, всякого рода геростратов, которые лихо занимали у нас административные должности и самодовольно издевались над нашими святынями, нашей историей, нашими людьми.
Конечно, дело не в национальности. Русский ученый Щекотихин написал свои «Нарысы з гісторыі беларускага мастацтва» — научный труд непреходящего значения. А русский архитектор Григорьев, будучи главным архитектором Минска, разрушил здание первой минской оперы, где в середине прошлого столетия ставились произведения Монюшко и Дунина-Марцинкевича. Два противоположных деяния — один построил, другой снес. И таких примеров в нашей истории предостаточно. К сожалению, перевес геростратов абсолютный. Ведь созидатели обычно становились на сторону униженного властями народа, а Геростраты — на сторону властей. В конечном итоге дело здесь, видимо, в том, добрый это человек или злой, умный или не очень.
Строить нормальные отношения невозможно на фальши и лжи, пусть даже это ложь «во благо», как это кому-то представляется. Если в отношениях остаются какие-то исторические умолчания, они обязательно всплывут самым неожиданным и радикальным образом, как замолченная болезнь. Представьте себе, что немцы строили бы свои отношения с евреями, не упоминая о том, что уничтожили миллионы последних. Или, что еще хуже, назвали бы этот геноцид внутренним, «семейным» делом немецкого народа (у них ведь тоже похожие, родственные языки — немецкий и идиш), так как уничтожение миллионов белорусов хотят сегодня представить внутренним «семейным спором» восточных славян.
«СЕМЕЙНЫЙ СПОР»
К сожалению лишь немногие наши читатели имеют представление об этногенезе, происхождении русской и белорусской наций. Это позволяет корыстливым и нечистым на руку идеологам манипулировать общественным сознанием, говоря о «семейности» существующих между нами проблем.
Что такое вообще национальная специфика представителя той или другой нации. Это, во-первых, кровь (генетическая память), природа, климат, традиции — все это формирует национальный характер или менталитет человека. Историки — в первую очередь российские, так как нашим это не позволялось — доказали, что в жилах белорусов течет балтская кровь. В этом смысле мы скорее северный народ. Каждый, кто служил в советской армии, замечал различия в поведении представителей разных наций, и никогда не перепутает белоруса с русским. Мы разные, и это делает мир более богатым, а не убогим и единообразным.
Наши отношения в истории складывались очень непросто и неоднозначно. Это действительно, если говорить правду, история войн и уничтожения (чего не скажешь, например, о белорусско-литовских взаимоотношениях). Парадоксальность этой истории в стремлении российских завоевателей представить уничтожение наших предков как «внутрисемейное» дело.
Этот историографический фантом родился вместе с Российской империей, которая расширяла свои владения, называя захваченные земли исконно русскими, а народы, их населяющие, — родственными, братскими и т. д.
Еще в 1830 году, отправляя гвардию на наши земли, российский император Николай I изрек замечательную фразу: «вам придется сражаться с неприятелями, но помните, что они братья».
Через год, в 1831-м, эту мысль подхватил А.С.Пушкин:
О чем шумите вы, народные витии? Зачем анафемой грозите вы России? Что возмутило вас? волнения Литвы? Оставьте: это спор славян между собою, Домашний, старый спор, уж взвешенный судьбою Вопрос, которого не разрешите вы Уж, е давно между собою Враждуют эти племена; Не раз клонилась под грозою То их, то наша сторона. Оставьте нас: вы не читали Сии кровавые скрижали; Вам непонятна, вам чужда Сия семейная вражда… Еще более однозначно высказался о нашем «братстве» в сентябре того же года Федор Тютчев: Ты ж, братскою стрелой пронзенный, Судеб свершая приговор, Ты пал, орел одноплеменный, На очистительный костер! Верь слову русского народа: Твой пепл мы свято сбережем, И наша общая свобода, Как феникс, зародится в нем.Свобода, выходит, общая, только мы здесь свободны в качестве пепла. Белорусам слишком хорошо знакомо это качество. Хатынь — деревня, сожженная вместе с людьми во время II мировой войны — стала нашим национальным символом. Именно национальным символом, а не символом минувшей войны. Потому, что хатыни начались в Беларуси не 50 лет назад. Они равномерно преследуют нас на протяжении всей нашей истории.
Можно начать с сожжения Полоцка Новгородским князем Владимиром, которого наши школьники знают как «красное солнышко». В российской истории этот Владимир — положительный герой. В нашей — убийца и насильник…
Не буду напоминать о «братских» набегах средневековья, когда в Беларуси погибал, бывало, каждый второй. Возьму пример из прошлого столетия, периода восстания Кастуся Калиновского. После цитированных стихов это было следующее крупное восстание против захвата Беларуси Российской империей. Тогда по всей Беларуси российские солдаты производили «зачистки» местности от «бандитов». Наша страна была буквально наводнена «братским» воинством. Вот строки из тогдашнего циркулярного предписания генерал-лейтенанта Бакланова уездным военным начальникам: «Ежели виносность в допущении убийства (русского солдата) падет на крестьян, то все селение будет сожжено».
После этого уже следующее поколение великих русских поэтов воспоет славу братскому пеплу, а охранители потребуют от нас любви к русскому народу и России. Что может быть большим унижением человека и народа, чем требование от него любви с позиций силы!
Что касается символики, то тут претензии Заметалина вполне логичны. Власть Лукашенко — по-своему уникальна. Это попытка ресоветизации, возвращения во вчерашний день. Трудно представить себе, что следом за Лукашенко придет кто-либо, похожий на него. Все- таки есть законы развития, эволюции, и они рано или поздно потребуют движения вперед, а не вспять. Поэтому власть Лукашенко — это как бы дань недалекому прошлому, с которым психологически трудно распрощаться. По своему уникальна и символика этой власти. Ничем не обоснованная, не имеющая давней традиции (ее придумали только в 50-е годы нашего века), да к тому же еще и искаженная символика БССР, конечно же, канет в лету вместе с режимом Лукашенко, уступив место нашим древним и гордым символам — бело-красно-белому флагу и гербу Пагоня. Думаю, это хорошо понимают и сами творцы режима — Лукашенко и Заметалин. Их задача — сохранить власть на какое-то время, потому что их историческое мышление ограничено периодом собственной политической карьеры.
О КОРРЕКТНОСТИ
Точнее, о проблеме историографической корректности. Всякому понятно, что в прошлом народы и страны воевали между собой. Сегодня стоит задача все более тесного общежития без умалчивания острых моментов прошлого. Как совместить национальные идеологии стран и народов — в прошлом непримиримых врагов. Эта проблема наилучшим образом решена в тех странах, где наиболее развито историческое знание. Там ведут речь о всенародном покаянии, комплексе вины, подписывают меморандумы о том, что такое никогда больше не повторится. И наоборот — там, где знание умалчивается, а страны-соседки берут из истории лишь то, что нужно для их идеологических стереотипов, там и сегодня происходят войны, процветает ненависть. Так или иначе, все начинается с исторического знания — максимально полного и правдивого. У нас, в Беларуси, сегодня такое знание запрещено.
Как рассказать о татарских набегах, не затрагивая при этом чувства современных татар? Проблема в том, что писать о тех древних жестоких татарах позволяется в любых тонах, по крайней мере, всю правду. В то же время межнациональные белорусско- татарские отношения настолько неразвиты, что в корректности формулировок вроде бы и нет необходимости. То же самое можно сказать, например, и о шведах или турках — безжалостных завоевателях. С немцами — современной сверхдержавой — проблема корректности решена. Мы говорим о жестоких фашистах или о рыцарях-кресто- носцах, одним словом, не о немцах вообще. Что касается русских, то при гиперразвитых межгосударственных отношениях, писать, например, правду о завоевательных походах в Беларусь Ивана Грозного или Алексея Михайловича попросту запрещалось, и запрещается снова. Но ведь это все было. И ничем необоснованная жестокость, и уничтожение то каждого третьего, то каждого второго белоруса.
Впрочем, В.Орлов достаточно профессиональный историк и литератор, чтобы допускать непродуманные выпады или оскорбления в адрес России или русского народа. Ничего подобного в его книге нет, Орлов ни разу не отождествляет русского человека и русский народ с царизмом или, например, воинством. Другое дело, что он не считает нужным специально оговариваться: только ж не подумайте, мол, что порядки в государстве Российском были заведены самим народом русским…
Более того, автор не пропускает фактов единения двух народов, описывая совместные усилия предков современных белорусов и россиян на Чудском озере или на Куликовом поле. В последнем случае В.Бабосов также возводит на В.Орлова напраслину, упрекая решающим значением белорусских полков в Куликовской битве. Но вот что у Орлова:
«Вы, магчыма, ужо чулі пра Кулікоўскую бітву, дзе рускія воіны перамаглі хана Мамая… На шостай гадзіне бітвы частка рускіх ня вытрымала i паказала татарам сьпіну. Хан Мамай ужо з задаваль- неньнем паціраў рукі, аднак правае крыло разам з палачанамі стаяла насьмерць i не адступіла. А потым у бітву ўступіў засадны полк, i татары пабеглі».
Разве здесь что-то говорится о решающей роли белорусских полков?
То же самое — Грюнвальд. У Орлова: «Вялікую мужнасьць паказалі на Грунвальдзскім полі палачане i віленцы… Стаялі насьмерць i польскія палкі. Адважна біліся на баку Вітаўта i Ягайлы таксама ўкраінскія, татарскія, чэскія i малдаўскія дружыны».
Да здесь, пожалуй, целый интернационал!
Что касается «весьма спорной характеристики Великого княжества Литовского как исключительно белорусского государства, то также нигде в книге такой «исключительности» нет. Есть откровенное стремление академика Бабосова вновь умолчать факт белорусской государственности до 17-го года. Казалось бы — зачем это нужно в независимой Беларуси — урезать и замалчивать историю величия собственного народа? Ведь нелогично. Ответ возвращает нас к личностям идеологов теперешней Беларуси. Это не белорусские идеологи.
Конечно, никакая историография — не аксиома. Всегда остается место для сомнений, допусков и полемики. История — живая наука. Но вступать в полемику с людьми, ставящими целью идеологическое охранительство исторических стереотипов другого государства нет смысла. Ведь их интересуют не факты белорусско-российских средневековых войн и их интерпретация, а именно умолчание этих фактов.
Тем не менее, эти войны были. Вот описание только одной из них: «Вайна з Расейскай дзяржавай доўжылася трынаццаць гадоў — з 1654-га да 1667-га. Гэта была самая страшная i крывавая вайна за ўсю гісторыю Беларусі. Бітвы, голад i хваробы скарацілі насельніцтва нашай Бацькаўшчыны ў два разы. Загінуў кожны другі, а на ўсходзе Беларусі — кожныя восемдзесят чалавек з сотні. Напрыклад, у Полацку перад вайною было болей за 1500 дамоў, а засталося толькі сто, у Віцебску з 982 дамоў у попел i руіны ператварыліся 926 76 беларускія роды».
Что, скажите, с этим делать, если это было? Глупый вопрос, не правда ли? Кстати, упомянутой войне посвящена целая книга другого профессионального историка Генадя Сагановича с символическим названием «Невядомая война». Книга вышла до Заметалина, и ее еще можно купить в магазинах.
Единственная цитата, которую приводит Бабосов, связана с рассказом о Петре I, который во время Северной войны в Полоцке вместе со своими солдатами вошел в Софийский собор и убил там пятерых безоружных монахов. Тела убитых Петр приказал сжечь, а пепел развеять, дабы над их могилами не могли собираться люди. Это циничное убийство получило огласку. Далее — Орлов:
«Каб спыніць непажаданыя размовы, цар выдаў адмысловы загад. Там гаварылася, што гэта самі полацкія сьвятары напалі ў Сафійскім саборы на гасьцей i тыя, каб абараніцца, мусілі ix забіць. У Расейскай дзяржаве заўсёды ўмелі з чорнага рабіць белае».
Возможно, господину Бабосову такое обобщение показалось неуместным. Но что делать с этой бесконечной чередой убийств и надругательств «во благо», с «семейным спором» и «братским пеплом»? Что делать… Кстати, после убийства монахов Петр разрушил и сам Софийский собор.
ЦЕННОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ
О сдержанности и объективности оценок Орлова свидетельствует и следующее обобщение. Замечу, что захват Беларуси Российской империей в конце XVIII века до сих пор не получил в белорусской историографии своей стереотипной формулировки. В.Орлов объясняет эту ситуацию детям:
«Доўгі час у нашых школьных падручніках i ў іншых кніжках па гісторыі гаварылася, нібыта беларусы на працягу стагодзьдзяў імкнуліся ўзьяднацца з братнім расейскім народам i жыць зь ім у адной дзяржаве.
Гэта няпраўда.
Беларусы паважалі суседні народ (!), дапамагалі тым, хто перася- ляўся з Масковіі ў Вялікае княства Літоўскае, але жыць пад уладаю расейскіх цароў нашы продкі ніколі не хацелі. Яны вельмі добра памяталі, як забіваў i гнаў у няволю палачанаў цар Іван Жахлівы. Памяталі, як праз сто гадоў пасьля гэтага расейскія ваяводы загадалі перарэзаць усіх жыхароў беларускага горада Мсьціслава. Народ ня мог забыць, як царскія захопнікі ў розныя стагодзьдзі рабавалі i вы- пальвалі нашу зямлю, як прадавалі палонных у рабства туркам i персам. Назаўсёды засталося ў памяці беларусаў i тое, што салдаты цара Пятра I ўзарвалі галоўны храм нашай зямлі — полацкі Сафійскі сабор».
Это обобщение. Далее автор приводит факты, характеризующие два соседние государства, и мы понимаем, что обобщение В.Орлова обоснованно. Дабы не быть голословным, и учитывая запрещение книги, а так же убедительность этих характеристик, позволю себе две длинные цитаты:
«Весткі, што даходзілі да Беларусі з суседняй дзяржавы, ніякай ахвоты «ўзьядноўвацца» таксама не выклікалі. Дачка Пятра I імпэратрыца Лізавета загадала вырываць язык кожнаму, хто скажа пра яе непачцівае слова. A хваліць царыцу не было за што. Вакол самой Масквы лютавалі разбойнікі. У краіне не хапала солі, але вельмі часта простыя людзі ня мелі чаго i пасаліць, бо i хлеба было, як кажуць, на адшчык.
У расейскім войску панавала палачная дысцыпліна. За якую- небудзь дробную правіну салдат мог атрымаць дзве-тры тысячы ўдараў палкай i памерці на месцы.
Расейскія ўлады вялі сапраўдную вайну ca стараверамі — людзьмі, якія хацелі захаваць у праваслаўных цэрквах старыя малітоўныя кнігі і абрады. Старавераў палілі, выкопвалі з магілаў i кідалі сабакам.
Памешчыкі ў Расеі мелі бязьмежную ўладу над сваімі сялянамі. Сялянаў называлі рабамі. Ix i іхных дзяцей было забаронена вучыць грамаце. Гаспадары мелі права ссылаць ix у Сібір, засякаць бізунамі да сьмерці, прадаваць, назаўсёды разлучаючы мужа з жонкаю, маці зь дзецьмі. Пецярбурскія i маскоўскія газэты друкавалі аб'явы аб продажы, дзе людзі стаялі ў адным пераліку з пародзістымі сабакамі.
Ад царскага беззаконьня, ад голаду i зьдзекаў у Вялікае княства Літоўскае штогод уцякалі тысячы людзей. Цэлымі вёскамі на бела- рускія землі перасяляліся стараверы. У сярэдзіне XVIII стагодзьдзя ра- сейскі ўрад патрабаваў ад Рэчы Паспалітай вярнуць мільён уцекачоў».
«Законы аб'яднанай дзяржавы Рэчы Паспалітай, куды, як мы памятаем, уваходзілі Польшча i Вялікае княства Літоўскае, давалі ча- лавеку значна больш правоў i свабоды, чым у Расеі. Аднак правы гэ- тыя мелі пераважна паны — шляхта. Праўда, шляхты ў Вялікім кня- стве было шмат. На шэсьць-сем сялянаў прыпадаў адзін шляхціц. Многія з такіх «паноў» адрозьніваліся ад сялянаў толькі тым, што на- сілі шаблю i ганарыліся сваім гербам. Тым ня менш, гэта былі неза- лежныя людзі, якія вырашалі мясцовыя i агульнадзяржаўныя справы, засядаючы на соймах. Соймам называўся зьезд шляхецкіх дэпутатаў.
У нашай дзяржаве, як i раней, мірна жылі побач людзі рознай веры. Тут па-ранейшаму дзейнічаў Статут Вялікага княства Літоўскага, пра які ў нас ужо ішла падрабязная гаворка».
Словом, для желания добровольно «интегрироваться» у тогдашних белорусов не было никаких оснований. Поэтому «интеграция» произошла «в принудительном порядке», что вызвало в Беларуси три крупнейшие антироссийские восстания.
Книга заканчивается последним таким восстанием, которым руководил Кастусь Калиновский. Именно после этого восстания многотысячными потоками хлынула в Беларусь волна чиновников-админис- траторов. Эти потоки не остановила в последующем ни Октябрьская революция, ни II мировая война, ни послевоенные годы. Наоборот, каждый раз находился повод для нового массового «братского» прилива администрации — то советской, то «на помощь» после войны, то постсоветской. Приезжали, конечно, и серьезные ученые, и деятели культуры, и простые работяги, которые становились частью нашего народа, уважая его традиции и устремления. Наш разговор не о них. Речь об идеологической администрации.
Последней волной такого приезда из России и отмечен период правления Лукашенко. Типичный представитель этого потока — господин Заметалин, карьера которого не отмечена и малейшим созидательным деянием — запрещает сегодня белорусские издания, возрождая ту систему уничтожения книг, которая существовала при Сталине или Гитлере в 30-е годы. Сначала автора клеймят в прессе, потом книгу запрещают, потом запрещенные книги сжигают на костре.
Впрочем, обнадеживает то, что эта ретроспективная власть — не вечна. Слишком невечна, чтобы горевать о запрещенной ею книге вместо того, чтобы поздравить Владимира Орлова с его очередной авторской удачей, а всю нашу культуру с ценным приобретением.
ВІЛЬНЯ — WILNO — VILNIUS Дневник переселенца
КРЕДО
Когда-то все было проще. Еще не наступил «конец истории», нравственность выглядела определенно, а суждения имели цель, и можно было попасть в десятку, которая тоже была. Твой успех имел общественное значение, и для счастья требовалось так мало, совсем ничего. Например, чтобы какое-то твое слово или даже какая-нибудь приставка проскочила цензуру… А поражение было поражением. И добровольный уход из жизни тоже был актом, исполненным общественного значения. То есть, если даже во всем этом и не было никакого смысла, то было значение. Строители строили, крестьяне сеяли, а писатели писали не для смысла, а для общественного значения.
Но значение что-нибудь значило лишь до тех пор, пока было всеобщим. Когда же оно утратило свой тотальный характер, наступило время разлада и конфликтов, суть которого как раз и видится мне в том, что значение лишено смысла, а смысл — значения.
Например, возникают новые национальные государства. В этот процесс хорошо вписались вчерашние коммунисты. Ведь коммунизм и патриотизм методологически близки своей детерминированностью и однозначностью. А тут приходят люди с надписью «гражданское общество» на транспаранте, толкуют о правах человека. И начинается конфликт значения со смыслом, то есть популизма с плюрализмом. Одни требуют новой — национальной — сознательности, а другие твердят о праве каждого на свою собственную несознательность. Аргументы первых восходят к чистоте крови, аргументы вторых — к учету реалий. Но и первое и другое слишком перепутаны, чтобы кого- то убедить. Не хватает чего-то третьего, через что мог бы утвердиться смысл. И я думаю, что если это не что-то исходное, общепринятое и однозначное, то, может быть, — модель?
ГОРОД
Этот город имеет как минимум три названия: Вильня, Вильно и Вильнюс. Первое — женского рода — белорусское. Второе — среднего — польское. Третье — мужского рода — литовское. По-русски, в зависимости от власти в городе, употребялось то польское (что, кстати, типично для русских названий белорусских городов — Минск, Брест, Гродно, Новогрудок…), то литовское. Словом, она-оно-он. Совокупность родов — вот что такое этот город. И эта модель. Если смотреть на нее сквозь ракурс только одного рода — неизбежна унификация, и модели не видно. Тем не менее, споры идут именно о праве одного рода. Выходит, это споры за право не видеть?..
Польский поэт, лауреат Нобелевской премии, профессор Чеслав Милош родом из этих мест. Недавно он написал: «Литовцы, также как и поляки, склонны подчеркивать западный характер Вильна, и действительно, архитектурно город принадлежит к среднеевропейской зоне. Но, возможно, несправедливо при этом забывается его более давняя история… Как столица Великого Княжества Литовского, с большой колонией православных купцов, Вильно более долгое время принадлежало скорее к восточной орбите, о чем свидетельствует большое количество церквей. Кстати, литовские историки должны установить, откуда взялось название Вильнюс и когда оно впервые было употреблено. Ни Вильнюс, ни Вильно не являются старыми названиями города, в хрониках выступает Вильна или Вильня, от реки Вильни».
Морфологические споры хороши до тех пор, пока выводы из них не простираются на плоскость реальной политики. Поэтому я все же рискну употреблять тройное название — Вильня-Вильно-Вильнюс. Или просто — Город.
Этот город для разбора национальных конфликтов — весьма удачная модель. Здесь не доходит до крови, так как учитываются реалии. Точнее, предупреждаются. Еще нет цельной концепции сосуществования различных национальных групп, а она уже осуществляется. Конечно, она не идеальна. Но именно это и интересно. Это вообще интереснее, чем ежедневные сводки убитых и накопление ненависти в сердце.
Значения сходятся, как неприступные стены, а смыслы могут взаимопроникать. Все несущественное — несущественно в вечном городе. Если ты, конечно, способен осознавать эту вечность. Наш Город — не Рим, но вечность его отнюдь не метафорична. Ведь это наша вечность, ощутимая.
Впрочем, наиболее ощутимая вечность для каждого ограничена его личным опытом.
КОНЕЦ 60-Х
Первый раз я попал сюда где-то в конце 60-х. На машине своего приятеля родители забирали меня из санатория «Беларусь» в Дру- скениках. На Минск ехали через Вильню-Вильно-Вильнюс. Машину поставили в центре и отправились смотреть город.
Лето… До последнего времени такие прогулки в выходные были весьма популярны у минской публики. Потому ли, что собственная историческая среда была в послевоеные годы уничтожена? Или потому, что здешний климат был «западнее» (в смысле культуры и уюта)? А может, была в этом ностальгия по собственному национальному бытию, внутренней свободе и человечности? Генная потребность обезличенных, стандартизированных, идеологизированных белорусов?.. Скорее, все это вместе и привлекало минчан в Город. Тогда же, в конце 60-х, Город показался мне большим и непривычно детализированным. Ведь сам я был меньше, а мой ампирный сталинский Минск — крупнее.
Нас не учили, что Вильня-Вильно-Вильнюс имеет какое-то отношение к Беларуси, как, впрочем, не говорили и о том, какое отношение к ней имеем мы сами. Между тем еще в 1918 году была написана статья литератора и политика Антона Луцкевича «Два центра». Публикация появилась тогда же на страницах виленской белорусской газеты «Гоман».
«Вильня или Менск? — писал А.Луцкевич. — Вопрос, какой из наших городов должен стать центром Беларуси, нам приходилось слышать не раз — особенно от тех наших соседей, которые хотели взять Вильню себе. Но и сегодня, хоть литовцы объявили ее столицей независимой Литвы, дать ответ на этот вопрос не легко: культурные центры не всегда развиваются там, где есть центр административный. И независимо от того, будет ли между Беларусью и Литвой проходить государственная граница и с какой стороны этой границы окажется Вильня, этот древний центр культурной жизни всего Белорусско-литовского края будет всегда притягивать к себе культурные силы всех национальностей края… И если мысль белорусского политического деятеля обращается сегодня к Менску, то мысли ученых плывут к Вильне.
Вильня или Менск? Этот вопрос, бесспорно, разрешит только будущее. Но кажется, что решение здесь может быть только компромиссное: Вильня при всех условиях должна обслуживать оба народа, для которых этот город был колыбелью во времена рождения их культур».
Будущее — это мы, которые в конце 60-х бродили по улочкам Города и ничего не знали о вопросе, который должны разрешить. Статью А.Луцкевича тогда не читали не только мои родители, но и — уверен — сотрудники спецхранов, где были запрятаны «Гоман» и сотни других виленских белорусских изданий.
КОНЕЦ 70-Х
Не знал я этого и в конце 70-х, в ту холодную промозглую осень, когда тяжелые грузовики повезли нас с вокзала в бывший монастырь за собором Петра и Павла, где размещался так называемый Минский полк внутренних войск. Город представлялся сказкой за высоким каменным забором, а знакомство с ним началось для меня с зон, вышек, маршрутов конвойной службы… В то время совсем рядом еще жил белорусский художник старой школы Пётра Сергиевич, рядом стоял домик попа Александра Ковша, который в межвоенное время вел службу в старейшей городской Пятницкой церкви только по-белорусски, а в войну был расстрелян немцами. Рядом же находился целый жилой квартал, построенный в межвоенные годы по проекту белорусского архитектора Льва Витан-Дубейковского и напоминающий о гуманистических поисках в европейской архитектуре начала века.
Но все это было рядом, а я начинал издалека. На втором ярусе железной койки, которая так несуразно выглядела в монашеской келье, я читал. И более, чем факты истории, мне нравилась легенда об основании Города. Мол, однажды великий князь Гедимин охотился в здешних местах (столица княжества была тогда в Новагродке)… Живописный рельеф города — крутые холмы, поросшие лесом, и сегодня живо откликаются на древнюю легенду. Так вот, именно здесь решено было остановиться на ночь. И ночью Гедимину приснился сон: огромный железный волк, а в нем — множество волков поменьше. Утром Гедимин призвал главного своего жреца и приказал растолковать сон. В этом месте, сказал жрец, должен быть основан большой город, столица княжества, и название этому городу — Вильня. Так и произошло. А жреца за удачное пророчество (радзіў основать Вильню) прозвали Радзивиллом. От него и пошел богатейший в Европе княжеский род.
Правда, говорят, что Город существовал и много раньше, что основали его славяне-кривичи и назывался он Кривым. А еще говорят, что возник Город на самой границе расселения славян, предков современных белорусов и балтов, предков современных литовцев. Позже здесь появились евреи и татары, поляки и русские. Каждый народ здесь что-то оставил. Чтобы потом возвращаться. Так возник Город.
НАЧАЛО 80-Х
Стояла мокрая зима. Треугольная комнатушка, которую снимал в старом городе мой приятель Антанас, фотограф. Мы спали на одной широкой кровати, кроме нее в комнатушке помещался, кажется, еще стул. Тогда я уже знал, куда приезжал.
Я убежденно произносил: Вильня — белоруский город! Точно так, как сегодня пишут некоторые минские историки. Точно так, как местные поляки пишут на стенах — «Вильно нашэ!» Однажды я видел подобное графити даже по-русски (или по-советски) — «Лабусы, вон из Вильнюса!» Своеобразное достижение интеллектуалов из местного интерфронта.
Словом, я ехал в библиотеку — туды, куда десятки лет бесконечно ездят белорусские гуманитарии, потому что изучение нашей истории и культуры без здешних архивов и библиотек невозможно. В Минске какое-то накопление материалов всерьез началось только в двадцатые годы нашего века. Все остальное плюс все о Западной Беларуси межвоенной поры — здесь.
Сам Город был для меня как бы продолжением библиотечных стеллажей, иллюстрацией прочитанного. Вот дом, где Франтишек Скорина напечатал первые белорусские книги. Почти 500 лет назад. Первые печатные книги в Восточной Европе. А в этом здании вышла первая легальная белорусская газета «Наша Доля» (1906 год). В стенах костела святого Яна прятался от муравьевцев Кастусь Калиновский. Здесь он был схвачен, заточен в Доминиканском монастыре, приспособленном под тюрьму, и затем, в марте 1864 года, повешен на Лукишской площади. В прошлом году я наблюдал здесь другое повешение: на железном тросе автокрана висел бронзовый Ленин. А сейчас здесь хотят разбить клумбу и больше никого не вешать.
Вот дом, где в конце минувшего столетия долгое время жил и работал поэт и адвокат Франтишек Богушевич, автор первого национального манифеста, в котором на вопрос: где теперь Беларусь? — был дан ответ: а вот она, от Вильни до Смоленска. Этнографически он был прав, имея в виду культуру народа. Неужели общество за сто лет так поглупело, что способно толковать слова классика только лишь как территориальные претензии? Неужели между масштабами культуры и периметром государственной границы есть какая-то определяющая связь?
Нет, в начале 80-х я еще об этом не думал. Я думал о том, как много за все времена в Городе жило белорусских поэтов, и как много написали они произведений, воспевающих Город.
Семь адресов имела в Городе газета «Наша Ніва», просуществовавшая десять лет до первой мировой войны, ставшая родовым гнездом всей национальной жизни, культуры, науки. В здании бывшего Базилианского монастыря в 1919 году открылась первая белорусская гимназия, здесь же тогда обосновался и крупнейший национальный музей с богатым архивом и библиотекой. В межвоенное время в Городе действовали центральные органы всех национальных политических организаций — от коммунистов и социал-демократов до хадеков и немногочисленных нацистов. Но самой крупной была стотысячная Белорусская крестьянско-рабочая громада… Однако меня сегодня больше привлекает не долгота этого перечисления (проще говорить о том, что в национальной традиции не связано с Городом), а то, куда это все подевалось?
КОНЕЦ 80-Х
Мои визиты в Вильню-Вильно-Вильнюс случались все чаще. Коротая ночи то на вокзале, то у Лявона Луцкевича (сына того Луцкевича, коренного жителя Города, который из своих шестидесяти отсутствовал здесь только десять лет, был, как говорит, «на курорте»), то на стульях во дворце профсоюзов на Туровой горе между днями работы учредительного съезда БНФ («Саюдис» дал тогда помещение гонимой в БССР организации), я думал о том, что свой дом и своя постель мне нужнее здесь. Времена менялись, и нужно было довести до конца свое личное испытание формулы «лучше там, где нас нет».
По сути это была формула той рождающейся несоветской Беларуси, которая для многих гуманитариев тех лет становилась синонимом вожделенной Свободы. Еще в студенческие годы мои ровесники- художники заявили ее как свой принцип. Мол, белорус чего-то достигнет в творчестве лишь тогда, когда, уподобившись Максиму Богдановичу, откуда-то издалека увидит Беларусь, вблизи почти невидимую и неощутимую. Позже подобные принципы были названы внутренней эмиграцией.
Запрещенная Беларусь представлялась чем-то желанным и не совсем реальным, тем лучшим, где нас нет.
Теперь-то я знаю — «лучше там, где нас не будет никогда». Осуществленная в виде национального государства национальная мечта перестает быть мечтой. И поэтому сегодня я искушаюсь бегством от политики.
Я хотел бы отобрать у политиков Город. Ведь они слишком непостоянны и кичливы в вечном городе, им не нужны образы. А Город — это образы. Этим он интересен, хотя те, кто правит, убеждены, что он интересен именно ими, властью.
Власти здесь менялись так часто. Менялись названия улиц. Менялся «обязательный для всех» государственный язык. Все оказывалось преходящим. И только культура Города — литовская, белоруская, польская, еврейская, татарская — оставалась.
В XVII веке под напором растущего вширь Московского государства Великое Княжество Литовское все более сближалось с государством Польским. Полонизация охватила высшие слои общества, а белорусский язык, бывший в княжестве официальным, остался уделом социальных низов, простонародья. Как и литовский. Вот в таком статусе оба языка встретили разделы федеративной Речи Песполитой и российскую оккупацию конца XVIII века. Новая власть утверждалась через жестокое подавление освободительных восстаний, через указы о запрещении белорусского и литовского языков, через изощренную русификацию. Вторым после военной силы интрументом Москвы стала православная церковь, так же, как инструментом Варшавы становился католический костел.
В 1920 году Виленский край попадает под польскую оккупацию. С 1940-го волевым решением Москвы отходит к Литве. Если упомянуть еще две немецкие оккупации, то представление о том, как формировался нынешний политический климат Города, будет почти полным.
У политиков свои резоны. Для поляков это город, в котором похоронено сердце Пилсудского, куда влечет паломников священный образ Матери Божьей Остробрамской, могилы Сырокомли, Лелевеля, город, над которым взошла звезда Адама Мицкевича, национального поэта номер один. Здешняя польская культура — литвинство — это аристократизм, голубая кровь, белая кость национальной культуры. Правда, все это в прошлом. Теперь элита польской культуры живет по всему миру — в Варшаве, в Париже, в США, только не здесь. А тут местные польские идеологи озабочены проблемами совсем другого уровня — народ плохо владеет польским…
Для литовцев этот город — история и территория, сфера национальной экспансии, утоляющей всегда хищное национальное чувство. Для белорусов — то же самое, и еще — Мекка, хоть на сегодня белорусы представлены в Городе значительно хуже других. И я вновь задаю себе вопрос — куда все подевалось?
В смысле нынешних политических реалий в Городе никогда не было власти белорусской. Но что, по-моему, более существенно, между
Городом и Беларусью никогда не было границы. Учиться, работать, торговать наш народ извечно тянулся сюда. Не удивительно, что и первая грамматика современного белорусского языка создана на основе виленских говоров уроженцем Виленщины Брониславом Тараш- кевичем.
Путешествуя по краю, я убедился, что язык здешних жителей действительно весьма близок к литературному, хоть и называют они себя поляками. Потому, что католики. А паспортных белорусов в Литве 63 тысячи. Но это как бы обезглавленная масса. Нет ни школ, ни каких-либо культурных учреждений. «Голова» этой «массы» в новое время уничтожалась еще польской властью — в тюрьмах и концлагерях. Правда, это уничтожение не сопоставимо со сталинщиной, с советскими «телятниками» 1939 года, с Куропатами. Потом была война, угасание последних очагов культуры — гимназии, музея, организаций. После войны «телятники» увезли последнего виленского белорусского интеллигента. Интересно, кто это был? Возможно, лидер хадеции ксендз Адам Станкевич, автор десятков книг? Не считаясь с фатальностью момента, он еще писал письма с требованием бело- русизации костела высокому советскому начальству…
Затем — десятилетия отчуждения Города. Унификация. Литва советская медленно, но верно доводила процент литовцев в Городе с 2-х до 50-ти. Правда, это была Литва советская, и определяла ее политику все-таки Москва.
А Литва сегодня, кажется мне, уже пережила период национал- фундаментализма, становление своего национального государства в 20-е годы, что склоняет к доверию сегодняшним литовским политикам, которые говорят о приоритете прав человека и гражданского сообщества.
Повторю, сегодняшнее бытие Города не идеально. И какие-то рецидивы превращения его в однонациональный заметны. Например, те же названия улиц, которые, по-моему, следовало бы сохранить в том звучании, в каком они вошли в историю, буть то балтское или славянское. Мне трудно представить, что Скорина издавал свои книги, а Мицкевич и Шевченко жили и писали свои произведения на улице Диджёйи, а не на Великой. Или названия деревень Виленщины. Думаю, жители Великого Села не станут называть его Диджясалис оттого только, что так написано нынче на въездных указателях. Тоже само Ужусенис — Застенки, Каркленай — Лозники и т. д. Да и в унификации государственного языка для Виленщины значения не много, смысла же нет вовсе. А смысл в том, что Литовское государство не ущербно, а, наоборот, богато Виленским краем — этой уникальной совокупностью родов и культур, множеством языков. Так же, как смысл отношений Литовского и Белорусского государств — не в возведении новой (и весьма дорогостоящей, кстати) исторической реалии, государственной границы, а как раз наоборот — во взаимопроникновении культур, которое было приостановлено в послевоенные годы.
Он-она-оно — звучит как утверждение. А чей-чья-чье — как отрицание, как заикание. Мицкевич — «синоним» Города. Наш! Нет, наш! Нет, не ваш! Нет… Творчество здесь не помогает. Писал по-польски! Но — на белорусском материале! Но — отчизной называл Литву! Логика приводит к гематологическому анализу. И тут вместо ожидаемой чистоты и однозначности появляется новый фактор — еврейская кровь. Но Мицкевич — заглавная буква длинного исторического ряда: Сырокомля, Костюшка, Витовт… Везде похожая ситуация. Грюн- вальд, архитектура, статут Великого Княжества Литовского, само Княжество… Наконец, все сходится на Городе. Он тоже «полукровка». Его не разделишь, не разрушив, а разделив — не приобретешь. Поэтому спорить следует не о принадлежности Города, а о принадлежности Городу.
Смысл существования «других» национальных групп: белорусов, поляков, евреев, татар, русских, — в том, чтобы возродить Город во всем многообразии его культурных традиций под юрисдикцией Литвы. Если, конечно, юрисдикция не будет первичной, а культура вторичной. Юрисдикция — это ведь, как дикция. Черчилль, кажется, писал на полях собственных речей: «Аргумент слаб. Повысить голос». Все аргументы текущей политики слабы перед фактами многовековой культуры.
НАЧАЛО 90-Х
… В январе 1991 года я, тогда уже житель Города, стоял со своим бело-красно-белым флагом на площади перед зданием Верховного Совета Литвы и так же, как сотни тысяч других людей, стоящих рядом с другими флагами, ждал танковой атаки. Тогда я ясно осознавал, что уехал из Империи Зла, и не в эмиграцию, а как бы ближе к дому и к космосу, ко сну. И к смыслу. Возможно, тогда впервые я полнокровно ощутил значение смысла. Весь мир поделился ровно на две части. Не было различий ни социальных, ни национальных, ни религиозных… Было только добро и зло. Люди и танки. И я был на стороне добра, и ничего не мог поделать с его неодолимой притягательной силой.




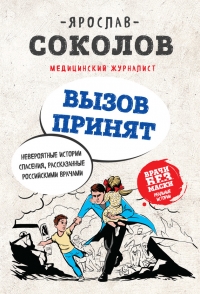

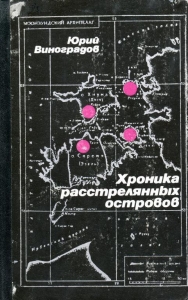
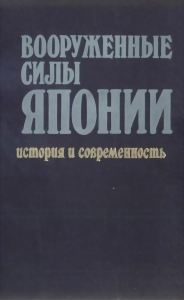

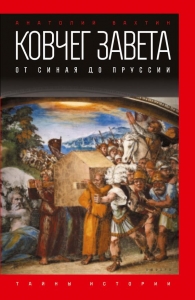
Комментарии к книге «Русская книга», Сергей Иванович Дубавец
Всего 0 комментариев