Операция в зоне «Вакуум»
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Глава 1
Горбачев выброшен в координатах 91—18… Зажег два термитных шара, что означает: «Упали кучно, все живы».
«Могикан».1
13 августа было Заговенье. И шут бы с ним, когда б не бабкино пророчество:
— Как в Заговенье дождь, так две недели дождь, нет дождя — так до самого Успенья — вёдро.
Старуха обкашивала горбушей угол аэродрома. А день едва начинался — нехотя, без солнца. Небо было близким, однотонно-серым, словно его обтянули давно не стиранной, но хорошо отглаженной парашютной тканью. Лишь часам к двенадцати заморщилась пелена, собралась темно-синими складками, продырявилась. Получилось то, что обещала метеосводка: «Небо пасмурное, с просветами…»
Трава холодила спину. Горбачев поднялся. Слегка поташнивало после тренировочного прыжка, в ногах все еще ныла жесткая встреча с землей.
Глянул на домик летчиков — там у крыльца маячил кто-то, Фиклёнкин, похоже, размахивал руками и, судя по всему, звал его. Горбачев дал отмашку и прибавил шагу…
Группа отсиживалась в Девятинах четвертый день. Все не было в небе того самого просвета, через который могли бы пробиться У-2.
Осваивали парашюты. По строчкам разыгрывали план действий на территории противника. Изучали устройство рации «Север» и шифр номер 015. В ушах, как вода после купания, — голос радистки Сильвы: «После того, как буквенный текст превращен в цифровое значение, производим перешифровку. Берем присвоенный для нашего шифра лозунг: «Кто в беде оставит друга, тот познает горечь бед». Зашифровываем его»… Но ожидание, чем бы ни заполнялось, — бездействие…
Фиклёнкин озабоченно протянул метеосводку:
— Положительная.
— Ну, наконец-то!
— Да, в дорогу, Дмитрий Михайлович.
…После обеда группа получила задание отоспаться в счет предстоящей ночи. Горбачева отозвал в сторону провожавший группу секретарь ЦК комсомола республики Юрий Андропов — «Могикан».
Шли краем поля. Под ногами ромашки, последние цветы Большой земли.
— Как настроение?
— Летное.
— Хочу, Дмитрий Михайлович, еще раз напомнить — вы не диверсионно-террористская группа… — Андропов высок, интеллигентен, та ненаживная в нем основательность, что уже к неполным тридцати прочно ставит человека на ноги… — Оружие, повторяю, дается вам для самообороны, на черный день. Никаких открытых столкновений с врагом! Ваша главная забота — население оккупированного района. Станьте для него советской властью. Думаю, понятно, как это важно, как сложно.
— Ясно, Юрий Владимирович.
— И еще. Командование Карельского фронта многого ждет от вас. Ваш район — это побережье Онежского озера, это близость к Петрозаводску, это Свирь. Армии срочно нужны сведения о дислокации воинских частей врага. Расположение аэродромов, количество и типы самолетов, линии оборонительных сооружений, состояние охраны военных объектов, населенных пунктов, комендатур — все это сведения чрезвычайной важности.
— Понятно, — Горбачев обвел взглядом поле.
Старушка, предсказав до Успенья вёдро, собрала в копну вчерашнюю кошу, прикрыла ее шапкой сырой осоки и на поводу потянула козу в Девятины. Небо разветривалось, но, видно, не проведешь старую: переменчивым выдался август сорок третьего года.
— Как действовать? — продолжал Андропов. — Разработанная Центром версия вашего поведения может оказаться неточной. Всего не предусмотришь. Потребует обстановка — действуйте на свое усмотрение. Вы — парторганизатор ЦК партии в районе, который знаете лучше многих…
Это были нужные слова. В инструкциях действительно недостатка не было. Последние дни Горбачев укладывал их в переполненную память не без опаски, понимал: главное все-таки — самостоятельность… И он сосредоточенно растил ее в себе, оберегал от категоричных советов, заранее принятых решений. Был доволен, что после долгих обсуждений так и остался открытым вопрос о постепенной легализации группы в оккупированном районе. Такую задачу издалека не решишь.
— Сделаем все, что в наших силах, Юрий Владимирович. Так передайте Центру, — сказал Горбачев.
— Ну что ж, тогда по коням!
2
В 22 часа самолеты были готовы к взлету. Горбачев обходил свой маленький экипаж и молча пожимал руки… Впереди всего час лета по прямой, вертикальные минуты под парашютом. Но встретятся они, если все будет хорошо, на чужой земле.
Удальцов вооружался: автомат повесил на шею, маленький бельгийский пистолет — в потайной карман, семизарядный, с барабаном наган втиснул в старенькую кобуру.
Михаил Асанов совмещал несовместимое: пытался засунуть автомат в мешок с концентратами.
Сильва сидела не шевелясь. Слева — рация, справа — питание к ней. На поясе наган и «лимонка», мешочек с продуктами на коленях.
— Как устроились, товарищ Сима?
— Села, как в поезд: думаю, что дальше будет.
Неплохой ответ для девятнадцатилетней.
Этой девочке доводилось думать в поездах. В Беломорске Горбачев перелистал ее личное дело. Оно было крохотным, но каждая строчка — из драмы.
Родилась в финском городе Кеми.
«Имеете ли за границей родственников или близких знакомых?»
«В Финляндии по маме 8 теть и 5 дядей. По папе 1 тетя и 3 дяди».
Ее отец Карло Ерикович Паасо — финский коммунист. Вел физкультурную работу в рабочем клубе. В 1929 году, с началом фашизации Финляндии, ушел в подполье. Несколько раз скрывался в Швеции и Норвегии. В 1931 году бежал в Советский Союз. Работал воспитателем при финской девятилетке в Петрозаводске.
В Кеми Сильву исключили из школы.
Через год, раздобыв чужие паспорта, уехали с мамой в Швецию. Там получили советские визы.
«Приехала в СССР семилетней».
В 1937 году не стало отца…
Образование — 8 классов.
Партийность — комсомолка с 1939 года.
Горбачев ждал от нее мужества.
…Внизу темная неразличимая земля. Слева скребут небо прожекторы. Там Волховский фронт. У-2 идут гуськом. Курс — Шелтозерский район, координаты 91—18.
Как мало пятидесяти минут, когда так круто разворачивается судьба. Для Горбачева Шелтозерский район — родной. Там — страна детства. Там отец и мать. Сестра и ее муж Митька Тучин, финский староста в Горнем Шелтозере.
«Воспользуйтесь родственными связями», — говорили в Центре, имея в виду прежде всего Тучина. Но как бы эти родственные связи не затянулись на шее петлей…
Снизу косо, дав вдруг масштаб высоте, встал столб прожектора. С Сухого носа, — решил Горбачев. До Шелтозера километров семь…
Фикленкин поднял руку: группа над целью. Горбачев, изогнувшись, навалился на левую плоскость крыла. Было холодно, поток воздуха рвал из рук обрез кабины. Приспособился, нащупал правой рукой кольцо парашюта. Слезящимися глазами следил за пилотом. Взмах!
Податливая бездна. Нарастающая тяжесть тела. Толчок. Под ногами — болото…
Самолеты ушли для второго захода. Нащупал руками сухой пень, зажег два термитных шара. Пламя сгустило темноту, но сверху должны были четко видеть, ориентир…
3
Через десять минут все были в сборе. Погасили костер. Закопали парашюты. Быстро двинулись на юго-запад.
Темнота. Ни звезды, ни проблеска неба над головой. Там, в кронах сосен, тихо шепелявил дождь. Хруст под ногами. И тяжелое дыхание за спиной.
Обернулся к Сильве. Нащупал ее локоть:
— Кто за тобой?
— Асанов.
Локоть мелко вздрагивал. Сжал на нем спокойные пальцы. Надеялся, что пальцы спокойны.
— Это я после бани, Дмитрий Михайлович.
После бани прошло пять часов.
Шли в том же порядке, в каком приземлялись: он, Горбачев, Сильва, Асанов, Удальцов. Видимо, первое, за что машинально хватается человек в минуты опасности, — это отработанный, привычный порядок действий.
— Часиков десять ходу, — сказал Горбачев. — Сапоги в небе никто не потерял?
Кто-то хмыкнул, откликнулся женский голос — строго:
— Я же их веревочками привязала.
И тогда вдруг в цепочке раздался смех, робкий, скованный… Каждый, видно, чувствовал, знал, что не в сапогах и в веревочках тут дело, что только повод тот случай в Яровщине, на полевом аэродроме 7-й армии, когда во время тренировочного прыжка приземлился сначала кирзовый сапог Сильвы, потом сама парашютистка, потом портянка… Да и не смех то был. Насмешка, что ли, — над страхами, неопределенностями. И только для отвода глаз, наверно, а, может, из опаски, что угаснет эта искорка бодрости, добавлялись все новые детали.
— Мне даже показалось, что сапог свистел, — тихо сказал Павел. — Не хотел бы я под такой каблук попасть.
Асанов добавил:
— Андропов тогда смеялся сильно. Вы, говорит, так все обмундирование по ветру пустите.
И умолк смех разом, как спичка догорела. И не грохнули с боков выстрелы, не ослепили фонари из засады. Дорога не стала легче, а зашагалось свободней.
Шли девятый час, когда за росным болотом у тихой неживой речушки, окутанной зарозовевшим туманом, Горбачев объявил привал.
— Что за речка? — спросил Удальцов.
— Пришли к назначенному месту. — Горбачев сбросил рюкзак и неторопливо, по колено погружаясь в рыжую мякоть, обошел болото. Вернулся с тяжелым дыханием.
— Завтра сюда должны сбросить продукты. Товарищ Сима, сообщите Центру, чтобы сбросили на километр восточнее, — сказал с той усталой простотой, с какой говорят домашним: «Подай-ка ковшик!»
Сильва утащила в сторону противовес, развернула антенну, забросила ее конец на приземистую сосну. Настроилась на волну, а рация — ни гу-гу…
Через полчаса Горбачев сказал Асанову:
— Разведи-ка, Миша, костер, подсыхать будем…
Ночью 15 августа далеко в стороне кружил самолет. Разожгли три костра, но летчик едва ли мог их заметить.
— На то ли место вышли? — спросил Удальцов.
Развернули карту, наметили двигаться по азимуту на север… Азимут должен был вывести к Калинострову и Сюрьге, а они оказались у Каскесручья и Карповки. Стало ясно, что группа выброшена километров на девять юго-восточнее условленного места.
Глава 2
Командир группы тов. «Егор» направляется в Калиностров и устанавливает связь с отцом и матерью, через которых выясняет обстановку, а также собирает данные о свояке, муже сестры Тучине Дмитрии Егоровиче, работающем старостой в дер. Горнее Шелтозеро, и определяет возможность связи с ним, его использования для работы в пользу Советской власти. В случае невозможности этого, уничтожить его, как предателя Родины.
Из оперативного плана.1
Утром 16 августа Горбачев и Удальцов направились в Горнее Шелтозеро. В полдень вышли к поселку Уорд. Здесь, в преддеревенском мелколесье, Горбачев с неожиданной для него сноровкой забрался с биноклем на вершину ели. Ему открылись крыши Уорда, дым электростанции у пристани, крутой изгиб тракта Вознесенье — Петрозаводск… Надушив лес кислой осиновой гарью, прошли три финских газогенераторных полуторки. Через пару минут, едва улеглась на тракте пыль, — солдаты. Отчетливо различил форму sotapoliisi[1]. Пересчитал — семнадцать автоматчиков. Долговязая фигура офицера. Две овчарки на поводках. Повозка. На ней человек навзничь. Убитый, раненый, свой или из этих — восемнадцатый?..
Тракт опустел. Горбачев глянул вниз. Там, за рябиновым кустом, с автоматом наготове, стоял Удальцов…
Удальцов стоял внизу. Мимо прошли каратели. Откуда? Сильва и Асанов остались на болоте…
Сжал бинокль зыбкими, добела напряженными пальцами.
На лесистой горе напротив Уорда уловил вдруг искристую вспышку. Звука выстрела не последовало. Поднял голову: солнце на месте. Значит, сверкнуло стекло или зеркало. Навел бинокль, увидел наблюдательную вышку, часового со стереотрубой — двадцатипятикратные увеличительные стекла, казалось, разглядывают в упор.
Скользнул вниз. Удальцов принял его на руки.
— Чего там хорошенького, Дмитрий Михалыч?
— Да ничего особенного, Паша. — Горбачев тщательно отряхивал фуфайку. — Насмотрел один поворот покруче. Недалеко, шагов четыреста. Там дорогу и перескочим. А окурок-то подбери, зачем зря мусорить…
Остаток дня прямиком шли к Горнему. Лесовал, болота, скалы — кривой карельский азимут.
2
Между Залесьем и Ропручьем, в узком выеме скалы, остановились на ночлег. Натаскали хвороста. Горбачев раздувал огонь, Павел, вытащив из рюкзака банку консервов, сухари, кусок шпига, шоколад, привалился спиной к холодному камню, смотрел, как подступает к костру темнота, как бессильно вязнут в ней искры. Думал: вот она, тоска собачья — огонь в темноте.
— О чем молчишь? — спросил Горбачев.
— Так…
— Так только лошади молчат.
— В госпитале читал Тургенева. Стихи, только без рифмы. Стихотворения в прозе. Одно называется «Порог»… Ну вот, там узкая такая дверь.
— Где — там?
— Да в стихотворении… За дверью мгла и холод. У высокого порога стоит девушка… Вот как Сильва. А из глубины здания голос доносится:
— О ты, мол, что желаешь переступить этот порог; знаешь ли ты, что тебя ожидает? Холод, голод, насмешка, презрение, обида, тюрьма, самая смерть… И еще там что-то такое… Ну вот… Ты погибнешь, — говорит голос, — и никто не будет знать, чью память почтить!
— Ну, а девушка что?
— А девушка отвечает: знаю, мол, знаю, и все-таки хочу войти.
— Значит, цель у человека была, — просто решил Горбачев. Помолчал. Его не покидала тревога за Сильву и Асанова. Добавил: «Все мы, Павел, сейчас стоим у такого порога».
— А Тучин — какой человек? — спросил Павел.
Горбачев долго подкатывал к костру камень. Сел. Финским ножом вскрыл банку.
— Не знаю.
— Как же так? Он же… Ваша сестра за ним замужем?
— Все равно не знаю. Спроси, какой он был, скажу. Скажу: твердый, был человек, волевой. А что все это — твердость, воля? Солдаты, нанятые убеждениями. Измени убеждениям, и твердая воля пойдет брататься черт-те с чем… Так или не так?
Павел промолчал. Видно, Горбачев хорошо продумал, о чем говорил.
— Знаю, что в финскую войну Тучин хорошо воевал. Был в 18-й дивизии. Под Сортавалой попал в окружение. Вырвался. С перебитой рукой пять или шесть часов добирался Ладогой к своим. Это было в сороковом. А в сорок первом стал старостой. Говорят, выдал партизан. В сорок втором, в феврале, принял из рук Маннергейма медаль «свободы»… Звучит?
— Под финнами-то он как оказался?
— Просто. В армию его не взяли — какой из него солдат: рука руку не моет… А началась эвакуация Петрозаводска, уехал на родину, в Шелтозерский район. В Беломорске смотрел его личный листок, заполнен со слов отца. Так там сказано: «Август 1941 года — завхоз Шелтозерской больницы, где и остался до прихода финнов». Почему? — отцу не известно… В графу «Последняя высшая должность» какой-то чудак сунул запись: «В финскую войну был в окружении и получил ранение в левую руку, рука не действует, хотя и не отнята»… Вот тебе Тучин. Что скажешь?
— А помолчу, — сказал Павел. — Время придет — скажу… за словом в карман слазаю. У меня там много слов, и все меткие, — Павел рассмеялся, ему, кажется, все было ясно, и лихая эта ясность встревожила Горбачева.
— Павел! — предупредил Горбачев, — у того порога, о котором ты говорил, с людьми придется заново знакомиться. Такой уж это порог. Словами без нужды бряцать не будем. А теперь приляг, я подежурю.
— Не хочется. Какой сон к чертям.
— Тогда расскажи что-нибудь. Как в госпиталь попал?
— На Свири было, — нехотя ответил Павел.
— Ты же калининский.
— Калининский, — Удальцов лег на спину, протянул к костру ногу в дырявом сапоге — подметку на азимуте потерял, автомат уложил поперек живота. Костер догорал, в чахнущем его свете едва виднелось лицо Горбачева.
— Семья у нас была — раз, два, три, четыре, пять, — вздохнул Павел. — А работников — раз, два. А тут брата в армию забрали. На границе служил, в Проскурове… Ну вот. Окончил я девять классов и махнул в отход — Свирь-II строить. Ох и нравилось мне это дело, признаюсь. На Свирь утром выбежишь, потянешься, — майка на груди трещит, здоров, что бульдозер…
Потом война началась. Далеко, как в Испании. Испугаться толком не успел. Брату завидовал: пойдет по Европе гулять! А тут — беженцы, маткин берег, батькин край! За Свирь бегут… Один мужичок, вологодский такой, из Ошты, тот так сказал: «За Свирь-то — не пройдут, мосты только поснимать…»
На стройке у нас истребительный батальон формировать стали. Побежал, записался — винтовку дали. Истребительный батальон номер 100. В Подпорожье по мишеням постреляли, упражнение номер два. Ну вот… А тут под Лодейным Полем финны прорвались, нас туда, на затычку… Из 90 человек только 25 отступили к станции Свирь… Окопались кое-как, у железнодорожного моста оборону заняли… И пошло! Трое суток головы не поднять. Подпорожье горело… Остервенел кто-то, в атаку побежал, мы за ним. Тут мне ногу осколком и прошило. 12 сентября дело было…
Когда же это в меня стреляли? — задумался Горбачев. — Тридцать первый год. Мосток у Погоста. Осень. Сентябрь, что ли? Нет, ледок на болоте был, верно: будто по парниковым рамам бежал. Не помню. Не попали потому что… А Павел помнит.
Горбачев впервые почувствовал, что рядом с ним не просто юнец с хмельной неосторожной силой, и к нему впервые за эти дни пришло спокойствие.
— …Полежал малость в Вознесенье, перевели в Петрозаводск. В здании университета лечили. Потом госпиталь эвакуировали в Медгору, — все с ленцой продолжал Павел, словно и говорил-то потому, что ночь скоротать надо. — Ну вот… слышу, ребята о выздоровительном батальоне толкуют. Встал, ногой подрыгал — дело швах. Нянька говорит: «Лежи, тяжелый, тебя в Сибирь повезут». «Какая, нянька, Сибирь!» Утром ребята в дверь, я — в окно. У Щукина, начальника штаба полка, встретились. Тот глянул, усмехнулся. Что, говорит, молодо-стреляно, в кружок кройки-шитья пришли? Марш к военкому! Дал нам записку и два часа сроку…
А в военкомате мне отказали. Твой год, говорят, не призывается. Хочешь, говорят, иди добровольцем, в лыжный батальон… Какой — лыжный, я пешком еле гребу.
Иду в райком комсомола, думаю, может, в партизанский отряд какой… А в райкоме Веня Зуев, секретарь, затурканный такой, хромай, говорит, выше, мы не формируем. Я — в ЦК партии. На Ивана Владимировича Власова попал, на зав. орготделом. Тот — свое: «Понимаю, сочувствую. А только партизанские отряды все ушли. Кстати, мне боевой завхоз нужен».
ЦК готовился в Беломорск переезжать. Туда меня и направили — хозяйство заводить. Ну вот… До декабря заводил хозяйство. Потом включили в бригаду лыжников-инструкторов. Два месяца в калевальских частях украинцев учил. Только вернулся, Иван Владимирович вызывает. То да се. А потом и выложил: «В партизаны, помню, рвался. А вот как смотришь на такое предложение — в тылу врага поработать? Подумай, не торопись…» Стою, для вежливости думаю. Думаю, а чего думать-то…
Ну и все — спецшкола, Яровщина, Девятины, и биография кончилась. — Павел развел руками — извините, мол, больше и занять нечем.
— Так уж и кончилась, — отозвался Горбачев. Поднес к часам головешку. — Пора, пойдем, Павел.
Затоптали, прикрыли валежником костер. Темнота сомкнулась и разрядилась. Обозначились стволы сосен, горбы камней. Воздух был сырым и стылым — в самый раз для ходьбы.
3
Когда вышли к болоту Гладкое, оно уже было достаточно высвечено, чтобы осмотреться. Над ним недвижно висел туман. Пригнувшись, Горбачев высмотрел в северном конце болота еще до войны нежилую избушку. Рядом темнел шалаш. Не было раньше шалаша. Потянул Удальцова в сторону — логика простая, обходи все, чего не было до войны.
Через час на крутом зеленом холме открылась Сюрьга. Видно было, как лезет вкось, словно не в силах одолеть подъем напрямую, матвеевосельгская дорога. Еще не дымились трубы: люди не торопились начинать очередной свой день.
— Это Запольгора, — пояснял Горбачев и все лез на угор, пока в низине перед Сюрьгой не показались крыши Калинострова.
Залегли на лесистом скате. Выше не было места вокруг. Горбачев, тяжело дыша, осматривался.
Перед ним была родина.
Она состояла из озера Кодиярви, долбленых осиновых челноков у берега, отцовского дома в низине, ручья почти под самыми окнами, мостика в шестнадцать бревен, полей, холмов, дорог, Теткиного болота. И еще из щемящего чувства, которому ни имени, ни истолкования нет.
Павел взял бинокль.
— Сюрьгу видишь, — не глядя подсказывал Горбачев. — Глянь-ка на первый дом справа, приземистый, задом к озеру. Живой?
— Живехонек, дымок пустил.
— Миша Кузьмин живет. А за ним, соседский?
— Стоит.
— Ивана Сергеевича Савостьянова дом. В «Красном онежце» партизанит… А это Тихоништа. Двухэтажный дом видишь? За рекой, тесом шитый? Сельский Совет был… Был сельский Совет, Паша. В доме бывшего кулака Белкова… Я, Паша, в тридцать первом году тут первый колхоз организовывал. «Красный борец» назывался. И хороший колхоз был. Перед войной его объединили с «Первым Маем» и «Егерем» — колхозами Сюрьги и Тихоништы, и всё вместе стало называться «Вперед», с центром в Погосте… Вон там Погост, в километре — видишь, где каменная церковь на горе?..
Горбачев хотел показать Павлу тот мосток у Погоста, у которого тогда, в тридцать первом, пальнули в него не по моде, из необрезанного дробовика. Да застеснялся как-то: не попали, да и число из памяти выскочило…
Заморосило. Дождь снял с Кодиярви туман, и у дальнего берега завиднелись рыбацкие челноки. Горбачев приближал к себе лодку за лодкой. Вдруг торопливо нащупал конец шарфа, протер объективы. Замер. И Павел заметил, как залихорадило бинокль.
— Чего там? — спросил.
— Батя, Павел… Батя мой там, на луде! — вскочил, зачем-то похлопал ладошками по бедрам. И приговаривал удивленно: «Батя… батя… батя…» Павел дернул его за сапог, Горбачев рухнул и виновато осмотрелся:
— Тьфу, черт, как меня вздыбило! Три года не видел, а тут батя. Рыбу ловит, живой, в общем…
И долго не мог успокоиться. То и дело брался за бинокль. Комментировал: «На червя плюет», или «Цыгарку крутит»…
К полудню угомонился дождь. Пробилось справа солнце, томительно запарилась земля… Мало что произошло вокруг. Вышли в поле косари. Горбачев узнал Реполачеву Ольгу с дочкой, Аверьяна Гришкина с женой. Прошли из Сюрьги трое солдат с собакой. Из Погоста проехала в Тихоништу машина с солдатами — частокол винтовок в кузове.
К вечеру на поле высыпала вся деревня. Метрах в трехстах бабы жали овес. Одна из них, в длинном старушечьем платье, одиноко копошилась у самых кустов. Махнув Павлу рукой — сиди, мол, не рыпайся, Горбачев бесшумно скользнул вниз.
Выбрался к краю поля, тихо позвал:
— Тетка Дарья!
— Ау! — баском откликнулась старуха. Схватилась за поясницу, мучительно разогнулась. И, никого не увидев вокруг, перекрестилась.
— Тут я, Дарья Андреевна, ты оборотись к леску-то.
Подошла к кустам, увидела, остановилась в испуге.
— Да не бойся, иди поближе-то! — повеселее сказал ей. — Свой я, не признаешь что ли?
— Осподи, помилуй! — старуха выронила серп, сгребла руками передник. — Митрий Михалыч! Куда ж ты, пойгайне… тясся ведь он война[2].
— Знаю, тетка Дарья, все знаю, — взял ее за плечи, маленькую, обмякшую. — Не плачь, мать, не до плаксы теперь. Мне бы своих повидать… Сходи тетка Дарья, скажи, Дмитрий ждет… И никому больше ни слова, мать!
— Ой, пойгайне, пойгайне… — старуха осушила обеими ладошками лицо, замотала передником левую руку и, держа ее на весу, ни слова не сказав больше, потихоньку вышла на стерню.
Горбачев вернулся к Павлу. Молча лег рядом. Сказал, словно объясняя все неясное:
— Дарья Буравова. До войны ударницей была…
С высоты хорошо было видно, как тетка Дарья подошла к дому отца, шмыгнула за угол. Да, видать, только потопталась там и свернула, ведьма, к дому старосты Тучина…
Глава 3
Староста обязан:
1. Доводить до населения приказы военных властей.
2. Следить за неблагонадежными и доносить о них местным комендантам.
3. Участвовать в обысках и облавах.
4. По требованиям финских властей назначать население на работы, выдавать наряды и следить за их выполнением.
Из инструкции шелтозерского штаба военной полиции.1
Когда приходит Леметти, лицо у него похоже на повестку: глянь и лезь на печку за портянками, да поторапливайся. Ясно все — начальство прибыло в чинах. (Ноги у Ивана по колено в грязи, локти прижаты к туловищу, кисти рук опущены, и между пальцами пленки незасохшей глины — торопился, падал.) А требует начальство неспроста. (На мокром важном лице так и значится: его, Леметти, переводчика, помощника шелтозерского коменданта, на мелочь разменивать не станут.)
Слова у него несколько отстают от жестов. Говорят, в молодости его пришибла лошадь. С тех пор он посмеивается своим мыслям, шевелит губами, будто слова из мякиша лепит, а руками в воздухе всякие кренделя выписывает.
Раз его заело на сходке, доклад в Посаде делал. Правой рукой на север тычет, левой на юг, а слова не идут. Комендант Саастомойнен шепчет:
— Suur-Suomi Uralille saakka… saatana![3]
Другой раз, пьяненький, подошел к Матвею Лукичу Четверикову. Долго хлопал старика по плечу, шевелил губами. Махнул рукой, отошел. Вернулся:
— Хочешь знать, война кончится, тебя в работники возьму, хорошо кормить буду…
А недавно того же Матвея Лукича сшиб кулаком с ног. Встал над ним:
— Не будешь работать, я, хочешь знать, ударить тебя могу.
Кулак у него быстрый, незадумчивый.
…Леметти потоптался у порога, поднял руки к потолку, округлил рот буквой «о», и Тучин понял: приехал начальник штаба полиции Ориспяя. Быстро оделся, вышел. Уже в дороге спросил:
— Какое дело у капитана?
Леметти наморщил лоб, ухмыльнулся, махнул рукой влево, куда-то в сторону Залесья:
— Партизанов поймали… Одного наповал. А радистка живая. Пять пуль, а она, хочешь знать, живая…
— Где поймали?
Леметти не ответил. Он шел, как лось на соляник, скользя и брызгая грязью.
В Шелтозере в его подчинении около трехсот рабочих. Поговаривают, он уже сейчас добивается отправки в Финляндию двадцати человек на свое имя. И еще говорят, капитан Ориспяя, крупный землевладелец, согласился временно устроить этих людей в своем maatila[4].
Еще год назад у Леметти другие планы были. «Хочешь знать, в Ленинград вернусь. Транспорт заведу, подряды брать буду». Какой транспорт, какие подряды… Впрочем, дело ему знакомое: до революции держал в Петербурге пятьдесят лошадей и два дома на Лиговке…
2
В небольшом кабинете Саастомойнена сидело человек двенадцать. Бегло осмотревшись, Тучин заметил рядом с Ориспяя офицера тайной полиции Коскинена. Слева разместились на скамье начальник горне-шелтозерской полицейской группы сержант Туоминен, сержант Аарнэ Мустануйя, капрал Калле Маява, полицейский Нийло Аувинен. Справа, у окна, нависнув над широко расставленными квадратными коленями, исподлобья, по-бычьи смотрел Вели Саастомойнен.
По тому, как смотрел Саастомойнен, как оборвался разговор, как повернулись к двери головы, Тучин понял, что здесь только что говорили о нем.
— Нехорошо, господа! — Тучин покачал головой, пронзительно рассмеялся: — Приятные вещи надо говорить в глаза. — Поздоровался, бодро прошел вперед, оттолкнул ногу Саастомойнена, небрежно развалился на скамье.
— У меня действительно есть для вас новости, господин Пильвехинен[5], — хмуро сказал Ориспяя.
— Новостям да гостям всегда рады! — весело отозвался Тучин.
Ориспяя встал. Он был почти двухметрового роста. Ему пришлось согнуться, чтобы опереться руками о стол.
— Я только что ездил в Кашканы, господа.
Тучин удивленно повернул голову: Кашканы — по ту сторону железной дороги, в Пряжинском районе, километров на сорок южнее Святозера. Из Шелтозера туда дороги нет.
— Четырнадцатого августа, — продолжал Ориспяя, — я был вызван в штаб-квартиру Восточной Карелии. В непродолжительной беседе начальник отдела разведки при штабе армии полковник Меландер лично обрисовал мою задачу. Он сообщил следующее… Двадцать девятого июля разведка шестьдесят четвертой колонны Лагуса получила донесение о том, что накануне, ночью, точнее в двадцать три часа тридцать пять минут, наши прифронтовые истребители рассеяли цепочку вражеских самолетов типа У-2. К сожалению, ни сбить, ни вернуть их за Свирь не удалось. Поддержанные зенитным огнем, самолеты рассредоточились и ушли на юго-восток, в сторону Шелтозера. Есть все основания полагать, заметил полковник Меландер, что красные предприняли очередную попытку создать в окрестностях Петрозаводска диверсионно-разведывательную базу.
— Какого черта они прутся в окрестности! — возмутился Саастомойнен, — если им, ясно же, нужен Петрозаводск?
— Петрозаводск — зона вакуума, господа, — ответил, ни на кого не глядя, Ориспяя, и было ясно, что он выдает истину в последней полицейской инстанции. — Система лагерей почти не оставила в Петрозаводске свободного населения. Полагаю, отсюда и попытки создания баз в окрестностях…
Итак, самолеты ушли на юго-восток. Это было двадцать девятого июля. Через девять дней, седьмого августа, отряды военной полиции обнаружили в районе Педасельги три парашюта, спрятанных на значительном удалении друг от друга. Очевидно, рассеянные над Свирью, самолеты вышли на цель не одновременно. Группа выброшена россыпью, и это осложнило поиски.
— Господин капитан, — поднялся сержант Туоминен. — А если те самолеты, так сказать… и эти парашюты… То есть, если люди вообще, они не те, и даже, так сказать, не знают один о другом?
— Исключено! — раздраженно ответил Ориспяя. Его коробило косноязычие. Он не терпел, когда его перебивают. — Следы трех парашютистов сошлись в восемнадцати километрах южнее Педасельги. Еще через два километра они привели к двум трупам наших солдат. Дальше следы поглощены болотом…
Примерно в те же дни, — продолжал Ориспяя, — седьмого и восьмого августа радиопеленгаторами были обнаружены в районе Ладвы две радиостанции. Их разделяло расстояние в десять-двенадцать километров. Но с каждым выходом в эфир это расстояние резко сокращалось. Очевидно, радисты установили связь с центром, и тот ориентировал их на соединение друг с другом… Были вычерчены схемы их движения. Две линии сошлись конусом у реки… у реки Таржеполка. Туда, на острие, к месту вероятной встречи была немедленно направлена засада…
Ориспяя распрямился, вытер платком углы губ. Стояла такая тишина, что слышно было, как платок шершаво трет щетину. Ориспяя вдохновился. Теперь это надолго: при всей своей недюжинной проницательности и редком здравомыслии капитан увлеченно грешил красноречием.
Тучин зашелся хриплым кашлем, отошел в угол, к печке, сплюнул. Снова уселся и даже подался вперед, что должно было означать: лично он, Тучин, с волнением слушает.
— Я упускаю детали, господа. Днем двенадцатого августа в пятнадцати метрах от засады радисты встретились. Точнее радист и радистка. Они обнимались, когда у какого-то шалопая не выдержали нервы. Одной очередью все было испорчено, радист убит, радистка без сознания. Пять ран почти не оставляли надежды на допрос. Но она жива. Я видел ее в Кашканах. Ей не больше семнадцати. При мне врач вытащил из нее три пули и две оставил в спине, опасаясь, что она не выдержит операции. А я смотрел ей в глаза. Ни слезы, ни крика. Только расширялись и сужались зрачки, словно жизнь подмигивала смерти. Кто этого не видел, тот не может считать себя психологом, господа. Я видел. Я знал, что она будет жить, но эта жизнь для нас бесполезна. Слова у нее, как пули в спине: у живой не вытащишь… Покойник оказался разговорчивей. Его труп в тот же вечер был опознан. — Ориспяя вытащил из папки бумажку, разгладил ее на ладони и вдруг, уронив вдоль тела руки в знак какого-то тяжкого недоумения, бросил взгляд на Тучина. — Морозов… Николай… Петрович. Он ваш земляк, господин Пильвехинен?
Горбачев Дмитрий Михайлович.
Тучин вопросительно вскинул светленькие брови:
— Вы меня, господин капитан?
Ориспяя взорвался:
— Вы что, спите, черт побери?
— Как можно, господин капитал! — возмутился Тучин.
— Я спросил, — почти шепотом сказал Ориспяя, — знаете ли вы Морозова Николая Петровича?
— Морозова? Ну как же, хорошо знаю Морозова.
— Он вепс?
— Карел, по-моему.
— Когда вы с ним виделись последний раз?
Тучин поднял глаза к потолку, прищурился.
— Дай бог памяти… году в тридцать третьем, господин капитан. Он был поученей и поумней нас… Я имею в виду Ивана Леметти, Семена Коскинена. Учился в дорожно-строительном техникуме. Работал в Лоухах, в Сегеже, в Падозерском лесопункте, мастером, кажется…
— Можете ли вы предположить, с кем он надеялся установить связь и где — в Сюрьге, Тихониште, Калинострове, Погосте? Отвечайте!
— Могу… Могу, господин капитан.
— Итак! — шумно выдохнул Ориспяя.
— А со мной, господин капитан, — простенько сказал Тучин. Поднял бровь, искоса, с выжидающей усмешкой в глазах уставился в лицо Ориспяя. — Со мной! — Для полной ясности яростно ткнул себя большим пальцем в грудь. — Поздравить с высокой наградой маршала Маннергейма, господин капитан.
И прежде чем Ориспяя успел опомниться, встал со скамьи, добавил запальчиво, по слогам:
— Не по-тер-плю ни-ка-ко-го до-про-са! Мне сам Рюти вежливо руку жал, вежливо! — Тучин выбросил вперед эту самую руку, ладошкой кверху, словно в пригоршне покоились бесценные доказательства его оскорбленной дружбы с президентом Великой Финляндии.
Ориспяя сел. Лицо его было несчастным. Он был похож на человека, у которого нет сил ни на ссору, ни на примирение. Его не поняли. Он зря тратил слова. Кого он обидел? Чем? — спрашивали его глаза у Саастомойнена, Коскинена, Мустануйя, Леметти… Он не одобрял нелепой игры в соплеменные чувства, в родство кровей, в вепско-карело-финское братство. Но правила этой игры были писаны и для него, начальника штаба полиции, и он обязан держать свой гнев в кобуре. Пока в силе игра…
— Нельзя так, господин Пильвехинен, — с мягким укором сказал Ориспяя, — Я сожалею об этом маленьком недоразумении и надеюсь, оно останется между нами, не так ли? Только наш общий долг вынудил меня задать вам несколько вопросов, господин Пильвехинен. — Ориспяя протянул Тучину руку, и тот, помедлив секунду, пожал ее молча, насупленно.
— Итак, — продолжал Ориспяя, — мы должны ждать гостей. Что нам известно? Их трое. Может быть, больше. Две рации на пятерых — многовато. Но пока три следа ведут прямо к нашему порогу. В девятнадцать часов десятого августа трое неизвестных были замечены с дрезины вблизи железной дороги Петрозаводск — Токари. В дрезине сидело шесть солдат, но они не могли устроить погоню — в четырехстах метрах за ними шел поезд. Двенадцатого августа, около семнадцати часов, трое неизвестных пытались получить хлеб и сведения у шестидесятилетней жительницы деревни Ржаное Озеро. Дали ей триста финских марок. Женщина немедленно сообщила об этом полиции. Ее сын в плену. Она надеялась, что выдав партизан, облегчит его судьбу.
Но поиски ни к чему не привели. В гарнизоне Ржаного Озера всего пять солдат и ни одной собаки. Следы были потеряны в гороховом поле, тем не менее, солдаты уверяют, что партизаны ушли в сторону Сюрьги…
Тучин Дмитрий Егорович.
— Сержант Туоминен!
Туоминен небрежно вытянулся.
— Сегодня, к восемнадцати часам выставить два круглосуточных наряда по обеим сторонам матвеевосельгской дороги, в километре за Сюрьгой.
— Слушаюсь, господин капитан!
— Выставить посты, по три-четыре автоматчика, вдоль болота Гладкое и по северному побережью Кодиярви.
— Слушаюсь!
— Сержант Саастомойнен!.. Сидите. Позаботьтесь, чтобы в ближайшие два дня во всех окрестных деревнях были проведены профилактические беседы с населением. Оставляю вам тезисы доклада, здесь пять экземпляров… К вам у меня личная просьба, господин Пильвехинен. Не могли бы вы, пока суд да дело, пробежать мой доклад и, если надо, приподнять, усилить кое-какие места. Видите ли, перевод на вепсский сделан офицером отдела образования райуправы Юсси Райнио с помощью его местной сожительницы Нины Мельниковой. Сильно боюсь, — устало улыбнулся Ориспяя, — не до того им было…
3
Тучин взял тоненькие листы канцелярской кальки, послюнявил палец, перелистал страницы, принялся читать.
«Советская власть не любит той работы, которую военная власть здесь на вепсской и карельской земле теперь работает. Она не любит, что вепсский народ может знать, как живут в Финляндии и какие есть финны. Поэтому хочет она разными методами помешать проведению финнами работ и погубить то хорошее, что здесь сделано.
Советская власть и ее помощники распространяют всякие худые разговоры о Финляндии и финнах. Они уже много раз обещали о том, что Красная Армия придет в тот и тот день в Петрозаводск или же Шелтозеро. Все эти дни уже прошли, а Красная Армия находится еще так же далеко, как она была. Другой способ есть — посылать сюда партизан и шпионов. Им приказано узнать, что и как финская армия и военная власть здесь работают, они требуют делать худое, взрывать мосты, жечь дома, и некоторым приказано убить кого-нибудь. Если бы они это могли сделать, от этого вышло бы много худого народу. Поэтому надо нам всем помешать ихней работе. Если ты узнаешь насчет шпионов, партизан или же о таких людях, которые посланы сюда худое делать, или же худые разговоры распространять, или же узнаешь что-либо о людях, которые пришли сюда без разрешения или пропусков, надо срочно сообщить об этом в комендатуру… Партизаны спрятали куда-нибудь свое оружие, патроны, взрывчатые вещества. Если найдете такие склады, нужно немедленно прийти к коменданту и сказать. Если не сообщить, то, может быть, твой же дом взорвут взрывчатыми веществами…
За помощь врагу может выйти худое всей деревне, потому что всю деревню выселят в лагерь или далеко от дома, если в деревне помогают. Это хорошо надо помнить…
Если к тебе придет партизан, пусть это твой сын, дочь или муж, очень его просите сдаться. Кто скоро сдастся, сделает себе хорошо. Может быть, они обещают, что сделают что-либо худое тому, кто сообщит о них коменданту. Этого не нужно бояться. Того, который сообщит, очень хорошо будут охранять…»[6]
— Ну, как господин Пильвехинен?
— Очень хорошо, — убежденно сказал Тучин. — Перевод складный, грамотный. Кто-то из них по-настоящему талантливый — этот Юсси или его сожительница. Нужные нам люди, господин капитан.
— Да? Приятно слышать, благодарю, — Ориспяя нахмурился, словно вспоминая что-то. — Население должно понять, что в лице финских властей и их помощников оно имеет дело с культурными, образованными людьми.
— Поймет, господин капитан.
— Еще раз благодарю… Ах, черт возьми! — воскликнул вдруг Ориспяя, схватил Тучина за плечи, откинулся назад, глядя на него сверху, сбоку, словно говоря: «Э-э, как ты вырос, братец!» Затем бросился к папке и извлек из нее пространного формата журнал. — Вот. Вслух читал перед вашим приходом, это журнал «Suomen kuvalehti»[7].
Ориспяя нашел нужную страницу, ткнул пальцем в подпись:
— Антоний Миккеля — помните?
Тучин помнил. Месяца два назад его вызвали в Шелтозерский штаб. Ориспяя сказал, что из Хельсинки приехали журналисты, фотокорреспонденты, что один из них, Микко Корвинен, узнав об участии Тучина в войне против финнов в 39—40 годах, захотел с ним познакомиться.
Корвинен говорил по-русски. Сказал, что он эмигрант, уроженец Ребол или Ругозера, пишет под псевдонимом Антоний Миккеля. Потребовал подробно рассказать о трагедии 18 дивизии, о том, как удалось выбраться из этой костоломки…
«Судьба старосты Дмитро Пильвехинена, — заканчивал Антоний Миккеля, — яркое свидетельство морального краха большевистских идей. Люди, еще несколько лет назад стоявшие по ту сторону линии Маннергейма, сегодня готовы поддержать древко нашего победного знамени».
Тучин пожал протянутую ему руку, сунул журнал в карман и вышел.
Накрапывал дождь. Тучин шел и собирал в ладонь червей. Думал: интересно, почему черви всегда ползут поперек дороги, откуда им известно — что вдоль, что поперек?
Подойдя к дому, удивился: в кулаке черви. Свернул к озеру, спихнул на воду челнок. Вернулся, взял удочку. А в челноке весла нет. Сходил за веслом.
Дождик шел мелкий, клевый.
Глава 4
Тучин Д. Е. пользуется большим авторитетом у финнов. Этот авторитет — следствие медали и грамоты Маннергейма. Он снабжен финнами личным оружием системы «Наган», охотничьим ружьем. Имеет билет на право охоты, в то время как у местных жителей отобрано все огнестрельное оружие.
Из записей Д. М. Горбачева.1
Прошло, должно быть, не более двух часов, когда с берега донесся крик жены:
— Димитрий!.. Комендант зовет… Димитри-и-ий!
Он сидел на дне челнока, успокоенный, откачанный волнами. Озеро было похоже на детство. Ласковое, спеленованное туманом, с беззаботным ветерком-колышнем, вечно занятое собой, ко всему, кроме себя, равнодушное.
— Димитри-и-ий!
Никакой комендант, ясно дело, его не зовет — со стороны Погоста ни одной живой души не прошло. А почему же она кричит, что комендант зовет?
Тучин глянул на берег — все на месте, все тихо. А Мария мечется вдоль воды, словно брод ищет. Вытряхнул из банки червей, взял весло — широкую обугленную лопату, какой хлеб в печь садят. Прижав к груди больную левую руку и сунув в нее, как в уключину, конец лопаты, часто загреб.
А Мария не дождалась, пока он причалит. Вбежала в воду, ухватилась за веревку, испуганно зашептала:
— Ой, Димитрий, брат в лесу… Тетка Дарья прибегала… Будто руку серпом порезала, отпросилась с поля-то, с плаксой за йодом побежала…
— Да расскажи ты толком, чего частишь-то! — Тучин выскочил из челнока. — Какой брат?
— Какой, какой! Димитрий… Дарья ни жива, ни мертва, говорит, там, на горке Митрий, в партизанах. Наказывал будто: «Приведи-ка, Андреевна, моих».
— Один ждет-то или с кем?
— Ой, ничего не знаю, ничего не знаю. Что теперь с нами будет-то, не знаю…
Тучин молча пошел к дому. Ему решать. Советчиков нету. Маша семенила рядом, все норовила забежать вперед. Забежав, пятилась, говорила:
— Митя, чего надумал-то? Скажи, ради бога, чего надумал-то?
Войдя в коридор, спросил:
— Корова дома?
— Где ж ей быть-то? Пастух третий день на карачках ходит.
— Ладно… А из твоего Дмитрия какой партизан. Всю довойну язвой желудка болел. Не был Дмитрий на горке. Так и тетке Дарье скажи. Скажи, помстилось тебе, тетка Дарья. Поняла?
Маша ничего не поняла. Прошла за ним в хлев, где сприходу корова стояла. Увидела, как взял Дмитрий Егорович из кормушки клок сена, как заткнул корове колокол, как ощупал рукой карман. Перехватив ее взгляд, вздернул плечи:
— Продождило. Дай-ко мне твой ватник, — одной рукой обхватил ее за спину, прижал к себе, ткнулся колючими губами в щеку. — Я, Машенька, корову пошел искать. Запропастилась корова-то. На пожне баб спрошу, может, видал кто…
От ласки да от шепота этого, с шутинкой, с дурачинкой, кончились в Маше остатние силы. Оттолкнула его, окаянного, руки поперек двери раскинула, крикнула, в слезах, охрипшая:
— Не пущу!..
Она была женой и сестрой. Она знала, что на горке ждет брат, но не знала, что делать мужу, потому что жил в ней еще и третий страх — за дочерей.
Зачем пришел Дмитрий? Господи! Не ровен час, дали пулю, сказали: «Снеси-ка свояку своему, врагу народа старосте Тучину». Кабы знать, зачем пришел-то! Да чего этот-то надумал, окаянный, бесова голова?
Чуяла она, всем своим бабьим нутром, понимала, что эти ее страхи — важнее всего. Без них все случится не так. Мужичье-то какое пошло: пистолет в кармане, и все им ясней ясного.
Мария протерла глаза углом платка, сказала, как о решенном:
— Ну вот что, Димитрий, обе пойдем. Ты ружье возьмешь. В Соссарь медведь к овсу привадился. Ты на охоту, а я твои следы топтать[8].
— Ну, коли корова нашлась, и на охоту можно, — согласился Тучин.
2
Около пяти часов вечера, мимо бани, через Реполачев огород, вышли на ржаные поля. Народу было не густо. Все бабьи спины. Накануне часть мужиков Тучину пришлось направить в Янигубу углежогами. Молодежь с 14 лет — в Вознесенье, на оборонных работах. Один Аверьян Гришкин врезался косой в неполегший клин ржи.
— Бог на помощь, — изредка говорила Маша. Голос у нее виноватый, и отвечали ей нехотя. Она шла за мужем не своими, нелепо широкими шагами, стараясь попасть в его следы, и думала, что в жатву на охоту-то одни баре ходили.
Войдя в кусты, Тучин остановился, бросил на траву ружье.
— Перегодим, Маша.
Опустился на колени, достал пачку сигарет «Тюомиес»[9], купленную за 50 марок у агронома Тикканена (24 сигареты, 25-й — деревянный мундштучок). Закурил, не сводя глаз с поля. Маша поняла, что он ждет чего-то, и страх охватил ее снова.
С холма хорошо были видны крыши Калинострова, кусок дороги из Погоста, взъем на Сюрьгу.
— Рвач этот Тикканен, — неспокойно рассмеялся Дмитрий. — Недавно Коле Гринину и говорит:
«Чего хлебушка-то не ешь?» — «Лошадь маленькая, земли нету», — это Николай ему.
«А ты пивка сделай, коменданта с агрономом пригласи — земля и будет». — «Сахару-то кило восемьсот на месяц даете?» — «А ты сэкономь», — говорит. — Рва-ач!..
Вдруг встал, заторопился. Проследив за его взглядом, Маша увидела цепочку солдат. Они шли из Тихоништы к Калинострову. Их было не меньше двадцати. Дмитрий потянул ее за рукав: «Спокойно, Маша, спокойно. Пока у старосты голова на плечах, староста знает, что делает»…
Он все еще держал ее за рукав, помогая взбираться на гору, когда за спиной раздался негромкий свист.
Метрах в десяти за ними стоял Горбачев.
Горбачев стоял и улыбался.
И вид у него был такой простенький, домашний, словно за грибами пришел. Как в то предвоенное лето, когда из Ухты в отпуск приезжал.
Выставив вперед руки, Маша двинулась к нему тихо, будто по жердочке… Захватились, и спина у нее ходуном пошла. И что-то говорила, говорила со всхлипами. Тучин слышал только: «Живые, Митя, живые… И Настасья твоя… все хорошо… И Клавдя с Ниной… Выросли-то — не узнать… А ты уходи, чего приволокся-то, проклятущая сила… Уходи, Христом богом прошу… Всех через тебя порешат. Митенька»…
Горбачев сжал ее плечи, обернулся к Тучину. Лицо его с сильно оттопыренными, словно настороженными ушами, было не то что суровым — хмурым.
Встали друг против друга. Рук не подали.
— Зачем в наши края?
— Хитрить не стану. Заброшены для подпольной работы.
— Сюда многие приходили, да мало кто возвращался.
— Знаю, — отрезал Горбачев.
— А и такие были, что в плен пришли, показали, с кем из жителей связь имели.
— Мы не из таких, Дмитрий.
Из кустов вышел Удальцов. Без автомата.
— Пахом, — представился Павел. Тучин осмотрелся.
— Вас много ли?
— Все тут, — ответил Горбачев.
— Не густо у советской власти защитников, — едко посочувствовал Тучин. — А ты ступай-ка домой, Мария. Ступай! — подтолкнул ее, упирающуюся. Мария, вцепившись в его руку, потянула к Горбачеву:
— Поручкайтесь, а? Поручкайтесь. Как нелюди… Чего вам делить-то, Дмитрий, Митя. По-людски поговорите-то, а?
— Поговорим, ступай! — Тучин, прислонив к боку ружье, сунул Горбачеву руку. Мария глазами ребенка, которому выпало мирить родителей, придирчиво проследила, как сошлись их пальцы, вздохнула, вытерла ладошкой глаза и ушла, торопливо доверчивая, без оглядки…
А у них оставалось три пути: довериться той до слез простой родственности, о которой молила Маша; изобразить этакую дипломатическую ужимочку: хорошие, мол, люди — бабы, ясные, да не в свои дела суются; разъять руки, на шаг отступить. И тут Горбачев мог сказать: «Вот так, дорогой родственничек, нас мало, но мы — Советская власть. Вздумаешь шутки шутить, именем этой власти…» и т. д. На что Тучину достаточно было раздвинуть кусты, кивнуть головой в сторону дороги, где сержант Туоминен молодцевато вел к Сюрьге группу военной полиции.
Каждому было ясно: не годится ничто — ни доверие на доверие, ни хитрость на хитрость. Ни угроза на угрозу. Требовалось время. Выжидание, до предела сжатое риском. Во всяком случае, к такому выводу пришел Горбачев, вглядываясь в чужие, непроницаемо-холодные глаза Тучина.
— Спасибо, что пришел, — просто сказал Горбачев, освободил руку, поднял и протянул Тучину упавшее ружье: — Как стреляешь-то, одной рукой или как?
— Обхожусь.
— Финские осколки не беспокоят?
— Не беспокоят. Они на помойке финского госпиталя в Рыбреке лежат.
— Ну что ж, это хорошо, хорошо, — задумчиво протянул Горбачев. — Сами всадили, сами вытащили. Ну да ладно, к слову пришлось… Вот что, Дмитрий. Надо нам потолковать. Не теперь, понятно. Где-то бы к ночи… Есть, Дмитрий, разговор к тебе не для бела дня.
Тучин усмехнулся, то ли сдержанно, то ли напоказ, — одними глазами. Обычно светлые, лукаво простенькие, сейчас, в лесной тени, они насытились чуткой кошачьей зеленью. И усмотреть в них можно было все, что угодно: насмешку, вызов, понимание, затаенный упрек.
— Где искать? — спросил бесстрастно, незаинтересованно.
— Здесь, на этом месте, в половине двенадцатого.
Кивнул, сунул ружье под мышку, ссутулился. Через несколько шагов обернулся:
— Никуда с этого места не сходите, понятно? Тут дожидайтесь.
Ушел. Горбачев посмотрел на Павла. Тот вытряхивал из рукава в ладонь маленький бельгийский пистолет.
— Выдаст, — уверенно сказал Павел. — Если уже не выдал… У него, Дмитрий Михайлович, заметили, штаны и те финские, офицерские причем…
Глава 5
Когда стало очевидным, что Петрозаводск придется оставить, Дмитрий Егорович Тучин был послан в Шелтозерский район в качестве разведчика… Вскоре оккупанты назначили его старостой, что оказалось очень кстати… Ни Гайдину, ни Бошакову, ни Щербаковой не была раскрыта его явка. Тучина берегли вплоть до создания подпольного райкома партии.
Из рассказа бывшего секретаря ЦК КП(б) Карело-Финской ССР Г. Н. Куприянова.1
…В минуты самых лютых обид бывает у человека удивительное состояние — беззлобие. Не то, что от незатертой жизнью доброты. Не то, что от равнодушия, когда сердце отбито, как пятка, до деревянного бесчувствия. Беззлобие — как зубная боль, от которой нет жизни, но в которой никто не виноват.
Тучин шел мелколесьем к овсяным полям урочища Соссарь. Листья мокро лизали лицо и руки. Наводенели плечи, облипли колени. Было утешительно холодно и одиноко. Сейчас он наладит лабаз, выпалит в сумерки пару патронов. Пустые гильзы и гарь в стволе будут его алиби. Дело в общем-то плевое. Но в привычной, почти инстинктивной осторожности, которую он развивал в себе все эти годы, открылся вдруг мучительно двойственный смысл.
До сих пор все было ясно в его затянувшейся игре с оккупантами. Он был посылкой, отправленной в неизвестность. Миной, заведенной на определенный час. И вся его жизнь, скованная смертельной тайной, была ожиданием этого часа. Действуя, как его учили, он добился всего, о чем только может мечтать разведчик. Свободы общения с людьми и передвижения, доверия полиции и доступа к армейским секретам. Его память перенасыщена. Воля измотана до ночного бреда.
Два года без связи. В роли старосты. С медалью свободы. С охранной грамотой Маннергейма. «Судьба старосты Дмитрия Пильвехинена — яркое свидетельство краха большевистских идей…»
И вот Горбачев. Он был первым, кто пришел к нему с Большой земли.
Горбачев не подал руки.
Потому что он, Тучин, староста, а до́ма, в простенке, застекленная, в рамке, — грамота маршала, регента, президента…
— …Вы член партии?
— Да и нет. Заявление подавал на фронте, в окружении. Был принят, но билет получить не успел. В январе сорокового года ранило, пошли госпитали. После демобилизации заходил в штаб Седьмой армии, но там никаких концов не нашлось — ни части, где служил, ни документов…
— Поможем восстановиться в партии. Считайте себя коммунистом, товарищ Тучин. А пока возьмите вот это.
Отпечатанный на машинке листок:
«Слушали… Постановили.
Исключить за систематическое пьянство и неустойчивость политических взглядов…»
— Как?!
— Так надо, Дмитрий Егорович… У вас была судимость?
— Была. Пятого августа тридцать четвертого года, по статье 120-й. «Служебный подлог без корыстных целей».
— Очень хорошо. Приговор?
— Общественное порицание.
— Маловато, но в общем сойдет. В личном деле судимость зафиксирована?
— Зафиксирована.
— Хорошо. Запомните: это ваши основные документы. Вопросы есть?
— Нету.
— Тогда счастливого пути. Пароль человека, который найдет вас, — «Егор идет к Ивану». Запомните: «Егор идет к Ивану».
…В Вехручье сдался в плен Евгений Заикин. Его послали в разведку, а он встретился с матерью, и она уговорила его сдаться в плен. На допросе сказал, что его сбросили в Таржеполе, недалеко от железной дороги, что с ним еще трое, ждут в лесу, километрах в двух. Повели туда. Ночь. Взяли спящими. Тучин узнал, что среди схваченных Зоя Горбачева. Выпросил у Ориспяя свидание с ней в шелтозерской тюрьме.
После прыжка у нее распухла нога. Плакала. Твердила, как в бреду: «Попался среди нас гад… гад, гад…»
В камере двое полицейских. Весело городил чепуху: ничего, мол, до свадьбы заживет, не то бывает… бывает и так: «Егор идет к Ивану, а Ивана дома нет»… Всматривался в ее глаза. В них никакого отклика. Уж он всматривался! Уловил бы, понял. Не было отклика.
Егор к Ивану не шел…
Под вечер того же дня вышел из штаба полиции вместе с Лаури Ориспяя и начальником земельного отдела Юли Виккари. Напротив бывшего школьного интерната стояла в упряжке лошадь Алексея Николаева из Залесья. Сборщик кожсырья, прислонившись к оглобле, уминал краюху хлеба. Увидев Тучина, крикнул продуманно, смачно:
— Дмитрий Егорович, шкуру не собираетесь сдавать?
Если бы и было что ответить, не смог бы. В ушах и звон, и глухота. Между досками на мостках трава зеленая торчала. В канаве две утки плавали.
— Что он сказал? — спросил Виккари.
— Поздоровался. Кожсырья просит…
Лес весь вышел. Открылось похожее на озеро поле — с островами кустов. Овес был реденький, без волны, прозрачный — метров на сто вокруг валуны видать. Медведя до темноты сюда медом не выманишь.
Достал сигарету. Подумав, сунул ее за ухо. Оглянулся в поисках ольховой сушины. Он любил, чтобы в костре поленья сипели с прищелком. Еще представил, как, выдувая сладкие пузырьки, посвистывает на угольях печеная луковица. И вспомнил, что с утра, с прихода Леметти, ничего не ел, — забодай его паралич, скотину.
Над головой пустил пулеметную очередь дятел. Сухая осина гулко бросила в лес позывную дробь. А дятел, опершись на хвост, крутил своей махонькой танковой башней. Слушал. И вдруг пришел торопливый отзвук. И дятел, вздрогнув, с неистовым восторгом отстрелялся — даль откликнулась тихим, как эхо, перестуком.
А потом дятлу не ответили. И раз и другой. А он расстреливал и расстреливал свое одиночество, пока не заела его безнадежная осенняя тишина.
Тучин схватил еловую шишку и запустил ее в дятла. Постоял, добавил: «Что-то ты, парень, не так сказал, не то коленце выкинул…»
Развел костер. Прикурил. Выставил к огню коленки. Мысли его были торопливы и перекидчивы, как это вздутое ветром пламя. Он думал, «Егор» ли Горбачев. И если нет, имеет ли он, забытый разведчик, право раскрыть себя. Или следует ему до поры до времени оставаться «Иваном», не помнящим родства?
До какой поры, до какого времени? Жизнь чем дальше, тем больше казалась не только бессмысленной, но и преступной.
С прищелком горела ольха. Безжизненно опепленная головня выстреливала вдруг кусок обугленного слоя, и под ним открывался зной свежего огня…
2
Оккупация района началась в октябре 1941 года. За две недели, что отсиживался дома, в горне-шелтозерских деревнях утвердился новый миропорядок. Шепотом, криком ходили слухи…
— Колхозы, слышь, распущают. Скотину с инвентарем описывают. Хлеб, какой в амбарах был, из амбаров на машины и в Ладву, к поездам.
— Народ переписывают. Русских, тех сразу в концлагеря. А у Коли-то у Гринина отец русский, мать из вепсов. Так неужто семью разоймут?
— В Галимовой Сельге Мария Игнатова отравилась. 19 лет, снасильничали, говорят, Записку оставила: «Я, — пишет, — больше таких гадов терпеть не могу. Ухожу от вас, а вы ждите. Наши за озером. Они скоро придут…»
В Погосте торг идет. Торгует сам комендант, а цены штаб полиции установил. Лошадь — 20—25 тысяч марок, корова — от 2 до 5 тысяч. Колхозный хлеб на корню — 4000 марок за гектар. Где ж таких марок наямиться?
— Кредит какой-то открыли. Нюрка Реполачева взяла двадцать тысяч, а купить чего боится. Ревмя ревет.
— В лавке, Митрий, шаром покати. Немецкие карманные фонарики — двадцать девять марок, расчески — тридцать шесть марок, коробка спичек — полторы, галеты по четыреста марок за ящик. И больше ничевошеньки. А за прилавком стоит сестра Ваньки Явгинена Софья. Губы насандалены, трое бус нацеплено. Скоро, говорит, вам, большевички, модельные лапти завезут.
— Феклиста помнишь? Ну тот, диабаз бил в Рыбреке? Еще кирюшка такой. Напьется, дети за ним табуном: «Феклист, Феклист, спой молитву!..» Так батюшка он теперь, отец Феклист. Вчера в клубе многия лета тянул Маннергейму… В районе семь церквей открыли и три часовни. Для финнов и шведов — лютеранские, христианские — для карел и вепсов. Лютеране, из немцев да скандинавов, те с попом Аалто прямо в школе молятся. Машину икон и колоколов привезли. Часть из Финляндии, часть из Ленинградской области. На подходе, говорят, православные попы из карел-эмигрантов, те, которые драпанули в тридцать девятом из духовной семинарии Валаама. А в школах-то, господи, закон божий ввели.
— В Шелтозере учителя избили Юрика Горбачева. 20 раз розгами по спине и по задику тоже. Черное заикание получилось. За что? А шел урок, а тут самолеты загудели, а он и крикни: «Ура, наши летят!..»
Восьмого октября вошел в дом Иван Явгинен.
— Терве![10] Ты Тучин будешь?
— Я.
— На сходку. — Развернул списки, поставил крестик против фамилии Пильвехинен.
— Почему Пильвехинен?
— По-русски был Тучин, по-фински стал Пильвехинен.
— Понятно. Как говорится, терве инкогнито?
— А шутить не надо, — не отрывая глаз от бумаги, с сытым спокойствием отозвался Явгинен. — В наше время шутить да болеть — сильное здоровье требуется. Не надо, дорогой, и жить будешь долго-долго… Значит, Пильвехинена предупредил…
3
Явгинен взялся нивесть откуда. Никому свою жизнь не выкладывал. Поэтому говорили о нем разное. Одни — что он ингерманландец-переселенец: подняли человека с насиженного места, и он, понятно дело, осерчал. («Вон-ка медведя из берлоги вытронь»). Другие утверждали, что он сидел за политику. И, верно, все было правда — и зверь в нем есть, и убеждения в наличии. Леметти, тот отрыжкой живет, ему бы лошадей на Лиговке держать. Для Феклиста служба — одна радость, вместо денатурата церковный самогон. А этот с убеждениями: «Пришел час мщения». В первый же день оккупации взял винтовку, повел солдат в лес, на облаву. Привели шесть партизан. Видел их в окно, разутых, связанных. Узнал Михаила Курикова, Фотеева. А Явгинен стал помощником горне-шелтозерского коменданта.
— Так на явочку, дорогой, обрати внимание, — почти ласково посоветовал Явгинен…
Потом из Сюрьги, Тихоништы, Калинострова, Федоровской, сбившись к кромкам вязкой дороги, тянулись люди к Погосту. И сравнить эту молчаливую разрозненность людей совсем было не с чем. Вот разве с возвращением с кладбища. Не в троицу и не в духов день. С похорон, когда каждый своими глазами увидел: между этим миром и тем всего-то расстояния в две лопаты с черенком.
Нагнал бабку Дарью.
— Ты, мать, куда? Ай без тебя б не сошло?.. Куда, говорю, шаг чеканишь, Андреевна?
— А куды все, пойгане. Общество идет, и у меня, вишь, вперед коленки-то. Я, пойгане, на выбора завсегда в рядах.
— Это какие ж такие выбора?
— А в депутаты, поди…
— В старосты, мать.
— И пачпорт взяла, и очки для концерту, — словно не дослышала старуха.
Скрюченным пальцем пригласила нагнуться, а в ухо доверчиво выдохнула:
— Дурак! Заместо Аньки чеканю. Аньку зачуланила я, дочку-то, на всякий на случай. Сама, говорю, пойду. С меня на-кось, выкуси, на-кось!
Кулаченко ее, похожий на прошлогоднюю картофелину, свернулся в такой быстрый да ладный кукиш, что хоть поперек живота ломись. И хорошо до чего, так в охотку смех случился — удержу нет.
— Непокоренная ты, моя бабка, непокоренная! — сообщил ей радостно. И снова смеялся до слез — над отчаянным ее кукишем, над дорожной немотой — распутицей.
Не знал, что с этой сходки ему суждено вернуться старостой…
4
Тучин подбросил в костер валежника. Стащил сапог, протянул к огню промокшую ногу. Дождь угомонился, в безветрии замер лес. Минуты, когда человеку все слышно в себе.
…Доклад по-вепсски делал Леметти. О бок с ним за длинным учительским столом сидели Иван Явгинен и в новом офицерском мундире начальник земельной управы района Юли Виккари. Так представил его Леметти — не сразу, по частям, подержавшись перед словом «управа» за рукоятки невидимого плуга, что означало, видно, что рекомендуемый причастен к земле и работодательству.
Листы Леметти держал, ровно и далеко выставив вперед узловатые кучерские руки. Натужно откашлялся, лицо багрово налилось кровью — казалось, зыкнет: «Н-ну, мертвыя!». А он начал тихо, нутром, с почтительной торжественностью:
— Как вы знаете, финны, вепсы, карелы и ингерманландцы когда-то были одним народом, а потом разделились… После этого они жили все отдельно, каждый в своем государстве, и стали разговаривать на разных языках[11].
Но уже сорок лет тому назад стали требовать карелы на своем языке школы, церкви и других национальных выгодных дел. А русские хотели вам ничего хорошего не дать, им хотелось сделать всех русскими.
Тут пришла революция, большевистская революция, и народ поверил, что после этого будет лучше. А пришло хуже, тяжелая пришла жизнь…
Леметти осадил на себя листы. Сильно сгибаясь в корпусе, глянул из-за них слева, справа, вздохнул, потряс щеками — тоска возницы, когда там, впереди за лошадиным крупом, непроезжая дорога…
— Тогда во всех концах Олонца собрался народ на собрания. Хотели сперва свою автономию, свободной свою землю сделать, после чего присоединиться к финской республике. Так собрался народ в феврале месяце 1919 года в Повенце и Олонце. И им хотелось присоединиться к Финляндии. Такие собрания были тогда под весну во всех местностях. И со всех собраний шли просьбы в Финляндию, чтобы пришли на помощь, чтобы они смогли освободиться. В некоторых просьбах говорилось, что большевики отбирают, убивают и мучают. Перешли бы, пишут, на финскую сторону, но им мешают семьи и хозяйство. Поэтому предпринять ничего другого не могут, как молиться богу, чтобы быстрее помощь пришла от Финляндии. Наш бедный народ ждал помощи от Финляндии ежедневно и каждый час. И Финляндия не хотела оставлять вас без помощи. Собрали для этого охотников. Армию добровольцев собрали в апреле месяце в Сортавале, которая ударила всквозь границы. В трех местах ударила армия. Одна часть шла быстро вперед, взяла Видлицу, Тулоксу и Олонецкий город. Другая часть пошла по льду Ладожского озера, взяла деревню Мегры и Свирский монастырь.
Но в конце июня ударил большевистский флот в Видлицу, застал и напоследки разбил эту армию. Тогда другая армия ударила в сторону Туломозера и Святозера. Пряжу взяли за неделю. В июне месяце финские войска освободили Половину и приблизились к Петрозаводску. А большевикам все шли подкрепления, и финским войскам после трехмесячного сопротивления пришлось вернуться обратно в Финляндию.
Олонецкие бои не затронули ваших земель. Но и вам, вепсам, хотелось тогда освободиться. Некоторые вепсы вместе с карелами и своими оятскими братьями дрались на стороне финнов против большевиков и уже тогда поговаривали о присоединении к Финляндии…
— И вот это время пришло, — выдыхает Леметти. — Сегодня нам вместе с вами, братья, надо драться против русских. Только после победы мы сможем жить вместе и вместе будут наши земли и дома… Большая часть русской земли уже взята, освобожден Олонец, а оятские вепсы и часть Ингерманландии все еще под властью русских. Скоро, очень скоро с помощью наших союзников немцев большевики вынуждены будут и эти места нам отдать. И тогда мы будем опять вместе, вся наша финская семья!.. Все, хочешь знать…
А в окошко просунулось солнце. Леметти сел и оказался в его луче. Стало видно, как красно-бело цветет его лицо, как мечется в прищуре дробинка зрачка и беззвучно шевелятся губы.
Вытер ладонью лоб и, мучимый тишиной, осмотрелся. Сколько было глаз — все на нем. А в глазах ни вопроса, ни одобрения, ни ненависти. И Леметти, надо думать, ощутил потребность быть понятым, признанным, своим. Не потому ли медленно, трудно встал и редко, с выжиданием захлопал. Его поддержали Явгинен и Виккари, да ладошки бабки Дарьи поддакнули. И снова тихо стало. И Явгинен сжал руку Леметти, тихо потянул его на место.
— Какие вопросы будут, граждане? — Явгинен встал, с улыбкой осмотрел собрание. — Ну, кто первый, кто второй? Первому морошка крупней, второму дорога легче. Так в пословице говорится?
Граждане зашептались, а вопросов у них не было.
— Так как, граждане?
У выхода затеялся разговор. Оттуда вдруг глухо, по-русски вырвалось:
— Из-за ситца загробили бабу-то, из-за тряпок. Братья, мать их в душу!
— Чью бабу-то?
— Да Бекреневу же Марию.
— Господи, из Матвеевой-то Сельги?
— Тихо! — прикрикнул Явгинен. — Тихо! Говорить будем вслух и по одному. Кто желающий? Ты что ли?
Желающим был старик с угловатыми глазами в сером комбинезоне с лямками, перекинутыми через прочные еще плечи.
— Фамилия? — потребовал Явгинен.
— Гринин.
— Русский?
— А что?
— Не штокай, отвечай.
— Ну, русский.
Чей-то всполошенный бабий голос: «Чего ты? Жена у него наша, вепсская. Чего ты?»
— Ну так пусть по-вепсски и говорит! — радостно подхватил Явгинен и, сипло разогнав голос, хохотнул. Смеялся он странно: одним ртом, не меняя выражения деловито цепких глаз. Бился кадык — глаза наблюдали, обыскивали, сторожили.
— По-вепсски, дорогой — напомнил ласково. — А не умеешь, считай, что мама родила тебя немым. Хлеб, дорогой, теперь по-немецки «брот», а по-фински «лейпя». — И, скрестив руки, сел довольный.
То, что рассказал Гринин, сбиваясь с вепсского на русский, можно передать примерно так:
— У меня из Матвеевой Сельги была свояченница пришедши. И говорит: к тамошней жительнице, к Марии к Бекреневой, пришли солдаты и стали отбирать ситец в красную горошинку. Мол, для занавесок коменданту. А она, Мария Бекренева, не отдавала. И вот результат. Солдаты избили ее и оставили кровавую на полу. Пошла она жаловаться к коменданту, а комендант посадил ее на три дня в тюрьму. Через три дня ее снова привели к коменданту. «Так, говоришь, солдаты отобрали у тебя ситец?» «Отобрали». «Может быть, даже избили?» «Избили». Посадили еще на семь суток. И не давали еды. Еды не давали, и вот результат. Когда через неделю родственники пришли за ней, она была без чувства и без сознания.
Леметти, жестикулируя, переводил в самое ухо Виккари. Зал гудел. И юное лицо начальника земельной управы выглядело младенчески изумленным.
Пройдет время, и он сам поймет, что немыслимо насадить «освободительное знамя» на кнутовище. Еще позднее, через многие годы после войны, дважды побывав туристом в Шелтозере, Виккари с грустью вспомнит себя, романтика в ранге завоевателя, миротворца племен, несоединимо разделенных идеей.
Все это позднее. А сейчас горячо, сбивчиво, страдая от медлительности переводчика, он убеждал, что случай в Матвеевой Сельге — обидное недоразумение, что виновные понесут наказание, что он, Юли Виккари, представитель новых властей, готов дать немедленное доказательство самостоятельности и демократических свобод вепсского и карельского народов.
— Вот первое из доказательств, — говорил Виккари. — Сегодня вам дано право выбрать из своей среды старосту, защитника ваших интересов. Называйте имя, и никто не оспорит.
И люди назвали: «Тучин». Подтвердили:
— Тучин.
— Тучин!
…Достал карманные часы — стрелка подходила к одиннадцати. Нащупал ружье, вскочил, натянул сапог и почти бегом бросился в сторону Запольгоры.
«Иван» шел к «Егору».
Глава 6
Согласие участвовать в подпольной работе Тучин дал без колебаний и свое слово сдержал.
Д. Горбачев.1
— Как видишь, важно все…
Было далеко за полночь. Павел, переодетый в сухое, стоял у порога, прислонясь спиной к печке и мучительно боролся с дремотой. На стене сонно вздрагивали тени. Свет керосиновой лампы высвечивал лобастый профиль старосты. Воспаленное лицо Горбачева казалось медным и непоколебимо спокойным. Пережив встречу с родными и изнурительную — на грани откровенности и риска — беседу с Тучиным, Горбачев все увереннее нащупывал свою обычную манеру говорить, смотреть, жестикулировать — раскинул на столе локти, сплел пальцы, провожал каждое свое слово усталым, ненавязчивым взглядом. Лишь изредка его глаза, беспомощно подобревшие, скользили по голубому, во всю переднюю стену, дивану, по ковровым оленям над кроватью, по широким проношенным половицам с выпуклыми сучками, и тогда, вдруг опомнившись, он добавлял в свой глуховатый голос ноты строгой деловитости.
— Все важно, — повторил Горбачев, — Побережье Онежского озера, Свирь, но в первую очередь — Петрозаводск, о котором почти ничего не известно. В ЦК просили выяснить: расположение и название воинских частей, зенитных установок, что поблизости от города. А также количество самолетов на аэродромах. — Выставил к лампе руки и неторопливо загнул палец. Раз.
— Режим в городе. Количество населения, отдельно гражданского, отдельно военного, заключенных в лагерях. Желательно фамилии политических заключенных, особенно коммунистов. Два.
— Какие финские органы находятся в городе, где они помещаются, фамилии и чины руководителей, место их жительства. Три.
— Какие предприятия работают и что выпускают. Четыре.
— Какие диверсионно-террористические акты были в городе против оккупантов. Пять.
— Подробно выяснить, каковы масштабы разрушений в городе, какие наиболее важные здания сохранились… Шесть…
«Петрозаводск — зона вакуума», — вспомнился Тучину Лаури Ориспяя. Он привычно подхватил больную руку и покачивал ее тихонько, словно заснувшего ребенка. Наконец поднял голову:
— Проникнуть в Петрозаводск и прижиться там?.. Черта с два.
— Они дали Петрозаводску название «Äänislinna» — Онежская крепость.
— Онегоград, — поправил Тучин.
— По-фински линна — крепость, тюрьма.
— По-карельски — город. Они, Митя, не наивные люди. У них «Vapaa Karjala» — свободная Карелия, а ее столица — «Äänislinna», Онегоград.
— Понятно. Нам важно одно: у стен этого града, крепости, тюрьмы сложили головы десятки наших разведчиков. Мне поручено сообщить… Точнее, ничего сообщать не поручено. Просто я не имею права на провал, и ты, Дмитрий, тоже такого права не имеешь.
Горбачев встал, вышел из-за стола, поправил на окне одеяло.
Все, что он говорил далее, прохаживаясь взад-вперед, принадлежало тайнам инструкций, и Тучин, надо думать, понял это, понял и расценил не иначе, как полное и безоговорочное доверие. Павел уловил его вздох — аж спина расширилась, увидел, как торопливо потянулась к сигарете рука, как весь он откинулся на стуле с какой-то радостной усталостью.
«Рановато ты расстегнулся, Дмитрий Михайлович, рановато. Не успел порог перешагнуть»…
Павел снял с груди автомат, ощупал в карманах бугры лимонок. Вспомнил, как Тучин отклонил его попытку остаться у ворот дома Горбачева, присмотреть подходы: «Не надо. Где сторож, там воруют». Горбачев почему-то согласился с ним. Может, потому, что шел домой. Или было ведомо Горбачеву нечто, что он не смог рассказать там, в выеме скалы между Залесьем и Ропручьем?
Сонно тикали ходики. Прохаживался взад-вперед Горбачев, и его тень то настороженно липла к стене, то, изломившись, лезла на потолок.
Староста баюкал руку. И в том, как он укачивал свою боль, было что-то необманное. Павел встал на одну свою раненую ногу, а в ней ничего не ныло. И тогда ему вспомнилось, как непохож был Тучин в половине двенадцатого ночи на того, который пришел в пять вечера. Без слов, запыхавшись, бросился к Горбачеву и обнял его. И долго не отпускал, держал в охапке, будто нашел то, что всю жизнь искал, и боялся будто, что все это возьмет и исчезнет…
Горбачев говорил, как диктовал. В Петрозаводске провалы, провалы, провалы… Дрожал под закопченным стеклом оранжевый клинышек фитиля. На дворе продрал глотку петух. Шло утро.
— Наверное, риск в чем-то перечеркивает опыт. — Горбачев вдруг резко, словно муху прихлопнул, ударил ладонью по столу. Встал, прошел к двери, обратно, снова к двери. — И с этим ничего не поделаешь. — Голос у Горбачева придавленно тихий. У него всегда такой голос, когда он жестко берет себя в руки. Он остановился у стола, засунул руки в карманы пиджака и не мигая смотрел на лампу.
— Без риска, понятно, нельзя. Но если при этом не срабатывает опыт, что же остается? Удача? Мало. Мало! Брать эту слепую стерву в поводыри… Нужно что-то новое, из ряда вон новое… Не молчи, говори, Тучин…
— Ответь мне на один вопрос, — откликнулся Тучин.
Ни тоном, ни жестом он не разделил, не поддержал тревоги Горбачева, его мучительного поиска пути меж крестов над неудачами предшественников. Казалось, вся его внимательность в течение этих многих минут была терпеливостью, под которой билось и дозревало давно найденное решение.
Ответив вопросом на вопрос, он невольно дал понять, что это решение есть, существует, оно, если хотите, — открытая дверь, к которой не надо ключа, но в которую постучать, извините, надо.
— Мне нужно знать, почему ты пришел именно ко мне. Мне нужно также знать, что думают обо мне в Центре. Ты должен сказать мне, какие получил в отношении меня указания… Я хочу игры с открытыми картами.
— Понимаю, — Горбачев присел к столу, устало, с напряженным усилием потер ладонью лоб. — Во-первых, знай, что я не заблудился, в лесу не аукал, абы кто откликнулся. На этот огонек, — он кивнул в сторону лампы, — пришел не случайно… Встреча с тобой предусмотрена оперативным заданием. Более того, она основа всей операции… Что знают о тебе в Центре? Думаю, все. Во всяком случае, об осторожности меня предупреждали — да, и довольно настойчиво… Для засланного в тыл разведчика ты сделал слишком блестящую карьеру… Что еще?.. Если б я не знал, что тебе важнее всего правда, не сказал бы, что тебя предложено ликвидировать, если… в общем, сам понимаешь… Сомнения в тебе сильные. Но еще больше нужда в тебе… Все. Что же касается лично меня…
— О себе не надо.
Тучин встал. Незабытым солдатским жестом одернул серенький, из грубой финской ткани пиджак:
— Мне жаль тех людей… Крепости, Дмитрий, открываются изнутри… Но это так, к слову… Я готов действовать… Дай мне неделю, и я скажу тебе, что снится начальнику штаба управления Восточной Карелии Котилайнену…
Глава 7
Утром 19 августа 1943 года группа решила двигаться к деревне Каскесручей, где должны были проживать родные Июдина. Двигались лесом. Следуя по просеке, около полудня на возвышенности увидели сидящего на пне человека, в гражданском, с автоматом. Приблизились к нему примерно на 25—30 метров, взяли на изготовку автоматы и крикнули: «Кто такой?» Неизвестный ответил: «Свой».
Из отчета командира группы разведчиков НКГБ К-ФССР С. Гайдина.1
Утром 18 августа у дома горне-шелтозерского полицейского участка стремительно развернулась немецкая «БМВ». Старший сержант Туоминен, подтягивая на ходу сапог, скатился с лестницы — перед ним стоял Лаури Ориспяя. Взгляд капитана нетерпеливо вытянул сержанта в струнку. Понял, отрапортовал:
— Господин капитан! В районе предполагаемого появления партизан никого обнаружить не удалось. Дороги перекрыты, посты на вероятных подходах размещены в соответствии с вашим приказом.
Ориспяя молча прошел в управление.
— Собачку обещали, господин капитан, — напомнил Туоминен. Капитан не ответил…
Тучина привели в тот момент, когда Ориспяя зачитывал расшифрованные экспертами радиограммы убитого в районе Таржеполки радиста Николая Морозова. В них всплыло новое имя — Дуся. Имя радистки, которая лежит в Кашканах и у которой слова, как пули в спине: у живой не вытащишь.
Как видно, Ориспяя упорно шел по следу группы, выброшенной под Педасельгой. И Тучин понимал, чем это может кончиться, если даже Горбачев никакого отношения к этим следам не имеет. А ясности тут — никакой. Вчера, гордыня-дура, душил в себе вопросы — ждал, что сами скажут. Сообщил только: «Радистку тут схватили. Пять пуль, а она живая, лет семнадцати». И глаз не повернул, не вгляделся в лицо Горбачева, руку качал, думал, не заподозрили бы в чем неладном. Одно засек: горбачевскую тень словно гвоздями к стене пришило. «Где, как звать? Одну схватили или с кем?» Как звать ее, не знал. А при имени Морозова тень шелохнулась и осела — то ли облегченно, то ли придавленно. На этом разговор и осекся.
И вот — Дуся. Саастомойнен — в привычной позе: коленки в стороны, на коленках — локти, подбородок на кулаках. Туоминен слушает с раскрытым ртом. У Туоминена розовые щеки и усталые старческие глаза. Ориспяя — без парадности, голос усталый, раздумчивый:
— «Летчик выбросил неправильно. Два дня ищу своих. Продукты кончаются завтра. Дуси нет. Нахожусь на месте выброски. Прошу помощи. Николай».
В тот же день, 30 июля, — ответ Центра: «Принимаем меры для оказания помощи. Работайте по расписанию. Находитесь на месте. Подготовьтесь к приему продуктов».
31 июля: «Понял. Нужны батареи, кепка. Сообщите Дусе, пусть работает. Где ребята?»
2 августа: «Продукты получил, двигаюсь на север».
4 августа: «В назначенном месте никого нет. Что делать?»
Немедленный ответ: «Соединяйтесь с Дусей на западном берегу реки Таржеполка, в квадрате 12—62, на просеке, у устья ручья. Ждите ее прихода 5—6 августа».
6 августа: «Нахожусь в квадрате 12—62, устье ручья реки Таржеполка. Дуси нет…»
— Дуси нет, — повторил Ориспяя. — Мы знаем, что Дуся пришла лишь двенадцатого августа в четыре часа дня. Сегодня утром в Кашканах ее впервые назовут по имени, и, надо думать, девчонка вспомнит, с кем ее забросили, с каким заданием. Независимо от этого, господа, нам самим нужно принять меры. Мы обязаны ответить на вопрос покойника: «Где ребята?» Мы. И никто нам не простит ротозейства, сержант Туоминен… Думайте, думайте.
А думать Ориспяя никому не дал. Встал, одернул китель. Туоминену: «Поедете со мной, сержант». Саастомойнену и Тучину: «Займитесь этим, прошу без вопросов». Выложил на стол пачку бланков размером в тетрадный лист.
Машина ушла в сторону Погоста.
В Погосте родился Николай Морозов.
А Тучин развернул бланки.
Объявление
Заявляйте о партизанах и их сотрудниках! За своевременные уведомления назначены высокие премии. В деревнях крестьяне получат участок земли, в городах — до 1000 марок. Помните, что награды следуют тотчас же.
Подпись: «Верховное командование германской армии».
Немецкая фронтовая машина начальника финского штаба военной полиции, с немецких матриц бланки.
— Маленькая на двоих и Гитлеру стаканчик, — сказал по-русски Тучин.
Саастомойнен по-русски не понимал. Тыча пальцем в объявление, Тучин по-фински добавил:
— Эту штуку, господин комендант, надо подождать вешать. По-русски написано. А русский язык в национальных районах запрещен. Не вышло бы ошибки, господин комендант.
Господин капитан был с тяжелого похмелья. При капитане позу держал, а тут увял — глазки маленькие, на подушечках, посажены так реденько, что кулаку промеж них — не тесно будет, сочувствуя, просят дружбы и браги.
2
Утром 18 августа в Кашканах начинался шестой день допроса.
Распахнув ситцевую штору, вошел следователь, длинный, сутулый лейтенант. Санитар сбросил с Дуси одеяло, чулком стащил рубашку. А у нее не было сил подтянуть, сжать в коленях голые ноги.
Она была перевязана одним бинтом на все пять ран. Разматывая бинт, санитар то и дело подсовывал под спину руку, и худенькое ее тело беспомощно выгибалось. Вчера ей обещали засыпать раны солью. До морщин сжались веки, пальцы обеих рук мучительно сошлись у широко раскрытого рта.
— Пристрелите меня…
Потом она потеряла сознание. Когда пришла в себя, вдруг услышала свое имя. Кто-то настойчиво звал ее: «Дуся, Дуся». Рванулась навстречу этому голосу, открыла глаза. А, кроме лейтенанта, никого вокруг не было. Лейтенант сидел рядом, держал ее руку, гладил ее руку, говорил:
— Ну-ну-ну, успокойся, Дуся, успокойся, все позади, все кончилось, Дуся. Твои товарищи, Дуся, добровольно сдались нашим властям. От них мы и узнали наконец, как тебя зовут.
Глаза лейтенанта до невозможности увеличены очками. Руку гладит торопливо, как бритву правит.
— Если хочешь, в Финляндию отправим, тебя вылечат, жить будешь. Но для этого, Дуся, нужно соблюсти небольшие формальности. Время, Дуся, военное, и мы должны быть уверены в твоей лояльности. Вот незначительные вопросы — ты слышишь меня? С какой целью заброшена ваша группа? Место и характер ее действий? Где базируются другие группы парашютистов? Дислокация советских партизанских отрядов? Отвечай!
Дуся качает головой:
— Я не знаю… я должна была встретиться с парнем… его убили… и ждать…
Лейтенант снял очки, вытащил из кармана платок. Подышал на стекла очков, долго протирал их. Потом так же медленно, обеими руками усадил очки на место. А когда отнял руки, на губах, в глазах открылась терпеливая усмешка человека, который знает все.
— В июле 1941 года, — у лейтенанта голос доброго сказочника, — комсомолка Дуся вступает в Пряжинский истребительный батальон. Там она служит медицинской сестрой. Вместе с бойцами участвует в боях под деревнями Колатсельга и Палалахта. Несколько раз в составе групп ходит в разведку и приносит ценные сведения. А позднее, когда Пряжинский истребительный батальон был соединен с Тунгудским, Дуся, Дуся Тарасова, участвует в героических походах по тылам так называемого врага. Так?
В марте 1942 года истребительный батальон расформирован, и Дуся Тарасова становится заведующей медицинским пунктом поселка Лейгуба. Но пребывание в тылу тяготит комсомолку Дусю, она рвется на фронт, и в июле 1942 года ее вновь зачисляют в ряды бойцов, направляют на курсы радистов. Дуся становится бойцом невидимого фронта. Так?
И вот 29 июля Дуся в цепочке самолетов У-2 вместе с товарищами… Как их фамилии? — лейтенант вытащил из кармана бумажку. — Впрочем, это неважно… Вместе с товарищами летит на разведывательное задание. И вдруг — что такое? Над красивой рекой Свирью самолеты обстреляны, цепочка разорвана. Через полчаса Дуся приземлилась одна в незнакомом лесу.
А тут и сказке конец. Зло наказано, добродетель восторжествовала. Зло — это то, что карелка Дуся пошла против своих братьев по крови, финнов. Добродетель — это чистосердечное покаяние ее товарищей, и, не будь Дуся дурочкой, она последует их примеру.
Лейтенант встает, ладонью приглаживает Дусины волосы.
— Итак, вопросы прежние. Повторяю: нам все известно, речь идет только о твоей, Дуся, честности.
У Дуси широко открытые глаза, белые, чуть вздрагивающие губы:
— Я ничего не знаю…
— Знаешь!
— Ив истребительном батальоне тоже не была… Сказки.
Лейтенант бросается в прихожую. Приводит за руку невысокого человека в фуфайке. Человек снимает шапку, кланяется.
— Здрасьте, Евдокия Васильевна, гы-гы… Не признаешь?
Дуся всматривается в его лицо, качает головой.
— Как же, Евдокия Васильевна? В одном батальоне службу несли, гы-гы.
— Земляк! — Дуся вдруг улыбается. — Землячок… На одном солнце портянки сушили… Уйди, скотина, а не то встану, морду поцарапаю.
Ее ребята, ясно теперь, живы и делают свое дело.
3
Горбачев то и дело раздвигал пряди влажного сена — чистенькая, выстланная свежей отавой поляна перед зародом матово светилась росой. Низко, по пояс соседнему стогу, висел туман. Лишь в шестом часу утра, когда в белом, как яичная скорлупа небе, проклюнулось солнце, от стога отвалилась и до самого леса улеглась тень.
Ночь провели без сна. Павел ругал берлогу, где ног не вытянуть, прелое кислое сено и тех, отвались у них руки, кто стог метал: сырьем сложили, солью не пересыпали. И вообще трехкилометровое соседство с Тучиным его не устраивало.
Ночью, делая вид, что спит, Горбачев с удовольствием смотрел, как Павел душит пятерней нос, чтобы не чихнуть, как дрожит на мушке его автомата блик лунной августовской ночи…
Едва забрезжило, Павел потянул в дорогу. Идти и в самом деле была пора. Да не в такую росу: шагни, и постелется след.
— Знаешь, Павел, что делает лось, когда первый снег нападет? Не знаешь?
— Что делает — копытом жратву достает.
— Стоит, Паша, часами копыт не сдвинет, боится след дать. Вот как… А пойдет — так только ноздрей против ветра. Я о чем, Паша, думаю. Дело мы с тобой закрутили неплохо для начала, удачно, я бы сказал. Жизни наши теперь подорожали. Давай в этом свете прикинем, как быть. Что нам теперь важнее всего?.. Важнее всего выйти к Сильве и Асанову, они ждут и неизвестно о чем думают четвертые сутки. Раз… Надо как можно быстрее сообщить Центру обо всем, что произошло с нами. Два. И третье — это, думаю, важнее важного — не потерять связи с Тучиным… Я назначил ему встречу в понедельник на одиннадцать утра, а дорога на базу… не уверен, что она будет прогулкой. Короче, мы не можем вдвоем подставлять себя под одно дуло, под разные — еще туда-сюда.
— Согласен. — Павел деловито закопошился в сене.
— Постой, экий ты ловкой… Слушай.
Удальцов Павел Иванович.
Горбачев вытащил из-за пазухи карту, разложил ее на коленях, пригнувшись, пропустил в сенную конуру свет и ткнул пальцем в край болота Картос.
— Здесь Сильва и Асанов. Пойдешь к ним той же дорогой, как сюда шли. Будь лосем, волком, кем хочешь, но дойди — понял?
— Какой вопрос!
— Дойдя до места, возьми обратный азимут вот сюда, запомни, — квадрат 92—22, поляна севернее высоты 69, конец Лабручья. Это место, куда нам должны выбросить продукты. Здесь я жду вас к вечеру в понедельник. К вечеру, запомни, в понедельник… Если что, Павел, умри, но сохрани Сильву. И рацию. В них — все… И еще. Мало ли, вдруг со мной что, так пусть знают — у меня была встреча с Тучиным… Разберитесь. Помните: я, Горбачев, Тучину верил… Ну, вот так, вот и все…
Километров десять Павел отмахал легко, не сверяясь с компасом. Он шел строго на юг и знал, что в час дня прямо на его азимут выйдет солнце. К этому моменту он должен достигнуть Лабручья, значительно южнее высоты 69, куда нужно вернуться.
Речка косо легла на пути с явным запозданием, когда солнце уже заворачивало к правому уху. Стащил сапоги, опустил натертые ноги в холодные струи, подмял спиной осоку и долго лежал так — заправлялся речной бодростью…
По ту сторону Лабручья пошли топи, завалы, сырятина, комарье. Он знал, что всего этого добра, чем дальше на юг, к Ивинскому разливу Свири, тем больше, но решил идти прямиком, чтобы оставить слева дорогу, Уорд, Залесье и то ночлежное место у Ропручья, где они коротали ночь с Горбачевым.
Проклятые места. В мирное время встретить здесь человека — праздник. А война и тут, на болотах, меж деревьев, в буреломе, лежала буднично, жестоко, кричаще.
Наткнулся на фанерные обломки Р-5. Трупов не было — либо уползли, либо еще в воздухе выпрыгнули.
Листовки. Под ногами, на ветках, — советские, финские, немецкие — рвано-рыжие, свежие, на глянцевой бумаге и рыхлой оберточной. На ветер пущенная пропаганда. Брал, безотчетно совал в карман. Они были для него — человека в пути сущего.
К вечеру добрался до Мундуксы. Бросился ничком к воде и пил, пока не заломило в затылке. На лбу, на спине колко выступила испарина.
Еще через пару километров, выбравшись к сухому ельнику, осмотрелся и рухнул рядом с муравейником. Солнце уже окопалось. Укрылись в своем доте муравьи. Усмирил дыхание и потерялся в забытьи…
Утром понял, что заблудился. Дважды переходил речушки, похожие, как две капли воды, на Мундуксу. Обогнул болото, на котором одиноко паслись две чахлых сосенки, и неожиданно вышел на просеку, а никакой просеки в этом месте быть не должно. Взбежал на вершину холма и растерянно замер: просека скатывалась по обе стороны прямехонько и бесконечно.
Приспособившись на пне, вытряхнул на ладонь табак двух последних полупустых папирос, достал листовки и долго думал, какую из них пустить на закрутку. Рвать советскую — свинство, хоть и старая. Тем более написано: «Прочитав, передай товарищу».
Заинтересовался:
«Вести с Советской Родины.
27 июля 1942 г., суббота, г. Москва.
Дорогие братья и сестры из советских районов, временно оккупированных врагом! Немецкие поработители распространяют среди вас лживые сообщения о положении на фронте и в нашей стране. Не верьте фашистским псам! Читайте правду о боевых действиях Красной Армии и о жизни нашей Родины.
23 июля Советское информбюро опубликовало исключительный по своему значению документ — «Политические и военные итоги Отечественной войны».
Со всей убедительностью фактов эти итоги говорят о том, что Советский Союз — на пути к победе, что созданы все предпосылки для разгрома ненавистного врага…»
Тут же телеграммы У. Черчилля и генерала де Голля председателю Совета Народных Комиссаров СССР И. В. Сталину. Черчилль обращался к Сталину «с выражением восхищения победоносной обороной ваших вооруженных сил, отрядов партизан и гражданских рабочих в течение истекшего года…»
— Ты давай-ка второй фронт открывай, — вслух сказал Павел Черчиллю и обратился к телеграмме де Голля:
«От имени сражающейся Франции я прошу Вас принять — для Вас лично, для советской нации, для ее героических армий и их руководителей — выражение нашего восхищения и нашей веры в общую победу».
И взял еще листовку, крякнул от неожиданного заголовка:
«Воззвание к партизанам, подпольщикам и шпионам.
Мы, партизаны, подпольщики, находящиеся в плену в Финляндии, живем хорошо, каждый, кто найдет эту листовку, сядь, покури и подумай. Переходите к нам. Бросайте свою диверсионную работу. Вы спасете жизнь себе и своим семьям».
Он сидел, курил. Думал, как выйти к болоту Картос, когда вдруг сбоку, рядом грохнул окрик:
— Руки!.. Кто такой?
В тот же миг Павел распластался за пнем, выставив автомат навстречу трем неизвестным.
Глава 8
21/VIII—43 г., 11 ч. 00 мин.
Власову
Летали, три раза. Горбачева не нашли, мешают туманы. Сделаем еще попытку. Пусть Горбачев ждет круглые сутки. Летим, как будет погода. Срочно жду ответ.
«Могикан».21/VIII — 13.00
«Егору»
Срочно сообщите координаты, куда бросать продукты. К вам летали три раза, но не нашли. Ждите самолет круглые сутки.
Власов.22/VIII — 14.00
Власову
Летали четыре раза днем, так как ночную машину разбили. «Егора» не нашли. Были атакованы ястребками. Лететь больше не хотят. Могу настаивать еще, но опасаюсь, что собьют.
«Могикан».22/VIII — 18.30
Юрий Владимирович!
«Егор» находится в координатах 92—22, вези туда. Так оставить нельзя. Ждут.
Власов.23/VIII — 14.30
Власову
Груз сброшен, координаты 92—22, на поляне севернее высоты 69, в конце Лабручья. Всего по нашему заданию сделано 20 боевых вылетов. Прошу разрешения представить именем ЦК летчиков к награде. Выезжаю Беломорск.
«Могикан».23/VIII — 15.30
Власову
Бросайте продукты восточная окраина болота Картос, координаты 90—30. Встретил группу Гайдина без радистов. Не имеют продуктов, обуви. Дайте указание.
«Егор».23/VIII — 18.30
«Егору»
Продукты сброшены в координатах 92—22, на поляне севернее высоты 69, в конце Лабручья. Ищите и сразу сообщайте.
Организуйте прием продуктов для Гайдина в координатах 90 — 30, по сигналу два костра с севера на юг, с 23-го до 2 часов ночи. Установите связь Гайдина через вашу рацию.
Власов.Из отчета Д. Горбачева:
До вечера ждал Удальцова, Сидел в кустах и внимательно следил за просекой. Было еще светло, когда вдали появились четверо. Навел автомат, но вскоре узнал в группе Удальцова, Семена Июдина из Каскесручья, Павла Бекренева — бывшего работника НКВД. Четвертый, назвавшийся Гайдиным, был мне незнаком. Выяснилось, что Удальцов встретил их на просеке у болота Картос.
Из письма С. Гайдина автору:
С первого дня выброски мы почти потеряли надежду выполнить задание и остаться в живых. Нас было пятеро — два вепса, два карела и один русский. Поднялись мы в воздух на самолетах У-2 из расположения 7-й армии Ленинградского фронта. Над рекой Свирь наши самолеты подверглись сильному зенитному обстрелу и вынуждены были рассредоточиться. То ли летчики двух самолетов, на которых летели радисты Морозов и Тарасова, сбились с курса, но на указанный координат приземлились со мной только два разведчика — Семен Июдин и Павел Бекренев. Оба радиста вместе с рациями пропали бесследно. Семь суток бродили по лесам и болотам в пределах 7—10 километров, но не обнаружили никаких следов. Как выяснилось впоследствии, оба радиста были ошибочно выброшены под село Ладва, при связи с Беломорском запеленгованы, а затем и схвачены. Радист Николай Морозов был тут же расстрелян.
Мы остались без связи. Кончились продукты (У-2 берет вместе с пассажиром лишь 10—12 килограммов груза, включая автомат и боеприпасы). Пошли на диверсию, подстерегли двух солдат, ехавших на повозке в сторону Педасельги, забрали две коробки галет, десять банок бульона.
Отметили на карте деревню Ржаное Озеро, пошли по азимуту. 30 километров. Ближе населенного пункта не было. Добрались на третьи сутки. Решились на разведку, чтобы выяснить режим оккупации, определиться. Но при первой же попытке установить связь с населением были встречены выстрелами. Ответили несколькими очередями и ушли в сторону Шокши.
С шести утра скрывались за пригорком, откуда хорошо просматривалась деревня. В 11 часов вечера послали на разведку Павла Бекренева: в Шокше жила его мать. Остались с автоматами наготове. Прошел час, и вдруг — ружейно-автоматная стрельба в деревне, затем взрыв гранаты. Еще через час бегом вернулся Павел, мокрый с ног до головы: попал на засаду, спасли его граната и темнота.
Проверили оружие (у всех ППШ), подготовили гранаты, но вскоре поняли, что искать нас в темноте не будут.
Отошли и остались ночевать в стогу, чтобы на рассвете уйти. Это было решение усталых.
Около пяти утра — собачий лай, крики. Выскочили из стога, бросились к ближайшим кустам. Через 15—20 минут метрах в двадцати от нас затрещала изгородь. Появились на лугу пять карателей с рыжей собакой на поводке. Вслед за этой группой подошли к стогу еще семь человек, и среди них женщины в форме, но у всех винтовки. Они покрутились вокруг стога, поговорили и почему-то силой утащили собаку в сторону от нас, на запад. Выждав, мы, естественно, бросились на восток.
На другой день, к вечеру подошли к Ропручью. И тут повторилось то же самое. Остановили на дороге женщину. Она оказалась трудпереселенкой из Ленинградской области, сказала, что живет в Ропручье с дочкой, муж с сорок первого года в Красной Армии, что в деревне гарнизон около 50 солдат. Попросили принести хлеба, картофеля и пачку сигарет. Охотно взяла 100 финских марок, пообещали еще 400.
Ушла, а мы из предосторожности прошли ближе и засели в стороне от дороги, в километре от деревни. Ждали недолго. Семен Июдин, который ушел вперед «за обзором», прибежал и сообщил, что идет эта женщина, а следом за ней солдаты с автоматами наизготовку.
Целые сутки гнались следом. Трудно было нам, истощенным. Оторвались в лесу, сделали дневку. Четыре картошины, остальное — грибы.
Двинулись к Каскесручью, где жила родственница Семена Июдина. И тут судьба, видимо, сжалилась над нами. На лесной просеке, на десятый день наших скитаний, обнаружили следы, пошли по ним и примерно через километр увидели сидящего на пне человека.
Подойдя поближе, я узнал в этом человеке Павла Удальцова, он учился в спецшколе, а теперь, как и мы, находился на задании, но заблудился и не может найти свою базу. Карта этого района была при мне. Сориентировались и к вечеру встретились с Горбачевым. А вскоре радистка Сильва Паасо передала по моей просьбе радиограмму в Центр. Вот здесь и свела судьба в одну разведсемью меня, Горбачева, Удальцова, Асанова, Паасо, Бекренева, Июдина.
25/VIII — 19.20
Власову
Разрешите объединиться с группой Гайдина под моим руководством. Продукты для них выбросьте в координатах 92—22 без сигналов. Свои получили.
«Егор».Из отчета Д. Горбачева:
Взяв с собой Павла Бекренева, который был в лучшем состоянии, чем другие, я пошел на связь с Тучиным, приказав всем остальным идти на базу, захватить Асанова, Паасо и вернуться к Лабручью. Утром 21 августа мы встретились с Тучиным.
Я старался выяснить наиболее преданных людей. Тучин назвал Ивана Федоровича Гринина, мастера кожевенного завода в Залесье Алексея Николаева, Федора Реполачева, шофера оборонных работ в Вознесенье, и работающего там же Сергея Бутылкина. А также рабочего смолокурни в Шокше Василия Агафоновича Герчина. Было видно, что Тучин уже давно приглядел надежных людей.
Во время этой встречи я спросил Тучина, что за шум слышится со стороны реки Нилы.
— Строят узкоколейную железную дорогу от Вознесенья до станции Токари, — ответил Тучин. — Ветка проходит мимо села Ивана, работы заканчиваются.
Это был наш первый разведывательной трофей, но требовались детали, и Тучин обещал их.
В пять часов вечера мы с Бекреневым направились к Лабручью, куда пришли утром через 14 часов. У Лабручья никого не оказалось. Ждали весь день 23 августа и заночевали в лесу. Утром пришли Удальцов и Асанов. Сказали, что остальные подойдут на следующий день. И еще сообщили, что удалось установить связь с Центром. Выяснилось, что продукты сброшены. Мы легко нашли их в километре от нас. Посреди пожни лежали два грузовых парашюта.
Набили вещмешки, остальное зарыли в земле до удобного случая. Направились искать подходящее место для базы.
Из рассказа И. Ф. Гринина:
Получив от Тучина задание по разведке узкоколейной железной дороги, я отправился рыбачить на реку Нилу. Чтобы не вызвать подозрения, взял с собой 16-летнего Бориса Бутылкина, сына бывшего главного бухгалтера райпотребсоюза.
Поставили удочки и самоловки. Стали с берега наблюдать за узкоколейкой. Подсчитали, что по дороге в сутки проходит по 4 состава в ту и другую сторону. Везли в обе стороны солдат, вооружение… Поймав за сутки около пуда рыбы, мы направились к полотну железной дороги, туда, где валялся сброшенный с рельсов железнодорожный вагон. Рабочие — финны — окликнули нас, подбежали.
— Какого черта болтаетесь здесь?
— А рыбу ловили.
Показали улов, они взяли у нас килограммов пять и отпустили.
Мы увидели, что шпалы лежат прямо на земле, и только в болотистых местах сделан настил. Дорога прямая, видно километров на десять вперед…
26/VIII — 19.30
Власову
Связь с населением и Тучиным установлена. Он работает в нашу пользу и оказывает всяческую помощь. Обнаружена новая железнодорожная ветка, ведущая от станции Токари до Вознесенья через Никола. В поселке Никола имеется аэродром и 24 самолета. В ближайшее время отправим Тучина в Петрозаводск для связи с нашими рабочими и солдатами, служащими в финской армии. Просим вашего согласия и дополнительных задач.
«Егор».Командующему 7-й отдельной армией генерал-лейтенанту тов. Крутикову.
Нашей разведкой установлено, что у противника построена железнодорожная ветка от ст. Токари через деревню Никола до Вознесенья.
У деревни Никола — аэродром, на котором 24 самолета.
Г. Куприянов.г. Беломорск, 27 августа 1943 года.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Глава 1
Я просил Тучина: «Без горячки, Митя. Работы у нас много, и последнее это дело — спотыкаться на первых шагах.
Д. Горбачев.1
Тучин проснулся весело, с той шальной радостью, когда вчерашнего дня человеку чуть-чуть не хватило для чего-то великого.
Это ерунда, что человек рождается один раз. Человек заново рождается каждое утро, во всяком случае, ему никогда не поздно все начать сначала.
Отчистил с ботинок вчерашнюю грязь, шумно, с фырканьем и брызгами умылся. Прошел тихонько в комнату, тронул за плечо жену:
— Маш.
Выпростала из-под одеяла руки, потянулась, выгнувшись. И Тучин, второй уж раз в это утро, с удивлением подумал о том, что ему всего, дай бог памяти, тридцать.
— Я, Маш, в Петрозаводск.
— Куда?
— В Петрозаводск, говорю.
Он был деловой человек, Тучин. Ему доставляло удовольствие не утомлять жену объяснением своих действий. И только потому, если разобраться, что он ненасытно, настороженно, жестоко, может быть, вымогал ее доверие. Она была его последней верой и правдой в мире, где он так долго жил игрой. Ей, самой близкой, он ничего не хотел объяснять. Так было. И будет, наверно. Но сейчас, беззащитный перед ее испуганной сонностью, добавил серьезно и утешительно:
— Это совсем не страшно, Маша. Ты, Маш, спокойная будь.
Глянул на девчушек — носом к носу две головенки, обе по-отцовски светловолосые — и Галка, и Светка. Осмотрелся с горькой пристальностью человека, который может потерять все, и быстро вышел…
Что он знал о Петрозаводске? Достаточно много, чтобы не принять всерьез предупреждений Горбачева об осторожности, но и не столько, чтобы быть спокойным полностью. Оккупационный режим в столице — своего рода совершенство. Горбачев не зря расписывал провалы в мельчайших деталях.
…Люди, рассказывал, увязывали узлы и сидели прямо на улицах — ждали транспорта на Архангельск. И в эту-то пору мужчина лет тридцати на виду у всех, перед самым приходом оккупантов спешно красил полы, остеклял и шпаклевал окна… Ипату Федоровичу Лангуеву, дежурному по станции Петрозаводск, дали задание не из легких: войти в доверие, устроиться работать на железную дорогу, обрастать информацией. Все это он сделал.
Однажды вечером к нему подошел человек:
— Где можно купить кило три белого хлеба?
— Хлеба? Белого? Видел я, солдат продавал кило два у Гостиного двора.
«Пароль. Но обрати внимание, какой пароль! — говорил Горбачев. — Булочник, не разведчик его придумал. Три кило белого хлеба, когда черного не найдешь!..»
Связным был Василий Гаврилов, из Петровского района, до войны работал помощником машиниста на станции Кандалакша, кажется. В Петрозаводск прошел, сведения получил, а обратно не вышел. По доносу их обоих схватили и расстреляли.
«Вот тебе один пример. Чему он учит? Не выпячивай своей преданности, иначе тебя заподозрят в предательстве. Пароль выбирай с участием мозга…»
Январь сорок второго года. В ходку направился Хуго Сундфорс, тридцати шести лет, опытный в жизни человек. Долгое время работал в Соломенном главным механиком лесозавода; в восемнадцатом году его отца убили финские белогвардейцы. Он знал, на что идет, к кому идет. Сутки пробирался из Шалы по Онежскому озеру в Ялгубу. Переночевал в заброшенной избушке. К следующей ночи двинулся через пролив в Соломенное. Там в полночь вошел, как и требовалось, в свой пустой дом, затопил печь, расположился по-хозяйски. А утром… утром увидел в окно солдат — шли на дымок. Рассказал им, что перешел через линию фронта, вернулся вот домой…
На допросах отвечал по легенде: бежал с оборонных работ, рассчитывая, что ему, финну, ничего плохого не будет. То же самое повторял в Петрозаводской тюрьме. Слушали. А потом один из тюремщиков, Ниссинен, схватил его за горло: «Рассказывай правду, а не то на такие кусочки разделаем, что даже самые большие из них петух проглотит!»
Сундфорс молчал. В феврале его бросили в лагерь военнопленных, что около Зарецкой церкви. И по сей день, видно, он там содержится…
Вывод один: финская национальность разведчика, на которую столько делали ставок, а все ставки — жизнями, — почти не дает разведчику преимущества. Не язык теперь роднит, не язык разъединяет.
Что делать? Может быть, провалы в Петрозаводске от неопытности? Посмотрим, говорил Горбачев, такой вариант…
Вслед за Сундфорсом, в августе, ушел на задание офицер Госбезопасности Трофим Ирюпин. В свои двадцать семь лет он был уже довольно опытным чекистом со специальной подготовкой, сын рабочего, член партии…
В напарники ему дали Карла Керянена. Кто такой Керянен? Революцию встретил в рядах красногвардейцев. После гражданской войны — на партийной и советской работе в Калевальском, Сегозерском, Заонежском районах. С финской войны вернулся с орденом Красной Звезды. В сорок первом он снова доброволец. В составе специального отряда совершил девятнадцать походов в тыл врага, сначала рядовым, а затем командиром диверсионно-разведывательных групп… Перед войной у него умерла жена, осталось трое малышей. То есть, все у этих людей было — и опыт, и нужда жить, и железо в нерве.
Их выбросили под Петрозаводском, у деревни Машозеро. Утром Ирюпин оставил Керянена и пошел в город на связь. Перешел железную дорогу, вышел на улицу Анохина, добрался до базара. На улице Кузьмина постучал в нужную дверь. Очевидно, он получил ответ на пароль: «Не свяжете ли мне шерстяные перчатки?», ибо на следующий день Ирюпин и Керянен вместе направились по тому же адресу… На проспекте Урицкого их остановила группа рабочих-электромонтеров. Рабочие-электромонтеры оказались переодетым полицейским секретом. Через несколько дней Ирюпин и Керянен были расстреляны.
Думай, Тучин, думай. Твой черед.
…Саастомойнен уже ждал его. Молча пожали друг другу руки и сели в машину.
Вчера Саастомойнен сообщил две новости: в октябре ему выпал двухнедельный отпуск, ему срочно надо в Петрозаводск оформить документы.
— Там, между прочим, спросят: «На кого оставишь комендантские обязанности?» Так я отвечу: «Есть один надежный человек». Надеюсь, я могу так заявить — а? Глаза Саастомойнена и спрашивали и посмеивались. Тучин не стал уточнять, в чем он сомневается, — в его надежности или согласии.
— При одном условии, — сказал с деловитостью торговца, который за полцены не уступит. — В Петрозаводск поедем вместе.
— Да? Зачем?
— Купить кое-что. Жене, детишкам да и себе. А то какой стороной ни поверни, весь в штампах «SA»[12]. А староста должен быть представителем народа, господин комендант.
— Пожалуй. И все?
— Нет. Аванс дадите. Марок девятьсот.
— Шестьсот.
Саастомойнен был жаден.
— Девятьсот.
— Черт с тобой, восемьсот — и по рукам!..
Километрах в пяти за Погостом встретились три газгена с солдатами.
— Куда это их?
— Полицейского убили.
— Надо же. Где?
— Под Матвеевой Сельгой.
— Кто убил?
— Разберутся.
Не без тревоги подумал о Горбачеве: ставят сети на ряпушку, а в них и судак попадается.
И еще подумал — почему Горбачев, зная, что он мимоездом будет в Шелтозере, ни слова не сказал о семье. Три года о нем ни слуху, ни духу. Не верит, или не хочет ставить под удар семью. Однако, он, Тучин, и сам не промах.
На перекрестке за школой остановил машину.
Прошел темные сени, нащупал и распахнул дверь. Четырнадцатилетняя Клавка, маленькая не по годам, тащила к столу самовар. За столом — мал мала меньше — все горбачевское потомство: Нинка, Юрка, трехлетний Борька. Глянули мельком и снова глаза в одну точку — туда, где в центре пустого стола алюминиевая миска с мелкой нечищенной картошкой. Перед каждым пясточка соли. Бесхлебица.
Анастасия стояла в сторонке, у вешалки, в незастёгнутой телогрейке, закинутыми за голову руками повязывала платок. Смотрела исподлобья, устало.
— Здорово! Куда собралась?.. А я еду мимо, дай, думаю, погляжу, как вы тут?..
— Ты по делу или как? Некогда мне, опаздываю. Мама-то что?
— Мама — хорошо, хорошо мама… А ты задержись-ка Анастасия.
Отвел ее на кухню, взял за плечи. С удивлением и завороженным страхом смотрела в его веселые глаза.
— Знаешь — что?
— Что?
— Дмитрий здесь.
— Господи! — рывком оглянулась и бросилась к двери. Едва уцепился за рукав:
— Да не здесь — там!.. Там… Жив, кланяется… А ты — ни звука никому, и вида чтоб не было!..
Вцепилась в пиджак, и тысяча вопросов в глазах.
— Все, все! Вот передать просил, — достал 800 марок, вложил в ее ладонь, зажал пальцы, повернулся и — бегом к машине…
…Вечером Тучин протянул пропуск белобрысому сержанту Петрозаводской военной полиции, что стоял в проходной гаража во дворе штаба управления Восточной Карелии.
— Кто нужен?
— Слесарь Антонов.
2
— Ты Антонов?
— Я.
— Финским и вепсским владеешь?
— Владею.
— Будешь у меня председателем колхоза и заодно переводчиком.
— Не справлюсь. И нога вот…
— Неважно, пошли, — приказал Саастомойнен.
Антонов родился в год революции. В 39-ом вступил в комсомол. А в 41-ом его не взяли в армию: нога не гнется. Последним, кто отказал ему, был начальник штаба формировавшегося в Шелтозере партизанского отряда Назар Иванович Самылин. Прости, говорит, какой разговор, в нашем деле лосиные ноги нужны.
В партизаны не приняли, в ополченцы на Свирь не пустили. А на пристани — столпотворение. Последний рейс. Увозили самое ценное — грузы республиканского банка и ребятишек из Шелтозерского детского дома.
Ушли с приятелем в лес, в сторону Качезера, попали в прочес. И вот комендант Саастомойнен: «Будешь у меня председателем»…
Руководил ремонтом конюшни в Федоровской, подвозкой сена, корчевкой кустарника на полях. На корчевке люди работали плохо, оставляли пни. С председателей выгнали.
Бросили на оборонные работы в Вознесенье. Заболел.
Направили учеником киномеханика в Видлицу, где размещался в ту пору штаб управления Восточной Карелии. В клубе собиралось человек 120—150 солдатни. Крутил «Февральский манифест» — подписка Александром I манифеста о предоставлении «независимости» Финляндии; лапатоссу — кинокомедию «Ану и Микко» — о том, как хорош мир, где у бедной девушки есть шанс выйти за богатого. Часто в дикторском переводе шли фильмы киностудий Германии. Сеансы начинались с еженедельных обозрений — «вохеншау». В течение двадцати минут экран убеждал зрителей в близости победы.
Непобедимые немецкие танки, загорелые, запыленные, с закатанными по локоть рукавами непобедимые немецкие солдаты… И — поля, усеянные трупами русских, колонны военнопленных.
Затем основной фильм: «Девушка моей мечты», «Король-ротмистр» или «Улица Большой Свободы, 7» — о приключениях веселых гамбургских моряков. Красивая жизнь, красивые женщины с красивыми ногами, бедрами, бюстами — награда, которая ждет победителя.
Киномехаником был высокий, узколицый финн, крестьянин из-под города Турку, веривший во все, что крутил. Жил с ним на положении лакея в одной комнате, прямо при Доме культуры.
Однажды:
— Эй, вставай, принеси сигарет!
Болела распухшая нога. Вскочил, вцепился ему в горло, ничего не видя от злобы, душил, бил головой в подбородок.
Очнулся в луже крови, с подбитым глазом и нестерпимой болью в животе.
Соседняя дверь вела в комнаты «главного попа Карелии». Черные погоны с золотыми крестиками, пистолет под рясой. В мае, когда штаб переезжал в Петрозаводск, открыл эту дверь, взял пистолет и литр церковного вина. Напоил киномеханика, а выстрелить не смог.
Петрозаводск — допрос. Капитан полиции:
— Смотри в глаза, гадина! Не лги! Правду! Нет — к стенке!.. В Петрограде был?
В Петрограде не был, в Ленинграде — да.
— Ленинграда нет, а есть Петроград, запомни! Где родился?
— В Советском Союзе, конечно.
— Нет такого, есть Россия. Национальность?
— Вепс.
— Русский! Нет среди вепсов бандитов… В глаза смотри! Зачем пистолет брал?
— Не брал пистолета… Немцы взяли.
— Какие немцы?
— Те, что в Видлицах стояли, ехали из Олонца в Финляндию.
Улик не было. Из киномехаников выгнали. На бирже труда получил направление в гараж штаба, автослесарем.
Здесь 17 августа 1943 года и состоялась все изменившая в жизни Николая Антонова встреча с Тучиным…
— Ты где живешь, Коля? — спросил Тучин. Присел на корточки у края бокса и невозмутимо, с видом человека, у которого все в ажуре, покуривал. Антонов, то и дело путая порядок листов, собирал рессору заднего моста. И ответил, как ему показалось, с ненужной обстоятельностью:
— На улице Хоймасо Тяринен, дом десять, квартира семь.
— Что еще за улица?
— Дзержинского, по-старому.
— Не годится. Кончишь работу, иди за Лобановский мост. Постучись в первый дом от базара, выше по речке. Откроет женщина, скажи: «Вам привет от Егора». Понял? Ну, до встречи…
Налетел, взбудоражил душу, исчез. Тучин есть Тучин. Не изменили его ни война, ни финский харч. И в этой его уверенной живучести Антонову вдруг открылось что-то такое, о чем он никогда не думал раньше: Тучин-то — чем живет? Ведь не похоже, не видно этого, чтобы его совесть не сводила концы с концами. Не видно, хотя на этот случай ему, Антонову, жизнь глаза промыла начисто. Они оба родились в Федоровской. Отцовские дома в двухстах шагах, но двух таких разных людей во всех списках сельсовета, наверно, больше не значилось. Тучин по всем деревенским понятиям был мазурик, заводила ребячьей стаи, и другого человека, которому бы так завидовал маленький Антонов, не было. Сам он, с тех пор, как случилось это несчастье с ногой, так и простоял свое детство где-то в сторонке от соблазнов, игр, мальчишеских проделок.
Никаких отношений у них тогда не возникало. Лишь намного позднее тучинской горячности чем-то приглянулась его немудреная замкнутость. Это случилось в 1934 году, когда после девятимесячных пропагандистских курсов в Гатчине Тучин вернулся в Федоровскую избачем. Ему шел тогда двадцать первый год, и он с запоздалой жадностью окунулся в книги. Читал, как жил — налетом. Тут-то неожиданно выяснилось, что в книжном мире семнадцатилетний Антонов — старший, что в принципе они недалеки от уравновешенной зрелой дружбы.
Вскоре Тучин снова исчез. Хозчасть Совнаркома, комендант здания ЦК КП(б) республики. В мае 1943 года в Горнем встретились и наспех разошлись уволенный за непослушание помощник киномеханика и подозрительно довольный собой финский староста.
Ломай теперь, Антонов, голову, к кому и зачем идешь за Лобановский мост.
3
Город оказался тише, чем думалось издали. Прохожие в гражданском — редкие, деловито торопкие. У патрульных шаг с ленцой, вразвалочку. Деловитость — страх, ленца — настороженность. Неправдоподобные улицы без детских голосов.
Город с двойным дном. Непостижимая для пришлого жизнь. Где они, казармы и лагеря? Кто друг в казарме, кто враг в лагере? Чьи глаза сочувствуют и предают, кто умрет, но не выдаст? «Зона вакуума» — от незнания всего этого. Кроме незнания, других стен у «Онежской крепости» нет. И это неправда, что фашистские козлятки из Äänislinna не отпираются. Просто у всех крепостей засовы открываются изнутри.
Тучин думал, как сказать обо всем этом Антонову и можно ли обо всем этом ему сказать. Нужно, потому что другого шанса нет.
Постоял у обрыва парка Онежского завода. В низине, за желтыми верхушками берез, мертво лежали взорванные корпуса. Лишь в дальнем правом углу чуть теплилась жизнь — там вздымалось облако дыма и пара, грохал по жести молот.
Вышел на площадь. Здесь, в центре циркульного ансамбля высился прежде гранитный памятник Ленину, теперь стояла на постаменте пушка.
К краям площади по всему ее кругу жались машины. Кисло, по-муравьиному пахло осиновой гарью — машины почти сплошь газогенераторные. Поминутно хлопали массивные двери, вытягивались у дверей часовые — военный, политический, полицейский муравейник оккупированной Карелии суетливо вершил свое дело.
При выходе с площади на улицу Энгельса его впервые остановил патруль, и он понял, что давно, почти с наслаждением ждал этой минуты. Это был миг, когда все, что было его позором, наконец становилось его силой.
Выложили паспорт, пропуск, удостоверение старосты, сложенный вчетверо наградной лист. И пожилой лейтенант без слов козырнул, расступились патрульные, и он зябко вздрогнул при мысли о тех, кто на его месте уже чувствовал меж лопаток холод смерти.
Обогнул гостиницу «Северную», точнее то, что осталось от нее, — шесть колонн с остатками лепного перекрытия, груда кирпича и балок.
Спустился к Онежскому озеру. Обгорелые стояки печей, остовы кирпичных стен с пустыми глазницами. Аллея молоденьких тополей у воды, почти безлистых, с распоротыми огнем боками…
Пройдут годы — круглые годичные кольца тополей станут разорванными эллипсами, вокруг опаленной сердцевины уродливо наслоятся годы. И в далекий мирный день люди с удивлением глянут на разъятую кору, четвертованную и все-таки живую крону, и, может быть, не поймут, отчего это с тополями случилось. А он, Тучин, напомнит. Он приведет сюда дочек и внуков, он объяснит, как живое умеет цепляться за землю, в которую пущены корни… Он так надеялся привести сюда дочерей и внуков
4
Вечером, в доме Лидии Ивановны Дерябиной, что за Лобановским мостом, Тучин пункт за пунктом, по-горбачевски загибая пальцы, изложил Антонову свое чрезвычайное дело. Шел ли он на риск, доверяясь чувству прежнего товарищества? Думал ли о том, что Антонов может заподозрить его, старосту, обласканного Рюти и Маннергеймом, в провокации?
Антонов сидел на краешке венского стула, выставив вперед прямую негнувшуюся ногу, и жгутом скручивал кепку с большим дряблым козырьком. Его доброе лицо с пухлыми застенчивыми губами было красным. На выпуклом лбу выступила испарина.
Антонов принимал нелегкое решение. И Тучин ничем не мог помочь ему, потому что ничего не мог рассказать ни о Горбачеве, ни о себе. Он действовал от имени своего сомнительного, в глазах Антонова, патриотизма, но требовал, может быть, жизнью оплатить их землячество, их старую дружбу.
Антонов поднял голову и пристально всмотрелся в тучинские глаза, ища в них все недостающее. Тучин был спокоен, строг, хотелось верить в него — почему-то веришь людям, у которых хватает силы не объяснять, не оправдывать своих действий, и чем сложнее ситуации — тем больше.
Судорожно сглотнув, Антонов спросил:
— Значит, ничего сказать мне не можешь… для кого, зачем?
— Нет.
— Ну что ж… Мне терять нечего, — скомканной кепкой вытер лоб и не без вызова добавил: — Я, Дмитрий, давно согласен… раньше, чем ты пришел. Намного раньше.
Тучин удовлетворенно кивнул. Ничто не изменилось, ни в его лице, ни в позе. Спросил:
— Лично ко мне у тебя нет вопросов?
— Есть… Как к тебе относится Маша?
— Какая Маша? Жена, что ли?
— Она.
— Понимаю. Отвечу… Маша, Николай… Маша родила мне двух дочерей, Маша хочет сына… Вопросы?
— Больше нету.
Николай неуклюже встал, опираясь, накрыл рукой тучинское запястье и мощно сжал пальцы.
— Скажи, Коля, у тебя есть хоть паспорт-то?
— А как же.
— И ты можешь свободно ходить по городу?
— Попробую.
— Попробуй, а на рожон не лезь. И записей — никаких. И никаких помощников. Дело для одной пары глаз… Для одной жизни, Коля. И еще — в конце сентября появись-ка у нас, в Горнем.
— Каким путем?
— Любым, но появись… Есть у тебя там мать, а у матери над головой не крыша — решето, а тут зима на носу, вот и повод тебе.
Тучин выпрямился, весело встряхнул Антонова за плечи.
— Теперь иди.
Глава 2
Нас забросили в тыл на два месяца, а мы пробыли восемь…
Д. Горбачев.1
Итак их стало семеро:
Дмитрий Горбачев,
Павел Удальцов,
Сильва Паасо,
Михаил Асанов,
Степан Гайдин,
Семен Июдин,
Павел Бекренев.
Двое русских, финка, карел и трое вепсов.
Соорудили шалаш — на высотке, в двух километрах от Лабручья, в глухом, отдаленном от дорог лесу. С запада и востока их прикрывала непролазная трясина, на южных подступах высотку когда-то штурмом взяла буря, лес полег, пророс молодью — тут сам леший ногу сломит. Лишь на север тянулась едва приметная хожая тропа. Туда смотрел пулемет старой английской марки «Льюис».
Обеды стряпали на костре. Спали на хвое, устланной парашютным шелком. Шелковым пологом завешивали вход.
Стоял шалаш, жила в шалаше Сильва, и Павел был вполне доволен. Имелось и поприще, на котором он преуспевал: два-три раза в день требовалось поднять на пятнадцатиметровую высоту антенну рации — он лез на ель, и в его зубах гудели волны Большой земли.
Сильва вела оживленные переговоры.
Сильва Паасо
27/VIII — 13.00
«Егору»
Передайте Гайдину, чтобы разведал побережье озера для приема груза и радистов. Координаты сообщите. Тучина пошлите Петрозаводск задачей разведки, установления связей и подготовки явок.
Власов.28/VIII — 19.00
Власову
Радисток выбросьте северная часть Матболота, координаты 92—18, груз — 92—22, старое место. Время выброски радисток сообщите.
«Егор»29/VIII — 13.00
Изотову
В ботинках работать невозможно. Шлите сапоги.
Гайдин.72
6/IX — 12.30
«Егору»
Нас интересует возможность доставки радиста и груза по озеру. Сообщите координаты для безопасного причала.
Власов.— Странные люди! — горячился Горбачев. — Далось им это озеро, оно же у черта на куличках.
Власову
Радистку и груз на берег принять невозможно. Идет сокращение гарнизонов в тылу и укрепление берега. Бросайте координаты 92—22, сигнал огонь. Продукты на исходе, присылайте срочно.
«Егор».7/IX — 18.30
«Егору»
Продукты и радиста выбросим дней через пять.
Власов.7/IX — 18.35
Власову
В поселке Уорд большие военные госпитали. В Ропручье — гарнизон до батальона. Электростанция работает — бомбите.
«Егор».9/IX — 12.45
«Егору»
Наши войска очистили Донбасс. Италия сдалась на милость победителя. Сообщите населению.
Власов.14/IX — 13.00
Власову
Получена телеграмма из Петрозаводска. Коменданту Саастомойнену приказано эвакуировать сельхозинвентарь. Идет подготовка машин.
«Егор».Это была последняя радиограмма, которую Сильва передала с затерянной в дебрях высотки. В полдень Горбачев и Асанов вернулись от Тучина. Промокший до нитки Дмитрий Михайлович присел к костру и, заходясь тяжелым кашлем, попросил радистку передать материал об эвакуации сельхозинвентаря. Уходя, Сильва слышала, как Горбачев сказал:
— Все, ребята, операция «шалаш» закончена.
— Что-нибудь случилось? — спросил Павел.
— Случилось: осень. За осенью обычно бывает зима. Надо менять квартиру.
Всем показалось, что Горбачев не договаривает чего-то, а он, вроде, ничего не скрывал, кроме своей давней и вдруг воспрянувшей болезни.
Он повел их к урочищу Мундукса.
На пятом часу хода по бесконечным болотам возник лесистый остров тверди. Они подошли к нему с запада, и было хорошо видно, как на юго-восток тянется от высоты хвост каменистой гряды.
Тяжело опустившись на землю, Горбачев подозвал Сильву:
— О чем я тебя попрошу, товарищ Сима… Сообщи, пожалуйста, Центру, чтобы сдвинули часы связи, на часик-полтора, в любую сторону.
Так вот почему после осени зима — рация запеленгована. Очевидно, предупредил об этом Тучин.
— Да, вот такая маленькая просьба.
— Хорошо, на часик-полтора. И резервное время тоже?
— И резервное.
Ребята разбрелись осматривать высоту. Павел приволок ржавую винтовку. За ним шел Июдин, удивленно вертел в руках простреленную ушанку. Вывернув ее наизнанку, подбежал к Горбачеву:
— Смотрите-ка, написано: «Яшков».
Вернувшийся Асанов добавил озабоченно:
— Тут метрах в двухстах два трупа, одежда да кости, нашим ремнем подпоясаны, брезентовым.
Горбачев долго рассматривал шапку, насупленно выдохнул: «Значит, Яшков…»
— Вы его знали? — спросил Июдин.
— Здесь три месяца стоял партизанский отряд «Шелтозерец»… с августа по октябрь сорок первого года. По девятое октября…
— А девятого?
— Ранним утром девятого октября были сняты посты, затем выстрелами убиты часовые у штаба… А Яшков, вот этот самый, шофер Яшков, как раз понес часовым хлеб. С тех пор о нем ничего не известно, кое-кто даже поговаривал, не смотался ли он к финнам. А он вот он — шапка навылет.
— Кто-то предал? — спросил Павел. Павел старательно выбивал камнем винтовочный затвор.
— Если б я знал, кто эта сволочь и где она находится!
— А Тучин, он что — уже был в то время старостой, или как? — все так же, между делом, поинтересовался Павел.
Горбачев повернул к нему голову и с минуту смотрел, как Павел корежил раствор, но взгляда его не дождался, ответил спокойно, с нотками усталости:
— Тучина, Павел, не тронь. Тучина надо знать, а ты знаешь о нем не больше, чем я о вавилонском царе Навуходоносоре.
— Все это верно, — миролюбиво согласился Павел. Отбросил винтовку и присел на корточки рядом с Горбачевым. У него была выжидающая поза мальчишки, которому должны выбросить из костра печеную картофелину. Он еще не вышел из возраста, когда важны только истины, прокаленные на огне. — Верно, — повторил Павел, — но ведь, насколько я знаю историю, Маннергейм Навуходоносору медали не вручал. А Тучину вручил. За что?
— Это он сам объяснит.
— Здесь?
— Нет, сюда он не придет.
— Почему?
— Я назначил ему встречу у сосны, в километре от деревни.
— Вот-вот, — воскликнул Павел. — Вы не решаетесь раскрыть ему базу, значит, сами не верите ему.
— Неправда! — отрезал Горбачев. — Неправда. Когда собака будет нюхать наши следы, я не хочу, чтобы они пахли сапогами Тучина. Без Тучина мы — ничто.
Впрочем, железной уверенности в голосе Горбачева не было. Он понимал, что Павел почувствовал, подловил его настороженность.
— А отряд? С отрядом что? — напомнил Июдин.
— Я уже говорил, что нападение было внезапным. Пятнадцать-двадцать добровольцев залегли и остались сдерживать финнов, остальные беспорядочно отступали. Когда болото осталось позади, командир отряда Залесский приказал разделить бойцов надвое — так было надежнее. Одна группа должна была пробираться к своим через Свирь, остальные полсотни человек — на Вехручей, чтобы раздобыть лодки и переправиться через Онежское озеро… До сих пор не известно, что стало с теми, кто пошел на Свирь, а вот те пятьдесят шесть благополучно прошли берегом от Вехручья до Янигубы, нашли лодки сплавщиков, подремонтировали и переправились на остров Гольцы, а это уже нейтральная зона… С Гольцов дошли на веслах до Стеклянного. В Пудоже как раз формировалась новая партизанская бригада, туда они и вошли…
Горбачев рывком встал, оглядел высоту:
— Пора окапываться. Будем надеяться, что дважды в одну воронку снаряды не падают…
2
14 сентября шанцевые лопатки дружно скребнули грунт. Земля не поддавалась. Камень. С трудом пробились на метр и с удовольствием приняли предложение Миши Асанова наростить высоту бревнами. С этой минуты Михаил стал архитектором и прорабом. По его указке валили бревна, таскали мох, готовили тесовины для пола. Стука топоров не боялись — с Волховского фронта, из-за Свири, в эти дни незатихающим громом докатывалась артиллерийская перебранка.
Топором Асанов владел виртуозно. Он обладал самым большим, пожалуй, человеческим счастьем — умением творить руками. От рук в нем все, думал Горбачев, — медвежья сила, спокойная внимательность, развитое чувство красоты. И даже ровный характер знающего себе цену человека.
Вглядываясь в его увлеченное, внушительно красивое лицо — скуластое, с тонкими губами, с бобриком густых волос над открытым лбом, Горбачев все чаще ловил себя на мысли, как это, черт побери, бесхозяйственно — не выводить таких людей в конструкторы, инженеры, академики или что-нибудь в этом роде.
А Миша не доучился.
Родился он в маленькой карельской деревне Торосозеро Медвежьегорского района. Рано освоил карельский, русский, финский, но больше на колхозном поле, чем за партой.
Служба в армии, завклубом, мастер леса, председатель сельского Совета в Мяндусельге, финская война, которую он прошел насквозь, — немного и спиц в колесе, да все, за какую ни возьмись, — прочные.
— Михаил Федотыч, — подошел как-то Горбачев, — ты скажи, сделай милость, что строишь-то? Угол, смотрю, в замок, венцы на паз — Кижский собор али землянку?
— Неужели плохо? — удивился Асанов.
Да нет, куда с добром. Но, по-моему, даже у мастера должны быть свои времянки, иначе на шедевры-то и пороху не хватит.
— Вот что, — протянул Михаил. — На времянку, Михайлыч, мне бог таланту не дал, — он провел рукой по щеке топора. — Ни времянок, ни шедевров не будет, а вот жилье срубим в самый раз…
Павел утром сбросил с каждого плеча по трехметровому бревну и, выяснив, нужна ли еще его грубая физическая сила, ушел изучать окрестности. К полудню вернулся по уши грязный, загадочный.
— Значит, так, Миша. По уточненным данным, ты должен прорубить три окна.
— Чего?
— Три окна, говорю, пятьдесят на пятьдесят, с видом на Европу.
— Чудак, чем я эти дыры заткну. Может, у тебя знакомый стекольщик есть?
— Руби, руби, не стесняйся!
Пошептавшись, Павел увел с собой Июдина и Бекренева. Вернулись к вечеру с тремя застекленными рамами, с железной печкой, трубой, небольшим, грубо сколоченным столиком.
— Где взял? — встревожился Горбачев.
— А там, никого не было, нам и дали.
— Где — там? — тише обычного спросил Горбачев, и Павел благоразумно вытянулся:
— Товарищ командир, должен вам сообщить в порядке разведдонесения, что километрах в восьми на юго-запад у нас имеются соседи — вражеская землянка с пятью солдатами, вооруженными автоматами «Суоми». Предполагаю, что такие землянки разбросаны по всему лесу в качестве мелких сторожевых секретов.
Горбачев скосил глаза на притащенный скарб.
— Трофеи, товарищ командир, взяты без боя.
— Понимаю, вы приценились, вам и уступили. Взаимовыгодная сделка: они вам свет в окне, а вы им, добряки, — свои следы на тот свет. Не так ли?
— Не-е, — растерянно протянул Павел. — Не так, Дмитрий Михайлович, не так, ребята, — верно? Во-первых, этих пентюхов не было дома…
— Откуда же вы знаете, что их пятеро?
— Так мы видели, как они ушли… Во-вторых, следы мы, будьте спокойны, утопили.
— Вот что, — скучно сказал Горбачев. — С сего дня без моего разрешения никто за пределы базы не выходит. Раз. С этой минуты база круглосуточно охраняется. Два. Вы, Удальцов, заступаете в наряд первым.
…Крышу засыпали землей и выложили дерном. Соорудили нары. А печь поставили у восточной стены. Сильва выкроила из парашюта занавески на окна и салфетку на стол. Над столом повисла электролампочка, добиравшая энергию старых радиобатарей.
Здесь, в этой землянке, они встретят 7 ноября, проведут часть зимы, пока однажды свежий утренний снег не доложит, что база обнаружена.
Глава 3
Финны дорого дали бы за то, чтобы узнать хоть что-нибудь о домике в лесу.
Они брали себе в проводники отлично знающего здешние места старосту-вепса Тучина. Он, а затем рекомендованный им человек, тоже вепс, двадцатилетний мастер кожевенного завода Алексей Николаев, казалось, из сил выбивались, шныряя по окрестным лесам вместе с финскими солдатами, чтобы найти следы неуловимых подпольщиков.
Из очерка Татьяны Смолянской «Домик в лесу».1
Из Шелтозера до Горнего Тучин добирался пешком. Попутки дальше не было, и он ходко за час с небольшим отмахал семь верст.
В Погосте, минуя церковь, невольно глянул направо, за реку, в сторону полицейской управы. Это был дом, какой человек может придумать разве что в состоянии крайнего испуга: двухэтажной высоты, с подтянутыми под крышу окнами, без сада, без дерева, глухо обшитый по вертикали потемневшим тесом, мрачно вздыбленный над изгибом веселой реки Шелтозерки.
Кулак Белков построил дом для жилья. Финны не нашли ничего лучшего для полицейского участка.
Дойдя до развилки дорог Калиностров — Тихоништа, откуда дом Белкова открывался во всем своем мрачном величии, Тучин заметил у крыльца машину Лаури Ориспяя.
Быстро свернул налево — Ориспяя зря не катается.
Был одиннадцатый час утра, когда он, на миг замерев и придержав дыхание, как актер перед открытием занавеса, распахнул дверь участка. Порог перешагнул человек, который торопился к делам, которому, черт побери, приятно все-таки видеть всю эту компанию — Ориспяя, Туоминена, Саастомойнена, агронома Тикканена и даже морды двух собак у ног незнакомых полицейских.
Бросив в угол сверток с покупками, Тучин деловито пожал присутствующим руки.
— Садитесь, господин Пильвехинен, — сухо предложил Ориспяя. — Не скрою, мы несколько заждались вас.
— Рад, что так необходим вам, господин капитан, — дружески прихлопнул коленку Саастомойнена, сел рядом. Комендант был зол, взвинчен. Видно, Ориспяя закатил ему порядочную взбучку.
— Повторяю, отклонение в точности звуковой пеленгации составляет три-пять десятых градуса, — продолжал Ориспяя. — Применительно к нашим условиям это дает нам боковое смещение в пять-восемь километров. Кроме того, мы были лишены возможности вести одновременную пеленгацию с двух точек. Как выяснилось, радиопеленгатор в Залесье бездействует, там неисправна катушка гониометра. Таким образом, мы вынуждены считаться и с ошибкой в дальности.
Тучин толкнул локтем Саастомойнена, спросил шепотом: «Что случилось, Вели?» Тот набычился и не ответил.
— Кроме того, мы должны учесть, что рамочная антенна нашего несовершенного пеленгатора на церкви подвержена так называемым поляризационным ошибкам. Это связано с несколько сложным, как бы раздробленным приемом волны, отраженной от ионосферы. К сожалению, и это еще не все… Мы имеем дело с границей двух сред — водой и сушей. Береговая рефракция приводит к изменению направления радиоволн. При такой пересеченной береговой линии, как у Энисъярви[13], ошибка может составить пять-семь и более градусов. И тем не менее, господа, — Ориспяя резко прихлопнул пятерней разложенную на столе карту, — тем не менее линия радиопеленгатора ориентировочно проходит точки Погост — Каскесручей. Где-то на ближнем к нам конце этой линии, между Калиностровом и Залесьем, регулярно в тринадцать и девятнадцать часов выходит в эфир неизвестная радиостанция.
Ориспяя сделал паузу, тоном приказа добавил:
— Выход оперативной группы в тринадцать часов пятнадцать минут. Полагаю, к этому времени мы получим свежий пеленг. За обнаружение радиста и рации назначаю премию — две тысячи марок.
— Ого! За живого или мертвого? — заинтересовался Тучин.
Ориспяя махнул рукой, он устал гоняться за призраками:
— Дело творчества… Кстати, вас, господин Пильвехинен, как знатока местности, прошу быть проводником. Имейте в виду, что после похода на Качезеро это ваше самое боевое дело.
— Понятно, господин капитан.
…Вечером Горбачев должен был выйти к сосне у Запольгоры.
2
Ровно в час дня капрал Калле Мява снабдил Тучина автоматом и диском запасных патронов.
— Прибавь-ка еще пару гранат, — потребовал Тучин. — Богатый стану — рассчитаюсь.
Группа выстраивалась, не дождавшись свежего пеленга. Ни в час, ни в половине второго неизвестная рация в эфир не вышла.
Их было двенадцать, включая двух поводырей с овчарками. Ориспяя, расставив ноги в блестящих хромовых сапогах, придирчиво осматривал небо: понятно, если хлынет дождь, собачий нюх — не помощник. Дав команду двигаться, дождался Тучина, подхватил его под локоть:
— Хочу, господин Пильвехинен, услышать ваш совет… Одно дело, так сказать, определять угол между направлением компасной стрелки и направлением на позывные рации. Другое дело… Я хочу сказать, существуют же и для партизанских баз наиболее благоприятные места, а с вашим знанием здешних лесов…
Тучин пожал плечами.
— Трудно сказать, господин капитан. Партизаны — не грибы. Ведь нет пока никаких оснований считать, что в нашем районе появилась организованная партизанская база. С моей точки зрения, конечно… Судя по всему, мы имеем дело с осколками групп. Это лесные цыгане, которым не до оседлой жизни. Они думают о бегстве, господин капитан, их база там, где им отказывают ноги.
— Логично, логично. Но любая крайность в оценке противника — это уже начало неудачи.
Тучин высвободил локоть:
— Извините, господин капитан, у меня рука заныла.
— Да, да, — спохватился Ориспяя. Неловко уложил руки на автомат — автомат выглядел на нем детской игрушкой и свисал не ниже нагрудных карманов. — Так все-таки, что бы вы предприняли на моем месте?
— Я — лицо заинтересованное, господин капитан. Я только что задолжал Саастомойнену восемьсот марок. Я предложил бы начать облаву километрах в двух восточнее Залесья с последующим выходом на матвеевосельгскую дорогу. Этим мы замкнем круг, круг, через который, как вы говорите, проходит эта самая… дай бог памяти…
— Линия радиопеленга.
— Вот-вот… Кроме того, с нами собаки, господин капитан.
— Хорошо, ведите нас по кругу.
Они вошли в лес, и Тучин возглавил колонну. Он чувствовал себя третьей собакой.
Все напомнило ему другой день, другой лес и то же собачье положение.
Тогда был октябрь. Воскресенье. Да, в воскресенье приехал на велосипеде Иван Фролович, брат Николая Антонова. Сказал, что срочно требует Саастомойнен…
Комендатура. До десятка вооруженных солдат. Незнакомый офицер рядом с Саастомойненом — молодой, щеголеватый, с насмешливым взглядом не по-фински темных глаз.
— Коскинен. Мне предстоит изучить район, и я предпочел бы начать с дальних сел. Хорошо ли ты знаешь здешние места?
— Я тут вырос.
— Поведешь нас в Качезеро…
Саастомойнен, на подходе к деревне:
— Веди прямо к дому Фрола Сидоркина. Звонили из Матвеевой Сельги… В доме Сидоркина партизаны, сколько — не известно…
Фрол Сидоркин, щуплый, бородатый, в белой рубашке, без шапки, дрожащий от холода, с прижатым к груди ружьем. Выскочил навстречу, метнулся обратно, к крыльцу, сшиб ногой кол, которым подперта дверь, и ружьем, пинками вытолкал навстречу полицейским оборванного, грязного человека с поднятыми руками…
— Он говорит, что партизан пришел рано утром, без оружия, попросил хлеба… Дал ему хлеба… А потом, поскольку он человек с детства честный и судимый при советской власти, он вспомнил, что подозрительных людей надо задерживать… Он схватил ружье и выбежал на улицу… запер дверь… Сына послал в Матвееву Сельгу сообщить… Сам он не оделся и вот… вокруг дома…
— Зазяб, а еще слышь-ка, переведи насчет соседей… просил… как есть все сволочи… никто куфайки не подал… чтоб учли это дело…
— Он говорит, что в задержании партизана ему помогли соседи… Надеется, что власти учтут его патриотизм…
Партизан, сбитый с ног кулаком Коскинена, лежал у крыльца и смотрел в небо неподвижными бессмысленными глазами. Сказал, что их было семеро. Все окончили партизанскую школу… Сам он из Свердловской области, 23-го года рождения. Приплыли с того берега Онежского озера на лодке, при высадке обстреляны. Вдвоем бродили по лесу пятнадцать дней, шесть суток не ели… Второй товарищ там, за деревней, в зароде, он больной…
— Саня, это я… Саня! — жалко кричал парень со связанными руками.
Саня откликнулся. Саню вытащили из сена, он не сопротивлялся — вся кисть левой руки была обожжена…
Потом 28 февраля. Школа, празднование дня «Калевалы» с докладом начальника штаба полиции.
Грамота:
«От имени родины, финской освободительной армии и верховного главнокомандующего.
За заслуги в войне 1941 года я награждаю вас, вепса Дмитрия Тучина — Пильвехинена, медалью свободы первой степени.
Маршал Финляндии Маннергейм.
Главная квартира. 1942 год».
Медаль. Красноречие Ориспяя по поводу массового патриотизма вепсов, вызванного освобождением, которое…
Тогда был октябрь. Они вели двух связанных, еле перебиравших ногами людей. Шуршали листья. Деревья стояли голые, как виселицы.
3
— Капитан сказал, если к началу облавы ты не вернешься, он лишит меня отпуска.
— Рад, что выручил тебя. А теперь отстань от меня, к чертовой матери!
— Да?.. Ты, все-таки, если разобраться, мерзкий тип, Пильвехинен… Ты не помнишь добра. Ты знаешь здесь все ходы, и выходы… Ты…
Тучин схватился за автомат. Его трясло. Саастомойнен попятился.
А Тучин почти бежал. Мир его восприятия сузился, сжался до минимума необходимых звуков, движений, зримых предметов… Он слышал, как за спиной хрипло дышали придавленные ошейниками глотки собак, как волочился следом глухой топот ног. Он весь был нацелен вперед, на тот единственный метр, на ту единственную секунду…
Он думал, как это сделать лучше, — с его-то рукой управиться и с автоматом, и с гранатами.
Еще бы километр-полтора. Лабручей останется далеко в стороне… Горбачев сказал, что уйдет на Мундуксу, значит, круг замкнет пустоту.
Глава 4
В течение 17—21 сентября 1943 г. рация PRO в эфире не появлялась и на вызовы Центра по расписанию не отвечала.
Из справки помощника заведующего оргинструкторским отделом ЦК партии республики С. Пашкевича.1
Была на редкость тихая ночь. Они расположились под гигантской сосной, метрах в восьмистах от Калинострова.
— Говорят, во Франции, — сказал Горбачев, — один художник предлагал на безымянной могиле разведчика установить такой памятник: узкая тропа на гранитной скале, а скала повисла над пропастью… по тропе навстречу друг другу идут Человек и Смерть, пристально глядят друг на друга и… улыбаются.
— Не знаю, улыбаться что-то меня не очень тянуло, — признался Тучин. Он только что коротко, с достоверностью измотанного человека рассказал о погоне по пеленгу, о Петрозаводске и возможном приезде Антонова. — Устал, братцы, — через губу не переплюнуть.
Впереди на бледной полосе горизонта четко рисовался купол церкви с крестом и рамочной антенной пеленгатора, ориентированного, как на крест, — от «ночи к летнику». Вдали, на взгорье мигали огни Сюрьги. Полоска дороги, вода Кодиярви. Слева Теткино болото, за спиной — лесистый перекат Запольгоры. И подступы видны, и отступать есть куда.
Тучин откинулся спиной на траву. Ему стало до неправдоподобного хорошо. От того, наверное, что есть рядом люди, которым можно, наконец, сказать о своей усталости…
…Круг облавы замкнулся поздно вечером. Они прошли берегом озера Сарай-ярви, оставили слева деревню Залесье. Дальше никаких неожиданностей быть не могло.
Во время перекура подозвал Саастомойнена, шепотом сказал:
— Вели, теперь разуй глаза, обуй ноги. Тут все может случиться — такие места. Держись рядом, чуть правей, шагов пять, не больше.
Ориспяя сверился с картой и, как намечалось, развернул отряд редкой цепочкой в сторону матвеевосельгского тракта. Овчарки бросились вперед. Они, казалось, пытались понять, чего хотят от них люди, нервничали, суетились, близоруко вчитывались в запахи, изредка, как бы в отчаянии, садились на задние лапы и виновато оглядывались на поводырей.
— Я не удивлюсь, если мне скажут, что собаки взяты из трофейного цирка, — позднее, за разбором операции, устало сказал Ориспяя. Он снова ругал рамочную антенну, береговую рефракцию и союзную разведку, у которой, черт ее подери, все, что душа захочет, — и антенны Эдкока, и электрические указатели направления, и пеленгаторы с электронно-лучевыми трубками…
— У этой сосны, ребята, на каждом суку по веку сидит, — тихо говорил Горбачев. — Моему отцу было семьдесят, деду, когда умер, — тоже семьдесят, так она при деде была такой же… Ручьи у нее землю повытаскали, подрылись, поросята, метра на два, а ей хоть бы что, — стоит и в корнях валуны зажаты, как горсть орехов. А нам и одного такого ореха вдесятером не сдвинуть…
Горбачев был чем-то сильно доволен. Может быть, впервые почувствовал, понял, поверил, что и его рисковое дело пустило корни на родной земле.
На встречу с Тучиным он привел Мишу Асанова и Гайдина. Миша, как уяснил Тучин, тот не говорун вообще. А вот Гайдин, чувствовалось, не спешил вступать в разговор по принципу человека опытного, и было в этом умелом молчании что-то интригующее.
Со слов Горбачева Тучин уже довольно хорошо знал Гайдина. Службу в армии начал в ноябре сорок первого года командиром разведгруппы 185 пограничного батальона, и уже к весне сорок второго года совершил с Орловым четыре ходки в оккупированный Заонежский район. И вот, наконец, эта новая выброска, доставившая столько хлопот начальнику Шелтозерского штаба полиции.
— Дусю Тарасову переводят из Кашкан в Петрозаводскую тюрьму, — сказал, ни к кому не обращаясь, Тучин. — С ней ничего не могут поделать. Молчит… Сколько ей лет?
— Семнадцать, — не сразу ответил Гайдин. Он сидел на земле, подтянув колени к подбородку. Тучин услышал, как хрустнули пальцы сцепленных рук. — Пять пуль — это… верно? Куда ее?
— Начальник штаба полиции — при нем врач вытащил три пули — говорит, что еще две остались в спине… Ориспяя — краснобай, но характеристику на себя я попросил бы писать его. «Я, — говорит, — смотрел ей в глаза — ни слезы, ни крика». Он уже тогда считал, что она будет жить, но жизнь эта для них, для полиции, то есть, бесполезна. Слова, говорит, у нее — как пули в спине: у живой не вытащишь.
— Моей Клавке четырнадцать, — с каким-то изумлением в голосе сказал Горбачев. — Это что же — еще три года, и…
— По нынешним временам и того меньше, — понял его мысль Гайдин. — Дуся тоже казалась подростком, а она… Дуся Тарасова… выдержала то, после чего и железо уже никуда не годится.
Горбачев деловито предложил:
— Прошу поближе, товарищи.
2
Они пристроились у самых корней, в ложбине, и словно слились с валунами, зажатыми в могучей пригоршне сосны.
Горбачев говорил о тех немногих встречах с людьми, которых приводил к нему Тучин.
— Так вот этот Иван Федорович Гринин вдруг спрашивает: «Кроме Пудожа-то советские районы в Карелии есть?» У Василия Герчина свой туман в голове: слышал, мол, от финнов, что половина Ленинграда сгорела, а вторая по сей день у немцев, верно ли?.. Серый, говорю, ты человек, Василий Агафонович, серый. Вчера, говорю, наши войска Донбасс очистили, позавчера Италия сдалась… Смотрю, у него глаза хлоп-хлоп, рот открылся, а во рту язык шевелится. Онемел человек… — Думаю, товарищи, в середине сорок третьего года люди должны жить посветлей, мало ли что оккупация… А, кроме нас с вами, правду им сказать некому. Для этого мы сюда и посланы. Оружие, нам сказали, — на черный день, правда о положении на фронтах — на каждый…
Гайдин резонно заметил, что правду из-за угла не скажешь, нужны открытые встречи с людьми, а условия в районе, судя по его личному опыту, не из таких. Он опасался, и не без оснований, как бы пропагандистская работа не поставила под угрозу важнейшую цель группы — разведку.
— Условия не из легких, верно, — согласился Тучин. — Если финны завидуют немецкой контрразведке, то немцы могут позавидовать финской пропаганде… Я бывал в Хельсинки, нам показывали такую штуку, как «Карельское академическое общество». Там учат хорошим манерам при захвате чужих земель. И все у тамошних Риббентропов и Геббельсов вежливо, съедобно, вкусненько. Не доктрина оккупации, а рыбник с ряпушкой… Нет, они, финны, не немцы, им ничего такого не надо, им бы вот только освободить братьев по крови карел и вепсов, и баста… А уж остальное, извините, дело министра земледелия Каллиокоски, ему решать, как распорядиться землями, лесами.
Я вот к чему. Если находятся люди, которые во все это верят, это еще не враги. Это не предательство, а беда. Туман, как говорит Горбачев…
— Район заполнен финскими газетами, — тихо, сдерживая голос, продолжал Тучин. — Только управление Восточной Карелии издает две газеты — «Вапаа Карьяла» — «Свободная Карелия» — и «Северное слово». Обе печатаются в городе Иоэнсу… Ложь, подтасовка… Неделю назад «Северное слово» сообщило баснословные цифры потерь Красной Армии. Так при прорыве блокады Ленинграда было, якобы, уничтожено шестнадцать советских дивизий. Тут же говорится, что застрелился представитель Советского Союза в Уругвае. Перед смертью он кому-то заявил, будто бы, что война все равно проиграна.
Эти газеты читают сотни людей, не читают, так слушают. Тот же Леметти на последней сходке тряс «Северным словом»: «Красная Армия имеет только одни винтовки. Кадры не подготовлены и воевать не умеют… Большевики за долги отдали Англии Мурманск и Баку…»
А сходки два раза в месяц… Я за любой риск, но чтобы правду люди знали. Нам нужны советские газеты, листовки, нужна книга Куусинена «Финляндия без маски». Краснобай Ориспяя считает ее идеологической «катюшей». И опять же ему можно верить…
…В эту ночь весь район был разбит на участки — Горнее Шелтозеро, Залесье и Матвеева Сельга, Шокша и Янигуба, Вознесенье. Центры будущих подпольных организаций. Тучин предложил и наиболее подходящих руководителей — Николаев, Бальбин, Герчин. С ними предстоял разговор.
Он решил, что лучше начать с Николаева…
Глава 5
По военному времени в Николаеве было главное — честность, решительность.
Д. Горбачев.1
Тучин шел прямиком — мимо сосны, через гору, берегом Сарай-ярви. В спину зябко напирал ветер, в попутчиках волочилось низкое, взлохмаченное небо. Погода была ему по душе. Точнее, разногласий с погодой у него вообще не возникало.
Он думал, с какой стороны подойти к Николаеву. Николаев — человек без прихожей, где бы отоптаться, развесить по вешалкам разные гостевые слова, причесать растрепанные мысли. Тут тебе ни здрасьте, ни как здоровье. Тут на пороге берут быка за рога, и — профессиональный разговор: «А-а, Дмитрий Егорович! Шкуру не собираетесь сдавать?»
Все это было. Когда-то гудело от этих слов в ушах.
Тучинские губы тронула чуть грустная, насмешливая улыбка, он адресовал ее самому себе. Нет, думал, худа без добра: ненависть Николаева раскрыла в нем человека железного: копни этот наружный слой горячности, и добывай бесценную по нынешним временам человеческую надежность.
Бороздя ногами желтую наваль листвы, Тучин вдруг признался себе, что ему как разведчику сетовать на судьбу не следует: его ненавидели достаточно, поэтому он знает, кто его друзья.
Сегодня ему важнее других были ребята с оборонных работ на Свири — Бальбин, Бутылкин, Реполачев. Свирь — новоявленная «линия Маннергейма», хребет его стратегии. На Свири около тысячи молодых «оборонцев». Без Свири какой разговор об организации, подполье, разведке.
А на Свирь, к этой тройке ребят, каждый из которых может стать коренником при десятке пристяжных, без Николаева не попадешь. У Николаева вся сбруя в руках. И это еще надо понять — чем он их берет. Их — необузданных, с крепкими скулами и сильными затылками. Он — тихий, хроменький полукровок, у которого одно диво на лице — спокойные и уверенные глаза.
Им всем по двадцать. К разбору винтовок в сорок первом не успели. А когда завыла, засуетилась, запричитала эвакуация, бросились в Рыбреку, к баржам. Барж не подали. Семитысячная толпа на пристани и финны — в тридцати верстах, Шокшу взяли… А их отцы ушли на фронт не без наследников: Сергей Бутылкин и Федор Реполачев повели с пристани по трое меньшеньких, Ефим Бальбин, у которого отец умер еще в 1938 году от аппендицита, выстроил по ранжиру семерых.
Парни работать на финнов отказывались. Пошел, старостой уже, к Бутылкину. Недалеко — деревня кругом стоит. Серега встретил на крыльце, шапчонку сдернул, к груди прижал, поклон сотворил — низенький; задом дверь толкнул и правой рукой перед собой, как балерина, — круть-круть: «Милости просим, господин староста, милости просим». На табуреточку подышал, обмахнул ее ладошкой, подставил…
Стерпел, изложил, зачем пришел.
— Ой, господин староста, ой, уж и не знаю, что сказать. Понимаю, что надо, надо укреплять новую власть, а вот некогда, совсем некогда. Мать мох в печку, а сама за хворостом. Мох-то и сгорел. Надо новый рвать на болоте. Нарвешь, посушишь, с опилочками потрешь, дудочек прошлогодних добавишь — в ступе толочь. Потолкешь — лепешки печь. Дела, без конца дела. Опять же избаловались — ухи, говорят. А в Кодиярви, знаете, — рыбешка с палец. Рыбешку-то льдом давит, озерко — мель, задыхается которая по локоть-то, Дмитрий Егорыч. Ерши. А вы говорите…
Недолго и думал — пустил против них указ о трудовой повинности, карточки выдал — по 300 граммов муки на иждивенца: детям, рассудил, — есть надо.
Фактически он, Тучин, был в роли колхозного бригадира. По утрам собирался люд у дома Дмитрия Гордеевича Бутылкина, дяди Сергея. В тридцатых годах раскулачили его нечаянно, а четверть дома отошла под колхозную контору. Здесь в ту зиму и рядил Тучин — кому на очистку ближних полей Соссарь, кому на Каллямпууст, как записано в Вечной книге, меж Тихоништой и Калиностровом, кому на дорожные работы и лесозаготовки.
Дел по зимнему времени — кот наплакал. А тут вдруг подвалил заказ — на Кодиярви лед пилить для холодильников, ни норм, ни расценок — выгодную эту шабашку он и предложил сильно отощавшим приятелям.
Бутылкин Реполачеву — вопросик:
— Как ваше мнение, Федор Михалыч, — лед — сырье стратегическое?
Федор Михайлович в знак высокого напряжения мысли упер в лоб рваную брезентовую рукавицу:
— Это как сказать, Сергей Василич. Смотря от кого заказ поступивши — от горпищеторга или от военторга.
— Молодцы, Федор Михалыч, молодцы, далеко пойдете… Так чей, извините, заказик-то, Дмитрий Егорыч?
— Не знаю. Кончай Ваньку гнуть.
— Они не знают, Федор Михалыч — как?
— Не подойдет.
— Это, Федор Михалыч, ваше последнее твердое слово?
— Ага, последнее и заключительное…
Любезный этот разговор шел по-вепсски. Стоял рядом Саастомойнен, мерзлый, злой, непонимающе озирался на смешки.
— Ну, вот что, дорогие, — построжал Тучин. — Хватит. Куда пошлю, туда и пойдете. Здесь вам не собес… Понятно? — добавил сорванно и повернулся к Аверьяну Гришкину.
— Круто берешь! — бросили ему в спину. — Круто! Придержал бы голову на поворотах, не снесло бы.
— Что происходит? — вмешался Саастомойнен. — М-мы?
— А! — махнул рукой Тучин, бледный. — Энтузиасты! Дай им, чертям, работу потяжелей, и баста. Лед пилить — это, мол, и бабы могут… Ну и хорошо, ну и ладно, пусть бревна ворочают…
Пошли бревна ворочать. Валили осину, таскали «нестратегические» метровые чурки — топливо для школы и комендатуры, по 2,1 плотных кубометров на брата. Норма…
Тучин в ту пору впервые постигал, как тяжел крест молчания. Маска старосты, которую он напялил на себя, как шапку-невидимку, с неутешительной мыслью о неуязвимости и свободе действий, лишь стерла для людей его истинное лицо. Маска была уже не маска, а сама его прирожденная суть. И он глухо, безъязыко страдал под ней, в безнадежном ожидании единственного на земле человека под именем «Егор», еще способного узнать его.
Тяжело, безотчетно тянуло к людям. Через два дня после стычки у конторы он пошел к ребятам в делянку. Километров за шесть, в конец болота Гладкое. Без цели, без повода. Покурить, что ли.
Увидел их на вытоптанной поляне, у костра. Бутылкин, Реполачев, Коля Гринин с отцом. На воткнутых в снег палках дымились рукавицы.
Прислонился к штабелю, снял валенок, снег вытряхнул. Донесся голос Сережки Бутылкина:
— Как же так, дядя Ваня, получается? У нас вчера три кубометра, а у вас с Николаем — шесть. А? Работали равно, вроде.
— Так ведь зима, милок, — серьезно отвечал старик. — Начфин кресты поставил, а штабель и занесло. Штабель занесло, а вы потоптиче вокруг-то. Потоптали — края у чурок спильнули. Начфин Тикканен в очках, снег блестит… Края спильнули — кругляки с крестиками в костер бросили. В костер бросили — и вот результат…
Разговор не для чужих ушей. Крякнул… Сергея с Федором как ветром сдуло.
Ребята быстро — вжик-вжик — сучили поперечной пилой. Трудно сказать, когда он разобрался во всем… С затяжным, невозможным треском обрушились деревья. Лишь в ту последнюю, словно высвеченную молнией секунду, он увидел все: дерево на дереве и третье, подпиленное, на котором зависли два, — «шалаш»!.. Снегом обдало, хлестнуло, с ног сшибло, хрястнуло сучьями…
Костер, дрожащая головня в руках Гринина-старика, чужая самокрутка в зубах. Покурил. Шатаясь, как в бреду, придерживая руку, незряче поплелся к дому.
…У Залесья, думая все о том же, с какой стороны подойти к Николаеву, свернул на тропу, легко, как в мальчишеском сне, сбежал с пригорка.
Еще минута, и староста Пильвехинен снимет маску с занемевшего лица разведчика Тучина…
2
Присел к столу, бережно уложил на коленях левую руку, пригладил волосы. Ладонь застряла на затылке, и он откинул на нее голову — не дыша, решаясь. Затем ладонь жестко сползла к подбородку. Он поднял глаза и долго, словно привыкая, всматривался в лицо Николаева.
— Алексей, — сказал наконец. — Я долго ждал этого дня. — Я… я не тот, за кого ты меня принимаешь… я — советский разведчик, Алеша…
Николаев и бровью не повел. Не сглотнул, не ерзнул — неподвижен, как изваяние.
Тучин встал и, тяжело волоча ноги, отошел к окну.
— Я направлен сюда в сентябре сорок первого года, за месяц до оккупации. Единственное задание, какое мне было дано, — закрепляться и ждать… Ждать человека, который назовет условленный пароль… И вот недавно этот человек пришел. Отныне, Алексей, в нашем районе действуют подпольные райкомы партии и комсомола… Ты первый, кроме меня, кто об этом знает… И еще. Вчера решением подпольного райкома комсомолец Алексей Николаев назначен одним из руководителей подпольной организации…
Тучин ждал, не оборачиваясь. Сердце его колотилось отчаянно. Было тихо. Тюкал на дворе топор дядьки Васи, отца Алексея. Размашисто шли часы на стене — время работало на него, или против… Обернулся напряженно — как больной, которому сняли с глаз повязку и велели смотреть на свет.
Николаев стоял в двух шагах, сугорбый, чуть наклоненный вбок. Спросил требовательно:
— Я смогу увидеть этих людей?
— Да.
— Что нужно от меня? То есть, не то… С чего мне начать?
— С людей, Алеша. Нужны люди. Много и высшего сорта. В каждой деревне, в любой точке обороны финнов. На Свири — в первую очередь. Займись Свирью… Выясни, участвовал ли кто из наших ребят в строительстве дотов типа «вепсский замок». Срочно нужны их схемы, расположение, секторы обстрела, мощь огня…
Алексей, как это часто случается с людьми, сдержанность которых — воля, но не характер, вдруг схватился обеими руками за голову, метнулся на кухню.
— Елки-палки… Мамка! Где ты?.. Мамка! Чаю давай…
Глава 6
Мою встречу с шелтозерскими подпольщиками он устроил следующим образом. Он сказал мне: «Пойдем, как будто на охоту». С вечера он приготовил ружья, собрал узлы с продуктами, которых было два-три пуда, а утром, в воскресенье, мы отправились втроем — Тучин Дмитрий, его брат Степан и я. Но Степана Тучин с полпути вернул, чтобы убедиться, нет ли «хвоста». Дав ему пистолет, Тучин сказал: «Если кто спросит, откуда идешь, то говори, что дичь гонял, устал, идешь домой. Увидишь, плохо дело — стреляй.
Из дневника Николая Антонова. 1944 год.1
Весь следующий день староста Тучин проводил инвентаризацию сельхозтехники. К вечеру он положил на стол Саастомойнена не ахти какой длинный перечень тракторов, косилок, сеялок, молотилок. Все это была безнадежная рухлядь, но и ее Тучин отдавал не задарма — он получал взамен стопроцентную тайну: оккупация дрогнула.
В сорок первом году она начиналась с мелиорации, с очистки полей от кустарников. В сентябре сорок третьего года она вытаскивает плуг из борозды: что посеешь, то по всей видимости, уже не пожнешь.
— Здесь все, до последнего колесика, — сказал Тучин голосом человека, поработавшего всласть.
А Саастомойнен сидел за столом, устремив глаза в вечность. Ткнул пальцем в подсунутый лист:
— Эт-то — что?
— Это черновик будущего акта о капитуляции, господин комендант.
— М-мы?.. А я в-в-в отпуск еду, — в-в-в отпуск… К-какой акт?
Его приплюснутые веками глаза уже не способны были выразить ни вопроса, ни удивления, но угол жесткого рта трезво и настороженно полез вверх: «М-мы»?
— Акт о наличии сельхозтехники в бывшем колхозе «Вперед».
Саастомойнен сдвинул опись на край стола, нагнулся к мусорному ящику и извлек оттуда полбутылки самогона — на горлышке побрякивал стакан.
— В-выпей, я в-в-в отпуск еду.
Тучин поднял стакан:
— Скатертью дорога, господин комендант.
«Отдохни, — добавил про себя, — отдохни, набирайся сил, скоро тебе драпать…»
Когда пришел домой, навстречу ему поднялся Николай Антонов… Была суббота, 24 сентября 1943 года.
2
…Вышли затемно. Как и намечалось, Степана Тучин с полпути вернул. Разделили ношу.
— Если не ошибаюсь, — охотно рассуждал Тучин, — у нас с тобой дело так обстоит: на двоих три руки, три ноги, два ружья и мешок удовольствия. Поскольку две ноги в дороге лучше, чем одна, ты повесь-ка мешок на мою могучую спину… Вот так. А сам прибери-ка к рукам двустволочки…. Вишь, и утро разматренилось…
Прошли километров пять, и Тучин оставил Антонова под елкой:
— Передохни. Если кто придет без меня, пароль: «Я — Терентий».
Минут через двадцать он привел двоих. Один из них был Горбачев, другой представился: «Гайдин».
Свернули с вырубок в ельник.
Тучин, и без того подвижной, быстрый в жестах, оптимист, как все люди действия, был по-ребячьи доволен, суетлив. Посмеиваясь, хлопал Антонова по спине:
— Высыпай, Коля…
Коля высыпал. Торопясь, взопрев от пристального внимания к себе, — резкая смена обстановки была ему, человеку замедленному, хуже пахоты.
Горбачев, устроившись на пне — блокнот на коленке, — спокойно сводил его рассказ в «пункты»:
«Петрозаводск сильно разрушен, особенно центр, где почти не осталось ни одного целого здания. Малая Подгорная перекрыта вовсе — разрушена, и по ней не ходят.
Город разбит на 4 района. В центре живут только финны, русские на Голиковке, карелы и вепсы — в районе Неглинки и ул. Красноармейской. И только у ст. Петрозаводск население смешанное.
Военных в городе много. Их казармы нах. на ул. Гоголя, у вокзала, в 7-м военном городке. В Петроз. стоит знаменитая у финнов 64-я колонна Лагуса.
На Кукковке — один из лагерей военнопленных. Отсюда пошел новый способ пытки: избитое тело оборачивают в простыню, смоченную в соленой воде. Там, как и в Бесовецком лагере, ежедневно умирают 8—9 человек…
Работают мастерские при Онежском заводе. Ремонтируются все виды оружия и автомашин. К работе допускаются только финны… Действуют хлебозавод, электростанции, лесопильный з-д в Соломенном.
В здании СНК и ЦК — штаб управления Восточной Карелии. Нач. штаба занимает кабинет секретаря ЦК КП(б). Почта и телеграф — в здании Наркомфина. В Госбанке — финский банк и его охрана.
Есть в лагерях коммунисты — Яков Кустов, Романов Иван Мих., Смолин Петр Вас. (лагерь № 3) и четыре комсомольца, с кот., удалось установить связь…»
— Диверсии, случаи открытого протеста? — допытывался Горбачев.
— Были. Есть… Осенью взорвано несколько автомашин во дворе Онежского завода, отремонтированных… На улице Лесной сожжен склад лыж и велосипедов… Недавно на Голиковке молодежь собрала вечеринку. Нагрянула полиция. Расходиться отказались — драка. Один наш убит, полицейский ранен…
Тучин сервировал по соседству валун, пологий, угловатый. Хлеб, вареная картошка, пирог с капустой, банка моченой брусники, две бутылки браги, подкрашенной жженым сахаром.
— Для поддержки штанов, — объяснил. Довольный, поднес Горбачеву кружку. — Прими, Михалыч. Сгинь нечистая сила, останься чистый спирт!
— Давненько не баловался, — признался Горбачев и передал кружку Антонову:
— Тебе, Коля, по чести, — первому. Цены тебе, Коля, нет.
— Да ну, — сказал Коля. — Какая цена.
А кружку взял, обеими ладонями — как птенца. Пригубил и пошел с придыхом — редкими глотками чаевника.
— За тех, кто там, в зоне, — предложил Горбачев.
Через несколько минут камень был чист — воробьям делать нечего. От Антонова требовали подробностей.
— Про Ронжина, — напомнил Тучин. Живо развернулся на картофельном мешке. — Ты, Дмитрий, знал ли Ронжина?
— В МТС работал, слесарь? Тихонький такой?
— Он, он. Озверел мужик — страх! Террорист-одиночка. Скажи, Коля.
Антонов, устроившись на камне, привычно мял в руках кепку. В кепку откашлялся и почти слово в слово повторил то, что рассказал ночью Тучину.
— Есть у меня в гараже товарищ хороший, Зайцев Виктор. Ну, и как-то раз догадались мы с ним склад поджечь, с гаражным бензином. «Давай, говорит, луч света в темном царстве сделаем». Давай. А склад стоял отдельно, за колючей проволокой. Решили так: пустим «петуха» в кочегарку, а там уж он сам — прыг-прыг — через проволоку и на цистерны. Огонь я брал на себя — сам в этой кочегарке кочегарил.
Только мы все продумали, как на следующий день гараж поджег кто-то другой. Пожар быстро затушили, бензин не сгорел.
Кто? Полиция ищет, мы присматриваемся… И вот дня так через три иду с обеда, а навстречу из кочегарки — Саша Ронжин. Мастера, говорит, не видал? Пропал, говорит, мастер куда-то, черт его дери… Ну, ладно. Поговорили, спускаюсь я к себе, а из-за большого стационарного котла дым валит. Бросился туда — тряпка догорает, бензином смочена. Ах ты, думаю, сукин сын, ну, погоди, я тебя научу с огнем обращаться.
Вспомнил, как распекал Ронжина мастер: «Ты, Ронжин, наферно, лакеря не поишься, саатана! Опять тфой машина караш пришла, тень рапотала — ломалась». А Ронжин ему покорно: «Так что же вы хотите, господин мастер, — запчасти-то старые…»
Короче, пригласил я Ронжина к себе, на улицу Хоймасо Тяринен. Усадил за стол. «Я ведь, — говорю, — помню тебя, Ронжин. Ты перед войной в Шелтозерской МТС работал?» «Работал». «Так что ж ты мне огонь за пазуху суешь?» «Какой огонь?» «Да вот такой, горячий…» В общем у нас такое мнение, говорю, что ты — провокатор…»
Он, Ронжин-то, года на два постарше и вдвое дюжей меня. Лет двадцать восемь ему, а нервы — без предохранителя… Двинулся на меня: «Я — провокатор? Я? Да я тебе капот сверну». Но ничего, не свернул, в словах перегорел. Вот тут-то я узнал, что он поджигатель с биографией. В Шелтозере подряд испортил несколько тракторов — на тракторах метили перебросить запчасти из МТС в Петрозаводск для отправки в Финляндию. Не вышло. Нашли для этой цели машину, он ее на совесть отремонтировал и самолично сжег… В июне сорок второго года послали его вывозить из Педасельги сельхозинвентарь. Загнал трактор в кювет, выплавил подшипники, так добро и лежит там, на полдороге… Посадили его за саботаж в тюрьму Киндосваары.
— Ну, а здесь, — спрашиваю, — ты один или помощники есть?
— Есть.
— Кто?
— Сердюк.
И тут он назвал еще одного человека — Ивана Ивановича Остова, сторожа склада стройматериалов в лагере номер шесть. Якобы, Остов этот устроил побег восьми заключенным. И еще, будто бы, старик здорово умеет агитировать. Мало того, выдает финским солдатам такие удостоверения: «Я, Остов Ив. Ив., участник революции и красный партизан гражданской войны — позволяю солдату (такому-то) перейти на сторону Красной Армии, как он есть сочувствующий Советской власти».
— Хорош! — восхитился Горбачев, а Тучина поразил его смех — резкий и короткий, как вскрик. Обернувшись, увидел, как Дмитрий сунул под ребра кулаки, как навалился на них, словно рану зажал. Глаза измученные, губы с синевой и мелкий, как мурашки, пот на лбу…
— Ну и через день, — продолжал Антонов, — Ронжин привел его ко мне. Забавный. Под интеллигента: «К вашим услугам, любезный товарищ Антонов», а вологодский мужичок в нем так и светится. Рассказал о себе… Ага:
— Стало быть, — говорит, — в одна тысяча девятьсот сорок первом году я работал на приемке и отправке гонок на участке Иниенский мост Ковжинского района Вологодской области. Никакой, представьте, связи, при наших достижениях, с конторой не было… 15 сентября, приехавши я на завод, увидел, что подготовлена баржа. Для чего спрашивается? Для эвакуации на Каму. В чем дело? Война… А у меня, позвольте, семья оставши в Оште. Восемь воспитуемых разных лет. Результат, извините, поздней любви. Я, естественно, еду. Возглавил я семью, и в лес, прикинувши: защитит Свирь-батюшко, рубеж природы… Да недалече отступили. Оккупировали нас, посредством окружения. На машины, в Петрозаводск, в концлагерь, за проволоку, на сто граммов галет…
Доброе лицо Антонова улыбалось: избавился от неловкости, разошелся:
— Мужественный старик этот Остов. Вроде это и не мужество даже, а так — норма. В нем как один раз устроилось все на советский лад, так и закостенело… Нескромность и та ему к лицу. «Мой, говорит, пожилой возраст и живое слово сильно действует на молодежь». И это чистая правда…
Бойко́й мужик. Точил пилы в финских казармах на Зареке — снял затворы с пяти винтовок, спрятал три ящика патронов и несколько гранат «на светлый день». («Не один, говорит, подсобили Василий Тикачев и Николай Иванович Фомкин»). В марте сорок второго года «сослали» его на реку Свирь, в урочище Ровское — привез сведения о строительстве понтонов. Перевели строить дорогу Токари — Пидьма — Гоморочи — подбил трех финских солдат бежать в Красную Армию. Мне так объяснил: «Свои оне, пролетарии, красногвардейцы осьменадцатого года, в Хельсинкской тюрьме отбывали…» Теперь Остов сторож в лагере. Рядом казарма курсантов-шоферов, так он там лекции закатывает…[14]
Горбачев вдруг нетвердо отошел в сторону. Схватился за живот, на колени рухнул, головой землю боднул. Замер так.
Подскочил к нему Тучин, руку под мышку сунул, на коленку навалил, приподнял:
— Что, Дмитрий, что?
— Оставь, Митя… Язва у меня… На карачках отойдет, оставь…
Опустил:
— Изжога, что ли?
Шевельнул головой листья:
— Под ложечкой… Поем — через полчаса… Боль… Коле скажи… тех людей пусть не теряет, объединит их, готовит… Списки даст…
Подошли Гайдин с Антоновым. Горбачев поднялся, видно, с неутихшей болью. Стыдясь своей слабости, сказал зло:
— Расходимся.
Пожал Антонову руку. Подхватил мешок с тучинскими припасами, но Гайдин молча отобрал его. Вскоре они скрылись за холмом — как в землю ушли.
Глава 7
Утром 14 октября я послал трех человек — Асанова, Июдина и Гайдина для обследования берега Онежского озера в районе Каскесручей — Другая Река.
Разведка вернулась 17 октября без Асанова.
Д. Горбачев.1
Задули, надвинулись из-за болот безнадежные октябрьские ветры. Кутермилась листва и желто оседала на невиданно ранний снег. Потемнел вдруг дым над землянкой, стал виден за полверсты.
— На бездымный порох переходим, — сказал Асанов. Из меню прожорливой финской печки исключили сосну и ель — Павел таскал редкую в этих местах ольху. У Павла еще были силы.
Вечность назад ложки выскребли последнюю кашу — ячневую, еще из тучинских круп. Кончились подарки «мамы». «Маму» теребили за небесный подол еще в начале сентября: «Продукты на исходе, бросайте срочно». А «мама» бросать не решалась, ее интересовала возможность доставки груза по озеру: «Обследуйте места, — советовала, — для безопасного причала катера с продуктами».
«Мама» не знала, почем тут шаги, поэтому пренебрегала километрами.
Но голод — не тетка. В разведку Горбачев взял с собой Июдина. Компаса не надо — оба здешние. Обшарили берег у Каскесручья, у Рыбреки. Колючая проволока, траншеи, патруль.
На обратном пути, под самой Мундуксой, унюхали дымок.
— Не иначе — партизаны, — решил Июдин.
Подкрались к костру — финская речь. Семь солдат и рядом — лосиная туша. Варилось мясо, запах шел сногсшибательный: Июдин, не долго думая, брякнулся в голодный обморок.
Финны ушли, оставив лосиные потроха и копыта.
Из копыт Сильва соорудила суп с сушеными грибами. Последняя похлебка.
Не шел и Тучин. После ухода Антонова Тучин лишь однажды явился на явку, и это был крайний случай — связной Асанов принес от него соду и таблетки белладонны.
— Что он сказал? — спросил Горбачев.
— Белла, — сказал, — красивая, а донна — женщина. Сонная одурь, говорит, еще называется. Три раза ее в день. Добыл в Шелтозере, к врачу ходил под видом язвенника — врач ему и прописал.
— И все?
— Нет. Связь, говорит, покамест прекратим. Комендант уехал в отпуск, а Ориспяя машину карателей привез. Снова лес прочесывали. Проводником взяли Николаева, а Николаев завел куда-то к черту на кулички, под Ропручей. Избили Алешку и в лесу бросили.
— Жив?
— В сохранности. И еще… Мы сообщили в Центр, что около Николы — аэродром. Это все верно — аэродром. А вот самолеты на нем — фанерные, ложные все двадцать четыре. Дело это старик Гринин разнюхал, а Тучин просил передать…
— Пусти на лося, Михалыч, — неуверенно мечтал Асанов.
Но Горбачев лицензии на лосиную охоту не давал — ни к чему шуметь.
А сам был плох предельно. «Сонная одурь» не помогала. Сломленный болезнью и оптимизмом «мамы», решился Горбачев протрубить отбой.
— Мы посланы сюда на два месяца, — напомнил. — Срок на исходе, и мы тоже, ребята, выдохлись.
Он сидел за столиком в тусклом свете окна. Задувал в щели ветер и чуть раскачивал уютный абажурчик из парашютных строп. В самое окошечко снаружи упиралось корыто — выдолбил его Асанов из дуплистой осины; в корыте, словно взбитая пена, снежная замять.
У Горбачева изможденное лицо — бледное, а на нем черно горят расширенные зрачки: в белладонне — атропин. Мучает его содовая отрыжка. Но держится молодцом, голос тверд, ясен:
— Нам не в чем упрекнуть себя. В разведывательном смысле район у нас на ладони. Думаю, наступательные операции Красной Армии на территории Прионежья обеспечены.
Вспомним… Вся линия берега озера и реки Свирь укреплена. Вдоль всего озерного побережья тянутся стрелковые ячейки и пулеметные точки. Имеется линия проволочных заграждений на козлах. Тянется сигнальный провод.
В деревне Янигуба — два орудия и двенадцать человек гарнизона. В Вехручье — наблюдательная вышка.
— С постом из шести человек, — подал с нар голос Удальцов.
— Верно. В пяти километрах от Педасельги, на реке Пуста, установлены шесть орудий, здесь значительный гарнизон. На мысе Сухой Нос расположены батарея и прожектор.
— В деревне Черный Омут — сто солдат, — припомнил Бекренев, — батарея гаубичная, калибр сто двадцать два и пять десятых. Прожектор тут же, слабый.
— Верно. От деревни Черный Омут в сторону Вехручья идут два ряда проволочных заграждений. В деревне Каскесручей сорок пять солдат, у церкви — одно орудие. Между Каскесручьем и Телаоргой — застава. В Ропручье, спасибо Тучину, — самый большой гарнизон противника, до тысячи человек. Установлен мощный прожектор, имеются зенитные и полевые орудия… Что еще?
— Железнодорожная ветка, — подсказал Асанов. Миша без дела не сидел — выстругивал, чудак, ложку, которая никому не нужна.
— Да, новая ветка Токари — Вознесенье. И у поселка Никола аэродром с ложными самолетами.
Горбачев глянул на часы, скосил глаза на Сильву. Сильва, надев наушники, стояла перед рацией на коленях. Близилось время связи.
— Должен сообщить вам, — продолжал Горбачев. — Материала Антонова о Петрозаводске нашей рации не поднять. Батареи на ладан дышат… Не поднять, и это тоже за выход…
Проголосовали за выход. Был стылый полдень 8 октября. Гайдин, согреваясь, шлифовал ладонями печную трубу, и ржавый этот звук был в притихшей землянке единственным.
— Центр выхода не разрешит, — сказал Гайдин. И нетвердо вышел сменить на посту Июдина.
2
Сильва включила рацию на прием. Настороженными пальцами повернула вправо-влево рифленую ручку настройки — нить визира прошлась по шкале коротковолнового диапазона, и эфир ворвался в наушники обрывками музыки, голосов, треском грозовых разрядов, комариным писком морзянки.
Она увеличила громкость, настроилась на нужную волну. Здесь, в тихой гавани пятого океана, с затаенным шорохом переливалось атмосферное электричество. И вдруг — нечеткий, легкий, как капель, стук радиотелеграфного ключа. Звук шел глуше, чем обычно, с частыми замираниями, — батареи теряли слух.
Центр дал позывные, затем ключевую группу знаков, закодированный текст. Отложив его в сторону, для расшифровки, Сильва немедленно перешла на передачу радиограммы с пометкой «аварийная»:
Власову
Люди обессилены, ходить не могут. Продуктов давно нет. Озеро Сарай-ярви обследовано. Глубина два и более метров, финнов в Залесье нет. Посадку можно произвести у юго-западного берега. Забирайте, иначе выхода нет.
«Егор».…Центр ответил через четыре дня.
12/X — 12.30.
«Егору»
Принимаем все меры, чтобы вас вывезти. Окончательный ответ будет завтра. Передавайте материал о Петрозаводске.
Власов.12/X — 13.30
Власову
Радиопитание на исходе. Материал передавать не могу. Сам заболел, судьба всех решается на днях. Завтра покидаем базу, будем Сарай-ярви. Дайте самолет. Если не будет связи, наши сигналы два факела на юго-восточном берегу. Отвечайте.
«Егор».13/X — 16.00
«Егору»
Метеорологические условия не позволяют в настоящее время посадить самолет на воду. Будем бросать продукты. Сообщите место, куда можно бросить. Ваши сигналы самолету три огня. Сигналы от самолета — мигание бортовыми огнями. Бросим ближайшие три-четыре дня.
Исследуйте возможность самостоятельного выхода. О ваших мероприятиях держите нас в курсе.
Власов.14/X — 13.00 Власову
Бросайте срочно, координаты 92—22, продукты, обувь, лыжи. Высылаю разведку на берег Онеги.
«Егор».Боевое донесение № 67 от 19.10.43 г.
Старший лейтенант Скоренко, старший лейтенант Колонин, техник-лейтенант Балякин на самолете МРБ-2 в 23.50 18.10.43 г. вылетели с гидроплощадки подскока для выполнения спецзадания № 10/6 в тылу пр-ка и вернулись в 02—30 19.10.43.
Указанный пункт найден, условные световые сигналы обнаружены. Задание выполнено.
В р-не линии фронта самолет три раза подвергался сильному обстрелу ЗА пр-ка.
Ком-р 5-го ОАП ГВФ подполковник Опришко.19/X — 13.00
«Егору»
Продукты вам брошены сегодня ночью, 5 мест, сигналы были. Подтвердите получение.
Власов.Из воспоминаний радистки С. Удальцовой-Паасо:
У меня совсем сели батареи, Центр слышал только позывные. А погода была нелетная.
Однажды дежурный разбудил нас, сказал, что слышит гул самолета. Ребята выскочили на пожню, разожгли костры, но самолеты улетели.
На следующий день получили радиограмму — продукты выброшены. Мы искали их неделю, но нашли лишь обрывки советских газет за 17 октября. Мужчины совсем ослабли, еле двигались. А финские солдаты рассказали Тучину, что в лесу нашли мешки с продуктами и даже банки с американским спиртом. Они эти продукты запрятали в лесу, и, когда им разрешали идти на охоту, подкреплялись ими. Разговоры среди солдат об этих продуктах разошлись молниеносно, и «охотников» в лесу появилось множество. Иногда солдаты подходили совсем близко к нашей избушке. Жить становилось все опасней.
19/X — 15.20
Власову
Из разведки берега не вернулся «Клим». Прохода нет, вернуться можем только с вашей помощью, на самолете.
«Егор».Рассказ С. Июдина в записи Д. Горбачева. 1944 год[15].
Мы шли к берегу озера по азимуту на деревню Каскесручей. Дойдя до полей около деревни, заметили женщину, которая показалась мне знакомой. Я подошел к ней, это была Марфа Ивановна Романова. Я попросил ее устроить мне связь с сестрой, Романова ушла в деревню, а мы направились в условленное место.
Вечером пришли сестра и тетка Анастасия. Они встретили нас слезами и расспросами, а потом накормили и рассказали, что в Каскесручье 48 солдат для охраны побережья. У церкви — пушка, а на колокольне устроен наблюдательный пункт. Лодок в деревне нет. Лодки остались только у рыбаков, но и те охраняются солдатами. Между Каскесручьем и Другой Рекой тоже лодок нет. Все лодки пригнаны в распоряжение комендантов деревень и уничтожены. Две лодки в Каскесручье заминированы.
Переночевав в лесу, утром 16 октября мы двинулись обратно на базу…
Из записи рассказа С. Гайдина[16].
Утро. День в лесу. Снова ночь в стогу.
Часов около одиннадцати следующего дня вышли на просеку, отделяющую Карело-Финскую ССР от Ленинградской области. Глухой лес, ближайшая деревня в 12 километрах. И вдруг на перекрестке с широкой просекой мы столкнулись с тремя финскими солдатами. Десять метров, трое на трое. От неожиданности все растерялись. Семен Июдин почему-то по-русски крикнул им:
— Что вам нужно?
И один из солдат на ломаном русском языке ответил:
— А вам что? — Махнул рукой и добавил: — Проходите!
В это время Асанов, который несколько позже вышел на просеку, увидел солдат, сорвал с плеча винтовку, свалился прямо на просеку и открыл огонь. Семен Июдин тут же залег за поваленное дерево. Я прыгнул за две толстые, стоящие рядом ели. И финны залегли тоже.
Началась перестрелка. Но уже через минуту замолчала винтовка Асанова. Умолк и автомат Июдина. В чем дело? А головы не поднять — визг над головой. Слышу голос Асанова:
— Гильза застряла.
— У меня патрон вперекос, — это Июдин.
Живы, но один автомат против трех. Финны ползком, все ближе.
Асанов кричит Семену:
— Давай автомат, починю.
Асанову отходить было некуда, — голая просека с низкими летними пнями… Он приподнялся за автоматом и тут же со стоном упал. Две раны разрывными пулями — в левую ногу повыше колена и в правое плечо.
Михаил Асанов.
Солдаты поднялись и бросились вперед. Я в упор сразил ближайшего, остальные в полный рост метнулись бежать. Еще очередь, но одному все-таки удалось уйти.
Подошли к Асанову. Он истекал кровью. Унесли его от просеки в лес. Я достал индивидуальный пакет. И тут же увидел, как короткими перебежками — не с просеки, из леса — приближаются каратели. Их было человек сорок… Спасти Асанова было немыслимо — ни сил, ни времени унести. И бой принимать в лесу с одним автоматам нелепо.
Нас заметили, открыли огонь. Пули глухо шлепались в стволы.
— Пристрели, Степан! — просил Асанов. — Не оставляй им.
— Не поднимается у меня рука, Миша. Если имеешь волю, на, возьми…
Асанов слабой рукой взял пистолет, простился с нами…
Я стал отходить вслед за Июдиным, через топкое болото — единственный путь. За спиной сухо щелкнул выстрел. Я понял, что Миши не стало…
Из отчета Д. Тучина:
Вели Саастомойнен сообщил мне, что недалеко от Рыбреки была перестрелка. Один из партизан, чтобы не попасть в плен, выстрелил себе в висок. «Это был настоящий партизан», — сказал сержант. Тайная полиция долго вела следствие. Труп Асанова увезли в Рыбреку для опознания, но никто не признался… В перестрелке было убито пять карателей, их трупы отправили в Хельсинки.
Глава 8
Генерал-майору тов. Соколову, командующим 7-й ВВС.
29/X — с. г. я лично обратился к начальнику вашего штаба т. Свешникову с просьбой предоставить самолеты для выброски продуктов нашим людям, находящимся в тылу противника.
Наступает 28/XI—43 г. Однако неоднократные мои обращения к тов. Свешникову приводят только к одним обещаниям: будет сделано, когда будет подходящая погода.
Ввиду того, что люди, выполняющие очень важную боевую задачу для Карельского фронта, в настоящее время погибают от голода, я вынужден обратиться лично к Вам. Тем более, мне известно, что еще недавно другие операции по выброске выполнялись…
Зав. оргинструкторским отделом ЦК КП(б) И. Власов.1
Полковник Свешников держал на ладони боевое донесение командира 5-го отдельного авиационного полка подполковника Опришко.
«На самолете Р-5, — значилось в донесении, — старший лейтенант Флегонтов и старшина Кащеев в 00-35 ч. сего числа вылетели с аэродрома Сумеричи для выполнения спецзадания в районе, указанном в боевом задании № 10/6, и вернулись в 01-55, пробыв в воздухе 1 ч. 30 мин. Встретив на маршруте облачность на высоте 50—100 м. и туман над водоемами, экипаж, не выполнив задания, вернулся на аэродром».
— Я бы просил, подполковник, набраться смелости и сделать это донесение генералу лично…
Констатировал в докладной записке помощник Власова С. Пашкевич:
«Вследствие почти полного израсходования батарей рация т. Егора (позывные Nik) в эфире появляется нерегулярно, при весьма плохой слышимости. Прием практически невозможен.
Сего числа в 15 ч. 12 мин. рация наконец обнаружена в эфире после передачи ей нашей радиограммы № 75. Слышимость была предельно слабой, удалось уловить только позывные. По-видимому рация давала квитанцию о приеме нашей радиограммы».
— Есть ли уверенность, что радиограмма принята?
— Пока — да. Приемник, как правило, работает дольше, чем передатчик. Но это дело двух-трех дней… Разговор с глухими, Иван Владимирович. Глухие — мы.
Власов поднял крупную светловолосую голову, — из-под густых бровей Пашкевича смотрели на него изможденные бессонницей глаза.
— Надо бриться, дорогой. Я не верю в энергию небритых…
Утром аккуратный Пашкевич строчил очередную докладную записку:
«В целях возможно лучшего обеспечения приема корреспонденции от рации т. Егора направлена в г. Пудож с рацией «Север» радистка т. Смолькова, расстояние от Пудожа до Nik в пять раз меньше, чем от Nik до Беломорска».
2
…Гайдин был прав: выхода Центр не одобрил.
Горбачев покрутил в руках только что расшифрованную Сильвой радиограмму № 75. Болезнь и голод убили в нем иронию. Он молча пустил листок по кругу.
— Выходить сейчас нельзя, — бесстрастно читал Павел. («Ты стал мужчиной, Павел, — говорил Горбачев. — Мужчина — это тот, кто пережил войну, любовь и голод»). — Ждите самолета ежедневно с наступлением темноты до рассвета. Установите дежурство, не опоздайте дать сигналы. Будет сброшено всего четыре грузовых парашюта и два мешка…»
В окно едва сочится свет — завьюжило. Пепельный, мертвый свет лесного дня.
На подоконнике стопка принесенных Тучиным книг — «Хлеб», «Собор Парижской богоматери», «Тихий Дон» — читанных, перечитанных.
Потрескивает печь. Бликует ствол тонконогого пулемета «Льюис» — «Люська», как прозвали этот старый агрегат, присев по-собачьи, голодно жмет в затворе крупнокалиберную ленту, и кажется, ждет, ждет, ждет сигнала, чтобы пережевать ее с захлебистым хрустом.
Тихо. Зима сравняла с землей последнюю Асановскую постройку. И безотказный его топор всажен в еще свежую тесовину. На топорище, вниз дулом, висит по-охотничьи та отказавшая ему винтовка.
Скулит в трубе ветер. Тихо.
Череда батарей — раз, два, три, четыре… Старье, поскребыши, соль на боках — подсоединено к щитку питания все, что нашлось. Подключены в цепь накала батарейки карманных фонариков. «Питания на раз» — Сильва дело знает.
На раз. Потому не тлеет лампочка над головой. Лежащему навзничь Горбачеву она кажется парашютом, безнадежно зависшим в бездонье неба. Он дует на шелковый абажур, и мираж рассеивается — потный потолок, желтая тряпица…
«Будет сброшено всего четыре грузовых парашюта и два мешка».
Горбачев косит глаза. Павел принял из рук Сильвы ведро со снегом, поставил на печурку — ржавый скрип. Гайдин, задрав подбородок, ловит зеркалом свет, трет щетину — и в гробу изловчится, побреется. Бекренев на верхней наре, не видно, не слышно — видна прядь рыжеватых волос, да коленка торчит… Июдин давит большим пальцем подошву валенка — жидковата. Чертит ногтем поперек голенища, морщит лоб, головой покачивает: и резать жалость берет, и без подошвы, однако, не ходьба…
Не было радиограммы-то, не было — утверждают эти привычные спасительные заботы. Запрета на выход — не было. Четыре грузовых парашюта и два мешка — выдумки.
Усталость.
«Дорогие товарищи! Поздравляем вас всех с праздником, желаем здоровья, успехов в работе. При условии погоды сегодня-завтра будьте готовы к приему продуктов, одежды» — было 6 ноября.
Было 18 ноября: «Принимайте два грузовых парашюта и два вместе связанных мешка. Посылаем запасную рацию. Ждите самолета».
Было 21-е. «Продукты для вас находятся в самолете почти месяц».
«Не опоздайте дать сигналы…»
Пройдет еще немало времени. Изменится ситуация, и голод станет не первой опасностью, когда вслед за радиограммой «Ждите сегодня выброску» прилетит никем не встреченный самолет. Еще позднее Горбачев с полным правом запишет:
«Мы, шестеро человек, сидели на шее вверенного нам населения».
Позднее. А пока, в это утро 27 ноября, Горбачев думал, как сделать невозможное. Ему удалось это — он встал.
Вечером предстояла встреча с Тучиным.
Пошатываясь, надел фуфайку. Вышел из землянки. И отпрянул, попятился, перед неприступной белизной всего вокруг сущего — земли, по которой шагать, ветвей, за которые цепляться.
Он вышел, чтобы привыкнуть: к этой белизне, на фоне которой они черны, как яблочко мишени, к тревоге, которая не лучше страха. Он был предельно плох, и вышел либо одолеть свое бессилие, либо подчиниться ему. Раз и навсегда.
Он ступил в снег, как в воду, не поднимая ног. Снег был выше колен. Подавшись вперед и отчаянно размахивая руками, — похожий на птицу, которой не взлететь, он вспарывал крутую снежную наваль, пока не обмякли ноги, и тогда он рухнул — плашмя. Шапка откатилась. Он подтянул руки, уложил на них подбородок, смотрел, как плавится и отступает снег, словно он дышал огнем.
Потянулся за шапкой и увидел куст ивняка. Это были отборные корзинные прутья, желтые, с коричневыми коготками почек. Почему он их не видел раньше? Он бы сплел корзину. Он всю жизнь мечтал сплести корзину из желтых прутьев. Поднявшись на локти, удивился их мудрой борьбе за жизнь: прутья просверлили себе пространство в снегу. Словно их кто взял за кончик и аккуратно повертел. А рядом была оплавленная дыра, а прутика не было. Он заинтересованно сунул в дыру мерзлую пясть. Пальцы вытащили окурок. Он машинально мял окурок, и вдруг пальцы ощутили еще не вымерзшую его влажность… Вскочил, почувствовав опасность.
В трех шагах, за кустом ивняка был вытоптан снег. След огибал раздвоенную ель, куст вереска и тянулся низиной дальше в обход землянки. След четко выходил и справа, из-за громадного валуна со сбитой набок шапкой снега. Кольцо. Впрочем, о кольце он подумал позднее. Сейчас, в эти первые секунды оцепенения, прижав к животу рукоять нагана, напряженно поворачиваясь всем телом, он ждал скрипа шагов, выстрела. Но лес был тих. С кривой березы у валуна на него взирала ворона — с любопытством. Курился над землянкой дым, серый, почти не видный среди врытых в крышу елей. Ни звука, ни движения — до озноба тихо.
Он вышел на след, походкой гуляющего — откуда это берется в человеке? — дошагал до раздвоенной ели, не озираясь, с наглым спокойствием.
«Стреляют в бегущего». Горбачев стоял и не глядя поглаживал ствол ели. Ничто не шелохнулось вокруг. Тогда он осмотрел следы — площадка за елью сильно утрамбована. Снег рыжевато грязен: ноги, которые топтали тут, хорошо знают тропу через Большое болото, еще не промерзшее, видно, через пожню Беззубова, по просеке — восток-запад, — откуда начинается прадедовская лесная дорога к деревням Горнего Шелтозера.
Открытие было настолько серьезным, что Горбачев немедля двинулся по борозде. Он искал выход следов и нашел их, обойдя землянку, за валуном. Следы уходили в сторону Рыбреки, на восток… Это хорошо, что в сторону Рыбреки. До Рыбреки далеко.
А факт оставался фактом: землянка в петле, и конец этой петли неведомо в чьих руках, и неизвестно, когда затянется. Было ясно одно: затянется.
Горбачев представил себе, как войдет в землянку, как посмотрит, что скажет. Удальцов с Июдиным, верно, уже экипировались для похода к Тучину, проверили оружие, свернули пустой мешок под картошку и сунули его в котомку под хлеб…
«Все, ребята, операция «шалаш» закончена», повторит он уже сказанное однажды. Он только боялся быть спокойным: не сразу поймут, не сразу поверят. Бежать-то практически некуда.
3
— Знаю, ты меня ненавидишь. Я вижу тебя насквозь… Верхняя одежда у тебя финская, это верно, тут все бирочки налицо — от фирмы «Вако» до «Суомен армейя». А нижнее белье, Митря, у тебя советское.
— Домотканое, — улыбнулся Тучин.
— Та рубашка, что ближе к телу, — советская.
— Ладно, не будем спорить. Ты хороший парень, Вели. Но в Хельсинки ты нахватался политики. А политика тебе все равно, как козе дуга с колокольчиком. Звон один… Ты много пьешь. Лезешь в откровенные разговоры и ставишь людей в дурацкое положение.
— Я? Кого?
— Меня, к примеру. Я ведь должен бы донести на тебя. Я, разумеется, не сделаю этого, но…
— Что я сказал? — рявкнул Вели. — Что?
— Достаточно, чтобы завтра же тобой заткнули какую-нибудь дыру под Оштой или Лепсямя…
Разговор шел в кабинете Саастомойнена. Из отпуска Вели вернулся в растрепанных чувствах. О деле не спрашивал. Ругал швабов, которые ведут себя в Хельсинки так, словно это не столица союзного государства, а оккупированный Париж.
— На улицах валяются пачки из-под немецких сигарет. Подпольные бардаки только для немецких офицеров, а… а девки, интересно, чьи? М-мы? Наши, еловую шишку им под спину!.. Ты знаешь, что говорят о немцах наши солдаты? Калека мне один сказал, ногу он оставил где-то под Ленинградом, в чухонской деревне Хандрово… Сдали им угол, а они вытолкали нас от каминов, и пока они сидят у наших каминов, мы можем быть уверены, что на фронте лишимся головы, а в тылу своих жен и невест…
Тучин был почти уверен, что немецкий железный крест царапнул чью-то милую Саастомойнену грудь. Ничто иное не могло бы обратить его мозги к политике. Ни Сталинград, ни Киев. Вели из породы людей, для которых только одна вещь сильнее «Фауста» Гете, — бытовая царапина.
Комендант был уязвлен в самое сердце, что впрочем, не мешало ему прихлебывать раздобытый в Хельсинки шнапс.
— В Хельсинки ходят подпольные коммунистические листовки, — говорил мстительно. — В них приводятся слова Риббентропа из секретной беседы с личным представителем президента США Уоллесом еще в марте сорокового года. Германия, говорил Риббентроп, желает иметь в Европе то же, чего Соединенные Штаты добились в западном полушарии посредством доктрины Монро… Ты не знаешь, кто такой Монро?.. Иными словами, Риббентроп в противовес доктрине: «Америка для американцев» провозгласил новую доктрину: «Европа для немцев».
Вели хлебнул из бутылки, протер глаза.
— Из листовок же стал известен секретный меморандум управления экономической политикой германского министерства иностранных дел, подписанный известным дипломатом Клодиусом, Кладиусом… Нет, все-таки Клодиусом, кажется, Клодиусом: «Финляндия и три малых прибалтийских государства географически и экономически так зависят от нас, что в экономической области мы автоматически получим все».
Вели возводил к потолку маленькие, широко расставленные глаза, напряженно жестикулировал — памятливый шестиклассник, побывавший на лекции академика.
— Что скажешь?
В этом месте Тучин решительно встал:
— Я ничего не слышал. Мне пора, я пошел. Пока светло, стожок вывезу. Я ничего не слышал — понятно?
— Знаю, ты меня ненавидишь. Я вижу тебя насквозь…
Тучин вышел, не первый раз подумав, что Саастомойнен либо уже знает что-то, либо еще хуже — держит ноздрю в полицейской готовности. Иначе на кой бы ему лях откровенничать. Впрочем, для этого достаточно и просто глупости.
4
Подойдя к дому, увидел привязанную к изгороди лошадь. Впряженная в низкие розвальни, Машка нехотя жевала брошенное перед ее мордой сено. Лошаденка попалась несолощая, махонькая. «И под этакой хвост десять тысяч марок?» — удивился совладелец Машки Иван Федорович Гринин, когда Тучин привел на двор бывшее сельповское тягло. Можно, конечно, было выбрать трудяжку помосластей, да что-то приглянулась ему Машкина ласковая бедность.
«Сдаешь, старик», — прокомментировал он тогда приступ несвойственной ему сентиментальности, хотя давно заметил за собой одну нажитую странность: чем сволочнее становился мир, в котором он жил, тем сильнее нарастала в нем какая-то младенческая боль к беззащитному, слабому, словно он один нарушил извечный нейтралитет природы в этом припадочном разгуле человеческого зла. Он уже не мог, как в былые времена, лихо взять лося: война и в охоте обнажила убийство. Достаточно сильный, чтобы не испытывать особой потребности в собачьей преданности, вдруг осенью подобрал на дороге щенка, сунул в шапку, шел и озабоченно придумывал щенку имя. «Путька» — решил, раз на дороге валялся…
Погладил, пригнул к сену податливую Машкину шею и вошел в избу. В сенях пахнуло хлебом, парным его запахом.
Мария, нагнувшись, орудовала в печке подовой лопатой. Рядом с распахнутым на руках полотенцем, важный, как повитуха, принимал новорожденный хлеб старик Гринин.
— Папка! Папка пришел! — Светка стрелой выскочила из комнаты, ткнулась в коленки, вытянув руки: — «Очень к тебе!»
— Да что ты, стригунок, тебе ж пять лет.
— Оч-чень к тебе!
Гринин Иван Федорович.
Обвила шею, худущая, гибкая, до дрожи сжала ручонками:
— Вот как я папочку люблю, в-во как!.. Маленький мой папочка!
— Вот те раз! Какой же я маленький!
— Маленький-маленький!
— Галочка-то где?
— Там, она на горшке сидит.
— О, это дело серьезное, ты беги-ка помоги ей, беги, беги, стригунок…
Высвободил из рукава занемевшую руку.
— Привет кондитерам! — сказал. — Как жизнь, Иван Федорович?
— А ничего себе.
— Себе — ничего. А кому же, Иван Федорович? Кому все?
Гринин вздернул опоясанные лямками комбинезона плечи:
— Я не в этом смысле, Митрий Егорыч, что все людям, а в качестве самочувствия.
— Понятно, — улыбнулся Тучин. «Хороший ты мужик, подумал, а вот чувства юмора господь бог тебе и корочки не отломил». Но он не сказал этого: старик ему нравился. За годы оккупации многое случилось с людьми, многое, но ничто не разделилось в них так резко, как мысль и слово. Чудаковатый старик остался верен своей нелегкой простоте.
Гринин говорил то, что думал. Единственный, пожалуй, русский в районе, не брошенный в лагерь только потому, что породнен через жену с вепсами, он был при этом далеко не чудак. «Бог не Маннергейму помогает, а большевикам», — внушал он как-то у церкви отцу Феклисту. — И с тебя, Феклист, не бог спросит. Это я тебе от имени русского народа говорю».
Житейские волны позабавились Иваном Федоровичем изрядно. Дед его, лихой судовладелец на Ладоге, рассказывают, был сказочно богат. Отец с такой же лихостью наследство спустил, и Иван Федорович начал Ванькой при купце Колыхаеве. На первую мировую ушел добровольцем. Из Болгарии вернулся с укороченной ногой: «Вычли с меня за патриотизьм пять сантиметров и три миллиметра». Женился поздно. Когда сыну Кольке стукнуло четыре года, умерла жена. С Колькой и продольной пилой бродил по деревням. В Горнем нашел Кольке мачеху — вдовую, с домом, завербовался на лесозаготовки в Нилу. Тут его и накрыла вторая мировая. «Первая вдарила по ногам, а вторая приступила с другого конца, а именно с головы… Финны заняли поселок и решили его стереть с лица. На спасение недвижного имущества дали один час и двадцать минут. Мне приказали разобрать кипятилку, а я по-фински не понял. Не понял, и вот результат. Меня подвергли удару по голове, после чего я долго лежал, как пласт. Этот гостинец финский, Митрий Егорыч, я хорошо запомнил…»
Был он мешковат, сутул в своем поденном комбинезоне. Давно, перед войной еще кто-то привез ему из Кондопоги кусок шведского сушильного полотна, что отслужил свой срок на бумагоделательной машине. Смастерили старику обнову, и износа ей не предвиделось.
— Рад тебя видеть, — сказал Тучин. — Ты бы Маша, освободила человека.
— Степан приехал, — сказала Маша.
— Ну? Где он?
— Бес его знает. Схватил картошину, в соль торнул и убежал.
— К моему Кольке побег, — сказал Гринин. Ребром уложил на скамью каравай, обсчитал пальцем выпечку. — Двенадцать хлебушков, — сказал и прикрыл их полотенцем.
— Двенадцать хлебушков, — повторил, когда они прошли в переднюю. — Мешок картошки на шесть ведер, яиц пейдесят штук, три фунта масла сбитого, папиросы, спички… пять буханок ситнего.
— Присядь, Иван Федорович.
— Да ништо. Ситний, передай, пускай Митрий Михалыч сам потребит — от язвы в ём первая польза, а именно диета.
— Передам. Ситный, небось, у Четверикова достал.
— У его.
— Как он?
— Матвей ничего себе, худо-бедно, капиталист. Дом у него на самой дороге, на дому сапожню открыл, указку поставил, а на ей, значится, объявление поместил: «Солдат! Перед дальним путем, заходи, сапоги подошьем!» Заходют, солдаты и офицеры, а он с их, худо-бедно, натурально сухой пайкой и дерет. Однако, говорит, сильное неудобство имею через посредство ушей. Глухой, как колодка, и вот результат: я, говорит, разговоры говорю, а жена в чулане поставлена слушать. Но покамест, говорит, ничего государственного не слыхать.
— Спасибо, Иван Федорович.
— Да ништо.
— На месяцок нашим райкомовцам хватит, а там даст бог день, даст и пищу…
Тучин глянул на ходики — шел четвертый час. Горбачев должен появиться у сосны к пяти.
— Ну что ж, Иван Федорович, давай-ка чайку хлебнем да и начнем маневры…
5
Горбачев не пришел. Ни в пять, ни в шесть, ни в половине восьмого. Стожок был невелик, а они растянули его на три заезда, и всякий раз, пока Иван Федорович накладывал сани, Тучин пробирался к сосне.
Он не мог себе представить, что случилось с Горбачевым. Понимал, что причина, заставившая его оборвать связь, была чрезвычайной.
Он думал, что зря оставил продукты в подонке стожка — любая собака может испортить обедню… В щель приоткрытой на кухню двери шел едва различимый свет. Девчушки спали. Степан, которому постелили на скамье, вполголоса рассказывал о Вознесенье. Тучин, раздвинув занавески, смотрел, как в кромешной тьме куролесит снег, слушал брата молча, рассеянно.
— Бальбин, тот в красноармейской фуражке так и ходит. Он звезду, конечно, снял, а ее все равно видать… Фуражка-то выгорела, и звезда как отпечатанная. Здорово — да?.. А тут говорит: «Может, ребята, до комплекта доберем? У кого гимнастерка есть? Гимнастерку вытащил из чемодана Яшка Фофанов, а я снял твои галифе. Ремня, правда, не было, так Бутенев принес какой-то немецкий, пупырчатый, с алюминиевой бляхой, в центре бляхи лопата, а вокруг колоски вытеснены, фашистский знак только изнутри — стройбатовский, что ли? Ефим все это на себя надел и говорит: «А теперь пошли в баню, Лучкина пугнем…»
Пошли к Лучкину. Ты слышишь, что ли?.. Лучкин в бане жил, вместе с Федей Толстым.
— Слышу, Степа.
— Пошли к Лучкину. «Как бы Федя Толстый нам ноги вокруг шеи не намотал», — говорит Серега. Бутылкин себе усы приделал из пакли. А Федя Толстый, знаешь, — мамонт. На спор четыре мешка цемента с баржи принял, двести килограммов. И ничего, только помост не выдержал — здорово, да?
Подошли к баньке — оконце светится. Мы к оконцу — там коптилка помаргивает, а Ефим Григорьевич как раз к свитеру пуговицу пришивает. Тут Бальбин открыл дверь, и они с Бутылкиным вошли.
— Ждрасьте, хозяева! — Это Бальбин. — Не ждали?
Ефим Григорьевич — сам тощой, усы отвисли, рот раскрыл и нитка на губе висит.
А Бальбин языком гильзу за щеку заталкивает, заталкивает. Мы, говорит, ражведчики, не дадите ли переночевать до подхода наших главных шил в шесть ноль-ноль.
Нам в окно-то все видно. Федя Толстый, видать, спать наладился, на полке сидит, нога об ногу — шарк-шарк. Слева от меня Федя Реполачев, кряхтит, не может. Я ему рукав в рот сунул, а из него, как из пробоины, так и свистит. А Ефим-то Григорьевич… здорово — да?.. его в коленках согнуло, свитерок уронил, руки выпростал, господи, говорит, желанные, да почем же дело, ночевайте, да неужто в шесть ноль-ноль?
— Так точно, — говорит Бальбин, — в шесть ноль-ноль. А это, — спрашивает, што там с вами за товарищ сидит?
— Наша он, наша, желанный.
— Вы почему, товарищ, не в рядах нашей доблестной армии? — строго так спрашивает Бальбин.
— По несовершенству лет, желанный, по несовершенству…
— А-а, ну-ну. А я думал, по состоянию здоровья.
Тут Серега как прыснет. Как прыснет, усы у него и отвалились и тихо так на пол полетели… Здорово — да? Ефим Григорьевичу-то, ему нипочем, а Федя Толстый, тот молчком-молчком с полка… Согнулся, руки клешнями — как цыплят ловит. Разведчики? — говорит, так вас и так и еще раз так!.. «Разведчики», конечно, бежать, а Бальбин только и успел что гильзу выплюнуть… Тучин рассмеялся — нехотя, почти насильственно.
— Зло шутите, — сказал.
Он вспомнил, как год назад Лучкин получил сообщение о смерти сына, как плакал — без слез, как говорил, отчаянно путая русские слова: «Аэроплан опрокинулась», «бог не спасла», «под городом Холм, желанный, с ним эта процедура была».
— И не делом занимаетесь, — добавил жестко Тучин.
— Так вот и разреши мост рвануть, — уцепился Степан.
— Нет!.. Взрывать мосты — не ваше дело, пойми ты это, дурья голова.
— Ребята не поймут.
— Объясни.
— Как?
— Под трибунал пойдут.
— Какой еще трибунал?
— Обыкновенный. За невыполнение приказа — до расстрела. Слава богу, теперь у нас есть в районе партийная власть.
— Кто-то ходит, — сказал Степан.
Затявкал Путька. Потом все стихло. Когда все стихло, вдруг постучали в окно спальни. Тучин, прислушиваясь, достал из-под подушки пистолет, быстро вышел.
А Степа бросился к окну. Увидел, как медленно оползли чьи-то руки, словно человек за окном в бессилии рухнул.
Степа торопливо одевался, он никак не мог попасть ногой в штанину, а в дверях уже шла возня, там вдруг пронзительно вскрикнула Маша. Проснулась и заплакала Светка.
Когда он выскочил на кухню, Дмитрий, как неживого, усаживал на скамью человека с обвисшими красными руками, в снегу, сильно мокрого.
— Кто это?
Дмитрий не глядя протянул пистолет:
— К дверям быстро!.. А ты, Маша, не разводи плаксу. Не покойник в доме.
Мария зажала рот растопыренными пальцами, и в них билось, дрожало, всхлипывало дыхание. В неподвижных глазах с оттянутыми вниз веками стоял ужас.
Человек протянул руку к шапке, медленно, с силой протащил ее по лицу. Откинулся на спину, только тогда Степа узнал в нем Горбачева.
Лицо у него было темное, закаменелое — до безразличия.
— Провал, Митя, — сказал хрипло. — Снег… густо идет…
— Что с людьми? Где люди?
— Там. — Горбачев неопределенно махнул рукой. — Там, у бани…
Тучин надел пиджак. Достал с печки валенки.
— Дмитрий… база… все… раскрыта… Нас шесть человек. Нас, Дмитрий, шесть человек и за нами след… Глупо, но деваться некуда… Подумай. И ты, Мария…
— Раздень его, — велел Маше. Долго крутил в руках шапку, словно не мог найти, где перед, где зад, а нахлобучил рывком. — Белье, какое есть, достанешь. Чай свари.
На Машу он не смотрел.
— Светку успокой, — сказал с порога…
Он шел звать в свой беспокойный дом подпольный райком партии вместе с остатками разведывательной группы НКВД «Аврора», за которой так безуспешно гонялся капитан Ориспяя. Теперь, решил, вся власть на месте. Полный воз и березка на коленях…
— Жил-был мужик, — рассказывал он вчера Светке старую вепсскую сказку. — Была у него лошадь, которую он очень любил и жалел. И вот однажды поехал он в лес за дровами.
Приехал и стал рубить. И нарубил полный воз да вдобавок еще одну березку. Сел на сани, положил ту березку на колени и поехал.
Идет навстречу баба и спрашивает: «Ты, мужик, почему березку на коленях держишь?» «Да как же не держать? — отвечает мужик. — Ведь коню-то все легче…»
Глава 9
В шестьдесят третьем году я впервые после войны снова побывал в Вознесенье. Забрался в разрушенный финский дот типа «вепсский замок», вспомнил всех ребят, одноглазого коменданта Хейкку по прозвищу «Пират», сержанта «Красный сапог», мастера оборонных работ финского коммуниста Корренпяя.
Остатки дота находятся на территории бензохранилища. Выбираюсь из дота, а старуха-сторож тычет в меня ружьем:
— Ты как сюда попал?
— А я еще в сорок третьем году сюда залез. Только вылезаю, мамаша.
Бутылкин.1
Раз в неделю их водили в кино. Являлся в Красный Бор штатный воспитатель в чине лейтенанта Вилхо, долговязый, стучал кулаком в перекрытие рамы, плющил о стекло не по фигуре упитанный нос: «Раус, раус!» — Вилхо постигал язык великого союзника.
Три дома вдоль дороги, где расселились по деревням матвеевосельгские, горнешелтозерские, рыборецкие. Через дорогу баня и ее обитатели — старик Лучкин, Федя Толстый.
Строились. Шли мимо управления оборонных работ, мимо церкви, через мост, на правый берег Свири — туда, где напротив лагеря военнопленных трехэтажный очаг культуры.
Вилхо был педант. В его педагогическом багаже имелось все — от Песталоцци до председателя финского сейма Хаккила. Он говорил цитатами. Длинный его палец при этом выразительно расставлял в воздухе кавычки, запятые, восклицательные знаки.
— Почему, спрашивают его воспитанники, для нас школ не открывают?
Вилхо вытягивает палец, ставит кавычки:
— «В основе всякого знания лежат его элементы (два тычка пальцем): форма, число, слово». Песталоцци.
— Какая форма, господин лейтенант, — солдатская?
— Под формой, — спокойно разъясняет Вилхо, — подразумевается умение измерять, под числом — считать, под словом — говорить. Этого для вас достаточно.
Воспитательную свою миссию Вилхо изложил ясно, кратко:
«Население Восточной Карелии нуждается в настоящее время в суровой руководящей руке постоянного воспитателя». Инструкция Генерального штаба финской армии… Почему, спросите, нужна эта суровая руководящая рука постоянного воспитателя? — снял перчатку и показал эту самую руку. — Отвечаю:
«Русская человеческая масса под руководством цивилизованного человечества могла бы быть очень хорошим военным орудием, из нее можно было бы создать первоклассное колониальное войско. Она будет также прекрасной дешевой рабочей силой, если усердно применять кнут и поддерживать безжалостную дисциплину». Журнал «Суомен кувалехти».
— Маразм крепчал! — вежливо резюмировал Бутылкин.
А в общем Вилхо был парень на все сто — достаточно честен, уверен в себе: сказано — воспитано. Внемли ему, мотни головой, и он тебе друг, защитник. Только не обижай его улыбкой. Скептицизм ему чужд, неприятен.
— Бальябин! — выкрикивает Вилхо.
— Бальбин заболевши. С градусником лежит.
— Принеси градусник.
— Так он остынет, господин лейтенант.
— Тогда в окно покажи.
Федя Реполачев бежит. В окне два пальца с градусником. Бальбин перестарался: 39,6.
— Гут, — кивает Вилхо.
Колонна уходит в сумерки. Над мостом косые росчерки ракет. Вдали, за Оштой глухо дышит фронт. Там докрасна раскален закат.
— Разрешите докурить, господин лейтенант, — закашливается Бутылкин.
На крыльце клуба с ним остаются пятеро: Яша Фофанов, Федор, Петр Бутенев, Миша Кузьмин, Кузьма Поликарпов.
— Спокойно, — оглядывается Бутылкин. — Пошли!
Нырнули за угол. Справа темные окна лагеря военнопленных, слева военная комендатура, дом полиции. До бани-прачечной метров семьсот.
В бане-прачечной почти сорок девчат. Гуляют, стервочки, с финнами.
— Катька, говорят, на сносях, — строгий голос Миши Кузьмина. — Мы, ребята, как — будем сразу морды бить или сначала общее собрание?
— Сначала общее собрание, — предупреждает Бутылкин. — Во-первых, которые гуляют, отдельные. Во-вторых, девочки политически заблуждаются. Надо им объяснить, что это дело чреватое.
Кузьма Поликарпов не только глуховат.
— На сносях — это, Серега, как это?
— А вот так: с ней пошутили, она и надулась. Понял? Не понял, вон Бутенев объяснит, он женатый. Тише!
Впереди показался велосипедист. Дороги ему было явно маловато — вихлял. Колесом почти уперся в живот Бутылкина. А Сергей ударом ноги свернул колесо на сторону…
С земли поднимался начальник полицейского участка Пролетарского района Олави Парккинен.
…В участке заколочена досками нижняя половина окна. На стене рядом со схемой Вознесенья неведомо как попавшая сюда «Лунная ночь» Куинджи. За узким столиком сонный капрал писал третью страницу допроса.
Ребята стояли лицом к стене; руки за голову. За спинами Парккинен.
Сержант-то был герой. На темной безлюдной улице набросились на него шестеро красных бандитов, стянули с велосипеда, подмяли, но он, сержант, вступил в борьбу и самолично доставил бандитов в участок.
— Неправда.
— Молчать!
— Неправда. Никто вас с велосипеда не стягивал, не подминал… Водка свалила, — рассердился Бутылкин. — Никто вам не давал права в пьяном виде людей давить… в карельский народ стрелять. Мы жаловаться…
В спину уперлось дуло, и Сергея выгнуло, приклеило животом к стене.
— Молчать, — тихо, убийственно тихо советовал Парккинен. — Вот так, вот так.
Дуло пошло по спине скачками стетоскопа, замерло под левой лопаткой.
— Дышите глубже, глубже. На что жалуетесь?.. На что, собака, жалуешься? — рявкнул вдруг и за руку развернул Сережку лицом к себе.
Он был на голову выше, без бровей — ушли под форменку. Зуб сверкал. Глаза с пьяной накипью в углах.
Щупленький Сережка молчал. Одолевал гримасу боли. Попросил:
— Возьмите меня за левую руку, господин сержант. Меня за правую нельзя, я… художник… Мне генерал Свенсон картину заказал… Командующий седьмой армии — слышали?
Парккинен руку отпустил. Бутылкин бережно перещупал пальцы, мучительно, как подкову, выпрямил кисть, покачал головой. Пока он наводил инвентаризацию конечностей, высоко оцененных самим генералом Свенсоном, произошло два важных события.
На пороге возник Вилхо. Тут же с криком вбежал посланный за ним полицейский.
— В бараках бунт! — кричал. — Бунт, там бьют… Хейкка просит взвод… Полицию бьют!
Поднялся сонный капрал, выскочили из дежурки полицейские. Парккинен распорядился:
— Этих запереть! Ты и ты! — оставил двух полицейских. — Остальные — за мной.
— Эти — мои! — ревниво, но достаточно твердо заявил лейтенант Вилхо. — Мои, и они, сержант, со мной пойдут. Я, сержант, разберусь в своем хозяйстве сам…
— Это нехорошо — самовольно бегать к девочкам, — обиженно говорил Вилхо. — Я лишаю вас права посещать фильмы в течение трех недель. Три недели недоверия. Я слишком добр, слишком!..
Не мог Бутылкин знать, что завел в этот вечер одно из самых важных для подполья знакомств.
Не пророк был и встретивший их Бальбин. Ругался.
— Историю, — сказал Бутылкину, — левой ногой не делают. Авантюрист ты и дело провалил. За такое хулиганство в других местах под трибунал — понял?
Не утерпел, похвастался:
— Смотри сюда.
— Куда? — не разобрал Сергей.
Бальбин задрал голову — под левым глазом красовался отменный синяк.
— Это ты меня, в личной ссоре, больного, лежачего, из слепой звериной ревности — понял?.. Эх, братцы, какая кадрель была!
2
«Больному и лежачему» Бальбину выпал в этот вечер черед дежурить в казармах финских рабочих. Это были саперы — политика с уголовщиной: судимые, лишенные после заключения гражданских прав и в том числе права на оружие в этой войне. Было их около трехсот, это они тянули через Свирь деревянный мост.
— Построите мост, и вы свободны, — говорил им одноглазый Хейкка.
Свобода значила для них равное с другими право на убийство во имя великой Финляндии, и они, естественно, не спешили становиться солдатами.
С противоположного берега регулярно били советские сорокопятки. Их огонь был на удивление точным: ни разу по мосту, все вдоль, как по линеечке.
— Нам советуют отдохнуть, — говорил в таких случаях мастер Эйно Корренпяя. — Видимо, русским мост еще не нужен, — и отводил рабочих в убежище.
Это был невысокий головастый человек с узким подбородком, широкоплечий, словно затесанный с боков на конус. «Клин» — прозвали его…
Это о нем через несколько дней после событий, участником которых стал Ефим Бальбин, сообщит в Центр Горбачев:
«Интересуемся, жил ли в СССР в 1932—35 годах финн Эйно Корренпяя и как выбыл из СССР? Сейчас ведет пропаганду в пользу Советского Союза. Не финский ли агент?
«Егор».— Я сын фабричной девушки, — говорил Корренпяя. — Родился в городе Форсе. С двух лет мать отдала на содержание — жил в тринадцати домах. В семь лет — пастух, в шестнадцать — плотник, в двадцать — солдат. В двадцать один — за политическую работу разжалован из младших лейтенантов в обозники.
В 1932 году нелегально переброшен в Советский Союз. Школа Коминтерна, и снова подпольная работа в Финляндии. В 1936 году брошен на четыре года в тюрьму как основатель коммунистических организаций в четырех финских городах. Освобожден 11 ноября 1940 года с двенадцатилетним сроком недоверия.
Военнообязанный третьей категории, коммунист, мастер оборонных работ (три марки в день), он и был первым, кто пригласил ребят в казарму рабочих.
Сыпали на стол галеты из эрзац-муки, большие, с дыркой посередине, кубики прессованной икры в серебристой обертке. Включали Москву.
— Переводи!
Первым был Бутылкин, вторым Реполачев и вот — «кадрель» Ефима Бальбина.
— А икра та — дрянь в золотиночке, — рассказывал Бальбин. — Вязкая — зубы рвет, и соль наголющая. Я это дело выплюнул.
У Кузьмы Поликарпова рот нараспашку, ладонь около уха — чашечкой:
— Так уж и выплюнул?
— Выплюнул. Немцы, говорю, те шоколад жрут.
А тут как раз передача пошла. Про Днепр. А народу в казарме человек сто. Ковеммин! — кричат, — громче! А я говорю: «Я вам не Шаляпин, тише сидеть надо». Притихли.
А сведения, братцы, — во! Яшка, слезь с ноги, у меня там тоже ломит… Так вот, наши с ходу форсировали Днепр и закрепились на правом берегу, где Киев… Фашисты считали, что заковали Днепр в бетон и железо, превратили его… Как это?.. В неприступный Восточный вал. А нашим хошь вал, хошь не вал…
Летели в потолок подушки, в воздухе суетилась труха. Гомон, ликование.
— Жеребцы, — сказал Миша Кузьмин. — Дали бы поспать-то человеку.
Человек, о котором он радел, был Степа Тучин. С ним что-то стряслось в последнее время: спал напропалую, без памяти, словно из окружения вышел. На впалых щеках румянец вылез. Длиннолицый, черноволосый, он совсем не похож был на своего старшего брата Дмитрия. Но смутную его судьбу разделил по-братски. От позора его не отмежевался. И не согнулся вроде. А вот пришла, пригрела неожиданная и яркая слава брата, и Степан вдруг обмяк, сломился в тяжелой сонливости.
Одернул Кузьмин, и угомонились. И Ефим, сбавив полголоса, продолжал:
— Ну, перевожу себе. Слушают, как маму, которая из города приехала. А из приемника говорят: ни одна армия в мире не форсировала раньше такого мощного водного рубежа, как Днепр, с ходу, да еще на таком широком фронте. Вот, мол, Наполеон несколько раз ходил через Дунай. А что ему не ходить-то было, Европа и не рыпалась. То же в первую мировую войну с немцами — румыны в армию Макензена виноградом кидались. И в эту войну немцы не столько форсировали Днепр, сколько обошли на смоленском, гомельском и еще каком-то направлении. Значит, не было раньше примера, чтобы… И тут началось…
Ефим вдруг забрал в кулаки одеяло.
— С улицы дверь шибанули, оглядываюсь — полиция, солдатня с автоматами. «Ни с места!» — кричат. Полицейские, те сразу к приемнику, я его и вырубить не успел. И вдруг — сапог летит, лампа на приемнике — всмятку. Зажмурился, а глаза открыл — ослеп. Темно. Барак ходнем ходит, трещит чего-то… Какой-то тип фонарик включил, электрический, — я его хрясь, он мне — хрясь. А тут меня сзади схватили, аж поперек. К окну приволокли и спустили. Я, само собой, обратно лезу. Мне сверху-то — бац: дурак, говорят, беги, пока кости целы…
В общем, ребята, классовая борьба в бараке была, — закончил Ефим, — а чем дело кончилось, не знаю…
— С Пролетарской стороны Парккинен на помощь пошел. Задавили пролетариат. Наверно. А факт — революционный, — заключил Бутылкин[17].
…Не спалось в эту ночь — отбило сон начисто.
— Я это шоферство брошу, — сказал Реполачев. — Больно пользы много.
Федор спал на одной кровати с Бутылкиным. Рядом, тоже на досках, устланных бумажными мешками, — Бальбин с Фофановым.
— Грузчиком пойду, банщиком.
— Не все ли равно? — откликнулся Бутылкин. — Ты и за рулем грыжи не нажил. Вот мостик рвануть — это было бы политически грамотно.
— К мосту не подступишься, — голос Бальбина.
— Еще как подступлюсь! — Сергей оперся на локоть, убежденно добавил: — Четверку надо.
— Какую четверку?
— Обыкновенную. Два бревна крест-накрест. Связать, а под низ — взрывчатку. Пустить от бани, по течению, шнур поджечь. А дальше оно само — четверка за «быки» зацепится. Взрыв. Щепочки…
— Здорово придумал, — сказал Реполачев. — Если бы ты рисовать бросил, из тебя бы, может, человек вышел.
Идея была и в самом деле великолепная, и не хватило бы, видно, ночи говорить, если бы не сбил горячку Бальбин:
— Тут, ребята, дело серьезное, тут шутки в сторону.
— Какие шутки!
— Такие — самостоятельность. Николаев ясно сказал: мы не диверсанты, мы разведчики. И точка. С этим делом к Тучину надо.
С этим делом, как известно, и пришел к Тучину Степка.
Глава 10
«Зимой от следа никуда не убежишь», — сказал Тучин.
Решили оборудовать место в хлеву самого старосты. В маленьком отсеке для овец мы и устроились. Вдоль стенки с крохотным окошечком положили сено и накрыли половиками, в середине — ящик, заменяющий стол, у стены напротив — наша рация…
Жить у Тучина было опасно. Мы понимали, что подвергаем риску не только семью Тучина, но и всю деревню. Финны жестоко расправлялись с теми, кто скрывал партизан. Например, при нас провалился разведчик А. И. Баранцев, всю его семью посадили в тюрьму. Схватили разведчика В. И. Бошакова, отца его посадили, а потом замучили до смерти».
Сильва Удальцова. «Воспоминания радистки».1
Утром, едва обозначились окна, Тучин поднял Степана, послал за Колей Грининым. Втроем пошли с ружьями — горбачевские следы топтать, и на всем восьмикилометровом пути, а затем в районе базы наколесили столько, что сам Шерлок Холмс не разобрался бы в этой снежной письменности.
В полдень, придя в комендатуру, староста неподдельно удивился новости: накануне в девять вечера — сообщил Аарнэ Мустануйя — солдаты окружили на Мундуксе партизанскую землянку, забрали плащпалатки, парашюты, пустовавшую и, видать, недавно покинутую землянку сожгли.
Вечером трагедия обернулась фарсом: каратели ходили по деревням продавали партизанское имущество, в том числе корыто, вырубленное Мишей Асановым.
Начинались дни, когда и стук в дверь — событие…
29 ноября решились передать из овина первую радиограмму:
«База обнаружена. Устроились у Тучина. Продукты бросайте координаты 00—26, южнее Сарай-Ярви километр. Бросайте на сигналы два фонаря «Летучая мышь» и один карманный с 24 до 2 ночи. День сообщите точно. Связь ежедневно в 15 часов».
«Егор».В хлеву появились домино, карты, свежие финские газеты. Листок «Северное слово» сообщал о создании специальных частей для борьбы с партизанами — «Олонецкой освободительной бригады», Десятого карательного полка, кавалерийских полков «Уусимаа» и «Хяме». Комментировался приказ начальника армейского корпуса Е. Арто. Первый пункт:
«Каждый командир отвечает за то, чтобы партизанское движение кончилось. Для этого назначать возможно большее количество дозоров по дорогам, на местах, где имеются сенокосные и рыбацкие избы, в которых могут ночевать партизаны».
Ночами женщины — Маша, мать Тучина Софья Михайловна, мать Горбачева Авдотья Ивановна стирали белье, стряпали еду… Светка проговорилась соседке Матрене Реполачевой: «У нас корова ест на первое суп, на второе кашу».
Гайдин спрашивал о судьбе своей радистки Дуси Тарасовой. Тучин сообщил ему то, что знал от Ориспяя; из Кашкан Тарасову перевели в Петрозаводск, судили, приговор — вечная каторга. Сейчас она в Киндосваарской тюрьме. «Фанатичка, — говорил Ориспяя, — ведь ее отца в тридцать седьмом году репрессировали и, кажется, расстреляли».
Староста спускался в овин утром, в обед, вечером. Глаза и уши райкома, изолированного в сырой полутьме, он знал цену информации и не скупился на детали.
Поп Феклист, рассказывал, сорвал воскресное богослужение; напившись, преистошным басом затянул с амвона:
Ты, милашка, ангел мой, Пойдем в солдатушки со мной.Церковь опустела. Отец Феклист получил десять суток гауптвахты. Садясь в полицейскую машину, странно благословил мирян: «Не верьте, о люди, что по водам можно ходить, аки по суху. Не верьте!»
Вели Саастомойнен, доложил, снова уехал в Хельсинки на месячные курсы комендантов. Воспользовавшись этим, сформировал из своих людей группу углежогов и направил ее в Янигубу: по слухам там стояли шведские патрульные части и несколько батарей береговой обороны. С группой ушел на свое первое задание Коля Гринин.
Пересказал, как в Залесье жаловалась Николаеву молоденькая лотта-учительница:
— По приемнику сообщают одни ужасы, хоть выбрасывай.
— Зачем выбрасывать, дали бы мне. Поиграть.
— Бери. Только сходи к Юли Виккари. Скажи ему, мне скучно. И страшно одной.
Однажды Тучин принес в овин и высыпал на ящик ворох писем. «Проверь-ка, райком, почту, — сказал, — а то без Саастомойнена тут никакого порядка нет…»
Дарье Медведевой писал из Финляндии хозяин ее пленного сына Сергея:
«За сочувствие к партии Ленина вашего сына взяли в лагерь. Высылаю полный расчет — 125 марок».
Матвей Засеков жене:
«Дорогая Полечка, поздравляю с ангелом-хранителем… Бог даст, вернусь… А ты, Полечка, самое себя блюди, чертова баба. Не то, бог даст, вернусь, ребров наломаю изо всей строгости закона».
Писал из плена Василий Макарович Реполачев:
«Смотри, Аннушка, собирайся в лес скоро. Белофиннам, как есть, предвидится капут».
В письмах, в новостях — ожидание перемен. Ободренные затворники провели в хлеву конкурс на лучший почерк. Павел, устроившись за ящиком из-под галет, размножал листовки. Тираж ему дали немалый — 70—80 экземпляров в день. По вечерам он раскладывал свежие выпуски Совинформбюро на стопки: Бальбину для Вознесенья, Николаеву для Залесья и Матвеевой Сельги, Герчину для Янигубы и Шокши…
Кончался декабрь третьего года войны. Тучин медленно входил в колею обычной, внешне беззаботной жизни. Человек привыкает ко всему, сказал он себе, если знает, что то, что он делает, нужно и неизбежно. Он привыкает и к ожиданию смерти, если знает, что есть вещи хуже смерти. Хуже — трусость, хуже — предательство, хуже — эгоизм. Он сказал это себе с чувством, близким к наслаждению, хотя и понимал: Феклист-то прав — нельзя ходить по водам, аки по суху.
2
Все эти дни ближе других под рукой был Николаев. С Горбачевым Алексей сошелся стремительно.
«Гражданская честность была в нем превыше всего, — запишет позднее Горбачев, — в том числе и осторожность».
— Почему бы нам не привлечь к работе Гринина? — спрашивал Николаев в одном из ночных разговоров на кухне Тучина.
— Какого Гринина? — уточнил Тучин.
— Да оба они, Дмитрий Егорыч, что девятка с шестеркой: как ни крути — все цифра, и отец, и сын.
— Кто же, по-твоему, девятка?
— Николай — комсомолец, парень на девять десятых наш.
— Что-то маловато — девять десятых, тебе не кажется? — куражился Тучин и серьезнел тут же: «В нашем деле, Алеша, нужна боевая единица — с ба-альшим запасом в числителе!»
— Не знаю, — невозмутимо отвечал Николаев. — Я собираю кожсырье, оно ничего собой не представляет, пока его не продубят, не обработают.
— Молодец! — одобрил Горбачев.
Дуся Тарасова.
Глаза у Николаева доверчивые. Он сильно изменился за последнее время. Парень устал от одиночества и молчания, думал о нем Тучин, ошалел от надежд и артиллерийского грохота, который уже докатывался с юга. И дело не только в этом. Есть люди, думал о нем Тучин, которые ощущают ненависть как порок и избавляются от нее с торопливой радостью. Это люди для добра. И для доброго времени, к сожалению… А, может быть, просто молодые. Может быть. Война развила в девятнадцатилетних неприсущее им всепрощение ради главного: был бы наш, а какой — неважно… Когда человеку холодно, какое ему дело, что горит в костре, — палехская шкатулка или прелый навоз. Ему подай огня!..
Человек, очевидно, должен считать себя добрым, чтобы позволить себе зло и жестокость. Алексей считает себя жестоким, предполагает, что должен быть жестоким. И только поэтому до милосердия доверчив… Молодость есть молодость. И если ей выпадают такие убедительные метаморфозы, какая случилась с ним, с Тучиным, когда он на глазах превратился из негодяя в героя, она охотно возводит случай в метод.
— Дмитрий Егорыч, Агеев в комсомол просится, — сообщил, потягивая кофе, словно уже исчерпан вопрос о Гринине.
— Какой Агеев?
— Василий. Какой еще?
Тучин встал, побелели на кромке стола пальцы. Голос обуздал:
— Алексей! Агеев — агент тайной полиции.
— Правильно, агент. Был агент, а теперь будет свой человек в полиции. Он у меня уже и «Ленинское знамя» читал, и листовки читал, и товарища Куусинена читал.
— Что он знает о подполье?
— Ничего. Кроме того, что я не один… За мной, так сказать, Родина. Но и этого он не выдаст.
— Почему?
— Побоится.
— Точка!.. Точка… В комсомол, Алексей, идут не из страха. В комсомол идут не шкуру спасать. В комсомол идут на подвиг, черт побери. А Василий твой — фискал хуже Явгинена… Явгинен хоть и сволочь, но личность, у него убеждения есть… А этот же — ни вашим, ни нашим, размазня, мякина.
Отшумел и смягчился. Добавил, подумав, что он в чем-то несправедлив и к Алексею, и к Агееву: «Ну что ж, начни с Гринина, с Николая в смысле. Он только что из Янигубы вернулся». Алексей ушел довольный.
— Ты что парню голову морочишь? — спросил Горбачев.
— Ничего, ничего. Так надо, для его же пользы. Думаешь, чем дело кончится?
Горбачев поднял плечи:
— Поговорят, — сказал, — выяснят, что оба в подполье, и не поймут, зачем тебе все это надо…
Алексей вернулся ранним утром, сгорбленный, виновато разговорчивый:
— Вот так… Вот так. Детство, так сказать, вместе, а мысли врозь… Вообще-то какие мысли… Дружба, так сказать.
Привалился спиной к простенку, вывернул и нахлобучил на кулак кепку. В подкладке торчал крючок-заглотыш, и он занялся крючком.
— Вот, говорит, бог, вот порог… Выслушал, а потом говорит, вот бог, вот порог, и перекрестился, гад.
— То есть, как? — удивился Тучин.
— Натурально. Морду постную сделал, шарики закатил. И перекрестился… Гринин — младший ренегат, в общем.
— Вот те раз! — воскликнул Тучин. Вскочил, живой, юркий, кругами заходил по комнате и качал, качал руку, словно она вдруг не к месту расшалилась. — Вот те раз! — повторил. — Что скажешь, секретарь?
Горбачев, видно, не знал, что ответить. Молчал. Смотрел на Алексея добродушно, почти с нежностью.
3
Должно быть, Николаев сильно недоумевал, когда через день Тучин провел его коридором за лестницу, пропустил в квадратную дверь коровника и, подталкивая сзади в парную темень, тяжелым шлепком однорукого согнул его вдвое и втиснул в узкий, как собачья конура, овин. Где-то далеко впереди, у заткнутого сеном окна, лучилась лампа. Алексей знал, что его лицо хорошо высвечено, но сам все это время пока его дружелюбно хлопали по спине, по плечам, не видел ничего. Наконец, Тучин зажег вторую лампу, поставил ее на облезлый коричневый сундук с кружками проволоки вместо петель. Первый, кого Алексей увидел, был сидящий напротив Коля Гринин. Ему что-то говорил, склонившись, Удальцов, Коля кивал головой, поминутно отправляя на затылок длинные волосы и там слегка притирал их растопыренной ладонью.
Николаев понял все — чего тут не понять. Ему подсунули разряженную мину, а он вообразил, что смертельно рискует. Ему подсунули разряженную, чтобы он не подорвался на настоящей. Какие тут могут быть обиды — что вы? Какие обиды? — уверял он себя, а на душе было так, словно его завели на минное поле и на прощание сказали заботливо: «Между прочим, земляники в этих местах — завались!»
Он снял кепчонку и принялся за крючок. Он-таки доконал его, вырвал. А крючок распрямился. Оттопырив губы, сунул его в рот и осторожно сжал зубами — работа, которую с плохими нервами не выполнишь.
Удальцов поздоровался очень мило — за коленку, сжал да еще потряс.
— Идешь вторым, — шепнул, — после Гринина. Вот листок для заявления. Биографию доложишь устно.
Тихо. За стенкой продула ноздри лошадь, взволнованно откашлялся в кулаки Коля Гринин. И больше ни звука. И Алексей вдруг сообразил, что это и есть та торжественность, которую он ждал и которой боялся. Это вот сейчас и начнется — что-то очень важное и для него, и для сидящих здесь людей. «Заявление от комсомольца Алексея Николаева», — твердил он, а дальше слов не было, разбежались. «Несмотря на то, что я нахожусь во временной оккупации… своим пребыванием… хочу способствовать…»
А Горбачев уже встал. Побритый, в начищенных сапогах, в отглаженном темном костюме, в наброшенной поверх пиджака кавалерийской куртке, с которой не расставался со времен финской войны.
— Сегодня у нас большое событие, — говорил Горбачев, — но я не буду произносить высоких слов. Благодаря товарищу Тучину у нашей рации появилось питание, и через два часа мы все услышим новогоднюю речь Михаила Ивановича Калинина, в которой он осветит положение на фронтах и подведет политические итоги прошедшего года войны. Закончив деловую часть, мы пригласим как можно больше людей, чтобы они узнали правду из первых уст. Дмитрий Егорович сообщил мне, что прошлогоднее выступление товарища Калинина начальник штаба полиции использовал для запугивания населения. «На что вы надеетесь, — говорил Ориспяя, — если сам Калинин сказал: пусть все, кто оказался в оккупации, знают, что их покарает суровая рука возмездия»… Пройдет, товарищи, время, и мы публично разоблачим эту вражескую ложь. Мы назовем имена борцов и патриотов, благодаря которым на оккупированной территории существовал и выполнял свою боевую задачу подпольный райком партии и комсомола. Как знак веры партии в преданность и неподкупную стойкость вепсского и карельского народа предъявим людям партийные билеты… твой, Алексей Николаев, твой, Николай Гринин. Время вступления — декабрь тысяча девятьсот сорок третьего года, наименование организации, выдавшей билет, — Шелтозерский подпольный райком… Вы открываете список, но за вами последуют десятки… десятки людей, готовых платить партийный взнос мужеством и ненавистью к врагам Родины… Вот, товарищи, какое у нас сегодня большое событие… Разрешите огласить заявление комсомольца Гринина…
Заявление было коротеньким, простым, и Алексей, устыдившись, тут же вычеркнул на своем листке фразу: «Перед лицом страны я клянусь отдать всю свою жизнь, кровь свою, каплю за каплей, общему делу разгрома врага». Потом он решил вообще переписать все начисто, сложил листок вдвое, оторвал черновик и машинально сунул его в карман…
Время покажет, что он не ради красного слова писал о готовности отдать кровь свою, капля за каплей.
— Родился в Ленинградской области, в деревне Тумоза. Мать не помню, отец Иван Федорович Гринин, — инвалид империалистической войны, ныне подпольщик. Когда отец привез меня сюда, в Горнее, пришлось учиться финскому и вепсскому… С четырнадцати лет начал работать в колхозе «Красный борец». Бороновал, молоко возил в Шелтозеро. Премию дали — на рубашку, в полосочку…
Коля Гринин, не по-местному высокий, тонкий, рассказывал биографию.
— В тридцать седьмом году переехали в Нилу. Отец там лесорубом был. Меня устроили на легкую — паспорта еще не было, маркировкой занимался… Нила в двенадцати километрах за Свирью, отсюда шел лес для Ленинграда… А тут война открылась, а возраст призывной. В Шелтозере комиссию прошел — годен, а в Петрозаводске врач Иссерсон нашел опухоль в ноге. Вернули. В Ниле нас и накрыли. Поселок финны сожгли, а нас под конвоем в Другую Реку, а потом в Вознесенье на работы.
— Вы с отцом русские — так? — решил не оставлять сомнений Тучин.
— Так.
— Всех русских отправляли в Петрозаводск, в концлагеря.
— У нас сортировка в Другой Реке была. И отец то ли с испугу, то ли из хитрости… он по-вепсски заговорил. Я, говорит, за вепску замуж вышедши.
Рассмеялись, первый и громче всех — Тучин. Коля помолчал, задержал на затылке прядь волос.
— Общественные поручения выполняю, — сказал. — Несколько раз ходил в разведку. Вот только что ездил по заданию Дмитрия Егоровича в Янигубу углежогом.
— Об этом поподробней, — сказал Горбачев.
— Ну, жили под надзором финна Коккониеми. Илья Медведев тут же, Петька Пироженко, хохол. Спали на нарах, а Коккониеми рядом на кровати, с винтовкой… Дмитрий Егорович просил выяснить, сколько там батарей, и особенно насчет шведов. Так батарея там всего одна, но с круговой обороной. Шведов немного — пятнадцать. Это внутрифинские шведы… Финнов в гарнизоне тридцать, правда, много гражданских финнов, человек пятьдесят, тоже с винтовками… Ну, люди работают в основном с Ишанина, Вехручья, из Шелтозера. Уголь идет для фронта, для газгенов…
Шведы живут в отдельном бараке. Ходил к ним: «В карты можно поиграть?»
— Проходи, обыграем русского купца.
— Я не купец, я товарищ.
— Га-га-га, — смеются, значит.
Повар-швед говорил: «Ненавижу войну». Порцию военную давал: «Снеси матушке». Думаю, есть у нас матушка, с воздуха угостит… Пока с ними играешь, подсунешь в кровать книжку. Дмитрий Егорович мне восемь книжек дал — «Финляндия без маски» Куусинена.
— Саатана! Откуда? — офицер кричит, его фамилия Бергсон. А солдаты читали, обменивались мнениями. Вообще шведские солдаты мне понравились. Швед зря в глаза не смотрит, а душа у него добрая.
Бергсон говорит:
— Вот скоро вас подучим, винтовки дадим — и раз-два, левой!
— Господин офицер, — говорю, — как же вы мне винтовку дадите? Вдруг я не в ту сторону стрелять буду?
— Саатана! — вскочил, ругается. — Незаряженную дадим, а после войны кирку в руки, у меня работать будешь.
— А где, — говорю, — вы после войны жить будете — под Полтавой?
— Солдаты смеются: ну шутник, — говорят…
Алексей вдруг понял, зачем Тучин их стукнул лбами: может, думает, искра божия перескочит из грининскои головы в николаевскую. Коля — артист. От природы. В нем это как искренность в ребенке. Во всяком случае, когда он перекрестился, и это ему шло… Талант. Его, Алексея Николаева, могут поставить к стенке за один взгляд. Гринин говорит, что будет стрелять не в ту сторону, и его называют шутником. Это в нем от Тучина. «Смотрите, люди, — говорил Тучин, когда его выбрали старостой, — теперь я большой человек. Не станете подчиняться — за плетку возьмусь». И люди знали, что он валяет дурака. «Судя по мне, господин капитан, вы неплохо относитесь к большевикам», — говорил Тучин Ориспяя, и Ориспяя не сомневался, что он валяет дурака…
А Колю поздравляли, и было это тепло, радостно.
Когда Горбачев взял второе заявление, Алексей медленно встал и вдруг почувствовал, что руки у него невероятно длинные — девать их некуда.
«Несмотря на то, что я нахожусь во временной оккупации, — читал Горбачев, — своим пребыванием в партии хочу способствовать быстрейшему освобождению нашей Родины от захватчиков. Прошу подпольный райком принять меня кандидатом в члены партии. Обещаю быть достойным высокого звания коммуниста…»
Биографии от него не потребовали. «Знаем», — сказал Удальцов. Горбачев поставил вопрос на голосование — единогласно. Чиркнул спичкой и сжег над ладонями заявление.
Глава 11
8 января 1944 г. на двух самолетах Р-5 (из них один с кассетой) с аэродрома Сумеричи вылетели по специальному заданию два экипажа в составе ст. лейт. Флегонтова, мл. л-та Воробьева, мл. л-та Зиневича, старшины Кощеева. На борту обоих самолетов находились 760 кг груза в парашютных мешках и один парашютист. Конечная цель маршрута — Шелтозерский р-н. На цель прибыли в 3 ч. 25 мин. и с двух заходов сбросили на поляну, где выброшены были условные сигналы. Оба самолета произвели посадку в 5 ч. 30 мин., пробыв в воздухе 3 ч. 30 мин.
К-р 5 ОАП ГВФ подп-к Опришко.1
Шли первые дни нового года. События раскручивались, как пущенное с горы колесо. Шестого января отделение сержанта Туоминена очертило Горнее Шелтозеро тройной контрольной лыжней.
Восьмого января Горбачев получил радиограмму: «Ждите сегодня выброску». Было ровно восемь вечера. Прихватив с собой Удальцова, поднялся наверх к Тучину. Протянул клок желтой бумаги.
— Не понимаю, — сказал, пробежав радиограмму, Тучин.
— Видишь ли, дело тут, Дмитрий, так обстояло… Перед самым новым годом Центр сообщил, что слышит только позывные. Ну и предупреждал, что если, мол, связи не будет, то самолеты сбросят груз в условленном месте, без сигналов.
— Что за место?
— Координаты 00—26, пожня у Сарай-ярви, точнее, между озерами Сарай-ярви и Пилят-ярви.
Тучин присвистнул.
— С таким же успехом, — сказал, — мы могли бы принять груз между американскими озерами, дай бог памяти, Мичиганом и Гуроном. Или в междуречье Тигра и Ефрата… Короче, адресок твой ни к черту не годится.
— Лыжня? — простодушно спросил Горбачев.
— Лыжня. Лыжня, дорогой. Это колечко Туоминена — штука хитрая. Почище всего, что они придумали за последнее время. В том числе обмен паспортов и перепись скота. Кстати, не боитесь попасть в эту перепись?
— Да есть элемент, — весело признался Павел.
— Есть. Фактически, это повальный обыск. Правда, для обыска в доме Тучина нужна бумага с ба-альшой печатью! — сказал не без самодовольства и рассмеялся — власть… — Так вот колечко Туоминена… Как-то, Митя, до войны, в Петрозаводске, один отрицательный товарищ пошел на меня с кирпичом. Серьезно пошел, с выражением на лице. Кирпич я выбил. Когда я выбил кирпич, я уже знал, что никакого другого оружия у него нет — чего бы иначе хвататься за кирпич. И стал менять ему выражение лица. Я это к чему? К тому, что когда Туоминен начал крутить свои мертвые петли, я понял, что камня у него за пазухой нету. Ни у него, ни у Ориспяя камня против меня за пазухой нету, В этом смысле кольцо нам выгодно: полиция себе дело по душе нашла, наши, как говорится, все дома, а для связи с Петрозаводском и Свирью нам за глаза людей с пропусками… Эту идиллию, Митя, мне бы так, на фунт изюма с Большой земли менять не хотелось.
— Речь не только о продуктах, — мягко вставил Горбачев, — необходимо радиопитание, едва ли ты снова пойдешь торговаться в Рыбреку. Нам нужна литература. Кроме того, есть еще одно обстоятельство…
Горбачев замешкался, не договорил. Тучин встал, прошелся, сутуло раскачиваясь взад-вперед, как кормилица. Ходуном пошла согнутая рука, дитя его и советчица.
— Хорошо, — сказал через минуту, — сообщи Центру: от приема без сигналов отказываемся, от пожни у Сарай-ярви отказываемся. Пусть бросают в километре от деревни, на северо-запад. Внутри кольца. Сигналы классические — три огня. Ждем с трех ночи до шести утра. Была — не была!
Павел удивленно хлопал глазами. Отослав его в овин сообщить Сильве новые координаты, Горбачев долго смотрел, как Тучин укачивает свою неожиданную лихость. Выждал, когда рука спокойно ляжет на перевязь, нашел чем-то очень довольные тучинские глаза:
— Ты не все знаешь, Дмитрий… Вместе с грузом нам выбрасывают радистку.
— Что?
— Вместе с грузом нам выбрасывают радистку.
— Очень хорошо, очень хорошо, — твердил Тучин серьезно. — А маникюршу, я думаю, мы и на месте найдем…
Последние дни он усиленно постигал шифровальное дело, приспосабливался к рации, и в случае выхода группы мог уже — довольно сносно — заменить у ключа Сильву. Уже Центр на первый его выход в эфир: «Работаю я, Тучин. Отвечайте в восемь утра» дал добро — «Вас слышим хорошо, продолжайте работу…» Появление новой радистки, считал Горбачев, некстати вообще, но изменить что-либо он уже был не в силах, и стремился только ослабить неизбежную для Тучина мысль о недоверии.
— Думаю, что радистку засылают для какого-то спецзадания, — без особой уверенности говорил Горбачев. — Не исключено, что нам предстоит переправить ее в какую-то другую группу, скорее всего — в Шохина[18]. Во всяком случае, о Шелтозере нас запрашивали — где находится штаб гарнизона, в каких домах полиция, связь, склады… где живет комендант, где стоит артиллерия, сколько пулеметов, минометов, орудий, прожекторов, где менее защищенные подходы к Шелтозеру со стороны Онежского озера… Обо всем этом Центр запрашивал еще восьмого декабря. Видимо, все это, — говорил Горбачев, мучительно страдая от многословия, — нужно для наступательных операций Красной Армии, а мы ничего не можем сообщить…
— Да? — только и спросил Тучин рассеянно.
— Никакой другой нужды в радистке не вижу, — усталый взгляд Горбачева бесцельно бродил по комнате. С испугом и завистью больного человека отметил, с какой пружинистой легкостью вскочил Тучин, как вырвал из комода ящик, как обрушил на стол лист бумаги и карандаш, как сказал ободряюще, с торжеством: «Пиши!»
— Пиши, Митя. Пиши, — подгонял нетерпеливо — лоб наморщен и глаза отчаянные. — Штаб управления района находится в помещении бывшего маслозавода… Под зданием — склад боеприпасов. Сотрудники штаба размещены в здании райсовета. Пиши!.. Радиоузел в доме Попова, почта — в бывшем доме сельского Совета. В доме Августова — телефонная станция… Пиши, пиши… Количественный состав гарнизона двести человек. Комендант живет в доме Фабриканова… Ближайшие к Шелтозеру гарнизоны расположены в деревне Вехручей, пристань — численностью до ста человек… В поселке Майгуба — батарея 57-миллиметровых немецких пушек. Здесь же три ряда проволочных заграждений и прожекторов… В Сухом Носу, между Розмегой и Коккарево, — батарея и прожектор. Здесь, между Розмегой и, Коккарево, наименее охраняемое место со стороны Онежского озера…[19]
— А радистку, — сказал Горбачев, — нам все-таки выбрасывают. Им в Центре видней, на то они и Центр.
2
К двум часам ночи вся группа — в один след — благополучно вышла на пожню Тучина. Глаза освоились с темнотой, и в конце низины встал березняк, очертилось Тетенсо — Теткино болото; изломом крыш поднялась над сизым горизонтом Сюрьга, взошли над землей сонные трубы Калинострова. С озера шел напористый северик — парашюты могло швырнуть на деревню. Разошлись треугольником: Тучин, Горбачев, Удальцов. Павлу не хватило керосиновой лампы — держал в застывших руках пук лучины, пузырек с бензином. За ним, шагах в пяти, замерли Сильва, Гайдин. Гайдин то и дело совал лицо в распахнутую у ворота фуфайку, сдавленно откашливался — забыл, как говорил он сам, дышать носом во время бегства с Мундуксы.
Был четвертый час, когда в скулящий посвист метели вошел густой замирающий стон. Звук нарастал над Запольгорой. Самолеты шли на значительной высоте, и только нацеленный слух мог уловить эту зудливую растревоженность неба.
Сильва отметила, как Павел благоразумно разделил лучину надвое, как вдруг тихо взорвалось в его руках пламя. И высветилась прядь его волос. И мир исчез, погас, умер в этой вызывающей яркости огня. Был только Павел, вырванный из тьмы, и ее холодный страх — впервые не за себя.
Таким она и запомнит его. Таким вспомнит, когда много лет спустя вот так же померкнет свет — не станет Павла, и в безрассветную свою ночь она будет искать, тревожить в памяти далекий отблеск юности, ту метель и ту разбуженную страхом любовь.
«…мы услышали гул самолета, мигом зажгли огни. Сделав разворот, летчики помигали зеленым и красным огнями, выбросили четыре парашюта и улетели. А сильное это ощущение, когда в глубоком тылу врага к такой маленькой группе прилетит кусочек Родины с проявлением новой заботы, сразу чувствуешь свою силу, гордишься тем, что и ты очень нужная частица этой Родины.
Три парашюта мы нашли довольно быстро, они упали недалеко от нас, а четвертый улетел дальше… Торопимся убирать полученные продукты, а что не можем унести, прячем под сено в зарод… Вдруг Павла кто-то окликнул, он обернулся и увидел Катю Насонову с рацией…»[20]
Голос у Кати мальчишкин. И вся она — в осевшей на нос ушанке, в ватнике, с растопыренными руками — выглядела пацаном, под которым лед провалися. Павел сгреб ее в охапку и пытался поставить на лыжи, а ноги ее не слушались, и он прощупал на всякий случай ватные штаны — есть ли хоть на чем стоять-то. «Куколка ты моя, — приговаривал, — куды ж тебя без бабушки в тыл врага пустили». А ее тошнило, и она содрогалась вся, и желудок, видать, был пуст — плевки одни. Понятно, сообразил, в кассете болталась, часа два под брюхом самолета — не курорт. Тут подбежала Сильва, обняла ее, и «мамин» подкидыш всхлипнул.
Тучин поторапливал, решал скоро: «Нужен сторож. Кто желающий? Ты, Коля, желающий. Держи, — сунул Гринину пистолет. До утра стой. Как бабы взойдут на горизонте… Подсоби им грузиться. Да сено так наложи, чтобы сзади волочилось. А лошадь по лыжне пусти».
Около пяти утра вышли с грузом к бане. В деревне тихо, сонно, приступил к утренней поверке грининский петух, да не откликались дворы.
Ждали Гайдина. Он пришел без лыж, без мешка, тяжело загребал ногами.
— Что случилось? Где консервы? — насел Горбачев.
— Не мог… бросил.
— Где бросил?
— Там, — махнул рукой, — скрутило меня, братцы, начисто…
Тучин выругался, схватил лыжи, но, видно, передумал идти на рассвет.
Поди знай, где найдешь, где потеряешь.
3
Коля Гринин сооружал пристанище. В недобранном тучинском стоге дорылся до подстилки и там, где шалашом расходятся подпорки стожара, ногами, спиной растолкал себе прелый уют. Все ему было приятно в эту ночь — и тучинские слова: «Кто желающий? Ты, Коля, желающий», и пистолет системы ТТ, который впервые так надолго попал в его руки. Уж он крутил его, вертел, радуясь спокойной тяжести безотказной стали, и храбрым себя чувствовал до невозможности. Изредка он высовывал голову и прослушивал тишину, но ни единого чуждого природе звука в тишине этой не было. Потом вдруг приутихла метель, холодный воздух стал недвижен, заклубилось паром дыхание, и он понял, что подоспел рассвет. На холмистом горизонте за Сюрьгой творилось что-то спешное — там выключились звезды, побелел, раздвинулся небосклон, словно кто-то стремительно надувал этот гигантский воздушный шар, и он тончал, напряженно алел — минута, и под напором молодого света разлетится вдребезги ночь, и обрушится на землю клочьями теней. И родится день.
За темным холмом Сюрьги что-то прорвалось. Озолотился сверху стожар, над кромкой далекого горизонта показалась раскаленная каска солнца.
А к стогу шел человек. На широких лыжах, без палок. Другая пара лыж под мышкой — разъехалась ножницами. На плече — вещмешок, грузный, видать: скособочило мужика. Шел по-собачьи азартно, толкая перед собой гигантский клин тени.
Коля от неожиданности осел и выставил вверх пистолет. Его трясло. Мушка гуляла по облакам. Приподнявшись, увидел на спине мешок Гайдина с коричневой заплаткой, но мужик был кто угодно, только не Гайдин… Мужик разбросал копну, под которой продукты, и быстро-быстро, словно сеть вытягивал, выгребал к ногам парашютные купола… И уже минуту спустя во весь дух, озираясь, бросился прочь, в сторону Тихоништы…
Коля кубарем слетел со стога, рванулся вдогонку, но снег был глубок.
— Стой, гад, стой, стрелять буду! Стой! — кричал чуть не плача, а мужика уже подхватил, унес тянучий угор.
Выхватил из-под сена лыжи, рванул фуфайку — пуговицы в снег. Задыхаясь, свежей еще лыжней бросился к дому Тучина.
У дверей подогнулись ноги, он уцепился за кольцо и загрохотал, отбивая костяшки пальцев. Дверь распахнулась, и он рухнул в коридор. Однорукий Тучин вскинул его, как сноп. Молча выслушал, одетый, будто ждал, что так случится. Молча протянул руку, и Коля зачем-то пожал ее.
— Дура, пистолет давай. Горбачева предупреди, скажи, мол, Тучин наперерез догонять пошел…
Глава 12
…Одновременно с разработкой планов по Прибалтике в начале июня в Генеральном штабе рассматривался план Свирско-Петрозаводской операции Карельского фронта. Нужно было разрушить узел, который приковал к себе значительные силы наших войск. Решение этой задачи ускоряло выход из войны Финляндии и, несомненно, способствовало успеху наших войск в Прибалтике.
Генерал армии С. М. Штеменко.
Направляясь в Москву, я захватил с собой рельефную карту Ладожско-Онежского перешейка, и в ставке, оперируя данными разведки о силах противника, начал показывать, как трудно там будет действовать войскам. И. В. Сталин не любил, когда ему говорили, что враг станет поступать так-то и так-то. Нередко он при этом иронически спрашивал: «А вы откуда знаете? Вас противник персонально информирует?»
Командующий войсками северных направлений Маршал Советского Союза К. А. Мерецков.1
Свирь дремала в тиши снегов. Ее враждующие берега, казалось, потеряли друг к другу интерес — от Онежского обводного канала до Новоладожского без нужды лежал мощный ледяной напай. Лишь изредка с сухим шелестом ворошили небо снаряды, и дыбились тогда фонтаны льда у плотины гидроузла Свирь-3. Шла пристрелка шандорной стенки — нашим не давали покоя 125 миллионов кубометров зажатой ею воды, и не зря: стоило финнам открыть затвор, и любая атака в этой прорве воды захлебнулась бы.
Приутих и непоседливый прежде Оштинский плацдарм. Затишью на Свири стоять до наступления весны. Это произойдет в трехлетнюю годовщину войны, в ее 1100-й день. Берега, на которых три года крепились армии генерал-лейтенанта Крутикова и генерал-майора Свенсона, займутся огненными вспышками выстрелов и черно-серыми букетами разрывов. На Часовенной Горе — меж холмов Олонецкой гряды — в штабе временного полевого управления фронта маршал Мерецков с грустью произнесет: «Как я радовался в 1941 году, что река Свирь такая широкая, и как я сетую на то же в 1944 году…» А ниже гидроузла саперы наведут два моста, и бросятся в воду около двухсот амфибий, и загромыхают по свирским паромам советские танки. Бой, после которого Свенсон оставит на чужой земле тысячи своих солдат. И Москва отсалютует Карельскому фронту залпом из 224 орудий. И победа пойдет гулять по болотам и перелескам Присвирья, по межозерным дефиле, бараньим лбам и курчавым скалам Карелии, за 39-й меридиан — через трупы 20-й немецкой лапландской армии и егерских дивизий «Герои Нарвика» и «Герои Крита» — к родным туманам Гольфстрима на атлантической кромке континента.
Весь этот путь пройдет с армией Сережа Бутылкин — Кандалакша, Алакуртти, Кулаярви, соленая вода Ледовитого.
Все это потом — с наступлением весны, с весенним наступлением…
2
Сережа Бутылкин рисовал зимнюю Свирь. Был выходной, и за спиной уже час с лишним торчал сержант по прозвищу «Красный сапог» — в коричневом полушубке с поднятым воротником, в рыжей лисьей шапке, в ржаво-красных лыжных пьексах. Заказчик.
В кабинете начальника полицейского участка Пролетарского района Вознесенья не зря висел трофейный Куинджи: «Красный сапог», он же сержант Парккинен, был неравнодушен к живописи.
Застал однажды у этюдника, долго охаживал почти законченную картину, бил стеком по голенищу пьексов, приседал, чмокал. Повернул конопатое лицо: «Это и есть для генерала Свенсона?» «Оно и есть», — соврал как следует.
— Слушай, а ты не мог бы сделать такую же мне? С этой же точки, только с лошадью на переднем плане?…
И вот за спиной изредка поскрипывает фляжная пробка, затем доносится бульканье — словно где-то далеко на Свири бабы полощут в проруби белье. Потом фляга дружелюбно нависает над Сережкиным плечом.
— Не-е, — шепотом говорит Сережка, — искусство этого не любит. — Пятится, оттесняет полицию в снег, смотрит на холст из-под красной руки, скручивает большой и указательный пальцы баранкой, щурится в дырочку на картину — так когда-то смотрел этюды преподаватель рисования в Кеми, где Сережка три года занимался в изостудии. И Парккинен делает то же. Видно, фокус его потряс: картина отдаляется, и все кажется в ней подлинным — утонувшее в снегах Вознесенье, дуга моста над Свирью и колокольня слева от моста, белые дома комендатуры, белые сопки в окружении леса у деревушки Белая Церковь.
— Лошадь сегодня же поставим.
— Не успеем, господин сержант. Сиена жженая, рыжий цвет, то есть, требует хорошего освещения.
Парккинен ушел, и Сережка вздохнул с облегчением. Полотно ему нравилось. Ухватил-таки неуловимую грань дня и сумрака, ухватил и морозное молчание, наполненное какой-то сдержанной силой ожидания — чего, он и сам не знал. Было жаль, что все это подомнет под себя, вытопчет рыжая кобыла, которая тут ни к селу ни к городу. Жаль, но ведь не к шедевру и стремился. О своей работе он мог бы сказать словами Гоголя:
«…Во всем была эта плывучая округлость линий, заключенная в природе, которую видит только один глаз художника-создателя и которая выходит углами у копииста».
Он и был копиист. Хотя бы потому, что между холстом и окантованной рейками фанерой лежала копировальная бумага. А под копировкой — калька. Правда, калькой ее не назовешь — и в отхожих местах она висит, и лошадям финны ее мелют как добавку к овсяной муке. Чуть потолще папиросной бумаги — в самый раз.
Так лихо совпали заказы: начальнику участка военной полиции — пейзаж, Тучину — схема оборонных сооружений. Одному — «плывучую округлость линий», другому — линии траншей; одному — мазком, другому — черенком… Рисовал да похваливал себя словами Феди Реполачева: «Молодец, Бутылкин, если бы ты рисовать бросил, из тебя бы, может, человек вышел».
Оборона шла к Свири вдоль Онежского озера почти от самого Петрозаводска, но там, на Онежском побережье, говорил Тучин, вся малина собрана, пошарь, велел, начиная от мыса правее по реке, да лукошко, наказывал, не разевай… Положительный мужик Тучин, но зачем же, спрашивается, учить хорошим манерам начальника Вознесенской разведки.
Черенок кисти ткнулся в мыс, очертил и заштриховал кружок. Дот типа «вепсский замок». Строго на восток, от натянутой, как тетива, линии мыса, стрелой легла полоска зимника — уперлась в большак Петрозаводск — Ленинград. Метрах в пятидесяти южнее — сантиметр на холсте — завихляла траншея. Обогнув церковную ограду, за которой продовольственный склад, она пошла огородами Красного Бора, вожжой легла на круп карандашной еще лошади и устремилась дальше, к Ладоге… Крестик — пулеметное гнездо, галочка — минометное, овал — сферическое железобетонное укрытие. А в Красном Бору еще один кружок — еще один «вепсский замок».
Было с этими «замками» возни. Строил их спецбат, к выемке скального грунта, к бетономешалкам и камнедробилкам допускались только финны. Сережку, подвозившего на лошади машинный прицеп полевой кухни, останавливали метров за триста. Подходили пять-шесть финнов, впрягались и волокли на сопку прицеп с баландой. Навязывался в помощники, но каждый раз часовой дулом, как ломиком, молча отковыривал его от повозки.
Однако ключ от «замков» нашелся. Предложил его не кто иной, как мастер оборонных работ Эйно Корренпяя, тот самый «сын фабричной девушки» из города Форса.
Вести с Эйно душевные разговоры было поручено подпольщице Дусе Силиной.
— Не хотите ли вы жить в СССР? — спросила его Однажды Дуся.
— Нет. Вот кончится война, и я буду нужнее в Суоми, чем в СССР.
Корренпяя чем только мог помогал подполью: то и дело кто-то, по поручению Дуси, таскал из условленного места свертки. Наконец произошло и самое нужное — вместе с Корренпяя Дуся проникла в «вепсский замок»[21]. Она пробыла там недолго, но то, что от нее требовали, выяснила. Только и просили-то сектор обстрела, остальное она все равно не поняла бы, много ли с нее возьмешь — девчонка.
Подробное описание «замка» на мысе Онежского озера дал Сергей Матвеев из Матвеевой Сельги — вместе с другими он пробивал туда зимник. Потом и сам Сережка протиснулся с прицепом: нельзя же вечно отпихивать человека, который кормит! Весь обед лазал в сырой темноте, чиркал спички, запоминал.
«Вепсский замок» был трехэтажным, а снаружи и не разберешь — скала скалой. Нижний этаж похож на пещеру, тут укрытие для персонала, боеприпасы. Выше — узкий лаз в пять ступенек — пушечный зал. Короткие гаубичные стволы — веером, для каждого своя амбразура, за выступом скалы не торчат. Еще выше — наблюдательный пункт. Сама макушка сопки прикрыта круглым диском из брони, метра полтора в диаметре. Диск поднимается и опускается ручной червячной передачей. На время бомбежки все это сооружение закрывается наглухо.
В общем «замочки» еще те. Похоже, что Финляндия устроилась стоять тут вечно — недаром ведь швырнула на Свирь полкошелька. Только, по мнению Сережки, денежки эти плакали. Вот он имущество ихнее опишет, и оно пойдет с молотка как миленькое, будет пионерам хлопот — железки собирать.
Пролетел самолет. Бухнули за Калешкой зенитки. Видно, тучу тряхануло, и просыпался снег. Сережка замазал кистью дорожки, оставленные черенком, сложил этюдник. Потащил многодневные свои труды домой.
Он не мог бы упрекнуть себя, что взялся за сложные композиции, не имея солидного этюдного багажа. Заготовок было достаточно. Еще летом не раз спускался на двух бревнах вниз по Свири, видел концы и начала траншей, ниши дзотов. Ребята, разбросанные по всем участкам обороны, дополнили картину деталями.
Художник и бухгалтер, он нес под мышкой свирскую оборонительную полосу тридцатикилометровой глубины: тридцать пулеметных и минометных точек, семьдесят стрелковых ячеек, девять дзотов и семь бронеколпаков — на километр фронта. Милитаристская палитра «Великой Финляндии», которую мало чему научила линия Маннергейма.
Из рассказа Сергея Васильевича Бутылкина:
Наша тройка обсудила карту. Карта вышла размером в стол. Решали, кому идти. До Горнего Шелтозера шестьдесят с лишним километров. Накануне был у Тучина Бальбин, сообщил, что есть ценные сведения по Свири. Горбачев картой заинтересовался, предложил вместе с картой переправить на Большую землю и ее составителя.
Ребята собирали меня в дорогу. Дали финские солдатские ботинки, китель финский без погон — старье. Карту скатали в комочек и сунули в большой палец рукавиц. Рукавицы сыромятные, рабочие, чуть что — взял да выбросил.
Вышел часов в восемь, когда покрепче стемнело. Раздетый, без шапки, чтобы подозрений не вызывать. Знали только Ефим и Федор. Ищу попутную. Шоферы-финны молодцы, проголосуешь — берут, если, конечно, место есть. Сел в кузов, доехал до Шелтозера, а в кармане — ничего, даже отпускного свидетельства.
Из Шелтозера двинулся пешком в Залесье — дорогой, что мимо Калинострова, в обход Залесского озера. Пурга, волосье на мне колом стоит — хоть рога делай… В Залесье взял у Алексея Николаева лыжи, погнал через озеро, вдоль берега, прямо к Тучину. Было, наверно, около часа ночи, в окошке огонек горит. Стучу: один длинный, три коротких (у них кольцо на двери). Выходит. Ведет в дом. Свет только в комнате горит. Стол клеенкой накрыт. За столом финский офицер сидит, в чине лейтенанта. Рукавицу бросаю на печку. Вхожу. Мокрый.
— Как дела? — спрашивает лейтенант.
— Нормально, — говорить-то нечего. Тогда он достает из-под стола двухлитровый графин, наливает тонкий стакан браги. Отказался: «Не пью, не курю». Он выпил сам. Надел шапку, крепко пожал руку мне, Марии тоже. Тучин вышел его проводить. Я глянул в окно. Лошадь была за домом, белая, серыми пятнами. Полозья заскрипели, выл ветер, метель шла.
Вернулся Тучин и засмеялся.
— Серега, это наш парень. Как приехал?
Молчу. Чего-то слова не лезут. Принес, говорю, все, что надо, найди на печке… Удивился, полез. Сразу достал — хитрый.
— Лезь теперь сам на печку. Сохни.
— Некогда сохнуть, к утру на работу.
Тучин выпотрошил рукавицу, схему — на стол. Разгладил.
— Знакомь!
— Дай ножик.
Условные знаки к схеме были зашиты в рюшку, на которой ремень держится. Оттянул пояс — брюки-то, вернее, галифе финские, были на любого заготовлены, кто поедет, а мне великоваты. Вырезал. А Тучин на расшифровку глянул и отложил: «Не надо этого». Принес карту, и мы до пяти утра переносили схему.
— Горбачев собирается уходить, — сказал в конце Тучин. — Хотели и тебя с ним отправить. Но раз ты такую карту отгрохал, нечего тебе там, на Большой земле делать. Со мной оставайся.
Обратно я тащил большой вещмешок с коричневой заплатой. А в вещмешке — семизарядный тульский наган, гранаты, листовки, свежие газеты «Тотуус» и «Ленинское знамя».
Глава 13
Это была очень милая беседа: за одним столом генерал-майор Свенсон, Тучин и я.
Д. Горбачев.1
Обострилась болезнь, Горбачев торопил Центр с выходом. В эфир снова пошел сигнал бедствия:
«10-1-44: 15-00, Власову. Тяжело болен, предпосылок на поправку нет. Примите все меры посадить самолет на Пет-ярви».
Часами лежал навзничь, смотрел на паутину. Паука трогать не велел: «Пускай живет».
Тучину сказал:
— Ты, Митя, вот чего… Ты в предбаннике пол подыми… там сухо будет, и чего надо сделай. Временно, конечно… Деть-то меня некуда. А уж после войны — там честь по чести, как положено… Мне, Митя, из этой штуки не выпутаться.
— Дура ты дура! — только и нашел что сказать Тучин, с трудом сообразив, о чем речь. Где-то раздобыл нутряного сала, Маша его растопила, и Горбачев перешел на знахарскую диету: рюмка спирта, кружка топленого молока с салом. В спирте нехватки не было — с последним грузом выбросили его 70 кг в гибких американских банках, по 2800 г. каждая. Зачем, спрашивается, столько-то?
Он жил в каком-то вялом полузабытье, и естественные, как само продолжение жизни, события становились все менее доступными его пониманию.
Катя Насонова привезла шифровку, в которой ей предписывалось сменить в подполье Сильву. От себя добавила, что Сильву Центр намерен перебросить в Норвегию. Ночью, дежуря у его постели, Сильва подняла Павла. Молча примостились рядом — Павел на перевернутой корзине, Сильва на краешке сундука.
— Не бойтесь, живой, — улыбнулся Горбачев.
Павел:
— Мы не о том, Дмитрий Егорович. Мы вас ни в чем таком не подозреваем. Мы по личному делу. Мы вот, Дмитрий Егорович, хотим стать мужем и женой… Ну вот… Поэтому не могли бы вы похлопотать, что, если в Норвегию, то вместе?..
Катю Насонову, ни с того ни с сего, вдруг повело тошнить. Призналась, что перед самой выброской вышла замуж, и вот, говорит, извините, Дмитрий Егорович, немножко беременна.
Промолчал. Отметил, что и бабы-то его стесняться перестали. Поделился с Тучиным — скалится. Есть же, говорит, сыновья у полков. А теперь будет сын подпольного райкома. Мишкой назовем, в честь Асанова. Крестным будешь…
Угасал вокруг мир. Как много, выходит, держится в людях на завтрашнем дне, где в такой счастливой отдаленности ютятся всё оправдывающие, всё смягчающие человеческие надежды.
Сильно волновал его Тучин. Беспомощный Горбачев уже не верил, что нервы могут служить без износа. Ждал срыва. А Тучин говорил успокоительно: «Ничего, Митя. Рвется там, где тонко».
Тучину присвоили звание вянрикки — прапорщик. Из Хельсинки пришла телеграмма:
«Приветствую тебя первым шагом на пути генеральским погонам. Карл Маннергейм».
— Видал? А ты говоришь, — грустно дурачился Тучин. — Выходим из народа. Растем, да все не в ту сторону. Ах, Карл Густав Эмиль Маннергейм, подведешь ты меня под трибунал!..
Сержанту Саастомойнену, ставшему вдруг чином ниже старосты, ничего не оставалось, как устроить торжественный прием. Ситуация явно забавляла Тучина. «Вари, Маша, щи, за лавровым листом пошел».
Во время приема комендант уязвленно искал на ноге старосты больную мозоль. И нашел, наступил:
— Я вот все думаю, господин вянрикки, глядя на ваши успехи… Все думаю, какими же наградами и чинами увешают вас большевики? Как считаете — увешают? Или вы намерены удрать вместе с нами?.. Ну, хорошо, Удрали, а… а в Хельсинки… в Хельсинки, представьте, советские танки… а в президентском дворце заседает НКВД!
И пьяный хохот в лицо. А Тучин этого в любой ситуации не терпел. Брызнули осколки комендантских очков, и Саастомойнен распластался на полу — как с потолка упал.
— Извините, господа, этот человек — паникер, пораженец, трус. Я предлагаю тост за мужество, которое неподвластно обстоятельствам.
Подошел лейтенант Матти Канто, только что прибывший из учебного отдела Главной Ставки, лысый, трезвый, независимый. С чувством пожал руку:
— Я всегда считал, что Маннергейм может ошибиться в военной политике, но в людях — никогда!
…Выросла в подполье любовь, и Горбачев устало изумился силе молодости. Приникала к куску заиндевелого стекла Катя Насонова и жадным ртом ловила струю свежего воздуха… Как быть тебе с Норвегией, с беременной парашютисткой, с пеленгатором в Погосте и картой Бутылкина, с непостижимой тучинской игрой? Как быть тебе, Горбачев, с жизнью и смертью, когда жить не получается и умирать практически нельзя?
2
В ночь на 15 января он впервые толком спал. Видел молодые сны — вот бывают такие, что прокручиваются, как старые фильмы, раз десять за жизнь, — от них осталась бодрость. Утром включился в дело. Раскладывал по адресам сброшенные газеты: Петрозаводск, Вознесенье, Шелтозеро, Матвеева Сельга, Залесье, Рыбрека, Шокша, Ропручей, — когда вдруг нажали снаружи на дверцу хлева, и в доску, в стояк, чувствуется, со звоном пошел гвоздь. Потом еще и еще.
— Перепись! — тучинский голос. И стало тихо. Схватились за автоматы. Горбачев сорвал с крюка винтовку Миши Асанова — без глушителя. «Ну вот, потерял глушитель, потом бумажник, а теперь, по-видимости, голову терять», — Миша все умел, предсказать свою гибель — в том числе.
Шлепнулась в дверь ладонь: «Не суетись, я рядом…»
Шаги. Голос Маши…
— У хозяина-то на работу уйдено. А вы не стесняйтеся… Вот лошадь Машка, она с Грининым напополам купленная… Да вы не бойтесь, не бойтесь, она и спереду и сзади смирнехонька, хвостом махнуть — и то оборотится. А и назвать-то ее хотела Нейчут[22], да хозяин по мне назвал. — Маша хихикнула по поводу этой мужниной слабости да и пошла без передыху — только голос крошится в беспечном бабьем довольстве. — А вы ступайте посюда, а не то замараетесь… Вон и коровушка наша.
— Entä tuon oven takana?[23] — вопрос деловой, придирчивым баском.
Горбачев предостерегающе поднял руку. Перед ним был только Павел, но Павлу и сигнал ни к чему. Спина горбом, правая рука назад, и автоматное дуло в ней — как топорище. Сильва накрыла фуфайкой рацию. Гайдин затушил подушкой окно. Темно. Лишь слева, над восьмым бревном (считано-пересчитано), там, где до потолка не хватало венца, пробирался из коровника свет.
— Что за этой дверью? — повторил вопрос женский голос, на корявом вепсском, а Маша будто и не понимала по-фински.
— За этой-то? Дак летник там. Ярочек по весне содержали. А как у зимы прийдено было, хозяин и загвоздил. Холодина, говорит, оттуда погребная метет. Загвоздил и соломой заставил, — пускай пусто мерзнет. Эва, помещения-то — танцуй не хочу!
О чем-то совещались басок и женская скороговорка — не разобрать. У Горбачева подкосились ноги, осел, В ушах гудит, будто с колокольни слез. Издалека-издалека услышал Машу: «Не желаете ли чайку с устатку, господин Тикканен?»… Значит, сам агроном. А бабенка, видать, из «Лотты свярд», учительница.
Скрипнули в сенях половицы. Шаги пересчитали ступеньки лестницы, ведущей в дом, и затихли. В запасном люке, прорубленном из хлева на сеновал, показалась голова Тучина:
— Ну как, овцы целы? — и пистолетом сдвинул на затылок шапку.
3
— Саастомойнена придется увольнять, — рассуждал во время обеда Тучин. Это он, скотина, ко мне переписчиков подослал. Был сейчас в комендатуре. Говорю: ты превысил власть, так тебя и еще раз так. А он — лоб перевязан — мне разбитые очки под нос. Ничего, ничего, говорит, я и без очков кое-что вижу. Скоро, говорит, кое с кого эполеты полетят… Понятно, отвечаю, свинье всегда хочется, чтобы с дерева желуди падали. На том и расстались.
Они сидели на кухне. Девочек Маша увела в комнату — Горбачева им не показывали. Он выпил положенную ему рюмку спирта — «капли дяди Сэма» терзали нутро, но он знал: еще минута, и молоко с салом наведут в желудке тихий час, станет работоспособным мозг, будут силы.
— Наживать врагов в твоем положении — роскошь, — миролюбиво говорил Горбачев. — Поэтому не могу приветствовать такой драки… ни в порядке самозащиты, ни под видом борьбы с пораженцами. Понятно, ходить с ним в собутыльниках горько, но не слаще и враждовать…
Еще не известно, что ты выиграл, что потерял. Тучин упрямо мотнул головой:
— Мы с ним так долго локоть к локтю шли, плечо к плечу, что оба протерлись, как говорится, до дыр. Однажды он, дай бог памяти, уже сказал, что видит под моей гимнастеркой со штампом «SA» русскую армейскую косоворотку. Это уже много… Ты пойми, чем опасен алкоголик: язык у него пьян, да ум трезв. А ты с ним расслабляешься, сторож твой кемарит. Ты распахнулся, а он тебе палец в грудь, родимые пятна щупает… Я решил от него избавиться, — твердо заключил Тучин.
— Каким способом?
— Не очень красивым, но испытанным во все века и в недавние времена — тоже. — Брякнул об стол эмалированную кружку с красным гусем. — Донос, — сказал просто. — Обыкновенный донос.
— Что ты можешь выставить против него?
— Достаточно… С точки зрения официальной финской политики в оккупированной Карелии он — не герой. Пьяница, развратник, «вечное финляндско-германское боевое содружество» поносит, идею финско-карело-вепсского братства, дай бог памяти… дискредитирует.
Тучин вскочил, руку закачал, и кивала в такт лобастая голова. Поговорить любил, да и умел признаться. Перещеголять Тучина — кишку надорвать.
— Пока вы тут, я таким макаром двух старост снял, — сообщил весело. — Из Залесья вылетел Егор Беззубиков. Из Горнего Шелтозера переведен в Ропручей Иван Явгинен. А на их место прошли по моей рекомендации свои ребята — Саша Егоров, друг Леши Николаева, и Аким Осеев… Видишь ли, Митя, местное население нельзя обижать. Таковы правила игры. А если учесть, что Финляндия уже сейчас ставит в прежние ямы пограничные столбы — не трогайте, мол, нас, а фронт-то еще вон где!.. если у нас намечается опрос населения, с кем и где оно хочет жить — в Финляндии или «под игом большевиков», — можешь себе представить, с какой скоростью полетит Саастомойнен.
Что оставалось сказать Горбачеву?
— Один улетит. С такой же скоростью прилетит другой. Азбука любого террора.
А Тучин, казалось, только этого и ждал. Откинулся, лицо загадочное — мальчишка, у которого в карманах всякой всячины.
Ответить, спросить — ничего Горбачев не успел. Послышался рокот машин. Задребезжали стекла. Горбачев бросился к окну, откинул занавеску. — Легковушка и два крытых грузовика с солдатами. Заметался из угла в угол.
— Сядь! — сипло приказал Тучин. — Схватил чайник, бултыхнул в кружку кофе. — Пей!
Подошел к окну. Из легковушки выскочил офицер и бегом направился к дому.
Галка спала. На Светкину головенку Маша торопливо накинула платок, сунула ее в пальтишко, на руках вытащила в сени.
В дверях встал навытяжку подтянутый лейтенант. Воздуху, видать, еще в коридоре набрал:
— Командующий Свирской армией генерал-майор Свенсон желает нанести визит господину Пильвехинену!
— Прошу, — церемонно сказал Тучин. — Передайте, что я рад визиту генерала.
Было видно, как накренилась машина. Генерал тяжело ступил в снег, в руке перчатки. Солдаты оставались в кузовах.
Он был высок. Фуражка обнажила коротко стриженную квадратную голову, чуть наклоненную набок. Лобастый Тучин сунулся в распахнутые объятия, по спине барабанили генеральские ладони. Вынырнул, оправил волосы:
— Раздевайтесь, господин генерал. Мой дом — ваш дом.
— Вижу, я не забыт, а? — голос у Свенсона сильный: под ладонью Горбачева вибрировал стол.
— Ну что вы! Я человек злопамятный, господин генерал, — рассмеялся Тучин. — Президентский дворец, прием у господина Рюти. И вы — мой сосед за столом. Вы напоили меня в стельку, и у меня хватило наглости просить президента подписать меня на журнал «Суомен кувалехти».
— Хо-хо!
— И я до сих пор плохо сплю.
— Хо-хо! А журнал?
— Ходит! Регулярно и, главное, бесплатно…
Адъютант принял генеральскую шинель. Свенсон осмотрелся.
— Знакомьтесь, — сказал Тучин. — Мой друг, мастер оборонных работ на Онежском озере.
— Рад проявлению патриотических чувств, — Свенсон пожал Горбачеву руку.
— Моя жена.
— О, я именно такой вас и представлял, — буркнул галантный Свенсон и грузно плюхнулся на скамейку…
Из рассказа Д. Горбачева:
Стол стоял у окна справа. Сели так: Дмитрий — у передней стены, за самоваром. Рядом лейтенант, в углу — шофер. Мария слева, Свенсон — по правую руку, а я у самого выхода… На мне был темно-синий костюм, кавалерийскую куртку успел швырнуть на печку. В карманах два пистолета «ТТ» и наган, две гранаты. Все старался поглубже сунуться под стол.
Вдруг Свенсон что-то сказал. Лейтенант подпрыгнул, шофер выскочил. Я — руку в карман… Шофер вернулся с семисотграммовой бутылкой. Лейтенант разрезал шоколадную конфетку — тоненько, как спичек настрогал. Открыл бутылку, вытер ее полотенцем и подал генералу. Тот взял из горлышка и протянул бутылку Дмитрию. Дмитрий — шоферу, шофер — адъютанту, адъютант — мне. Мария отказалась. Пока беседовали, бутылка трижды обошла круг… Вдруг Свенсон спросил, что у Дмитрия с рукой. Я всегда считал Тучина предельно находчивым человеком, но на этот раз он поразил меня хорошо рассчитанной прямотой…»
— В финскую войну, господин генерал, я имел неосторожность воевать против вас, — отвечал Тучин. — Так что вы сами мне руку и продырявили…
— Хо-хо! — Свенсон приканчивал вторую тарелку рыжиков.
— …Но мне всегда везло чуть-чуть больше других, господин генерал, — под Сортавалой легла почти вся наша восемнадцатая дивизия.
— Как? — вскочил Свенсон. — Стало быть, это вы мне чуть голову не снесли? — Повернулся спиной, и все увидели на его шее уродливые шрамы. — Это же я, черт побери, я брал в окружение вашу восемнадцатую дивизию!..
Бутылка снова пошла по кругу — «за боевую дружбу».
Свенсон был доволен. Видимо, Тучин напомнил ему его первую и последнюю ратную удачу. Он безвылазно провел за столом четыре часа. Горбачеву как мастеру оборонных работ пришлось на ломаном финском подробно рассказать о прибрежных укреплениях. Наверное, лучшего знатока Свенсон не встречал и в своей армейской разведке.
— Да-да, — кивал Свенсон квадратной головой. — Мы с такой энергией лезем под землю, будто хотим там остаться навсегда.
Прощаясь добавил:
— Через два дня, господа, я буду в Хельсинки. Скажу честно: предпочел бы не возвращаться, но — к счастью или несчастью — мы еще встретимся…
Когда снова зарокотали машины, Горбачев пластом лежал на скамье. Он выдержал все, что было нужно, но не больше.
4
«Начальнику Управления Восточной Карелии от старосты Горне-Шелтозерской местности Д. Тучина-Пильвехинена.
Господин генерал-майор! Озабоченный дальнейшим укреплением доверия карельского и вепсского народов к освободительным финским войскам и финскому народу, вынужден доложить Вам о недостойном поведении коменданта Горне-Шелтозерской местности сержанта Вели Саастомойнена. Систематическое пьянство, разврат, неуважительные высказывания в адрес нашего великого союзника, паникерские настроения, которые я неоднократно вынужден был пресекать, — все делает фигуру Саастомойнена нежелательной в управленческом аппарате Восточной Карелии.
Прошу Вас, господин генерал-майор, обратить самое серьезное внимание на моральное и политическое состояние нижнего звена Управления. Время требует не только железной твердости, но и большого такта. На мой взгляд, одним из тех, кто мог бы сейчас повести за собой вепсское население, является прибывший к нам из учебного отдела Главной Ставки лейтенант Матти Канто. Непреклонная воля, убежденность и ораторский дар, присущие ему, — надежная гарантия того, что вепсский народ в любых испытаниях останется верным знамени Маннергейма.
Искренне преданный Вам Дмитрий Пильвехинен, кавалер медали Свободы I степени, прапорщик».
Тучин отложил ручку. Встал. Открыл форточку. Пустил в нее табачную струю, но дым лез обратно, и тогда он осторожно вышел на крыльцо.
Здесь, среди звезд и тишины, не тронутой ни звуком, ни светом, смолил сигарету за сигаретой. Знал, что не уснуть. Ночь по-своему истолкует день — в кошмарном сне явится заросшая морда старика на лыжах с коричневым вещмешком на плече. Потянутся к глазам его дрожащие руки, и сон покажется явью, потому что старик полжизни отдал Рыборецким горным разработкам и перенял трясучку у отбойного вибромолотка. Это про него говорили: «Ложку щей до рта не донесет, а водки и капли не уронит». Повторится все, как запугивал его, чтобы молчал старик о продуктах и парашютах в стогу, как приволок его, наконец, домой, и отлил бутылку спирта, как сказал: «Проспишься, еще приходи. А язык распустишь — и минуты не проживешь».
И вспомнится невероятная для ночи встреча: разведчик, староста, секретарь подпольного райкома партии и финский генерал-майор.
Глава 14
Держите направление на мыс Муромский. Подойдя к берегу, снимите маскхалаты. Километрах в четырех от берега будут встречать пограничники. Ваш пароль: «Егор идет к Ивану». Отзыв пограничников: «Я — Василий».
Власов.1
Пройдет еще два долгих месяца, прежде чем «Северок» Сильвы Паасо примет этот вызов Большой земли… Календарными листами тех дней лежат в архивных делах радиодепеши. В них — точное время событий.
9/I—44 г., 16 ч. 00 мин.
Власову
В Вознесенье переброшен батальон шюцкоровских войск со всеми видами вооружения. На восточном берегу Свири население эвакуировано в Гумреку.
«Егор».22/I — 15-30
«Егору»
Бои с немецкими захватчиками перенеслись на Север. Советские войска взяли Мгу, Петергоф, Красное Село. Недалек тот день, когда вся мощь советского оружия обрушится на белофинских бандитов. Сообщайте об этом населению, готовьте его к встрече Красной Армии. Смерть фашистским мерзавцам!
Власов.27/I — 16-00
ЦК, Власову
Нами приняты в члены партии Дмитрий Тучин, кандидатами — Алексей Николаев, Николай Гринин, Ефим Лучкин, Михаил Егоров. В комсомол — Ефим Бальбин, Сергей Бутылкин, Федор Реполачев, Степан Тучин, Яков Фофанов, Илья Медведев, Александр Егоров, Петр Бутенев, Мария Пянтукова — всего 21 комсомолец. Фамилии сообщим дополнительно.
«Егор».1/II — 15-15
«Егору»
По метеорологическим условиям самолет может быть снаряжен только в конце месяца. Сообщите самочувствие, примите все меры через Тучина, чтобы получить медицинскую помощь.
Передайте благодарность Тучину за его заботу о вас и содействие. Партия и Советская власть не забудут.
Власов.9/II — 15-40
«Егору»
Сообщите населению: вчера советские самолеты бомбили Хельсинки. Недалек день, когда вся Советская Карелия будет освобождена от фашистских оккупантов.
Власов.15/II — 16-15 Власову
Бросайте 100 пистолетов и деньги — без парашютов, рядом с деревней.
«Егор».Справка
Вместе с грузом для группы тов. Горбачева отправлены на самолете газеты «Ленинское знамя» — специальный номер от 25/I-44 г., 500 штук, от 13 февраля 44 г. — 1500 штук, брошюры — доклад о 26-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции — 26 штук, книга Куусинена «Финляндия без маски» — 8 штук.
9/III — 15-20
Власову
Разрешите от имени ЦК написать воззвание солдатам финского «батальона соплеменников», с которым поддерживаем связь. Основная мысль листовки — бессмысленность сопротивления Финляндии.
«Егор».Москва, ЦК ВКП(б), тов. Шамбергу.
Согласно полученной нами от подпольной партийной организации информации с 1-го по 15-е марта 1944 г.:
Из г. Петрозаводска производится эвакуация финских семей, приехавших из центральной Финляндии. Из прилегающих к г. Петрозаводску районов финны забрали с/хоз. инвентарь и вывезли в Финляндию.
Финны спешно производят дополнительные мероприятия по укреплению побережья Онежского озера. В частности, в первые 15 дней марта на участке Шокшинские разработки, Янигуба, полуостров Брусно они дополнительно завезли и установили 50 артиллерийских орудий. Из района Вознесенья к Петрозаводску осуществляется переброска финских войск.
Секретарь ЦК партии Карело-Финской ССР Г. Куприянов18/III — 15-40
Власову
В ответ на запрос о паспортах. Паспорта у карел и вепсов одинаковые, у русских — особые, у финнов — тоже. В паспорте восемь страниц без корочки. Корочка наподобие старых комсомольских билетов. На первой странице стального цвета номер паспорта — Б-ОУ 7561 (к примеру). На второй странице светло-голубого цвета, в средине — белый квадрат для фотокарточки, районный порядковый номер и печать без номера. Размер печати 3×2 см. В ободке «Itä-Karjalan sotilashallinto»[24] и звездочка. Ширина ободка 6 мм. В середине печати — «Sotapoliisin esikunta»[25]. Подписывает начальник полицейского штаба района, внизу на пятой странице, капитан Лаури Ориспяя.
«Егор».21/III — 15-40
Власову
19 марта финны провели общие собрания с гражданами по вопросу, с кем население хочет жить, — с финнами или с русскими.
«Егор».22/III — 15-10
«Егору»
Передаю сообщение Совинформбюро: «17 марта финское правительство дало по поводу советского заявления о мире отрицательный ответ и тем самым взяло на себя всю ответственность за последствия».
Власов.Из отчета Д. Тучина:
На сходках представители финских властей требовали от населения «свободного волеизлияния». Это была агитация за уход местного населения, в случае заключения перемирия, в Финляндию. На каждую из этих сходок мы послали своих людей. В Залесье — Алексея Николаева, в Шелтозеро — жену Горбачева Анастасию. В Горнем Шелтозере присутствовал сам.
Там одна лишь бабка Лепсинья выскочила, выпятила живот: «Мне русских не надо. Вона я при финнах»… Но тут вышла Праскева Федоровна Засекова:
— С кем жить? Да неужели мы своих мужей на вас променяем! Мы с советской властью жить хотим… Я так скажу… Пускай русские придут сюда, и мой старичок придет, а потом мы посмотрим, как с вами быть…
Высказалась, да с плаксой ко мне подошла:
— Егорыч, что же я, дура, наболтала-то. Арестуют, поди?
— Не арестуют, Праскева Федоровна. Сами напросились.
Николаев рассказывал, что в Залесье никто говорить не решался. Потом пропихался вперед старик — рука к уху приложена — Романов Егор Федорович. Пальцем грозит и говорит:
— Вы нам советскую власть давайте. Больше и разговаривать не о чем. А то, смотрите, сыновья наши придут…
Отпихнули старого, но никто больше не выступил. Так голос Романова и остался решающим.
В Шелтозере собрание проходило в воскресенье. К двум часам в школу согнали 350 человек. Анастасия Горбачева рассказывала: выступил начальник районного штаба полиции Лаури Ориспяя. Он сообщил, что Советский Союз опубликовал условия перемирия, и назвал их несправедливыми. Затем он призвал население выразить желание добровольно поехать в Финляндию.
— Какие есть вопросы?.. Что молчите? Не бойтесь. Ваши выступления мы не покажем ни Сталину, ни Маннергейму, ни Гитлеру… Мы знаем, среди вас есть жены коммунистов, которые раньше никогда не работали. А мы вот заставили их работать, и за это они ненавидят нас…
В зале стали посмеиваться. Час прошел, а никто так и не сказал ни слова. Капитан разозлился и махнул рукой: «Подите прочь!..»
Агитация сорвалась. Маленький вепсский народ молчанием проголосовал за Советы. Лейтенант Матти Канто показал мне шведскую газету «Готеборген Постен». Там было написано: «Финны ни на мгновение не почувствовали, что они пришли в роли освободителей, как надеялись многие из них». Он же принес опубликованные в шведской печати отрывки из дневников датского военного корреспондента Херсхольта Гансена, который готовил книгу «По следам войны». «Ничто не произвело такого глубокого впечатления на финских солдат, — писал Гансен, — как то, что народ, который «освобожден» по приказу Маннергейма, знать ничего не желает о финнах»…
30/III — 10-15
«Егору».
Выход разрешается всем, при условии, если Тучин обеспечит с нами регулярную связь. Передайте ему шифр Насоновой. Если Тучин связь не обеспечит, оставьте Насонову.
Выход возможен только по озеру. День выхода сообщите, укажем пароль при встрече на озере.
Власов.30/III — 10-10
Тучину
В дальнейшем Вас будем звать парткличкой «Дмитрий». Этим именем подписывайте Ваши радиограммы.
Власов.2
Из отчета Д. Горбачева:
У нас были серьезные основания считать, что финны догадываются о существовании подпольного райкома партии. К весне 44 года о подполье знало так много людей, что опасения эти не могли быть напрасными. Казалось, терпение судьбы на пределе. Мы чувствовали, что только сковываем энергию Тучина.
Когда было получено разрешение на выход, Тучин подготовил семь пар лыж, палки, маскхалаты. Привели в порядок оружие. Стали ждать плохой погоды.
Я попросил жену — она на дорожных работах — присмотреть полегче выход к озеру. Она сообщила, что лучше всего пробиваться между деревней Коккарево и Сухим Носом — здесь самый короткий пробег от тракта до озера, здесь с берега на тракт возят аварийный лес — дорога, стало быть, не заминирована, сигнальных проводов нет.
30-го марта погода не ухудшилась. Но озеро посинело и местами покрылось водой. Медлить было нельзя: прошлый раз группа не вышла, потому что озеро не замерзло, теперь может не выйти, потому что оно вот-вот вскроется.
— Выходите в субботу, — настаивал Тучин. — В субботу полиция ходит в баню, а потом — кто во что горазд.
Ночь на первое апреля. Переоделись, помылись, побрились. В 21-30, как условились, под окном тихо кашлянул Тучин. Я прошел в дом. За мной по одному пришли все. В доме были моя мать, отец, мать Тучина, сестра Маша, Иван Федорович Гринин. Женщины плакали. У всех на памяти Асанов. Я имел неосторожность сказать: «Не беспокойтесь, если что, живыми из нас никто не сдастся».
— Ваша смерть — наша смерть, — ответил на это Тучин.
Простились. На лыжах пересекли поле и вышли в лес. Спустились к южному краю болота Гладкое. Путь лежал через Залесье. Обогнув деревню, взяли азимут — 60 градусов. Место трудное. Несколько раз пересекали контрольные лыжни, обойти их было невозможно.
К четырем утра достигли тракта Петрозаводск — Вознесенье. Светало. Решили залечь в кустарнике и переждать день. До берега оставалось не больше километра. Был сильный заморозок. Лежать без движения в снегу мучительно.
В десять вечера без лыж перешли тракт и вдруг у самого берега уткнулись в изгородь. Рядом была избушка, видно, НП — провода тянулись. Нырнули в бок и вскоре вышли на берег. Постояли, осмотрелись. Чувствовалось, что каждому страшно сделать первый шаг по бесконечному онежскому льду…
Где-то на пятом километре бега без сил свалились на лед. Кате Насоновой стало плохо. Всем хотелось пить. Принялись долбить лед автоматными очередями. Пробили. Но с берега ударил луч прожектора, в воздух взлетели ракеты. Бросились дальше, к советскому берегу…
Шли всю ночь и весь день 3-го апреля. В шесть часов вечера увидели группу людей с собакой и двумя ручными пулеметами.
— Пароль?
— Егор идет к Ивану.
— Я — Василий. Идемте.
На заставе — баня, чай… Впервые за восемь месяцев мы спокойно спали — на своей советской земле, раздевшись.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
Глава 1
Ответственности после ухода группы прибавилось. Я остался один руководить организацией. Каждую секунду начеку… Не жалко умереть, когда знаешь, что за тобой хорошая опора, может заменить, а жалко тогда, когда знаешь, что дело наполовину сделано, а со смертью совсем заглохнет, да еще сотни невинных людей пострадать могут…
Из записей Д. Тучина.1
Дом опустел, и в нем поселился страх.
Безбожница, революционной закалки мать Софья Михайловна беспричинно терлась в углу с иконами, вздрагивали от беззвучных слов сухие морщинистые щеки.
Маша откровенно таскала плаксу от порога к детской кроватке и обратно. Для нее след Горбачева от дома к озеру — о двух концах: пойдут каратели вперед — брата схватят, назад вернутся — мужу несдобровать. А дети-то причем?
И Тучин, человек грубовато-решительный, пожалуй, впервые терпеливо отнесся и к слабости матери, и к рыданиям жены.
Может потому, что сам чувствовал себя черепахой, перевернутой вниз панцирем. Резкий на мысль и действие, сейчас, когда от него ничего не зависело, он вдруг заподозрил себя в суетливости. Крест-накрест заколотил досками дверь в хлев, как когда-то во время переписи. До самой дороги выскреб лопатой заснеженную тропу. Сунул под крыльцо две лимонки, начинил запасной магазин для ТТ, то и дело выходил на улицу. Выслушивал темноту.
Ночь притворялась дурочкой — тихая, глухонемая. А он ей не верил.
Думал ли он о себе? Думал. Нет, жизнь ценности не утратила. Готовое на все отчаяние не подавило надежд. Да и бывают ли такие ситуации, когда бы человек хоть на секунду смирился с мыслью, что жизнь может продолжаться без него. Человек боится не смерти — боится уйти из жизни. Мир теряет одного человека, но человек теряет целый мир.
Почти год в его руках была жизнь семерых людей, и он разучился думать о себе, пока не пришли эти несколько часов зависимости от других. Привыкший носить свою судьбу, как руку на перевязи, он просто не умел зависеть.
В шестом часу утра спустился к Кодиярви, прошел берегом к дому Ивана Гринина.
Страх — это одиночество. Он понял это, когда увидел в окне настороженные угловатые глаза Ивана Федоровича. Едва стукнул в раму, лохматая голова кивнула налево — иди, мол, к двери.
Не спал старик, комбинезон на всех пуговицах, а потянулся, как девица, которую ни свет ни заря на покос подняли.
— Извини за рань, Иван Федорович. Не на беседу пришел, а дело есть. И не к тебе дело, Иван Федорович.
Старик долго ворчал, умолял пощадить «несовершенное детство» младшего сына, однако Тучин уговорил послать двенадцатилетнего Егорку в Шелтозеро.
Запрягли Машку, бросили в сани охапку сена. Егорка нахлобучил на пшеничную голову шапку, обеими руками поправил ее — жест Чкалова перед взлетом. Накрутил на кисти вожжи, локти в стороны, замер так — весь торжественный, а Иван Федорович отвесил ему подзатыльник: «Сколько раз говорено, — ворчал, — не накручай вожжу. В кувет занесет, из саней вытряхнет. Из саней вытряхнет, и вот результат — поволочет тебя, да об камень, об столб али об какую твердость и шмякнет…» А Егорка и на подзатыльник, и на слова — ноль внимания: приказ давал Тучин, значит, он и командир.
— Посмотри, Егор, не слыхать ли там чего. Есть, Егор, опасение, что полиция схватит советских партизан. Послушай у комендатуры, у магазина, на пристани — тихо ли? К Матвею Лукичу Четверикову заедь, он у чайной живет, поможет. Только он глуховат сильно, ему кричать надо — так оглянись сначала. Дело, брат, государственной тайны касается. А если кто спросит, зачем приехал, скажи папка в ваку[26] послал. Вот деньги, купи чего хочется. Ну, с богом!
Егорка ошпарил вожжей лошадиный бок, и сани скрылись в сумерках.
— Не горюй, — утешал старика, — что рано человека на ноги поднял. Он бы сам не простил тебе, кабы из-за тебя войну проспал. Скоро ей, стерве, конец, а мальчонке на всю жизнь — гордость…
2
Начинался его первый самостоятельный день. Пока шел к Погосту, на ежедневный свой старостин ритуал, впервые почувствовал, как полегчало за спиной. Пройдет, думал, Горбачев, тогда ему сам черт не брат; не пройдет Горбачев, тогда уж как в песне поется: «Повенчай меня, маманя, с домовым»… Время шло, и он все больше становился самим собой. Часики тикали, часики напомнили круговую облаву по пеленгу и кольцо контрольной лыжни. После ухода группы стрелки почти замкнули круг. Тикали часики-то!
Перед Погостом с горы окатило звоном бубенцов: две разряженных тройки. Дай бог памяти, — свадьба. Мелькнуло белобрысое лицо жениха, невеста в фате поверх платка и шубы. Переселенец из-под Ленинграда, офицер тайной полиции Сеня Коскинен вручал свою судьбу лотте-учительнице из Хельсинки. Днем раньше чистокровный финн — начальник земельной управы Юли Виккари вот так же торопливо катил к венцу горнешелтозерскую девчонку.
Во все времена; решил, так: чем ближе опасность, тем больше люди торопятся со свадьбами. Видно, и в самом деле конец ей, стерве…
3
В комендатуре из-за стола Саастомойнена поднялся ему навстречу лейтенант Матти Канто.
— В качестве нового коменданта Горне-Шелтозерской местности рад приветствовать лучшего старосту Восточной Карелии, — Матти давал знать, что не лишен чувства юмора, но фраза казалась заготовленной, и Тучин понял, что его прихода ждали.
Новый комендант был невысок, лыс, с продолговатым и, пожалуй, красивым лицом. Казалось, он из тех людей, кто ничего не нажил, но все имел от роду: уравновешенность, такт, солидность. Интеллигент, одним словом, и не в первом колене. Сам Тучин считал, что растратил за последние годы все, чем наградила его природа, и жестко переоборудовал себя по-походному — выдержка, воля, осторожность, хитрость. Утешал себя: он не сам выбрал этот кипящий котел, в который прыгают Ванькой-дурачком, а вылезают царевичем в звании вянрикки. И все же ему был страшен день, когда он снимет грим, выйдет из роли Пильвехинена, предстанет перед людьми печником Митькой Тучиным. А люди скажут: «Добыл перо — так добывай жар-птицу». А он предстанет перед людьми пустым и усталым. И не будет знать, куда деть нажитое, где найти брошенное.
Матти Канто был первым, в ком он почувствовал не тронутую войной цельность. Он еще не знал, что она, эта цельность, представляет собой, но разве так уж мало говорит нам смутное почтение перед человеком, который враг, но — личность.
— Я не требую присяги на верность, — говорил Матти Канто с хорошо заметным шведским акцентом. — Последнее время присяга держится не крепче бутылочной пробки. Я рассчитываю на добрую человеческую дружбу, которой люди не должны чураться в любых условиях. Поэтому, не скрою, мне грустно, что комендант Саастомойнен не захотел попрощаться с вами.
Тучин счел, что отвечать пока не на что. Матти указал на скамью, присел на угол стола, как бы отказавшись тем самым начинать знакомство на официальной ноге. Протянул пачку сигарет, щелкнул зажигалкой, преподнес огонь — движения простые, ненавязчивые.
— Саастомойнен срочно отозван в распоряжение штаба Управления. Сдавая дела, он уверял меня, что вы… как бы это вам сказать… что вы неблагонадежны. Нет, нет, — Матти предупредительно выставил руку, — мне достаточно высокого мнения о вас начальника штаба полиции Ориспяя. Честно говоря, мне вообще нет до всего этого дела. Но я, очевидно, должен спросить вас, что имел в виду Саастомойнен. Поймите, я не последний, кому он выскажет свои соображения…
Тучин усмехнулся: тикали на стене ходики. Стряхнул в мусорницу пепел — там еще высовывалось из-под бумаги горлышко бутылки Саастомойнена.
— Видите ли, в чем дело, господин лейтенант. Ваш предшественник ушел не по своей воле. Он снят по моей докладной записке, в чем я, извините, почему-то не имею оснований раскаиваться…
Вошел без стука агроном Тикканен, медлительно-мрачный, длиннорукий, с вечно прищуренным левым глазом — будто прицелился однажды, да так и осталось.
— Терве! — буркнул.
Матти встал:
— Извините, господин Пильвехинен… где вы обедаете? Дома? А что если я напрошусь за ваш стол? Так сказать, без регалий и чинов?
— Ради бога, — рассмеялся Тучин. — Перед щами все равны.
— О! Тогда минуточку…
Тикканен интересовался, есть ли какие установки насчет весенней посевной.
— Нету!
— А как же быть?
— Ждать.
— Чего?
— Да уж что-нибудь произойдет. Что-нибудь наверняка произойдет.
— Весна-то уж во всяком случае будет, — хмуро бросил агроном и вышел.
4
— Мой дядя был финским красногвардейцем, осужден на вечную каторгу и только по болезни помилован. Мой отец участвовал в красном походе интернациональной бригады Тойво Антикайнена на Кимасозеро, его судьба мне неизвестна…
Видно, это были главные козыри в колоде его родни. Но для чего он их вытащил? На каком основании, с какой целью раскрыл? Что он понял, какое представление вынес о нем, Тучине, из той стычки с Саастомойненом, из прощальной характеристики, что Саастомойнен передал новому коменданту вместе с делами?
Тучин помедлил с ответным ходом. Подлил в стаканы крепленой спиртом браги. Думал: на провокатора не похож, усталое умное лицо, нескладно сидевшая форма полицейского, непривычная и, видимо, тяготившая его. Школы Саастомойнена, заметно, не прошел: пьянеет быстро, по-юношески.
— Считаете ли вы, господин комендант, — спросил, — что Финляндии необходима была эта война?
— К чему столько такта? — нахмурился Матти. — Война проиграна. Чтобы сказать: «Войну не стоило начинать», теперь не надо быть политиком, достаточно быть просто побежденным. Но я не из тех, кто в сорок первом году бил в барабаны. Я считал, что Россию не победить. Да, в ту пору это утверждение было смелым. После Москвы и Сталинграда оно стало банальным.
— Однако же, — упорствовал Тучин, — нам говорят, что отступление германской армии предусмотрено ставкой Гитлера, что это плановое, дай бог памяти, эластичное отступление.
Матти укоризненно покачал головой: зачем, мол, добрый человек, темнить. Он протянул руку к этажерке и вытащил из стопки газет свежий номер «Суомен кувалехти».
— «Союзники все время обнадеживали мир, — читал он, — скорым генеральным наступлением и разгромом Красной Армии, но после летних разочарований никто уже не может верить в боеспособность немецкой армии»… Впрочем, я вижу, это место у вас отчеркнуто ногтем.
— Читал, — рассмеялся Тучин. — У меня, как у всякого недоучки, дикая любознательность.
Матти надолго замолк. Пожалуй, у него были основания считать, что разговор не клеится. Постукивал по коленке пальцами. Тучин укачал руку и, сдвинув тарелки, уложил ее на стол. Вспомнил свою исповедь перед Николаевым. Признания давались ему нелегко: так много угроблено сил на игру и молчание. Но Матти — нужен. Чувствовал, как сжимает лицо бледный холод. Нашел его глаза, сказал просто, без интриги, явно щадя собеседника:
— Что бы вы стали делать, господин комендант… что бы вы стали делать, если бы перед вами сидел коммунист, подпольщик, руководитель активной подрывной работы в пользу своей родины?
— Я бы сказал, что это шутка, — ответил Матти — растерянно, грустно.
— Со смертью не шутят.
— Остроумно, но… нет, я бы не торопился верить… Учитесь у Пильвехинена, — Матти ловко подделал голос Ориспяя, — и вас не постигнет судьба Саастомойнена. За три года ни единой жалобы от народа.
— Очень лестная характеристика, — улыбнулся Тучин. — Узнаю Ориспяя. Спрашивал не раз: «Скажи, Пильвехинен, почему на тебя не жалуются?» Говорю: «Держу народ в руках, господин капитан».
— И это верно.
— Верно. Но эти руки — советские, господин комендант. В этом весь мой передовой опыт, другого нет. И быть не может. Наш маленький народ, господин комендант, неохотно жмет руки людям, которые приходят в его дом с оружием.
Матти Канто встал, склонил голову.
— Благодарю вас за доверие, господин Пильвехинен. Вы смелый человек… Я коммунист. Мой подпольный стаж, очевидно, значительно больше вашего. Чем я могу помочь вам?..
Из записей Д. Тучина:
«Особых поручений я ему не давал. Просил только по возможности информировать о мерах, предпринимаемых военным правительством в связи с наступлением Красной Армии на Карельском перешейке, о передвижении войск и сроках эвакуации, что он мне регулярно сообщал… Потом я у него спросил, можно ли переправить подпольную литературу в Финляндию, на что он сразу не ответил. Но, узнав, что едет на родину товарищ из Ропручья, послал с ним газеты и листовки. Когда у меня кончилось радиопитание, он достал мне один комплект за 1000 марок»…
Однако главная заслуга Матти Канто перед подпольем впереди. Благодаря его предупреждению избежит увоза в Финляндию молодежь Вознесенья. Еще позднее он спасет от облавы созданный в подполье партизанский отряд…
Глава 2
Дмитрий!
Вся группа «Егора» благополучно прибыла на советскую территорию. Благодарим Вас за помощь и представляем к награде.
Власов. 9/IV—44, 13-001
«Добрая весть девять ден идет, плохая в одночасье управится» — старик Гринин как в шифровку смотрел.
За эти дни Егорка дважды гонял в Шелтозеро. Докладывал кратко: в комендатуре тихо, на пристани тихо, у магазина тихо; Матвея Лукича бабка говорит, что в сапожной мастерской офицера ни про каких партизан не разговаривают.
Егорка вошел во вкус:
— Дядя Митя, а вы ценные сведения о зверствах оккупантов принимаете?
— Принимаем, Егор.
— Так вот. Вчерась начальник шелтозерской школы избил палкой семьдесят четыре ученика. Его фамилия лейтенант Хеймо Хейкка. Он напился пьяный и пьяный ходил по классам и кричал, что они, ученики, все коммунисты, и бил палкой. Сведения законные. Один мне две шишки пощупать дал, а другой заголился, Петькой звать, так на ем три раза палкой пройдено.
— Хорошо, Егор, спасибо. Мы обязательно сообщим об этом Красной Армии. А ты, надеюсь, молчать умеешь?
Егорка подцепил ногтем большего пальца верхние зубы, щелкнул, тем же пальцем черкнул по шее — могила…
Ответил Центру только 15 апреля в 15-00:
«ЦК, Власову. Благодарю за заботу. Установил связь с финским «батальоном соплеменников» через Ивана Мартьянова. Дайте конкретные указания по работе с батальоном. Измените время приема на два часа».
Центр: «19/IV—44, 13-00. Дмитрий! Разъясните солдатам батальона бесполезность сопротивления, готовьте переход батальона на советскую сторону. Всем перешедшим мы гарантируем жизнь. Питание по нормам наших войск. Возвращение на родину после окончания войны, при полном разгроме Финляндии, в чем нет никакого сомнения. Оставим в их пользовании все лично принадлежащее им имущество.
Сообщите время и место перехода, безопасность будет гарантирована.
Секретарь ЦК Г. Куприянов».Центру: «25/IV-44, 12-05. ЦК, Власову. Работу с батальоном лично вести не могу. Батальон находится на Карельском перешейке. Указания дал, согласно вашей инструкции, через Ивана».
Тучин шел к своей первой и последней ошибке.
Игра с батальоном началась еще при Горбачеве. Тогда в марте, все выглядело заманчиво. Пришел Николаев, сообщил, что в Залесье приехал сослуживец Мартьянова Петр Г.
— Хвастается, — рассказывал Николаев. — Говорит, на каждый выстрел русских мы отвечаем шестью выстрелами. Батальон стоит на Карельском перешейке, в первом эшелоне и часто вступает в перестрелку… Выпил и признался: «Если русские побьют немцев, всем нам перережут глотки». Я спросил, есть ли еще кто из наших в батальоне. Да вот, говорит, Мартьянов Иван в лейтенанты вышел.
Мартьянов всю войну считался в нетях. Во всяком случае, его жена Маша, Мария Васильевна, тихая добрая женщина, работавшая в шелтозерском магазине и не раз помогавшая подполью продуктами, еще в сорок первом году получила извещение о том, что муж пропал без вести в боях на Балтике.
Оба — и Горбачев и Тучин — хорошо знали его: местный, родился в Низово, работал директором Матвеево-Сельгской школы, до войны еще призван в Красный флот.
— Судьба у него, как у Одиссея, — рассказывал Николаев с давно замеченной завистью к большим биографиям. — Конечно, кривые шаги у него были, но в таких обстоятельствах, что не известно, кто бы из нас ходил прямо: Мартьянов воевал на полустрове Ханко, Красный Гангут держался пять с половиной месяцев, и только в начале декабря свыше двадцати тысяч человек гарнизона были переброшены с оружием в Ленинград. Для прикрытия отхода на базе осталась группа добровольцев и в том числе Мартьянов. А тут все, кто не погиб, попадают в плен. Немцы увозят его в Германию, а там выясняется, что он вепс, и его переправляют в Финляндию… Все это Мартьянов рассказывал Петру под Олонцем… Долгое время он сидел в концлагере, а в сорок третьем году ему предложили вступить в «батальон соплеменников», и он согласился. Теперь давайте разберемся, почему он согласился…
— Хватит, — перебил тогда Тучин. — Ясно, куда клонишь, у тебя, Алексей, что ни мученик, то — герой.
Однако тут же решили с Горбачевым, что ничем не рискуют, если направят на имя Мартьянова воззвание к солдатам батальона.
Через день Тучин передал жене Мартьянова листок бумаги в клеточку. Она запекла его в пирог и отправила Ивану с Петром Г. «Передай, — сказала, — что муки-то у нас нету, а я с трудом достала у Тучина».
«Земляки, карелы, вепсы, сражающиеся в национальном батальоне, — гласила записка, — ваше сопротивление бесполезно. Вспомните, что вы сражаетесь против своих отцов, братьев, сестер. Бросайте оружие! Только этим вы спасете себе жизнь. Мы, партизаны-подпольщики, готовы оказать вам помощь при переходе на сторону Красной Армии».
Через полмесяца Тучину пришло письмо:
«Благодарю за помощь моей семье. 1-го апреля буду в отпуске и смогу лично поблагодарить вас. Мартьянов».
2
Девятого апреля, к обеду, у Тучина появился Алексей Николаев. Девчонки брызгались у рукомойника. Мария у печки в слезах.
— Где ж ты, поросенок, пропадал девять ден?
Весело вытолкал Николаева в сени: считалось, что Маша ничего не видит, ничего не слышит; загреб в однорукую охапку, на ухо: «Вся группа Егора благополучно прибыла на советскую территорию. Наизусть говорю».
Николаев в таких разговорах — горе, не собеседник: ни «ну», ни «ах». Помолчал, сглотнул, да глаза поглупели.
— Мартьянов приехал.
— Радиограмму в час принял. Вся группа, понимаешь, благополучно… Маша, дуреха, ревет, а чего реветь-то — верно? Чего реветь? Да много им, бабам, и надо — верно?
Николаев кивнул:
— Мартьянов приехал.
— Тьфу! — в сердцах сплюнул Тучин. — Пошли, обед стынет…
Мартьянов приглашал в гости к своему родственнику Михаилу Андреевичу Егорову.
Тучин приглашение принял: «Егоров Мартьянову свояк, а нам — свой человек… Ты на коне? Тогда, Алеша, вот что: обскачи-ка десяток дворов на предмет кожсырья и часиков на девять собери ко мне коммунистов, комсомол — по выбору. Дело есть».
3
В семь часов вечера Тучин сидел за семейным столом Егоровых, на коленях полотенце — на двоих с Мартьяновым. Застолица, к которой привык: что ни человек, то оборотень:
— хлебосольный родственник лейтенант финской армии Михаил Андреевич — подпольщик, кандидат в члены партии;
— сын его Саша — комсомолец в должности залесского старосты;
— новый секретарь подпольного райкома комсомола Алексей Николаев — показной радетель частного предприятия кожедубильного профиля;
— Мария Васильевна, жена Мартьянова, работница акционерного общества «Вако», — тайная союзница Тучина и против торгового общества, и против мужа;
— сам он, Тучин, крученый — переверченный на службе богу и черту, двум столицам и трем армиям;
— не посвященные ни во что домочадцы Егоровых.
Компания, где говорят не то, что думают, и не то поют, что хотят.
Мартьянов — в гражданском костюме, белый воротник навыпуск — вызвался резать пирог с брусникой.
— Представьте, до чего люди странные существа, — говорил, глядя в этот самый пирог, — вздрагивала сбитая налево светлая челка. — Не дадут соврать, я не поклонник пирогов. За это, подозреваю, и мать и теща меня недолюбливали — ведь кухаркам — что? Им надо, чтобы слышать, как у едока за ушами пищит. А у меня на пироги ни нюху, ни писку. И вот, — Мартьянов положил на тарелку Тучина ломоть пирога. — И вот зимой я получаю колоб, испеченный Машей. Это было в траншеях под Свирью. Я вышел из укрытия проверить свой взвод. Мороз! После тепла пуговицы заиндевели, извините, как шляпки гвоздей в солдатской уборной…. Тут мне и вручили колоб, колоб с начинкой. Что за начинка, я умолчу — это, можно сказать, военная тайна. Но, боже мой, что делалось в траншеях! Белый хлеб с родных полей… Я раздал по куску и видел, что люди не едят, а как бы читают, словно это был не кусок хлеба, а письмо с родины.
Мартьянов сменил нож на рюмку:
— Я пью за наш карельский рыбник, за наш пирог с брусникой, испеченный в русской печи.
Тучин выпил. Отметил про себя: «Между строк ориентируется не хуже, чем в траншее». Впрочем, ему было все равно. Краснобайство нравилось ему в любом виде. Мартьянову он верил: нетрудно верить человеку, когда знаешь, что сами обстоятельства толкают его к тому решению, какого ты ждешь. Если, конечно, он не трус.
Вышли покурить.
— Как воспринят мой рассказ? — ни «ты», ни «вы» Мартьянов употребить не решился. Бодрячество, которое Тучин позволил себе не заметить. Вспомнил досужие толки: не от одного ли рубанка стружки? Говорят, они сильно схожи с Мартьяновым, и было время, когда Тучин гордился сходством: директор школы — кто не пасует перед учителями.
— Я усвоил одно, Иван Александрович. И тебе, и твоим товарищам начинка пришлась по вкусу. Я жду дела. Должен сказать, вступления ради, что ваш батальон в любом случае хода войны не изменит. Он может просто погибнуть, а может и не погибать, может замарать учебник истории строчкой о предательстве, а может не делать этого. Я, Иван Александрович, как и ты, — вепс, и тоже за то, чтобы печь карельский рыбник в русской печке, а не в финском камине.
Мартьянов затянулся, высветилась напряженная усмешка:
— А у вас, простите, нет ощущения, что в той строчке… в учебнике истории… один какой-то маленький знак — запятая или там многоточие — будет принадлежать и вам?
— Нет, Мартьянов! Все мои знаки будут в другой главе.
— Кого вы представляете?
— В данном случае я уполномочен вести переговоры с представителем «батальона соплеменников».
— Стало быть, вам известны условия?
— Да. Жизнь, питание по нормам советских войск, возвращение на родину после окончания войны, сохранение всего личного имущества.
В руке Мартьянова брякали спички — нервы не ахти.
— Что я должен делать? — спросил глухо.
— Объяснять людям положение. Думаю, в нынешних условиях много слов не потребуется. А начать, по-моему, надо с организации солдатского комитета, с подпольной литературы — дам тебе эту литературу… Батальон, правда, не взвод, работы будет немало. Но ведь другого выхода нет, Мартьянов.
— Я понимаю.
— Кроме того. Важно срочно уточнить расположение частей, количество и виды оружия, систему обороны на Олонецком перешейке и особо на участке Магрозеро — Обжа в районе Сермягского болота…
— Ну что ж, согласен. Передайте, кому следует, что Мартьянов не забыл полуострова Ханко.
— Тогда желаю удачи…
Вернулись к столу. Мартьянов много и с мрачным удовольствием пил. Прощаясь, протянул холодную вялую руку. «Такими руками жару не загребешь», — подумал Тучин, однако раскаиваться он не умел.
4
— Повестку дня нашего собрания, — начал Тучин, — я бы, товарищи, сформулировал так: конец войны и наши задачи. Есть дополнения?.. Тогда разрешите по пунктам.
Первое. Считаю, что нам пора брать в свои руки хозяйственные дела. На дворе апрель, не за горами сев. Целых три года мы только тем и занимались, что эту работу проваливали, и, надо сказать, достигли таких успехов, что на колхозные поля смотреть страшно. Нынешняя весна — особь статья. Нам надо понять это самим и объяснить народу. На финнов надежды нет — финны вывезли сельхозтехнику и тем самым отказались от пользования землей. Посевного и посадочного материала они нам не дадут — факт. Не исключено, что в последний момент они попытаются угнать лошадей, чтобы и после войны мы лишний раз задумались над своим выбором. А мы не должны допустить, чтобы после победы нас взял за глотку голод… Считаю, грош нам цена, если мы не организуем в условиях оккупации ударную стахановскую весну.
— Погодь, Митрий Егорыч, — Лучкин Ефим Григорьевич. — Бойкой ты мужик, Митрий Егорыч, спасибо. Да кабы мы с тобой, желанный, фронты-то с местов на места переставляли, а то ить не мы… Я своим мудрым умом так думаю — в этом осторожном деле без центрального указа нельзя.
— Есть указ, старик. Вот газета «Ленинское знамя», партийный орган республики, специальный выпуск для оккупированных районов. Тут черным по белому сказано: сейте, товарищи, у победителей хороший аппетит, встречайте победу хлебом-солью!.. Вот пишет председатель колхоза «Путь к коммунизму» Д. Мокеев: «В нашем колхозе сверх плана выращивается восемь телят, пять овец, пять свиней, две коровы. Этот скот мы передадим одному из колхозов оккупированной врагом территории, как только враг будет изгнан. Такую же помощь готовят другие колхозы республики».
А вот, смотри, заголовок «Мы готовимся к встрече с вами, наши братья и сестры». Тут заместитель наркома коммунального хозяйства Старцев сообщает, что коммунальщики готовятся к восстановлению жилых домов, бань, прачечных в оккупированных районах, в том числе и у нас. Обучены двадцать пять строительных десятников, готовы к работе несколько сот плотников, столяров и других специалистов… Рабочие пристани Беломорск строят водный вокзал для Медвежьегорской пристани, хотя Медгора еще под врагом… Беломорская кондитерская фабрика готовит бригаду квалифицированных рабочих для восстановления Петрозаводского хлебокомбината… Президиум Центросоюза постановил восстановить Петрозаводский кооперативный техникум… Что скажешь, старик?
Старик только кулаки свел да потряс ими, как в ознобе.
— Будем сеять, — заключил Тучин. — Есть предложение выбрать трех товарищей, из здесь присутствующих, для сбора зерна у населения. Работа, прошу учесть, тонкая — для нас покамест и зернышко динамит. Называйте, кому доверим.
Назвали Николаева, Гринина Ивана Федоровича, Егорова Александра. Гринин предложил устроить склад в овине, где и шло собрание.
— Не возражаю, здесь и не такие фрукты хранились, — рассмеялся Тучин. — Кстати, сегодня пришло сообщение, что группа благополучно и в полном составе прибыла на советскую территорию. — Однако распространяться по этому поводу не стал. Он был мастер коротких собраний и быстрых решений — подполье учит и этому.
— Второе, товарищи… Не знаю, как вы, а я все больше думаю о том дне, а последнее время все больше о той минуте, когда в наши деревни войдет Красная Армия. Не знаю, как вам, а мне хотелось бы встретить ее в составе боевого отряда, и чтоб в руках у меня было чем стрелять. И еще, мечтаю, хорошо бы к этому дню нам самим, своими руками очистить несколько деревень, да над сельсоветами бы красные флаги поднять — а?..
— Ой, бойкой ты мужик, ой, бойкой, желанный, — укоризненно ворчал Лучкин. Он только что вернулся по болезни из Вознесенья, а там, на стылой Свири, война еще стояла крепко и трогаться, вроде, никуда не собиралась, а тут — эка — зерно скребут, флагами машут. Верилось и не верилось Лучкину, как в тот вечер, когда Ефимка Бальбин, мазурик, в русского солдата нарядился — не дадите ли, говорит, переночевать до подхода наших главных сил в шесть ноль-ноль…
— Народу у нас хватит хоть на сто штыков, — продолжал Тучин. — Не сегодня-завтра финны попытаются силой угнать молодежь в Финляндию и, прежде всего, с оборонных работ на Свири. Где, скажите, укрыться людям, как не в нашем партизанском отряде?
— Вот это, желанный, правильно, это правильно…
— Верно говоришь, — поддержал Михаил Александрович Егоров. — И людей на сто штыков найдем, а только где эти сто штыков взять? С рогатиной-то нынче и на медведя стесняются ходить.
— Оружие будет, — заверил Тучин. — Есть у нас «мама», она, надо думать, не только кашу варит…
В полночь восемь человек по одному выбрались через запасный люк из овина и разошлись с твердым намерением действовать.
На повестке дня мирового масштаба вопрос — конец войны. Ради хлеба и мира — действовать!
Глава 3
ЦК, Власову.
Действую.
Дмитрий.28/IV—44, 12-15
Власову
Радиопитание кончается. Можете ли выбросить в первых числах мая без парашюта, а также первомайскую литературу на русском и финском языках? Координаты сообщу.
Дмитрий.2/V — 12-30
Власову
Координаты 00—26, в конце поля, край болота. Бросайте ночью, сигнал — два карманных фонарика. На днях еду в Петрозаводск, бросьте заграничный пистолет и патронов к наганам.
Дмитрий.Из донесения командира звена ПР-5:
7-го мая в 22 ч. 30 мин. самолет ПР-5, пилотируемый летчиком Никитовым Ев., вылетел на боевой курс.
8-го в 03 часа самолет благополучно вернулся обратно. Согласно слов Никитова, мешок сброшен без сигналов, с высоты 30 метров на поляне севернее оз. Пет-ярви, метрах в ста от северного конца берега.
В мешке было упаковано нижеследующее: комплект питания для рации, пистолет 7,65, патроны к пистолету — 180 штук, к автомату — 500 штук, к нагану — 180 штук; табаку — 2 кг., спирту две запаянных банки; 3000 финских марок; агитматериал: приказы Верховного Главнокомандующего — № 16 (1000 шт.), № 70 (1000 шт.), 500 экземпляров газеты «Ленинское знамя» от 18/IV и 500 экземпляров газеты «Тотуус» от 19/IV».
11/V — 18-00
Власову
Мешок не найден. Искали четыре дня в указанных вами местах, а также там, где сам мог предполагать. Сообщите, когда бросали — при залете или на обратном пути.
Дмитрий.Из записей Д. Тучина:
Когда самолет бросал мне груз, финны решили, что выброшен десант. Сразу же в лес были направлены карательные отряды из солдат береговой обороны. В лес между Калиностровом, Матвеевой Сельгой и Качезером был послан отряд из двухсот человек. Они искали десант, а я искал груз. Мне приходилось то идти им вслед, то заходить вперед. Каратели шли с криками и выстрелами, поэтому я все время знал, где они находятся, и мы ни разу не встретились.
13/V — 11-30
Дмитрий, поищите еще в северном конце Пет-ярви, на поляне, которая идет углом от берега, на расстоянии трехсот метров на север. Посмотрите на Белковских и Зайцевских пожнях. Если не найдете, бросим вторично на болотце между Соссарь и Пидкадхомхед, ночью, начиная с 14-го, сигналы те же.
Власов.16/V — 12-50
Власову
В среду у Качезера обстреляли трех партизан, убили девушку-радистку, радиостанцию взяли. Предупредите другие группы об осторожности.
Дмитрий.16/V — 18-30
Власову
Мешок нашел. Спасибо. Теперь работа закипит.
Дмитрий.Из записей Д. Тучина:
Мешок нашел, а как доставить? Других привлечь не решался. В мешке — смерть. Таскал сам, через две деревни — Сюрьгу и Калиностров…
5/VI — 19-15
Власову
Со мной ничего не произошло. Присланное вами радиопитание никуда не годится. Достал на месте. Повторите все радиограммы, начиная с запроса о немецких войсках на Олонецком перешейке.
Дмитрий.7/VI — 12-00
Власову
Фамилия финского коммуниста, о котором сообщал ранее, Матти Канто. Он — большая помощь для меня. Сегодня узнали радостную весть об открытии второго фронта.
Дмитрий.9/VI — 18-20
Власову
На Олонецком перешейке немецких войск нет. Есть незначительное количество немецких офицеров.
Дмитрий.12/VI — 19-00
Власову
Началась эвакуация Вознесенья и района. Гонят уже трое суток. Из Рыбреки эвакуируются госпитали. Предполагается эвакуация населения. Прошу установить со мной круглосуточную связь.
Дмитрий.12/VI — 18-00
Дмитрий, слушаем вас круглосуточно. Сообщайте о действиях финнов.
Власов.12/VI — 19-00
Власову
В Вознесенье прибыла новая дивизия — Пятая. Седьмую снимают.
Дмитрий.13/VI — 12-00
Дмитрий! Войска Ленинградского фронта, прорвав оборону финнов на Карельском перешейке, заняли город Териоки и успешно продолжают наступление. В связи с этим оккупанты угоняют советское население в Финляндию.
Всячески срывайте это. Организуйте уход населения и угон скота в леса. Создавайте партизанские отряды, готовьте их базы, усиливайте политическую работу среди населения. Близится час освобождения карельских земель от фашистских разбойников.
Смерть немецко-финским захватчикам!
Секретарь ЦК КП(б) К-ФССР Г. Куприянов.13/VI — 13-00
Власову
По направлению на Петрозаводск финны круглосуточно везут военные материалы. По неуточненным сведениям Седьмая дивизия ушла на Карельский перешеек.
Дмитрий.14/VI — 11-30
Власову
Организация отряда проводится. Прошу помочь оружием и командирским составом, так как в отряде будет большинство молодежь. Бросайте по нашему сигналу.
Дмитрий.14/VI — 19-00
Дмитрий, в связи с белыми ночами выброску оружия и командиров произведем позже. Сообщите, сколько и чего необходимо. Укажите координаты для выброски.
Власов.16/VI — 12-00 Власову
Жду приказа ЦК. Отряд уже насчитывает 73 человека, запись продолжается.
Дмитрий.17/VI — 21-00
Власову
Бросайте два пулемета Дегтярева, пятнадцать автоматов, семьдесят винтовок. Координаты 00—22, сигналы два фонаря «Летучая мышь», на пожне, без парашютов, с минимальной высоты. И пусть летчики бросят по деревням листовки. Военные власти эвакуировались, осталась военная полиция.
Дмитрий.19/VI — 14-15
Власову
Население подготовлено к встрече Красной Армии. Ждем. Бомбите железную дорогу у Ладвы и Пяжиевой Сельги — идет погрузка военных материалов и войск.
Дмитрий.19/VI — 18-30
Власову
На Шелтозерской пристани грузят баржу с ценностями.
Дмитрий.20/VI — 11-45
Дмитрий! Вместе с грузом и командирами для отряда прилетит «Егор». День выброски сообщим дополнительно.
Власов.20/V1 — 20-30
ЦК, Власову
Финны бегут. Почему не даете оружия, командиров, указаний. Начинаю действовать.
Дмитрий.20/V1 — 21-00
ЦК, Власову
Действую.
Дмитрий.Глава 4
В последние дни капитану Ориспяя стало известно, что подпольем руководит Д. Е. Тучин. За ним немедленно был послан отряд солдат.
С. Удальцова. «Воспоминания радистки»1
На полевом аэродроме в Девятинах будущий командир тучинского отряда знакомился со своим комиссаром:
— Введенский, Владимир Петрович.
— Горбачев.
Оба были достаточно наслышаны друг о друге. О командире партизанского отряда «Красное знамя» Введенском в Беломорске говорили немало: водил бойцов в контратаки под Медвежьегорском в составе войск Седьмой армии, организовывал засады на немцев под Кандалакшей, провел одну из самых дерзких партизанских операций по разгрому финского гарнизона в Конде, в районе Большого Клименицкого острова.
Введенскому было около тридцати — парень броский, живой, с выразительным умным лицом, он чем-то незримым напомнил Горбачеву Тучина: тип человека, у которого в любой переделке искра божия в землю не уходит. Меток на слово, с четким календарем событий в памяти. Любимая фраза — «хоть по Шапошникову и Вальцеву, хоть по Малинину и Буренину считай…» — обличала в нем учителя, и Горбачев не ошибся — до войны Введенский работал директором школы в Ладве.
— В Беломорск вызвали, как на пожар, — рассказывал Введенский, поглядывая на голубое летное небо. — Оставил отряд начальнику штаба Парамонову. Проводил он меня до шестнадцатого разъезда, распрощались. Отряду в бой идти, а меня черт-те куда несет… В Беломорске — прямо к генералу Вершинину[27]. Тот и минуты не продержал: «Немедленно в распоряжение Андропова, больше, дорогой, ни о чем не спрашивай. Знаю одно: задание серьезное. Велено помочь тебе подобрать пять-шесть гладиаторов не ниже командиров отделений. Бери Маркова, Никулина, Хотеева…» «Оголю отряд, Сергей Яковлевич». «Оголяй, мужчин берешь, да не девочки остаются…» Когда он назвал еще Ивана Дмитриевича Бандурко, специалиста по минно-подрывному делу, да знамя велел прихватить, тут уж я, грешным делом, не от великого мужества, конечно, поинтересовался, не рейхстаг ли мне брать.
Через несколько часов вместе с радисткой Тюпяляйнен нас стало семь человек. Погрузились в открытую коробку. В вагоне взрывчатка, пулемет Дегтярева, автоматы, винтовки, мины — противотанковые, противопехотные, запас продовольствия человек на пятьдесят с лихвой, дня на три-четыре. До Пудожа на машинах… И вот эта детская лужайка Девятины. Ты мне скажи, комиссар, на каком помеле тут летают?
Он прибыл 21-го июня, через полтора часа после начала наступления на Свири. Аэродром пустовал — все крылатое потянулось туда, где решалась судьба Карельского фронта, самого протяженного из всех четырнадцати фронтов Великой Отечественной. Собрались в домике летчиков — секретарь ЦК комсомола республики Юрий Андропов, напутствовавший, пожалуй, вторую сотню подпольщиков, разведчиков, диверсантов и не случайно получивший кличку «Могикан», изложил суть задачи:
— Триста шестьдесят восьмая стрелковая дивизия, — сказал, — наступает на правом фланге Седьмой армии. После прорыва обороны финнов на северном берегу Свири части правого фланга начнут стремительное преследование и уничтожение врага на всем протяжении дороги Вознесенье — Шелтозеро — Петрозаводск. Задача вашей группы комсостава: возглавить, вооружить, подготовить к боевым действиям созданный Тучиным отряд; совершить скрытый рейд в тыл финской армии, в район Шелтозерской пристани, и там сделать все возможное, и невозможное — тоже, чтобы отрезать ей путь для отступления в Петрозаводск по Онежскому озеру. Вы понимаете, товарищи, что это не что иное, как попытка разгрузить столицу от излишних боев и разрушений…
В Девятинах мало что изменилось с того тревожного для Горбачева августа сорок третьего года. Вот, пожалуй, рядом с флюгером повис на мачте полосатый мешок, похожий на рукав матросской тельняшки. Да в дальнем конце поля не паслась коза Марта, привязанная к колу парашютным стропом. И не было бабки — предсказательницы: «Как в Заговенье дождь, так две недели дождь, нет дождя, так до самого Успенья — ведро…» И другим было небо — как будто и не несло на Девятины гарь свирской битвы, — высоченное, бодрое небо.
И третьи сутки без дела. Андропов, на чем свет стоит, клял командира пятого отдельного авиаполка ГВФ Опришко. Ежедневно, да не по разу в день, связывался с ним из Вытегры по телефону — свободных крыльев у Опришко не было. Из Центра сообщали, что Тучин засыпал радиограммами — оружия, оружия, оружия, да и, кажется, махнул рукой: «Действую!»
24-го июня Введенский буквально на абордаж взял присевший для заправки ПО-2. На штурманское место уложили грузовой мешок с автоматами, под плоскости крыльев подвесили две похожие на мотоциклетные люльки кассеты. В левую ногами вперед запихали Бандурко, а Введенский в правую не влезал: на спине парашют, на груди вещмешок — финский, пехотный, с трубчатыми ребрами. Вырвал железяки — пошло. «Карету мне, карету!» — И захлопнулся люк.
А летчик долго возился с замком-электросбрасывателем, снятым с «Юнкерса-88», проверял трофейную систему, нажимал кнопки, хлопал люками. Введенский заснул.
Очнулся от толчка — сработал электросбрасыватель. Он машинально рванул кольцо и… плюхнулся носом в землю.
— Мировой рекорд, — грустно говорил Бандурко. — Хоть по Шапошникову и Вальцеву, хоть по Малинину и Буренину считай, а метровую высоту никто еще с парашютом не прыгал.
Не взлетели — не подошла марка бензина, и другого на аэродроме не было.
…Через несколько дней Андропов принес из Вытегры весть: пала «Онежская крепость», освобожден Петрозаводск!
— А Тучин? Какие вести от Тучина? — волновался Горбачев.
— Последняя радиограмма двадцать первого. На вызовы Центра не отвечает…
2
В ночь с 21 на 22 июня Тучина разбудил Мартьянов. Просил отпустить до утра в Залесье, к жене. И голос дрожащий, и вид жалкий.
— Что, не спится?
— Вторую ночь — как бревно на воде: лежать лежу, а утонуть не могу…
— Может, болит чего?
— Да нет, спасибо, здоров, вполне здоров.
В понимании Тучина, бессонницей люди страдают либо из-за болезни, либо из-за трусости.
— Со мной Яков Фофанов пойдет, — добавил Мартьянов, сознавая, видно, что одного, без присмотра, Тучин его и на шаг не отпустит.
— Ну что ж, двигай, — сказал кисло, но к утру, чтобы быть в отряде…
В десять утра приехал на велосипеде Николаев, запыхавшись протянул записку. Почерк Мартьянова:
«Дмитрий! Разреши уничтожить двух финских полицейских — угоняют лошадей…»
Рубанул перебитой рукой — треснула повязка и на плече сморщилась, на шее белый, красный след.
— Это опасный человек, Алексей. Ему нужен подвиг, а для подвига все меньше дней… Ему, видишь, надо из национального батальона прямо в национальные герои, и ему плевать, что своим геройством он может поставить под удар безоружный отряд… Ах ты, вояка, мать тебя за ногу!
На обороте записки зло черкнул:
«Категорически запрещаю. Немедленно в условленное место».
— Передай. Скажи, если пальнет, руки обломаю… А ты чего такой квашеный, Алеха?
— Так. Плохой сон приснился… Бабу голую видел, в бане.
— Сочувствую, — рассеянно сказал Тучин. — Гони. Алеха, время не ждет…
Мартьянов объявился в родных местах неожиданно: умер в Залесье тесть. Однако миновали дни скорби, а представитель «батальона соплеменников» не торопился доложить о своих успехах. Пришел наконец в сопровождении Николаева и Саши Егорова.
— Я, Иван Александрович, сильно извиняюсь, — холодно встретил его Тучин. — Я очень уважаю покойников, как правило, они хорошие люди… Расскажите, что в батальоне.
— Работа ведется, — неопределенно ответил Мартьянов, но взгляд держал твердо, если не сказать — настороженно.
— Какая?
— Мне удалось собрать кое-какие сведения об укрепленном районе Сармяги. Должен сказать, что более выгодного рубежа для обороны на подступах к Олонцу не существовало.
— Оценка обстановки — дело командования. Факты.
— Хорошо, факты. Сармяги — не только почти непроходимое болото пятикилометровой ширины с малозаметными полыньями. В центре болота, на группе островов — усиленные подразделения боевого охранения, — покрутил шеей, двумя пальцами ослабил воротник мундира. — С правого фланга к Сармягам примыкает другое болото… Вот названия, извините, не упомнил… Здесь, в межболотном дефиле — центр оборонительной полосы Магрозеро — Сармяги — Обжа. Узел сопротивления обороняется батальоном пятой пехотной дивизии… Минные заграждения, сплошная завеса перекрестного фланкирующего огня. Маневр и фланговый охват исключены… Скажите, эти сведения… я могу рассчитывать… Они представляют какую-нибудь ценность для нашей Красной Армии?
Тучин покачивал руку — будто взвешивал эту самую ценность и соизмерял ее с неожиданным приобщением лейтенанта финского батальона к Красной Армии.
— Иван Александрович, — сказал глядя в окно, — мне важно знать, удалось ли что сделать для батальона, для спасения чести и жизни товарищей по батальону?
— Видите ли, — замялся Мартьянов. — Вся беда как раз в том, что у меня нет товарищей, почти нет… Я был одинок. Там каждый одинок… Результат слежки, доносов… Я просто не решился. Отнеситесь к этому правильно, — конец войны… семья… Я не мог так глупо… так рисковать собой.
Мартьянов грыз ноготь большого пальца, и без того обкусанный до мякоти, — привычка, которая вдруг нападает на человека, как окопная вошь.
— Понижаю. Что вы намерены делать дальше?
— Об этом я хотел посоветоваться с вами, — он пытался взять себя в руки — нога на ногу, плотно прижатая к колену ладонь. — Мне нужен совет, — повторил, и твердый взгляд его говорил: я вверяю вам себя, разве этого мало, чтобы верить человеку, много страдавшему и все-таки, как видите, не потерявшему самообладания, готовому последовать любому разумному предложению.
— На Карельском перешейке началось генеральное наступление, — бесстрастно информировал Тучин. — В финской армии издан приказ о немедленном возвращении солдат и офицеров, находящихся в отпуске, в расположение своих частей.
— Я предупрежден.
— Это еще не все. Мы ведем досужие разговоры, Мартьянов. Ваш батальон разбит.
— Боже мой! — Мартьянов закрыл лицо руками и так сидел, раскачиваясь. — Боже мой…
— У меня есть предложение, Мартьянов. Здесь укрыть вас негде. Поезжайте в Петрозаводск, пробудьте несколько дней у надежных людей, подходящий адрес я дам…
Батальон, разумеется, был жив-здоров, но иначе Тучин поступить не мог. Не решился он ни отпустить, ни приблизить Мартьянова. Чуял: доверять ему — голову на руках подкидывать.
Из Петрозаводска Мартьянов вернулся 18-го. До 21-го Тучин продержал его у себя. Вечером предложил идти в расположение отряда — ознакомить людей с материальной частью оружия, дать им некоторые тактические навыки. Ночью Мартьянов отпросился к жене…
3
У каждой деревни находятся энтузиасты-отшельники. Так, похоже, под боком у Залесья на поле, отгороженном легким простенком ольшаника, завелась деревушка Пустошь. Здесь зажатая лесом дорога из Горнего рогатилась тропами. Тут, по правую руку, у кляузной бабы Рябчиковой по имени Любовь жила непроходимая собака.
Метров за полтораста до развилки Алексей Николаев сбавил скорость: передохну, решил, а уж потом как крутану, так псина и чихнуть не успеет… В первый выстрел он не поверил — щелчок кнута… Но вот второй, третий, четвертый. Когда он понял, что опоздал с запиской Тучина, раздался пятый… Мартьянов-таки выстрелил.
Алексей выскочил на поляну. У плоского камня на обочине лежал велосипед. Рядом ничком полицейский, красный клок травы в руке… Еще вертелось переднее колесо… Живой — ногами сучит… Сделал несколько кругов, словно в водоворот попал, и без оглядки рванул в Залесье… Видно, когда не знаешь, куда деваться, ноги несут домой.
У дома сунул велосипед выбежавшему отцу, да задворками — к Саше Егорову. Наспех решили с Егоровым, что полицейского надо с дороги куда-то деть. Сашка — растерянный, зуб на зуб не попадает. Напрасный, говорит, труд. Как раз в Пустоше каратели лес чешут, Вознесенских парней ищут, в Ладве из-за них на трое суток поезд задержали…
Их схватили на краю деревни, где до леса было рукой подать. Любовь Рябчикова подтвердила, что кроме Николаева никто из Горнего в Залесье не проезжал. Да, да, она видела, он проезжал, но он не стрелял, у него, господин офицер, только проехавши потуда, где стреляно было.
— Почему прятались?
— С испуга, господин лейтенант.
— Обыскать.
Когда из пиджака извлекли записку Тучина, Алексей понял, что терять ему больше нечего. Люди его склада легко поддаются неизбежности. Лишенный страха за себя, он думал, что он сволочь не чище Мартьянова, что если бы не его собачья боязнь, он, может быть, успел бы вовремя, что и жизнь и смерть для него теперь одинаково лишены смысла, что само его молчание под пытками — утешение, не больше: и оно ляжет на почерк Тучина резолюцией — «с подлинным верно».
Он не почувствовал боли, когда чем-то тяжелым его свалили на землю… Мучительно торопился встать — стоять, стоять, все видеть до конца.
Полицейских было человек сорок. Часть из них разгоняла набегавшую деревню. Сержант Туоминен и еще трое направились в сторону Пустоши — видно, за под-стрелянным. Остальные сгрудились вокруг пленников, и по кругу, в поисках умеющих читать по-русски, ходили его бумажки…. Маленький начальник отряда, адъютант-поташонок гиганта Ориспяя лейтенант Монтонен, очень интеллигентно бил по щекам Сашу Егорова. Саша жмурил глаза, рот широко открыт. Он открывал рот даже при стрельбе из пистолета — кто-то ему сказал, что так не оглохнешь от грохота выстрела.
— Где взял гранату… говори, где взял гранату?
— Нашел, — жмурился Саша.
— А самолет? Кто говорил, что самолет сбросил?.. Кто так говорил?
— Нашел! — и все поправлял на мотавшейся голове кепку, словно это было очень важно, как сидит на голове кепка…
Алексей очнулся под окнами своего дома. Кричала мать и все рвалась к нему. Отец держал ее с каким-то мертвым безразличием, не глядя, и оцепенело твердил: «Надя, Надя…»
Он увидел полицейского — тот лежал на траве, смотрел немигающе, стеклянно, и тихо, как на замедленной съемке, мотал головой: полицейский свидетельствовал, что нет, не этот убивал… он боится сказать, ему не поверят, но ему все равно, он умирает… стрелял Тучин… Тучин, а второй был его брат Степан… кажется, брат.
Полицейский умирал, Монтонен остолбенело смотрел на его замерший рот — случай, когда веришь невероятному, и все-таки прошли минуты, прежде чем лейтенант решился разделить отряд надвое… Те, что уходили с Монтоненом в Горнее, вскочили на велосипеды… В клубах пыли крутила педалями тучинская смерть…
Каждый раз, когда Алексея ставили на ноги, Туоминен совал к его глазам бумажки, для ясности разворачивал сложенный вчетверо черновик заявления в партию, а он молчал и только думал: неужели это выдержка, а не просто бессилие?..
Его вывели в поле на Пустошь. В размытой зноем синеве неба дрожал звон жаворонка, рассыпался и оседал на землю мириадами подголосков — гудела, тикала секундами мелодий трава. Он поднял голову, и глаза до черноты захлебнулись солнцем…
4
Тучин в эти минуты сидел у рации с готовым шифром очередного запроса об оружии. Было около полудня, когда стоявший на часах Степан привел в хлев Федора Реполачева. Даже в тусклом скотнике было видно, что Федор преодолел на брюхе не менее трех культур — рожь, овес, картофельное поле. Отряхиваясь, сообщил, что ночью на Сорокиной горе шла облава. Ночь была светлой, как день, лахтарей они увидели издали. Отряд залег в старых траншеях, а бой принимать нечем.
— И вдруг, Дмитрий Егорыч, у самой траншеи слышим голос: «Закуривай, ребята, никого тут нет». Ну, финны потоптались, посудачили и ушли себе, — Федор пожал плечами: вот такое, мол, везение, да недалече на нем уедешь. Тучину все чаще напоминали, что оружие он обещал.
— Лахтарей, Федор, вел комендант Матти Канто, — была у Тучина грустная нужда, хоть чем-то сгладить вину перед отрядом. — Он знал, докуда можно вести, докуда нельзя… Вчера предложил ему идти в наш отряд, остаться в Советском Союзе, а он только мотал головой, и я его понял… Человеку, видно, мало убеждений, ему еще и родина нужна. Какая ни на есть, а родина.
Федор пробыл в хлеву минут двадцать. Рассказывал, чего стоило вывести со Свири Вознесенскую группу, и сама собой прояснилась мучившая Тучина загадка, почему финны так усердно, прядь за прядью, перебирают горне-шелтозерские леса.
…Эвакуация оборонных рабочих с побережья Свири началась 15 июня под видом перевода на новые объекты. Предполагалось, что до Ладвы их подбросят на машинах, а там-де ждут комфортабельные вагоны специальных поездов. Но каждому, положим, ясно было: конечная остановка этих поездов Хельсинки, а в Хельсинки — размещение трофейных соплеменников по частным предприятиям и поместьям.
16-го Степан привез в Вознесенье приказ Тучина о немедленном выходе группы — любыми путями, лучше поодиночке — в расположение отряда, на Сорокину гору. С 17-го по 20-е все машины и подводы, идущие из Вознесенья на Ладву, с тем же приказом перехватывал в Шелтозере Алексей Николаев.
Стоял очень жаркий день, рассказывал Реполачев. Весь парк машин выстроили в колонну. Грузили не только людей, но и сейфы, шкафы, бумаги комендатур и полицейских участков. Машина Федора шла в колонне двенадцатой, а сзади еще штук сорок — не вырвешься. В Шелтозере, пока шоферня и полиция заправлялись в столовой, вдоль колонны прошел Николаев, и в кузовах сильно поредело.
Вся надежда на второй рейс, а в Ладве объявили, что в Вознесенье возвращаются только шоферы-финны.
— Я к начальнику автоколонны. Так и так, говорю, ни бельишка, ничего, все большевикам достанется, разрешите домой на полчасика.
— Давай, — отвечает.
За Педасельгой Федор подобрал Анну Буравову, Дусю Силину, Пашу Кузнецову и четверых ребят… А по Шелтозеру вознесенский надзиратель Хейкка уже развесил золотую паутину: «Кто не успел получить зарплату в Вознесенье, зайдите в Шелтозерский штаб полиции…» Что ты, Хейкка! Последние пожитки в кузове бросили, да в лес, через Залесье, да в Калиностров… В тот день все дороги и бездорожья вели вознесенское подполье на Сорокину гору. В Ладве простаивал поезд. По следам беглецов шла полиция.
— Хрен с ней, с полицией, — успокаивал Реполачев, — был бы, конешным делом, порох в пороховницах.
— Будет порох. — Тучин все еще верил во всемогущество крылатой «мамы». С места не сойду, пока не выколочу. А ты, Федор, вот что, — нетерпеливо подталкивал его к выходу. — Если со мной что неладное — мало ли, бывает и обезьяна с дерева падает, — в таком случае уведешь отряд на Мундуксу. Понял? И не пытайтесь выручать меня голыми руками. Пробирайтесь на Мундуксу, рисковать запрещаю.
Помог Федору опуститься через коридорное окно на картофельные гряды. Настроил рацию на прием. Связь в 12-30, с минуты на минуту.
Эфир всегда казался ему зоопарком, где все зверье в одной клетке — от комара до тигра. Он пробирался к нужной волне сквозь какофонию звуков и не слышал ни топота ног, ни криков, спиной почувствовал смятение воздуха от настежь распахнутой двери, обернулся, сорвал наушники.
— Беги, Митька, беги! — неистово кричал Степан и метался в проеме. — Беги, я прикрою! Беги ты, чертова стерва!
Бросился к окну, сдвинул мешковину — там, на дворе с ревом отбивалась от полицейских Маша. Монтонен накручивал на кулак ее волосы, она все оседала к земле, кричала: «Нету его… нету… у него в Сюрьгу уйдено… ой, в Сюрьгу уйдено.
— Ах, сволочи! — Не помня себя, Тучин бросился на сеновал. Там винтовка и три лимонки. Разрыл винтовку и три лимонки. А тут навалился на него, подмял под себя Степан: «Ты не очень, Митя… ну куда ты?» — приговаривал и плакал… Грохнули выстрелы. Дом, казалось, приподняло и бросило оземь. — Звенели стекла, с крыши сыпалась дранка.
Вот она, минуту полной отрешенности от страха. Погибал отряд. Командиров не подбросили, молодняк растеряется. Умолкнет рация, и самолеты не сбросят оружия.
Сунул Степану лимонку. В распоротую крышу забивало каленые гвозди солнце.
— Сейчас, Степа, станет тихо, и пойдут. Ты как насчет храбрости, Степа?
— Да ну.
— Живыми не сдаемся, Степа.
— Да ладно.
— Давно хотел сказать тебе… ты, братец, — ничего… тучинских кровей… с тобой кашу варить можно… мы напоследок такую кашу сварим, Степа… А гранату верни, у тебя две руки, Степа, ты винтовку бери…
«Финны обстреливали дом минут десять. Потом все стихло. Глянул в щель — финны отходят в сторону Сюрьги. Почему отходят? Поверили Маше, или им просто хотелось поверить? Конец войны… Мы выскочили в окно, что смотрит в сторону поля. Ползком, бросками, через картофельное поле, через рожь на Сорокину гору…»
Так запишет позднее Тучин. Видно, он произошел не от той обезьяны, что падает с дерева…
Глава 5
Дом Тучина обстреливали несколько раз, изрешетили так, что на полу нашли убитую кошку… Объявили, кто знает, где Тучин, да не выдаст, тот будет расстрелян без отрыва от места.
Авдотья Ивановна, мать Горбачева.1
В лощине перед Сорокиной горой рухнули в папоротник. Тихо. Обдает дурманной болотной сырью. За шторой папоротника полощется на верховом ветру близкое, словно наброшенное на конусы елей небо. Голубое небо, под которым неправдоподобно все, что произошло и что могло произойти… Минута усталого бездумья. Пустота без мысли, без счета времени. Как пробуждение от жуткого сна, когда и жуть прошла, растаяла в свете дня, а сердце все еще взаправду бесится в миражных ночных тревогах.
Степку окликнул, как явь. Над хрустким папоротником высунулась голова — губы синие, будто черники наелся. Степку пробирал запоздалый озноб.
— Здорово бегаешь, — похвалил его.
— Д-да и ты не отстал.
— У меня опыт. Я еще в тридцать девятом натренировался. Я, Степка, у второй войны на побегушках, — сказал с тоскливой злостью. Видно, чем сильнее человек, тем труднее дается ему беспомощность. — Как думаешь, в чем дело… какую сволочь благодарить?
— Мартьянова! — вырвалось у Степки, не способного ни на показную черствость, ни на показную доброту.
— Думаешь, Мартьянов… он мог продать?
— Мог и продать. — А глаза виновато-щадящие, словно уравновешивающие упрек.
От Мартьянова руками и ногами открещивались в отряде Бальбин, Бутылкин, Реполачев. Кто-то припомнил его не столь давнее выступление в Шелтозере, на берегу Онежского озера в сосновом бору — с кострами, песнями, речами праздновался двадцать пятого июня Juhannus — Иванов день. Мы, финны, карелы, вепсы, — маленький народ, — говорил, якобы, Мартьянов. — будущее маленьких народов — в единстве. Пусть над каждым из нас машет крылами черный лебедь царства Туонелы и зовет в это далекое будущее. Пусть рыдает над нами мать Лемминкяйнена, но старый добрый Вяйнямейнен снова встал на лыжи, показывая нам путь…
Он и тогда впадал в туманную красивость, чтобы не оставить словесных улик. Он и теперь герой от трусости. Когда человек трусоват, да неглуп при этом, невозможно представить все те способы, при помощи которых он оберегает свою неповторимость, но каждый способ, будьте уверены, — без крайностей… Нет, Степка, Мартьянов не из тех, кто продает, когда надо купить. Другое дело, что дрожащие его руки не знают в этой торговле ни терпения, ни осторожности… Да, в полицейского он пальнул. Не мог не пальнуть. Из-за кустов — чего проще… Возможно, Мартьянова заметили и приняли за него, Тучина, — экая идиотская обуза: двойник, когда и собственная тень — роскошь… А Николаев? А что, если Николаев тютелька в тютельку угодил на стрельбу… И не успел избавиться от записки?
Тучина одолевали догадки. Как это часто случается в критическую минуту, зудливо обострилась память.
Все-таки рок, нелепица. Что бы там ни было, он не так представлял себе свое торжество, и маленькое, неразвитое его тщеславие страдало.
Он думал, что предпринять. Должен ли он немедленно что-то делать? Сорокина гора без оружия. Рация «Север» осталась в хлеву. «Белка» Кати Насоновой зарыта под сосной на Запольгоре, да не то беда, что у деревни на виду, — она без комплекта питания. При мысли о девочках и Маше сердце сдавила такая боль, такое поднялось в нем зло против Мартьянова, что, заслышав вблизи глухие винтовочные шлепки — будто кто одним ударом загонял в дерево гвозди, — встал и, ни слова не бросив Степке, пошел на выстрелы медленной, тягостно решительной походкой, на ходу вытаскивая пистолет.
Там, где крутой загривок Сорокиной горы нависает над болотом, поросшим морошкой и гоноболью, там, как и предполагал Тучин, Мартьянов проводил с отрядом учебные стрельбы. Лежали, раскорячив ноги, парни. Стояла на пне бадья, забутованная землей или камнями, — тупо вязли пули. Изящно перетянутая ремнем спина Мартьянова была невинно деловитой.
Тучин:
«Я спросил Мартьянова, почему он стреляя в полицейского без моего разрешения. Он ответил, что пытался сорвать эвакуацию лошадей. Я хотел его тут же расстрелять, но подумал, что он еще пригодится, только велел комсомольцам следить за ним. Немедленно послал Ефима Бальбина в Залесье — предупредить Николаева об осторожности».
Никто не знал, что Николаев уже не нуждается ни в предупреждениях, ни в осторожности.
Мартьянова под присмотром Миши Кузьмина и Сергея Бутылкина Тучин отправил добывать антенну и питание к рации. «Глаз с него не спускать», — приказал…
Через два часа они вернулись. Сообщили, что семья арестована, Маша расстреляна…
2
Из рассказа Марии Михайловны Тучиной:
С утра Дмитрий Егорыч сказал, придя из комендатуры: «Угоняйте лошадей, глушите колокола и угоняйте в лес…» Угнали, прибегаю домой, к обеду уже, мокрая, шнурком обвязана. Тут и увидела финнов-то. Ой, господи, финнов-то сколько! На велосипедах, человек за тридцать-сорок… Стою ни жива ни мертва, кричать боюсь… Гляжу, Светочка с Галкой у палисадника Матрены Реполачевой, на траве кувыркаются. Митя-то дома, знаю. Оборотилась — Степкина голова в сенях промелькнула. Думаю, упредит он Митрия, убегут они задами, а сама этих чертей займу чем ни есть…
Подергали меня, пошпыняли, а в избу так и не пошли. У солдат у этих, как война к концу, патронов в кажином кармане, а храбрости ни в одном. Монтонен с меня допрос чинит, а сам все меня спиной к дому раскручивает и раскручивает. Ах ты, думаю, вояка, под клухой высиженный… Боялись они Тучина, да и то: три года за нос повожено.
Стреляли жутко как. Рамы, так те на поленья разделали… Потом погрузили меня на велосипед — реву, царапаюсь. Пока везли, в кювет нападались. В комендатуре зачуланили и не спрашивали долго… К Монтонену повели, руки, говорят, назад сделай, общупали, нету ли при мне какого орудия. А кабинет у Монтонена пустой — лавка да стены. Монтонен у окна стоит. Говорит гулко, как в пустую бадью цедит. Ваш, — говорит, — муж с братом убили полицейского. Скажите, где он, и я отпущу вас к детям. Ваши, говорит, дети без мамы плачут. А я говорю, неоткуда мне знать, где муж, с утра к вам ушел в комендатуру, а стрелять в полицейского он не мог, поскольку староста, инвалид и от Маннергейма медаль свободы имеет. Тогда Монтонен в стенку постучал, и приводят Егорова Александра.
Привели Егорова Александра. Глаза завязаны, руки тоже за спину, скручены. Лица не узнать, губы распухли. За другой конец стола поставили, глаза открыли.
— Знаешь ее?
— Знаю.
— Знаешь его?
— Знаю.
— Он ходил к вам?
— Ходил.
— Ходил?
— Ходил.
— Зачем ходил?
— В карты играли.
Монтонен в карман.
— Вот эту гранату дал ему твой муж. Тучин — партизан, он полицейского убил.
Саша, спасибо, заступился. Баба, говорит, она, ничего не знает. И увели его… После, как наши пришли, неделю его искали. Нашли в лесу, замученного.
А меня в конюшню повели, охрану поставили. Ничего я не знала — как Митя, как дети, а только видела, что с Сашей сделали. Ночью из пояска петлю скрутила. Крюк ищу. А тут вдруг дверь распахнулась, и впихнули ко мне двоюродного брата Митиного, Николая. В ту ночь никому из домов выходить не разрешали, а Николай глухой, удить пошел. Его и схватили. Спрашиваю — ничего бедный не знает, как во сне живет.
Утром самолеты гудели. Ну, думаю, оружие привезли. И повеселей стало… Утром в штаб, в Тихоништу привели. Велели в баню воду таскать и картошку чистить. Ушли, а через некоторое время яиц, кур принесли. Говорят: дети там, на улице, а ваш Пильвехинен убит, на овсяном поле валяется, одна кепка от него и осталась… Кепка-то, потом выяснилось, Миши Кузьмина, продырявленная вся. После войны в краеведческом музее висела, под стеклом…
Наелась полиция и в баню пошла. Тут Монтонена из бани к телефону вызвали. Послушал он, в платочек жидко так высморкался, рукой махнул. Иди, говорит, женщина, домой, иди с глаз долой… Бегу, а сама боюсь. На Погосте никого не вижу, а на колокольне, знаю, финны с пулеметами смотрят. Остановилась, дура, цветочки щиплю — гуляющая будто. А с краю Тихоништы Максимов жил, Захар. Чего, спрашивает, ревешь? Иди, живой Митька, о эти счас пятки натрут и убираются.
Пришла к вечеру. Дети меня захватили… Захватили… А тут они опять, финны, из-за угла прямо к нам. Туоминен от меня детей ружьем отковырял. Где, кричит, Пильвехинен, где? Он домой шел, да убежал, кепку в овсе нашли… Светка на шее висит, клещом впилась…
Всю ночь сидели вокруг дома, ждали. Под утро заминировали дорогу на Матвееву Сельгу и ушли…
3
Из отчета Д. Е. Тучина:
…В ту же ночь вывел отряд в лес, за шесть километров в сторону Мундуксы, а сам решил идти в штаб финнов, выяснить, что с Машей, с дочками. Ребята уговаривали не делать этого. «Вместе пойдем». Но я не мог брать отряд с малым количеством оружия на верную, гибель, зная, что за каждого человека отвечаю…
После поверки последним откликнулся семьдесят третий. Но это было не все: местные жители ждали по домам выброски оружия. В отряде собрались только те, кому нельзя было находиться дома. Но и увеличивать численность отряда не решался — скопление безоружных людей было рискованным.
Собрал отряд, изложил задачи. Послал разведку по деревням — уничтожать мелкие группы врага, захватывать оружие. Знал, что Красная Армия близка, в погоню за отрядом никто не бросится.
24 июня дал распоряжение двигаться в деревню Калиностров. Разведка, посланная ранее, сообщила, что военная полиция начинает эвакуацию… Я уже малых групп не боялся, в случае чего стал бы принимать бой. Но никого не встретили и на ночь расположились рядом с деревней на возвышенности, где нас не могли застать врасплох.
Утром 25 июня в 4 часа повел людей к Тихониште. В 6 утра там был поднят первый в районе красный флаг. Финны издали полюбовались на него и ушли.
А мы двинулись в Залесье. Люди встречали отряд со слезами радости, спрашивали, далеко ли Красная Армия… Здесь отдали последние почести Алеше Николаеву. Финны три дня никого не подпускали к нему, и он лежал в поле, терпеливый, как в жизни, словно ждал свободы и товарищей.
Уходила война, но не кончались горькие вести. Подорвался на мине Коля Гринин. Он еще не был выявлен финнами и оставался в деревне связным. Утром 25 июня он вышел по Матвеево-сельгской дороге к Большому камню, оставил в условленном месте мешок с продуктами. На обратном пути и случилось. Ему оторвало ногу, он истекал кровью, а мы ничем не могли помочь…
До прихода Красной Армии отряд занял все деревни Горне-шелтозерского сельсовета. Затем мы оседлали дорогу под Шелтозером, чтобы отрезать финнам отступление к пристани. Здесь в два часа ночи встретились с передовыми частями нашей армии.
4
По иронии судьбы война уходила с вепсских земель в Иванов день. Не пылать в сосновом бору на берегу Онего кострам Юханнуса. В белую карельскую ночь не накаляться речам о Финляндии до Урала, о вечном антикоммунистическом вепсско-карело-финском братстве…
В Ладве, не дождавшись «соплеменников», уходил из тисков 368-й дивизии и 150-го укрепленного района последний поезд оккупации. Между Шелтозером и Петрозаводском, в бухте Уя, высаживала десант Онежская флотилия — около тридцати бронекатеров. Пушкари Москвы драили стволы для залпов в честь освободителей Петрозаводска.
Тучину выделили роту солдат — показать народу Красную Армию. Просил пару танков — не дали: танкам, сказали, еще далеко до парадов.
Он шел впереди пыльной семиверстной дорогой, увешанный автоматом, биноклем, компасом, пристегнутым к пуговице пиджака, и по-мальчишески радовался солдатским пожертвованиям — так не хватало ему все эти годы этих честных бойцовских регалий.
В толпе ребятишек трусил следом босой старик Матвей Лукич Четвериков. Молоденький солдатик, выйдя из строя, все навязывал ему ботинки, а тот все отнекивался: «Почем же дело, сынок, почем же дело», — ощупывал его, как слепой, и плакал и смеялся.
В Калинострове уморила войско Авдотья Горбачева, мать Дмитрия: пока у трех солдат документы не выверила, не убедилась старая, что Красная Армия пришла…
— Дайте-ка партизану веселенького! — деловито говорил в ту же ночь приведенный Тучиным военврач.
Бледный, едва оторвав от постели спину, Коля Гринин равнодушно цедил из кружки спирт. Выпил, не открывая глаз. «Киитос»[28], — сказал.
— Что ты, что ты! — ласково испугался старик Гринин. — Наши, милок, пришли, наши. Теперича по-русски надо… Вот такой результат.
В палате военврача Коле сделали переливание крови. От трех солдат по поллитровке. Открыл глаза, осмотрелся, привычно полез рукой к волосам:
— Там… там мины, товарищи… Мины не по колее, а посередке.
— Ну, слава богу, — вздохнул Тучин. — Родная кровь заговорила.
И заспешил домой.
Отбивать свою последнюю радиограмму.
«ЦК. Куприянову. Сорокину. Солякову. — Радировал открытым текстом.
Работаю я, Тучин.
Коммунисты и комсомольцы вышли из подполья, наводят большевистский порядок в районе. На этом заканчиваю работу подпольной рации.
Тучин».ОТ АВТОРА
Отшумели, читатель, события, которым четверть века, а время не утолило жажды знать — кто эти люди, наполнившие оккупационную «зону вакуума» борьбой, самопожертвованием. Из уважения к ним, живым и погибшим, автор стремился к подлинности событий и дат, оставил героям имена, записанные в их метриках и паспортах.
Это так понятно — родина. Свое озеро Кодиярви и своя Запольгора, отцовский дом, мосток за окном — через протоку Теткиного болота; сосна, у которой что ли сук — то век.
Это так просто, чтобы восходящее солнце не казалось каской, голова дятла — танковой башней, муравейник — дзотом.
Я прощаюсь с людьми, любившими Родину. Я подхожу к их обелискам, стучусь в их дома двадцать пять лет спустя.
Там, где тянется вдоль Онежского озера аллея тополей с ошпаренными огнем и до сих пор не залеченными боками, стоит в Петрозаводске двухэтажный деревянный дом. Здесь, за горкой ступенек, по-карельски протертых до древесной чистоты, вас встретит светловолосая женщина с высоким тучинским лбом, с его внимательными глазами. Светлана. Рядом с ней дочь, внучка Тучина. В том самом возрасте, когда говорят: «У нас корова на первое ест щи, на второе — кашу».
В просторной комнате Тучиных пощелкивает камин. Когда-то здесь грели руки мечтательные деятели «Онежской крепости» — были далеко, до Урала идущие планы.
Вечерами, вернувшись из детской больницы, к камину присаживается с вязанием Мария Михайловна. Частенько наведывается из Сортавалы брат Дмитрий Михайлович Горбачев. Изредка приезжает Галя с мужем. Но давно уже не подбрасывает дров в семейный очаг Дмитрий Тучин.
25 июня 1944 года он поднял в районе первый красный флаг.
25 июня 1947 года его не стало.
— В ту пору вся наша семья перебралась в Суоярви, — просто, переболевшим голосом расскажет вам Мария Михайловна. — Дмитрий Егорович был назначен туда замом председателя райисполкома… Утром в воскресенье в клуб его тяну. «Не хочу вставать». Потом говорит: «Поедем в Сортавалу скоро, к Дмитрию»… В понедельник проводила на работу его. Приехал на обед. Покатал Светку на райсоветовской машине. И оставил нас.
Под вечер мы с Катей дрова пилим, с двоюродной его сестрой. Вдруг грузовая машина подходит. Снимают его. Писакин, второй секретарь райкома, директор картонной фабрики, фамилии не помню… шофер.
— Пьяный? — говорю.
— Да нет, — говорят.
Подбегаю к нему.
— Дмитрий! А, Дмитрий!
А на пиджаке кровь. Хрипит.
— Да что с тобой?..
Послали машину за врачом… Пришел из Петрозаводска санитарный самолет, райком вызвал. А он уже мертвый был. На руках у меня и умер, ни слова не сказавши…
Смерть Тучина — одна из загадок, от которой у автора нет ключей. Одни: диверсия финской контрразведки, которая не могла ему простить… Другие: месть предателей, пытавшихся замести следы. Третьи: просто автомобильная катастрофа. И немы архивы — одна строчка за месяцы поисков: «Умер от раздавления грудной клетки».
Стоит в Горнем Шелтозере восстановленный, отремонтированный дом Тучина, ставший музеем. Мраморная доска на стене: «В этом доме находился и действовал в 1943—1944 годах Шелтозерский подпольный райком КП(б)». Над холмиком Неглинского кладбища в Петрозаводске хранит его имя скромный обелиск: «Д. Е. Тучин».
30 июля — день сбора друзей на квартире Сильвы Карловны Удальцовой. 30 июля 1967 года, во время слета партизан и подпольщиков Карелии на Чертовом Стуле за Онежским озером трагически погиб Павел Удальцов.
— В годы войны мне, комсомолке, довелось вести трудную работу в подполье, — говорила на праздновании 50-летия комсомольской организации Петрозаводска Сильва Удальцова. — А сегодня комсомольцами стали мои дети. Сын служит в Советской Армии, дочь учится в университете. Нельзя не гордиться тем, что наши дети, наша молодежь достойны своих отцов.
Сразу после освобождения района ушли заканчивать войну ребята из вознесенской группы — Сергей Бутылкин, Ефим Бальбин, Федор Реполачев, Кузьма Поликарпов, Степан Тучин и остальные. Не вернулась добрая половина, и среди них Степка Тучин, Юра Макаршин, Кузьма Поликарпов, который, как помните, был глуховат… Лахденпохья, Шелтозеро, Петрозаводск — адреса здравствующих Бутылкина, Бальбина, Реполачева, Коли Гринина, Павла Бекренева.
Вы слышите? «Я видел ее в Кашканах. Ей не больше семнадцати. При мне врач вытащил из нее три пули и две оставил в спине, опасаясь, что она не выдержит операции. А я смотрел ей в глаза. Ни слезы, ни крика…»
Дуся Тарасова, так великолепно аттестованная капитаном Ориспяя, живет в поселке Тунгуда Беломорского района Карелии. Последний раз я видел Евдокию Тарасову-Аникиеву в зале XXVI областной партийной конференции.
В Сортавале, там же, где и Горбачев, живет Николай Фролович Антонов. Годы не убавили в нем скромности: во время поездок в Сортавалу автору пришлось рассказывать его жизнь и его взрослым детям, и его товарищам по работе в мастерской электросетей.
По-прежнему на «горячем» производстве Степан Егорович Гайдин, ныне инспектор пожарной охраны в Медвежьегорске.
Жив-здоров восьмидесятилетний старик Лучкин Ефим Григорьевич. В Огериште у Вехручья стоит на родной земле его маленький домик. На стенке портрет сына Миши, погибшего в сорок втором. «Под городом Холм, желанный, с ним эта процедура была».
— На Октябрьские ездил ко внуку. Говорю, почем же дело, Толя, ты семнадцать лет учился, офицером произведен, а не в партии, вступи в партию, Толя. Пишет, вступил. Вот такая процедура, желанный…
В списках Тучина около ста активных подпольщиков. Только о некоторых эта книга, но каждый из них ее создатель. Автор благодарен всем, кто писал ее жизнью, подвигом. И памятью, по строчкам восстанавливая события, которым четверть века.
Примечания
1
Военная полиция. (Здесь и далее примечания автора.)
(обратно)2
...сынок, здесь ведь война (карельск.).
(обратно)3
Великая Финляндия до Урала… черт побери!
(обратно)4
Поместье.
(обратно)5
От финского слова пильви — туча.
(обратно)6
Подлинник доклада Ориспяя в вышеупомянутом переводе хранится в архиве Карельского обкома КПСС.
(обратно)7
«Суомен кувалехти» — иллюстрированный журнал Финляндии, занимавший в годы войны крайне фашистскую позицию.
(обратно)8
Старое вепсское поверье: не будет удачи, если жена не проводит охотника до места и на обратном пути не затопчет его следы.
(обратно)9
«Рабочий».
(обратно)10
Финское приветствие.
(обратно)11
Цитируется в сокращении подлинник доклада, хранящийся архиве Карельского обкома КПСС среди материалов Д. Е. Тучина.
(обратно)12
Suomen armeija — финская армия.
(обратно)13
Онежское озеро.
(обратно)14
Есть запись в отчете Остова (архив Карельского обкома КПСС): «Работавший в гараже Антонов, с которым познакомился, поверил мне... Антонов стал давать советские газеты и книги, которые я читал среди лагерников, в казарме шоферов-курсантов и даже в группах антивоенно настроенных солдат».
(обратно)15
Архив Карельского обкома КПСС.
(обратно)16
Архив Института истории, языка и литературы Карельского филиала Академии наук СССР. Материалы экспедиции по Шелтозерскому району. 1947.
(обратно)17
Несколько лет назад в Петрозаводске гостила группа финских антифашистов. Среди 35 коммунистов был и Эйно Корренпяя.
— Осенью 1943 г., — рассказал Корренпяя автору, — буквально через несколько дней после событий в бараке, Советская Армия сделала неожиданный рывок на Свири, в районе Лепсямя. Ночью саперы были подняты по тревоге. Им выдали оружие, и они открыли огонь в воздух — в знак протеста против отправки на фронт... Из-под Лепсямя вернулись всего 35—40 человек из трехсот.
(обратно)18
Шелтозеро.
(обратно)19
Радиограмма такого содержания, почти без изменений, передана 12 января Центру. 14 января сведения доложены Центральным Комитетом партии республики начальнику 2 отдельного штаба 7 армии генерал-майору Поветкину.
(обратно)20
Сильва Удальцова. «Воспоминания радистки».
(обратно)21
— В штабе мне дали задание ликвидировать обвал в амбразуре пушки, направленной на Вознесенье, — рассказывал автору Эйно Корренпяя во время приезда в Петрозаводск с группой финских антифашистов. — Мне дали ключи: нападения зимой никто не ждал, и весь персонал дота отсиживался в казарме. Сразу за Красным Бором мне встретилась Дуся. Спросила, можно ли ей со мной... На втором этаже «замка» она сразу же подошла к механизму горизонтального поворота, стала крутить его. «О, угол обстрела столько-то градусов, — и ушла, как будто все остальное ей было известно.
(обратно)22
Девочка (карельск.).
(обратно)23
Что за этой дверью? (финск.)
(обратно)24
Военная администрация Восточной Карелии.
(обратно)25
Штаб военной полиции.
(обратно)26
«Вако» — финское акционерное общество, осуществлявшее торговлю в оккупированной Карелии.
(обратно)27
С. Я. Вершинин — начальник штаба партизанского движения на Карельском фронте.
(обратно)28
Спасибо.
(обратно)
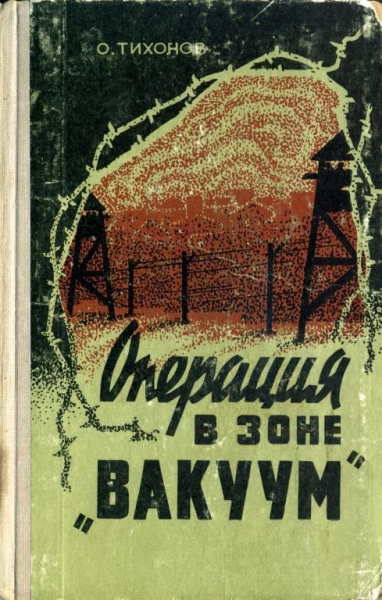
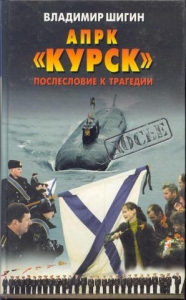





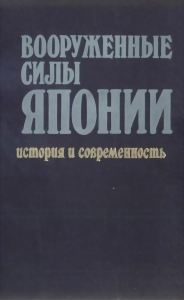


Комментарии к книге «Операция в зоне «Вакуум»», Олег Назарович Тихонов
Всего 0 комментариев