Гарсиа Лорка
Друзья Федерико Гарсиа Лорки – Альберто Санчес, Рафаэль Альберти, Мария Тереса Леон, Луис Лакаса, Пабло Неруда, Хуан Маринельо – поделились со мной воспоминаниями о поэте. Я бесконечно благодарен этим прекрасным людям.
Автор
Глава первая
Он весь – дитя добра и света,
Он весь – свободы торжество!
Александр БлокИ тополя уходят —
но след их озерный светел.
И тополя уходят —
но нам оставляют ветер.
А он умирает ночью,
обряженный черным крепом.
Но он оставляет эхо,
плывущее вниз по рекам.
А мир светляков нахлынет —
и прошлое в нем потонет.
И крохотное сердечко
раскроется на ладони.
Федерико Гарсиа ЛоркаБудь моя воля, Гранада,
Я бы с тобой обвенчался!
Старинный народный романс1
Тысяча восемьсот девяносто восьмой год. Испания. Селение Фуэнте Вакерос близ Гранады.
Знойный июньский день клонится к вечеру, но мужчины еще не вернулись с поля; на улице пусто и тихо. Лишь около дома, принадлежащего состоятельному арендатору Федерико Гарсиа, необычное оживление: соседки входят и выходят, отгоняют сбежавшихся детей, обсуждают – действия акушерки... И вдруг замолкают, прислушиваясь к слабым стонам, доносящимся изнутри.
Там, вцепившись руками в края старой деревянной кровати, борется с болью и страхом маленькая смуглая женщина. Ее широкий лоб влажен, темные расширившиеся глаза в который раз обегают знакомые стены, то и дело возвращаясь к одному из портретов.
С портрета глядит нежное полудетское лицо покойной Матильды Паласиос, первой жены Федерико. У Матильды не было детей, но кто знает, не умри эта женщина – быть может, она еще стала бы матерью... матерью того ребенка, который сейчас так упорно просится на свет. А школьная учительница Висента Лорка, возможно, так и осталась бы старой девой... Никто не повинен в том, что судьба распорядилась иначе, почему же Висенте кажется, будто полудетское лицо смотрит на нее с упреком? Но тут новая волна боли смывает все мысли.
В это время Федерико Гарсиа, коренастый мужчина средних лет, шагает домой по полевой тропинке. Человек он не суеверный, но на всякий случай, чтобы не искушать враждебные силы, старается не думать о том, что волнует его больше всего на свете. И все же, когда это может случиться? Висента считает, что дня через два, а ну, как завтра? Да, только тот, кто, как он, уже смирился было с тем, что навсегда останется бездетным, а потом похоронил и оплакал супругу и думал, что никогда не женится, а после все-таки женился... словом, только такой человек может понять его сейчас.
Впрочем, он ведь решил не думать об этом. Мало ли других забот? Пшеница вот наливается... Завтра надо будет получше присмотреть за прополкой свеклы... Дела, слава богу, идут неплохо, сын – а может, дочь? – ни в чем не будет знать недостатка.
Ну вот опять! И чтобы отвлечься, Федерико оглядывается по сторонам. Знакомая картина, которой он не устает любоваться, – поля, изрезанные оросительными каналами, серебристо-зеленые пятна оливковых рощ, темная зелень садов. Вереницы тополей тянутся вдоль дорог, в отдалении маячат кирпичные трубы сахарных заводов, а еще дальше – горы, на вершинах которых лежит снег. Вид этих вершин действует на человека успокоительно, особенно когда они, как теперь, розовеют в лучах заходящего солнца.
И подумать только, что в это самое время на Кубе, на Филиппиках гремят пушки, льется кровь испанских солдат!
В Фуэнте Вакеросе с самого начала не видели в этой войне ничего хорошего. Бог с ними, с заморскими владениями, сколько денег они съедают, сколько забирают людей! Обошлись бы вполне и без них, уж себя-то Испания прокормит. Взять хотя наши места – дайте срок, завалим всю страну сахаром не хуже кубинского! Ну, да разве генералы об этом думают, им бы только в солдатики поиграть, а мы плати...
Правда, известия о поражениях уязвили национальную гордость. Какой шум стоял на площади месяц назад, когда алькальд сообщил о разгроме испанской эскадры в Манильском заливе! Проклинали коварных янки, бранили правительство и злосчастного адмирала Монтехо, передавали фразу Дон Карлоса, претендента на королевский престол: «Мы вырвем оружие из рук тех, кто не достоин носить его, и сами займем их место!» Но вести приходили одна другой хуже, поползли слухи о ворах интендантах, о крепостях, вооруженных пушками времен чуть ли не Великой Армады, о бездарности военачальников, и теперь уже мало кто верил в победу.
Тропинка выбегает на дорогу, и Федерико присоединяется к односельчанам, идущим с поля. Его приветствуют от души: сеньор Гарсиа принадлежит к числу счастливцев, пользующихся уважением у людей всех возрастов и званий. Одни уважают его за деловую хватку, другие – за справедливость, иные – за образованность и все – за то, что в лошадях, песнях и танцах он знает толк, как истый гранадино.
– Эй, Мануэлито, ты должен повторить свою историю для дона Федерико!
И Федерико хохочет, слушая рассказ о том, как придурковатый Пепе Бельвер продал упряжку мулов цыганам, а те расплатились с ним фальшивыми монетами, которые сами же и начеканили.
Беседуя, он с привычным удовольствием отмечает, как со всех сторон постепенно обступают его дома Фуэнте Вакероса: красные черепичные крыши, белые стены с желтой каймой у основания, на балконах горшки с геранью и гвоздикой, в окнах – жалюзи из зеленых дощечек. Это тот час, когда селенье оживает. Улица наполняется народом, скрипят, вздымая пыль, тяжелые повозки, девушки с преувеличенной озабоченностью спешат к фонтану, ребятишки путаются у всех под ногами, и ласточки, целый день спавшие под карнизом, с громким писком расчерчивают фиолетовое небо.
Пересекая площадь, Федерико настораживается. Ну конечно, это старый Хоакин движется навстречу. Тем лучше! Никто не посмеет сказать, что Федерико Гарсиа дурно обращается со своими работниками, но и поблажки им он давать не намерен, иначе все хозяйство пойдет прахом. Старик сегодня не вышел в поле и хоть бы потрудился отпроситься заранее! Послушаем, что он теперь скажет.
Хоакин медленно приближается. На нем черный костюм, о существовании которого Федерико и не подозревал; морщинистое лицо торжественно, глаза глядят в одну точку. Он проходит мимо хозяина, не видя его, а тот, почему-то не решившись окликнуть Хоакина, останавливается и смотрит вслед ему до тех пор, пока черная спина старика не скрывается в дверях церкви.
Как он раньше не вспомнил, что у Хоакина сын в солдатах на Кубе!
Кто-то шумно вздыхает рядом. Это Ансельмо, почтальон. Встретившись глазами с Федерико, он вздыхает еще глубже и утвердительно трясет головой. Да, он сам этими вот руками отдал сегодня старику письмо с Кубы, где с прискорбием сообщается... И хоть бы в бою, а то просто желтая лихорадка, она там косит наших ребят хуже, чем...
Но сеньор Гарсиа больше не слышит. Тревога, которую он весь день гнал от себя, вдруг охватывает его с такой силой, что он не может больше ни минуты выносить неизвестности. Торопливо кивнув Ансельмо, он сворачивает на улицу Тринидад, сразу же видит толпу женщин у своего порога и останавливается, почувствовав постыдную слабость в ногах. А соседки, как по команде, повертываются к нему и торжествующе кричат наперебой:
– Поздравляем, дон Федерико! Сын!
2
С чего начинается мир? Прикосновения. Шумы. Пятна и очертания. Капля по капле проникают они в сознание крохотного человечка, который, впрочем, уже внесен в церковные книги под именем Федерико Гарсиа Лорки. Идут недели, месяцы; капли сливаются в ручеек, ручеек превращается в реку, и вот уже целое море звуков, цветов, форм обрушивается на ребенка с каждым его пробуждением. Звуков больше всего – разноголосая речь, треск погремушки, шаги, шорохи, скрипы, звяканье, наконец, тишина, у которой есть свой собственный голос.
Барахтаясь в этом море, ребенок не одним только слухом, а всем своим существом начинает различать в нем какие-то чередования, приливы и отливы, взлеты и падения. Мерное покачивание колыбели, однообразные движения, баюкающий напев пробуждают в нем новое чувство, отличное от голода и боли, но так же властно требующее утоления. Понуждаемый этим чувством, он захочет вновь и вновь отдаваться размеренному колыханию. Смутное ощущение своей сопричастности миру, звучащему вокруг, разбудит в нем бессмысленную радость, которая станет, быть может, первой собственно человеческой радостью в его жизни. Он научится открывать знакомые повторы и переплески в тиканье часов, в посвистыванье птиц за окном, в непонятных еще словах, раздающихся со всех сторон, в веселой суматохе солнечных пятен на стенах, в себе самом. И первые звуки, которыми он обрадует мать, – гульканье, лепет – будут подвластны все той же поющей, катящей волны стихии.
Пройдет время. Ребенок начнет говорить, узнает, как зовутся изведанные им чувства. Но это чувство всех дольше останется неназванным и неосознанным; оно будет жить где-то в глубине, тревожить по временам.
3
Придерживаемый за руку матерью, он перелезал через высокий порог и на мгновенье замирал, преодолевая желание вернуться назад, в понятный комнатный мир. За порогом находился чужой мир – огромный, пугающий, притягательный. Он бил в глаза ослепительным светом и нестерпимо яркими красками, раздражал неведомо откуда шедшими звуками и острыми запахами, а главное – был населен загадочными существами. Иные из этих существ, жужжа и звеня, проносились по воздуху, иные бегали, лая, кудахтая, иные молча стояли у стен, лишь изредка кивая и шелестя верхушками, иные – твердые и холодные – неподвижно лежали на земле, ничем не выдавая своей жизни. А то вдруг кто-то невидимый вздувал волосы на голове Федерико или брызгал водой на него сверху.
Однако мать не боялась незнакомцев. Прикасаясь к ним либо просто протягивая руку, она говорила: «собака», или: «тополь», или: «камень», и заставляла Федерико по нескольку раз произносить это слово. И странное дело, страх отступал, названная вещь уже не казалась враждебной, она становилась частью своего, знакомого мира.
Шаг за шагом, слово за словом, они приручили двор со всем, что там находилось, стали выходить на улицу, в поле. По вечерам, оставаясь один, Федерико перебирал свои богатства – перекатывал слова во рту, как леденцы, наслаждался властью, которую они давали. Он знал: стоит хотя бы про себя сказать: «собака» – и она уже тут как тут, стоит перед глазами, вывалив красный язык, приветливо помахивая хвостом. Он говорил: «конь» – и черный великан, которого вели сегодня по улице, приближался к кроватке, бесшумно бил копытом, таращил огромный глаз. И камень, который Федерико недавно вытащил из угла и отнес на середину двора, чтобы и он повидал свет – скучно ведь одному лежать там в темноте! – и этот серый камень послушно являлся на зов, улыбался всеми своими морщинами, благодарил за услугу.
4
– Опять он не спит, негодный мальчишка! Вот я сейчас позову мавританскую королеву... Сеньора королева, наш Федерико не слушается своей мамы, я уж думаю, не прийти ли вам за ним?.. Ах, пусть приходит? Ну, тогда я гашу лампу и ухожу!..
Ну, не надо, не надо, мой маленький, мама с тобой. А-а-а! а-а-а!
Расхаживая с сыном по комнате, донья Висента еще надеется убаюкать его одним напевом, но Федерико ждет – молча, широко раскрыв темные глаза, и мать покоряется. Не без тайного удовольствия вступает она в ежевечернюю игру. Из бессловесного напева возникают слова колыбельной:
Баю-баю, баю-баю, баю-баю, кто идет, кто привел коня на речку? Только конь воды не пьет...Слова песни просты, необыкновенную значительность придает им мелодия – печальная и тревожная. Шаг за шагом по ночной дороге за неизвестным человеком, который ведет меж темных ветвей своего коня. Кто этот человек, знать не нужно; слушай и смотри – полутьма, черная фигура мужчины, черный лоснящийся лошадиный круп. Спускаются к берегу, к черной воде, но конь останавливается, застывает, движущаяся картина меркнет, обрывается одновременно с голосом матери... и с первым же звуком этого голоса начинает развертываться в прежнем порядке. Снова темная дорога, человек и конь, снова все полно непонятного смысла...
Так повторяется много раз, пока донья Висента не теряет терпения: мальчик и не думает засыпать, он часто дышит, глаза блестят.
– Ну довольно! Сейчас же спать, или отцу скажу!
Отец – это не мавританская королева, с ним шутки плохи. Федерико поворачивается на бок, зажмуривается и в одиночку отправляется в свое ночное путешествие.
5
Послушных детей навещают ады – добрые феи, которые живут в полях и оливковых рощах, летают по воздуху и свободно проходят сквозь стены. Федерико очень хотелось их увидеть, но послушанием он не отличался, уж если кто должен был его навестить, так это скорее коко – существо ни на что не похожее, неописуемое, невообразимое и тем особенно ужасное.
И все же однажды вечером, вбежав в спальню, Федерико застал там аду. Белая, просвечивающая насквозь, она сидела на окне, подобрав под себя ноги, и тихонько покачивалась. Федерико не успел ни удивиться, ни испугаться – ада легко соскользнула с подоконника и растаяла в темноте. Когда он подбежал к окну, там уже ничего не было, кроме легкой занавески, вздуваемой ветром.
А вот домового – дуэнде – никак не удавалось подстеречь, хоть он и напоминал постоянно о своем присутствии: то заскребется под полом, то сбросит чашку со стола, а то, напугав лошадей в конюшне, заставит их храпеть и бить копытами в стену. Проказник он оказался неутомимый, и избавиться от него было невозможно. Отец рассказал, что одного крестьянина дуэнде до того довел своими проделками, что бедняга решил перебраться в другое жилище. Вот, уже вкатив во двор нового дома последнюю тележку с вещами, он спрашивает жену:
– Ничего не забыли?
И вдруг в ответ ему визгливый голосок из умывальника:
– Не беспокойся, все уже здесь!
Озорник домовой нравился Федерико куда больше всех фей. Наверное, это маленький – с зеленый апельсин величиной – чертенок, взъерошенный и хлопотливый. Хорошо бы с ним подружиться!
6
Дни бесконечны, ночи огромны, время еле движется. Правда, вокруг кое-что изменилось. Они живут уже в другом доме, побольше и попросторней. В гостиной появился блестящий черный комод, мать умеет извлекать из него удивительные звуки – они ни на что не похожи, но от них делается то беспокойно, то весело.
Но вот донья Висента перестает присаживаться к инструменту: она больна, и няня, которая теперь ходит за Федерико, говорит, что у него скоро будет братец.
Действительно, брат появляется. Его зовут Луис, и он такой маленький, что даже не кричит, а едва попискивает. Не успевает Федерико с ним познакомиться, как Луиса кладут на стол в нарядном ящике и ставят возле него свечи, зажженные среди бела дня. Няня объясняет: Луис – счастливец, милосердный господь взял его к себе в ангелочки, и он теперь будет жить на небе.
Никто, однако, не радуется тому, что Луис станет ангелочком; женщины плачут, отец ходит насупившись. И как же брат попадет на небо, если его – это Федерико понял из разговоров – положат в яму и сверху засыплют землей?
Из множества секретов, которыми полна жизнь взрослых, этот был самым скверным, не хотелось и расспрашивать. «Умер», «смерть», – повторяли кругом; значение этих слов оставалось неясным, но все, даже отец, произносили их одинаково – покорно и бессильно, и это было хуже всего. Брат исчез, жизнь пошла по-прежнему, но Федерико навсегда запомнил бесцветное пламя свечей и желтое личико на белой подушке. И еще одно он подслушал: будто бы всех это ждет. И мать? И отца? И его, Федерико? Он тоже будет лежать в ящике, а потом... Невозможно было поверить. Но иногда он верил – и тогда хотелось рыдать, выть, забиться куда-нибудь.
Как-то солнечным утром няня оставила его поиграть во дворе, строго-настрого наказав не заниматься глупостями вроде разговоров с муравьями. Разумеется, Федерико ее не послушался. Что муравьи не понимают человеческого языка – это он знал не хуже няни. Но никому ведь не объяснишь, что, когда ты остаешься один, все становится совсем другим, словно в сказке или во сне, и в этой, другой жизни возможны и не такие штуки, как разговоры с муравьями... Оловянные солдатики и картонная лошадка томились без дела; муравьиный владыка был строг и справедлив, и крохотные подданные деловито сновали с его поручениями во все стороны.
Вдруг он понял, что голос, произносящий его имя над самым ухом, незнаком ему. Федерико поднял голову и чуть не зажмурился. Сказочная волшебница возвышалась над ним, загораживая собой солнце, да и сама она слепила глаза не хуже солнца – таким пожаром пылали ее разноцветные юбки – желтые, багровые, алые, апельсиновые, так блистали и переливались на ней кольца, браслеты, ожерелья, и так сверкала улыбка на ее смуглом лице!
– Маленький Федерико, – повторяла она, – подари мне лошадку для моей девочки, и я открою тебе одну тайну, которую никто другой тебе не откроет.
Не отводя глаз, мальчик нашарил рукой игрушку и молча протянул ее женщине. Он не удивился, откуда она знает, как его звать: все это была другая жизнь, и ничему в ней удивляться не следовало. Лошадка вмиг пропала куда-то, а незнакомка стремительно присела, отчего пышные юбки ее диковинным цветком распластались по земле, а белые кольца, зазвенев, покатились от запястий к локтям. «Нравятся тебе мои браслеты? – спросила она, перехватив взгляд мальчика. – А знаешь, из чего они сделаны? Из луны! Ты когда-нибудь думал, куда девается луна каждый месяц? Ее ловят мои братья-кузнецы, они умеют ковать всякие украшения... Ну, а теперь слушай: создавший все на свете создал розу вместе с колючкой. Они всегда вместе – радость и страдание. Тот, кто ищет одно без другого, умрет дурной смертью, маленький Федерико!»
Грудной, вкрадчивый голос приятно щекотал слух, наводил дремоту. Федерико мало что понял, вот только слово «смерть» опять резнуло его, и ему захотелось спросить волшебницу об этой тайне. Что значит «дурная смерть» – или есть еще другая, хорошая? Но тут прибежала няня, пронзительно кудахтая. Окаянные цыгане, нет на них погибели, шатаются по дворам, только и ищут, чего бы стянуть! Ну, чего привязалась к ребенку, бесстыжая, или сглазить задумала?
Волшебница оказалась доброй, она не заставила няню остолбенеть, не превратила ее в лягушку, даже не удостоила ответом, а просто поднялась и поплыла, покачиваясь, на улицу. Няня напустилась на Федерико: почему он сразу ее не кликнул да что наговорила ему эта ведьма? Но он только молчал, уставившись в землю.
Ночью он проснулся. Лунный свет стоял в комнате. От этого ли света или от грустной прозрачной музыки, лившейся из гостиной, было нестерпимо жаль себя, жаль всех, и казалось, будто что-то большое не помещается внутри. Огромная апельсиновая луна смотрела в окно, слегка покачиваясь в такт музыке, и эти волны подносили ее все ближе, ближе...
И вот она уже спускается с подоконника, шурша своими пышными юбками, сверкающая улыбка пересекает смуглое лицо. Музыка плачет и ликует, подступает к самому горлу, требует немедленных и прекрасных поступков. Нет, он не позволит кузнецам тронуть это лицо, он спасет ее. Беги, луна, беги! А, она хочет, чтобы Федерико бежал с нею вместе на небо... Но ведь на небо – это значит умереть, почему же ему не страшно, а радостно?
Заслышав не то вскрик, не то всхлип, донья Висента обрывает игру и торопливо входит в комнату. Нет, ей показалось. Мальчик спит. В лунном свете блестит мокрая дорожка на щеке.
7
Жить становилось все интересней.
Старая Марикита втаскивала в кухню свою корзину. Пока мать торговалась с ней, покупая спаржу и дикий салат, старуха успевала рассказать о многом. Например, о том, как однажды, еще девчонкой, она видала самого Сант-Яго. Ровно в полночь он летел на белом как снег коне по звездному июльскому небу, и сотни ангелов неслись за ним. Или о трех своих сыновьях – таких красавцев и храбрецов поискать было во всей округе! Но двоих старших убили – подло, из-за угла. Убийц потом нашли, посадили в тюрьму... но что тюрьма? Там курят, там пьют, там играют на гитарах! А два моих цветка увяли, смолкли, могилы их заросли травой... Младший, Мануэль, самый ласковый и веселый, пошел на войну и пропал где-то в далеких краях. И все-таки материнское сердце знает: он жив, он вернется... Как-нибудь на рассвете он подкрадется к родной хижине и швырнет в окошко целую охапку маков, как делал еще мальчишкой.
Либо отец, глянув в окно, за которым свирепствовала осенняя непогода, ронял: «Ну и ливень! Словно в тот день, когда застрелили Сафру и Кармону». Тут уж нужно было не отставать от него до тех пор, пока он не сдастся и не присядет в свое любимое кресло. Сафра и Кармона были бандолерос – разбойники, державшие когда-то в страхе всю провинцию. Впрочем, не всю: бедных людей они не обижали, зато уж ростовщикам, злым чиновникам, неправедным судьям не давали спуску. Неразлучной парой они носились от селения к селению, всегда находя приют у крестьян. Гражданские гвардейцы не успевали менять подковы своим коням, преследуя Сафру и Кармону, но те только смеялись над ними. И все-таки нашелся предатель, заманил их в засаду. Разбойники защищались как львы; только мертвыми достались они гвардейцам, и те на радостях возили их тела под дождем по окрестным селениям, показывая крестьянам.
Дон Федерико рассказывал и о вовсе недавних временах, когда по всем дорогам гвардейцы гонялись за бандитами – правда, уже не такими благородными, как Сафра и Кармона. «А помнишь, как тогда, на гумне?..» – говорил он дяде Франсиско, когда тот приходил к ним вечером, и дядя задумчиво кивал головой. Оба брата–были они в ту пору еще юнцами – укладывали снопы, помогая работникам, как вдруг откуда ни возьмись двое незнакомых людей! Один из них был бледен, как известка; держались они учтиво и попросили только воды да позволения переночевать. Кому же в этом отказывают? Незнакомцы улеглись, остальные за ними. Посреди ночи крик: «Лежать, и ни с места!»
Поощренный лицом сына – рот разинул, глаза словно блюдца, – дон Федерико рявкал так, что язычок пламени в лампе начинал судорожно метаться.
– Открываем глаза: фонари, ружья, черные треуголки! Стали они обыскивать всех по очереди, дошли до наших гостей, и тут все увидели, что один из них уже холодный. Он, оказывается, был ранен, так и истек кровью. А второй стоял, прижавшись к стене, смотрел на свет, не мигая, и, когда гвардейцы набросились на него, ни слова им не сказал, только оскаливался. Увели они его, а нам всем сержант велел помалкивать о том, что видели... После слышим вдали выстрел, за ним другой...
А то вдруг обнаруживалось, что и Фуэнте Вакерос, и другие селения, и даже сама Гранада, о которой Федерико уже столько слышал, – все это когда-то принадлежало чужим людям, маврам, и было отвоевано в жестокой войне. Рассказы матери об этой войне походили на сказку, но в сказке всегда известно, кому надо сочувствовать, кого ненавидеть, а тут иногда он не мог понять, за кого мать – за испанцев или за мавров? И те и другие были храбры и великодушны, и те и другие совершали великолепные подвиги.
Конечно, хорошо, что мы их победили, и все же Федерико тайком жалел злополучного короля Боабдиля, который, навеки покидая Гранаду и в последний раз глядя на нее с одной из окрестных гор, тяжко вздохнул и разрыдался. Так с тех пор эта гора и называется «Вздох мавра». А тогда ведь никто не пожалел Боабдиля. Даже его старая мать Айша, с презрением глянув на сына, сказала: «Что ж, оплакивай теперь, как женщина, то, что не сумел защитить, как мужчина!»
Битвы заполнили дни Федерико. Он был кастилец Пульгар, прозванный Доблестным Воителем. С пятнадцатью рыцарями он врывался ночью в мусульманскую Гранаду, пробивался к самой мечети и приколачивал к ее дверям свой щит с написанной на нем молитвой «Ave Maria».
Потом он был мавр Тарфе. Сорвав щит с дверей опозоренной мечети, он привязывал его к хвосту своей лошади и являлся во вражеский стан, вызывая на поединок всех желающих. А затем он становился рыцарем Гарсиласо де ла Вегой и опрокидывал мавра в честном бою.
Его прыжки и вопли утомляли донью Висенту. Отец усмехался: мужчина должен быть свиреп. Нет, он не был свирепым. По вечерам, прежде чем уснуть, он воскрешал всех убитых, усаживал побежденных пировать с победителями. Снова разгуливали по дорогам бесстрашные молодцы Сафра и Кармона, и сыновья Марикиты – все трое, один краше другого, смеясь, переступали ее порог.
8
У взрослых была своя игра: песня. Стоило матери начать вполголоса за шитьем какой-нибудь романс – а знала она их множество, – и словно приоткрывалась дверь, за которой происходили увлекательные события. Воевали кастильцы и мавры, соперничая друг с другом в благородстве, неустрашимый Бернардо дель Карпио сражался, чтобы освободить своего отца, мужчины и женщины терзались от любви, наслаждались любовью, совершали подвиги во имя любви. Любовь была счастьем, болезнью, безумием, горем.
Не меняя выражения лица, донья Висента становилась поочередно каждым из тех людей, о которых пела, – инфантой, молившей королевского пажа прийти к ней ночью в тенистый сад, и возлюбленным инфанты, робким Херинельдо. От имени дона Бойсо, что отправился в мавританскую землю найти себе подругу, она заводила разговор с девушкой, повстречавшейся у источника. Затем отвечала девушка, которая оказывалась христианкой, томящейся в плену, и дон Бойсо увозил ее с собой. Семь лиг скакали они в молчании, но вот показывались родные поля, роща олив – и голос матери начинал дрожать:
Лужайки, лужайки из жизни счастливой! Король и отец мой сажал здесь оливу, я эту оливу держала руками, а мать-королева здесь шила шелками, а брат мой дон Бойсо скакал за быками.Тайна раскрывалась; сходились приметы; взамен невесты королевский сын дон Бойсо вез домой утраченную и найденную сестру.
Не всегда конец был столь благополучен. Романс о Мориане поразил Федерико; он и начинался как-то внезапно – возгласом, полным страха и тоски: «Что ты дала мне, Мориана, что ты дала мне с этим вином?» И жестокая Мориана признавалась дону Алонсо, своему неверному возлюбленному, что всыпала ему в вино яду. Напрасно молил ее дон Алонсо об исцелении, напрасно обещал на ней жениться – было уж поздно, и несчастному оставалось лишь покорно вздохнуть в заключение:
Ах, как матери мне жалко, сына ей уж не увидеть!Все кругом играли в ту же игру – уличный разносчик, выпевавший по утрам свой прегон; погонщик мулов, что брел за телегой, мурлыкая себе под нос; прачки, стиравшие белье на речке; крестьяне, молотившие пшеницу, – их песня так и называлась «Молотильная» – «Trillerа». Многим песням выучился Федерико у няни. Но больше всего ему нравились те, которые слышал он от отца.
В иные дни дон Федерико возвращался домой в особенно хорошем расположении духа. Непонятно, как догадывались об этом соседи и родственники, но чуть смеркнется – они уж входили, рассаживались, обменивались новостями, всем своим видом показывая, что зашли без всякой определенной цели, просто повидаться, поговорить... Приходили и работники, которых отец встречал с подчеркнутым радушием: это на поле они ему работники, а здесь – гости!
Бесконечно тянулся разговор о новых угрозах германского кайзера, о том, что племянница алькальда наконец-то выходит замуж... Федерико сгорал от нетерпения и страха – а ну, как этим дело и ограничится, поговорят и разойдутся? – но молчал, зная, что отец не любит, когда его упрашивают. Все должно было произойти само собою: случайно дону Федерико подвертывалась под руку гитара, он невзначай брал ее, перебирал струны, морщился, подстраивал... Окружающие переговаривались, как бы ничего не замечая, и только когда раздавались совсем другие аккорды – стройные, звучные, все переставали притворяться, поворачивались, застывали.
Полузакрыв глаза, запрокинув голову, отец пел высоким, неузнаваемым голосом – казалось, поет не он, а какой-то другой человек, спрятанный в нем. Человек этот не то вспоминал забытую песню, не то сочинял ее заново: он повторял начало, останавливался, нащупывал продолжение... Странная, заунывная мелодия не сопровождала слова, как в романсе, а будто спорила с ними; голос то выговаривал строку наскоро, то вдруг взвивался куда-то совсем высоко и там трепетал и колебался без слов.
«Когда я умру,– тосковал певец, и гитара отвечала ему стоном, а он стонал в ответ гитаре: «ай!»– исполни просьбу мою... Когда я умру,– начинал он снова и снова вздыхал: «бог мой!»– вынь ленту из черных твоих волос,– и опять «ай!»,и голос, звеня, пускался блуждать, пока не замирал на какой-нибудь немыслимой ноте, но тут восторженные восклицания слушателей: «оле!»– оживляли его, – и руки мне повяжи...»
Федерико знал, что сначала отец будет петь самые жалобные песни, где слово «смерть» повторяется так же часто, как «любовь», и что эти песни он будет петь в одиночку, но потом гости потребуют более веселых куплетов и станут им подпевать. А потом закричат: «Севильяна!», или: «Алегрия!» – и начнут очищать место для танцев, и тут-то мать отправит Федерико в постель...
Однажды в хоре голосов, подхвативших фандангильо, донье Висенте послышался незнакомый срывающийся голосишко. Она обернулась: сын сидел в углу, запрокинув голову, полузакрыв глаза. Голосишко был верный; мать обрадовалась.
9
Пастуший источник – так звали его родину: Фуэнте Вакерос. С тех пор как Федерико помнил себя, два эти слова, слившись в одно, звучали вокруг. В них было все – фонтан на площади, бульканье и плеск, веселые голоса, белые дома, а за ними бесконечная зеленая равнина... Фуэнте Вакерос, страна детства, главное место на земле!
И вдруг они уезжают отсюда. Недалеко, в соседнюю деревню, она ближе к железной дороге. Этого требуют отцовские дела, те самые дела, о которых известно, что они идут все лучше и лучше. А как называется эта деревня? Отвратительно! Ну, а все-таки как? Вот так и называется: Отвратительная, Asquerosa.
Отвратительная... Они переезжают в Отвратительную. Там будут отвратительные дома, противные люди, мерзкая погода. «Где вы живете?» – будут их спрашивать, а они станут отвечать: «В Отвратительной». Что ему до отцовских дел, до железной дороги!
Оказалось, что Аскероса почти ничем не отличается от Фуэнте Вакероса: дома там были такие же белые, люди такие же приветливые, и то же бескрайнее поле кругом. Здесь Федерико нашел себе новых приятелей, здесь у него появился брат Франсиско, а потом и сестренки – Кончита и Исабелита. От Фуэнте Вакероса в памяти осталось только название.
Но оно не забылось. Слово «Аскероса» всякий раз вызывало у Федерико чувство, близкое к тошноте. Невозможно было привыкнуть к этому слову – липкому, грязному, омерзительному. Другие как знают, но он никогда в жизни не скажет, что живет в Аскеросе. Его родина – Пастуший источник, вы слышите: Фуэнте Вакерос!
10
Обмакнув пальцы в святую воду, Федерико старательно крестился и становился рядом с матерью, опустившейся на колени. Неслыханная музыка гудела под сводами. Раскрашенные фигуры святых в полумраке казались живыми. А в глубине, читая молитвы, двигался человек в расшитой золотом одежде; он поворачивался спиной, поднимал руки, и мальчик в красном нагруднике подавал ему сверкающие предметы.
Человека этого Федерико хорошо знал – он заходил к ним домой, шутил с отцом, ласково беседовал с матерью, дрожащей рукой гладил детей по волосам. Но здесь, в церкви, старенький падре становился таким же необыкновенным, как и все, что его окружало. В его движениях и возгласах, в его поблескивающем наряде заключалась какая-то сила, заставлявшая людей плакать, прижимать руки к груди, видеть сны наяву. Приходилось даже легонько поталкивать мать, чтобы напомнить ей о своем существовании.
Федерико попробовал перенести все это в свои игры. В углу дворика была скамеечка, вкопанная в землю; он поставил на нее изображение святой девы в рамке, положил несколько цветков, заставил братишку Паките прислуживать... Ничего не выходило! Напрасно он завертывался в одеяло, бормотал, нагибался, воздевал руки – одеяло оставалось одеялом, скамейка – скамейкой, игра – скучным притворством. Обычно хватало палки, чтобы стать на целый день лихим наездником, он умел в одиночку изобразить целую корриду, чего же недоставало теперь?
А что, если?.. Нет, это не годилось, чужие взгляды всегда только мешали. И все-таки, если попробовать? Труднее всего оказалось упросить мать оторваться от домашних дел; наконец она пришла. Федерико усадил ее перед скамеечкой – и сразу же почувствовал: вот оно! Теперь это была настоящая церковь, и сам он превратился в настоящего падре, и глаза доньи Висенты были полны настоящих, готовых вот-вот пролиться слез.
Изображать церковную службу стало любимым занятием Федерико, и донья Висента, не на шутку растроганная благочестием своего первенца, в мечтах уже видела его архиепископом Гранады. Но как-то утром в Аскеросу заявилась компания чудно говоривших людей под предводительством одноглазого старика. С непостижимой быстротой эти люди соорудили на площади балаган из досок и парусины, и вечером дон Федерико со всей своей семьей сидел в первом ряду на представлении кукольного театра.
Вышел сеньор директор; он говорил долго, складно и смешно, а его единственный глаз все время подмигивал зрителям, будто заключал с ними особый уговор. Потом он раскланялся – все захлопали – и ушел за ширму, над которой почти сразу же появился дон Кристобаль.
Лицо у дона Кристобаля было неподвижное и лукавое, голос пискливый. Он присел на ширму, поболтал ногой, почесал голову – получилось совсем по-человечески, и было в этом что-то невыразимо смешное. Вынырнули другие куклы – цыган с кольцом в ухе, гвардеец в черной треуголке, доктор в огромных очках. С каждым из них дон Кристобаль ругался своим пронзительным голосом, а в заключение спора брал двумя руками огромную дубинку и с треском бил противника по голове.
Покончив с доктором, он сам решил заняться лечением. Явился больной с костылем под мышкой. Дон Кристобаль и тут пустил в ход дубину... Хохот сотрясал балаган: куклы играли в людей – весело, нагло. Федерико боялся даже смеяться, чтобы не пропустить чего-нибудь. Господи, сделай так, чтобы это счастье никогда не кончалось!
Нашлась и на дона Кристобаля управа – он решил жениться. К нему привели Роситу, готовую пойти за проезжего молодца, за святого отца, за военного, за плута отменного, за генерала сердитого, за дурака набитого или хоть за целых двадцать – только бы повенчаться! Дон Кристобаль все время заставал жену то с цыганом, то с гвардейцем, то с доктором, то с больным, и такие пошли между супругами объяснения, что родители начали тревожно переглядываться поверх головы Федерико. Но тут, наконец, крокодил, схватив дона Кристобаля поперек живота, утащил его куда-то вниз. Директор вышел на аплодисменты – потный, красный, с надетой на руку безжизненной куклой, вовсе не похожей на того весельчака и буяна, который только что скандалил там, над ширмой.
Назавтра же скамеечка во дворе была превращена в первый ряд театра. Из одеяла, повешенного на веревку, вышла превосходная ширма; в куклах и игрушках недостатка не было. Правда, мать, недовольная чем-то, не хотела смотреть его спектакли, зато Пакито эти спектакли пришлись по вкусу больше, чем мессы и проповеди. А потом, прослышав про его театр, во двор стали собираться соседские дети, и Федерико, присочиняя все новые подробности, без конца разыгрывал перед этой шумной публикой невероятные похождения дона Кристобаля.
11
– Хлеба! – услыхал он как-то раз и, выглянув за ворота, увидел двух оборванных мальчишек. Теперь уж он знал, что это цыгане, и не здешние, оседлые – не хитанос, а бродячие – унгарос.
– Хле-еба! – надтреснутым голоском тянул тот, что ростом был с Федерико, а другой, постарше, лишь угрюмо смотрел исподлобья.
Повернувшись, Федерико бросился в кухню, схватил самый большой из хлебов, понес.
– Куда ты? – всполошилась мать, но он только кинул ей на бегу:
– Там два мальчика, они хотят есть!..
Донья Висента поспешила за сыном. Две пары грязных рук, судорожно вцепившись в хлеб, тянули его, каждая в свою сторону.
– Погодите, я принесу ножик, разделим! вскрикнула она, прижимая к себе Федерико и с жалостью глядя на голые тела, виднеющиеся из-под лохмотьев.
Но старший, не поднимая головы, рванул добычу к себе, презрительно сплюнул и пробормотал:
– Мужчины делят хлеб руками. Ножи не для этого!
Он ловко переломил хлеб о колено, протянул половину товарищу и буркнул:
– Пошли, Амарго!
Младший тоже сплюнул и побрел за ним, не оборачиваясь назад.
Перед сном Федерико играл, как обычно, в им самим придуманную игру: рисовал домик и помещал в нем себя и всех тех, кого любил, за кого безотчетно боялся, – мать, отца, сестренок, братишку, теплого, ласкового щенка, плюшевого одноухого зайца... Стены домика он делал как можно толще, чтобы служили надежной защитой от непогоды и бури, от всяческого зла, свирепствовавшего снаружи.
На этот раз ему захотелось взять в свой домик и тех голодных мальчишек, которых он видел сегодня. Однако из этого ничего не выходило. Цыганятам нечего было делать в тепле и уюте, они целиком принадлежали миру, бушующему за стенами.
Но без них и ему почему-то неинтересно показалось оставаться в уютном домике. Любимая игра разонравилась Федерико. Больше он не играл в нее.
12
Жил когда-то в Аскеросе молодой башмачник, тачал ботинки и туфли, не брезговал и мелкой починкой, все же свободное время посвящал чтению. Односельчане его были и сами народ грамотный, книги пользовались здесь почетом, но увлечение Антонио Родригеса Эспиносы – так звали башмачника – вскоре приняло характер чрезмерный и разрушительный. По нескольку дней он не брал в руки ни шила, ни молотка; груда обуви пылилась в углу, а когда являлись разгневанные заказчики, Антонио приглашал их полюбоваться новым романом Переса Гальдоса либо с воодушевлением развертывал перед ними программу ассоциации свободных общин, изложенную в брошюре знаменитого анархиста Педро Кропоткина.
В конце концов жители Аскеросы стали ездить в соседнее селение Пинос Пуэнте; для тамошнего башмачника наступила эпоха процветания, Антонио же пришлось подумать о перемене профессии. Он так и сделал: засел за учебники, потом съездил в Гранаду и сдал там экзамены, а вернувшись, предложил Аскеросе свои услуги в совершенно новом качестве – школьного учителя.
Предложение было встречено без восторга: учитель-башмачник – это смахивало на андалусский анекдот, да потом эти его идеи, еще начнет забивать ими головы детям. Но выбирать не приходилось, школы в деревне до сих пор не было. Решили попробовать – и вскоре не могли нахвалиться учителем. Дети радовали родителей успехами, без конца рассказывали, как интересно на уроках у дона Антонио. Побывав на этих уроках, и алькальд со священником признали, что в башмачнике на самом деле пропадал педагогический талант, – стоило посмотреть, как он умеет увлечь учеников, как терпелив и внимателен. Излишне пылок, правда, но это пройдет.
Прошло много лет. Учитель Родригес Эспиноса стал одним из самых уважаемых граждан Аскеросы. Давно уж не засиживался он по ночам над книгами и о былой восторженности вспоминал с неловким чувством. Профессия учителя оказалась ремеслом, не хуже и не лучше всякого другого. Дети делились на прилежных, тупиц, озорников; для воздействия на них существовала целая система наказаний и поощрений, и, убеждаясь в безошибочности этой системы, он каждый раз испытывал какое-то горькое удовлетворение.
Худенький мальчик, которого привела к нему супруга сеньора Гарсиа, озорником не был, что вовсе не обрадовало дона Антонио, так как самые способные ученики принадлежали именно к этой категории. О прилежании и говорить нечего: на уроках Федерико сидел с отсутствующим видом, а когда учитель спрашивал его о чем-нибудь, поднимался и глядел удивленно, словно только что проснувшись. Дон Антонио пытался расшевелить его – подбадривал, упрекал, стыдил, но все оказалось бесполезно: мальчик отвечал учителю прямым взглядом, в котором не было ни раскаяния, ни смущения, а только безграничная отчужденность.
И все же что-то мешало учителю зачислить мальчика в разряд тупиц и махнуть на него рукой. Там, за этими темными глазами, находился ревниво охраняемый мир, недоступный для него. Неужто недоступный? Это становилось уже вопросом самолюбия. Он решил поговорить с Федерико наедине, тщательно продумал разговор: начать отечески ласково, добиться чистосердечных ответов, затем суровость, пусть даже расплачется в конце концов, и тогда довершить завоевание мягкостью. Приказав Федерико зайти к нему после уроков, дон Антонио нарочно задержался: пусть посидит один в незнакомой обстановке.
Дверь была неплотно притворена; прежде чем войти, он поглядел в щель. Мальчик сидел посредине комнаты на стуле – тоненькие ноги не доставали до пола – и вертел головой, следя за солнечным зайчиком, метавшимся по стенам. «Опять кто-то балуется с зеркалом в саду», – мельком подумал учитель, толкая дверь. Федерико обернулся на скрип. Застигнутая врасплох улыбка дрожала на его лице; глаза, обычно сумрачные, доверчиво приглашали порадоваться маленькому чуду. И вдруг дон Антонио услышал в себе самом такую же бескорыстную радость. Чувство свободы и легкости охватило его. Все подготовленные слова провалились куда-то, новых не хотелось подыскивать. Неожиданная мысль – минуту назад она показалась бы нелепой – пришла ему в голову.
Сперва Федерико ничего не понял. Он ждал выговора, а учитель молчал и смотрел на него, словно впервые видел. Потом дон Антонио подошел к книжному шкафу, достал оттуда толстую книгу и уселся с ней в кресло. Федерико подумал уже, что учитель забыл о его присутствии, но тут дон Антонио взглядом призвал его ко вниманию и принялся не то рассказывать, не то читать вслух.
– «В некоем селе ламанчском... – сообщил он доверительно, – не так давно жил-был один из тех идальго, чье имущество заключается в фамильном копье, древнем щите, тощей кляче и борзой собаке».
Мальчик приуныл: дело грозило добавочным уроком. Все же он попробовал вслушаться. Это не было похоже ни на учебник, ни на книжку о послушных и благочестивых детях, которую им с братом читали дома. Он припомнил отцовские рассказы, только в рассказах все происходило быстро, а здесь наоборот – медленно-медленно. Почему было так интересно узнавать, как чистил незадачливый идальго свои заржавевшие доспехи, как он испытывал их и подыскивал подходящее имя своей кляче?
Кое-что учитель пропускал, кое-что пересказывал своими словами, а сам все посматривал: ну как? Мальчик слишком мал, не стоило, быть может, начинать с этой книги. Но вот Федерико ощупью, словно слепой, слез со стула, подошел к учителю, громко задышал ему в щеку. В расширившихся темных глазах стояло то самое отсутствующее выражение, которое обычно выводило из себя дона Антонио. Сейчас оно наполнило его торжеством.
Так началась их дружба. В классе все оставалось по-старому, разве что учитель стал снисходительнее, а ученик – чуточку внимательней. А после уроков Федерико забирался в комнату дона Антонио, тот раскрывал книгу на заложенном месте, и стены расступались, а коврик под ногами превращался в каменистую дорогу, по которой шли они, не отставая ни на шаг от Рыцаря Печального Образа.
Да, это был самый настоящий рыцарь – искатель приключений, защитник обиженных, не уступавший в благородстве и доблести Сиду Руй Диасу или Бернардо дель Карпио! Только те, рыцари из романсов, обитали в своем особенном мире, никогда не покидая его пределов, не смешиваясь с обычной жизнью. Дон-Кихот же был сухопарый, нескладный, он выезжал в поле через ворота скотного двора, ел скудный трактирный ужин, ночевал в хижине у козопасов. Он вполне мог бы заявиться и к ним, в Аскеросу, – легко было представить, как он едет по улице с медным тазиком на голове, а мальчишки, хохоча, бегут за ним. И тем не менее человек этот вел себя, как сказочный герой. Никакие препятствия, никакие разочарования не могли его остановить. Великаны оказывались ветряными мельницами, неприятельское войско – стадом баранов; Дон-Кихота колотили, обманывали, черной неблагодарностью отплачивали ему за добро. А он все-таки сражался за свою правду, и его упорство не казалось Федерико смешным.
Провожая мальчика домой, дон Антонио рассказывал о других книгах. Увлекаясь, он начинал говорить сбивчиво, произносил незнакомые имена, но Федерико слушал жадно, не переспрашивая, как слушал бы путешественника, возвратившегося из неведомых стран. Каждая книга была такой страной, под любым переплетом скрывалась дверь в чудесный мир, и при мыслях о приключениях, ожидающих его в этом мире, у Федерико дух захватывало.
В ответ он делился с учителем своими секретами, рассказывал ему о таких вещах, которые не доверил бы никому другому. Например, о тополях, находившихся вблизи дома сеньора Гарсиа. Там стояло одно старое дерево, окруженное молодыми топольками, – точь-в-точь дедушка со своими внуками. Если подкрасться к ним незаметно, то можно расслышать, как ворчит тополь-дедушка и как внуки, оправдываясь, бормочут что-то в ответ.
Дома расспрашивали, что было в школе. Мать вздыхала: где это видано, чуть не каждый день задерживаются с этим чтением! Не беда, вступался отец, над книгой можно посидеть и подольше. Особенно над такой книгой, как «Дон-Кихот». Навряд ли найдется другое сочинение, где бы так прекрасно была высмеяна злосчастная страсть к мечтаниям. Сколько вреда принесла эта страсть нам, испанцам! Молодец дон Антонио: отвращение к пустым бредням нужно воспитывать с детства.
А дон Антонио на обратном пути останавливался под тополями и подолгу стоял, прислушиваясь к поскрипыванию старого расщепленного ствола, к невнятному лопотанию листьев.
13
В той стороне, где вставало солнце, находилась Гранада. Казалось, там не один город, а несколько. Была, например, отцовская Гранада – город контор, складов, магазинов. Дон Федерико то и дело отправлялся туда, парадный и озабоченный, а возвращался усталый, но довольный, с кучей подарков для семьи.
Гранада, где родилась и провела юность донья Висента, вся состояла из тихих садов и тенистых аллей, по которым прогуливались задумчивые девушки. В этот город не ездили, его только вспоминали, хотя в особенно ласковые минуты мать и говорила Федерико: «Вот погоди, возьму тебя в Гранаду...»
А послушать учителя, так выходило, что Гранада – это какой-то сплошной музей: мавританские дворцы и башни, собор, воздвигнутый в XVI веке, старинные дома, в которых жили исторические герои и знаменитые писатели.
Была еще одна Гранада – ее Федерико представлял себе в виде нагромождения влажных камней, похожих на заплаканные лица. Эти лица смутно брезжили в его воображении всякий раз, когда он слышал романс о Мариане Пинеде, казненной за то, что не выдала заговорщиков:
Что за горестный день в Гранаде — даже камни стали рыдать, как пошла на казнь Марьянита, но друзей отказалась предать...Город, который открылся Федерико в тот день, когда мать наконец-то исполнила свое обещание, оказался похожим сразу на все описания и в то же время ни на что не похожим. Подобное чувство испытал он над переводными картинками, увидев впервые, как под мокрыми пальцами, стирающими верхний слой бумаги, тусклый рисунок превращается в нечто ослепительное, праздничное, блистающее непросохшими красками.
Все Гранады, о которых он слыхал, смешались здесь в пестром беспорядке. Трамвай – новейшее электрическое чудо – громыхал и звенел возле древних ворот Эльвиры, слоноподобной каменной громады, стиснутой между скучными жилыми домами. В проеме каменной арки, изукрашенной затейливой резьбой, красовалась вывеска: «МЕБЕЛЬ. ПРИНИМАЮТСЯ ЗАКАЗЫ. ЦЕНЫ ТВЕРДЫЕ».
На площади Пасео дель Салон бронзовый Колумб, преклонив колено перед королевой Исабель, горделиво развертывал карту неведомых земель, а кругом прогуливались девушки в светло-розовых платьях.
Впереди, за морем крыш, на зеленом пригорке высилась Альамбра – мавританская крепость, знакомая Федерико по многим рисункам. Но разве могли эти рисунки рассказать о том, как сумрачно выделяются темно-красные зубчатые стены и башни на синем небе? Разве кто-нибудь предупреждал, каким маленьким чувствуешь себя рядом с уносящимся в небо собором и как повсюду следят за тобой в Гранаде безмолвные снежные вершины, встающие за Альамброй?
А цветы! Пунцовые, желтые, голубые чашечки свисают с балконов и террас, выглядывают из окон, покачиваются за железными прутьями оград. Ползучие растения взбираются до самых крыш, извиваясь по белым стенам, как зеленые змеи. Букеты в руках у встречных женщин, розы в их прическах, и даже в гриву ослика-водоноса вплетены виноградные листья.
Первое время Федерико не оставляло ощущение, будто весь город окутан облаком, погружен во что-то вроде тумана или дыма. Но воздух был настолько чист и прозрачен, что можно было различить все оттенки зелени на холме Альамбры – от яркой веселой травы до густых, почти черных кипарисов. Только потом Федерико понял: то, что показалось ему дымом или туманом, на самом деле было странным, непонятного происхождения звуком, висевшим в воздухе.
Этот звук примешивался к шарканью подошв и стуку колес, к выкрикам торговцев и жалобам нищих, он то вырастал в шум, то убавлялся до лепета, но никогда не пропадал окончательно. И вдруг Федерико узнал его: это был голос льющейся воды. Тот же голос, что неумолчно звучал в полях вокруг Аскеросы, только здесь он все время менялся. Вода журчала в канавках, с громким шелестом плясала в фонтанах, плескалась в берега текущих по городу рек – Дарро и Хениля; со всех сторон что-то булькало, капало, хлюпало, шлепалось о камень, шуршало по листьям, и все это сливалось в ровный шум, от которого приятно щекотало в затылке и хотелось дремать.
Мать рассказала Федерико, что и своей музыкой Гранада обязана маврам. Это их мастера не только провели в город ледяную воду, сбегающую с гор Сьерра-Невады, но и заставили ее петь, проходя по множеству труб и желобов, хитроумно устроенных таким образом, чтобы получались звуки различной высоты и силы.
Песня воды сопровождала их на всех улицах и площадях Гранады. Она бежала им навстречу по аллее, ведущей в Альамбру, доносилась через приоткрытую дверь часовни, в которой они стояли над величественной усыпальницей Фернандо и Исабель, вторила разговорам, когда они сидели в саду у подруги доньи Висенты – женщины в светло-розовом платье, с седеющими волосами, уложенными в крупные локоны. Постепенно песня эта перестала казаться Федерико монотонной, в ней слышалось что-то знакомое, но он никак не мог вспомнить – что, и чувство досады смешивалось в нем со жгучей завистью ко всем счастливцам, которые живут в удивительном городе и могут каждый день наслаждаться его чудесами.
Уже лиловатый пар стлался по склонам окрестных гор, когда они вышли на маленькую площадь, посреди которой на пьедестале стояла мраморная женщина. Несколько девочек, взявшись за руки, медленно двигались в хороводе, распевая тоненькими голосами:
Что за горестный день в Гранаде — даже камни стали рыдать...Романс о Мариане Пинеде... Так вот что целый день нашептывала ему вода! Все в нем запело, зазвучало в унисон с этими хрупкими голосами, будто сам он слился с Гранадой, будто ее колдовская музыка струилась отныне и через него. Досады как не бывало, беспричинная радость колыхнулась в груди, и голова закружилась от предчувствия неминуемого счастья: оно где-то рядом, только руку протянуть!
Все исполнилось, точно в сказке. С площади Марианы Пинеды мать повела Федерико на улицу, где с одной стороны стояли здания, а с другой, изредка всплескивая, бежала Дарро. Остановившись перед двухэтажным домом, отличавшимся от соседних лишь тем, что зарешеченные окна в нем были замазаны изнутри чем-то белым, она спросила, загадочно улыбаясь, нравится ли этот дом Федерико. Сын только кивнул: ему тут все нравилось. Ну, а хотел бы он в нем поселиться?
Один?
Почему один? Вместе с нею, с отцом, с Пакито и сестренками. Странные все-таки бывают шутки у взрослых. Он поглядел на мать исподлобья и вдруг понял, что это не шутка.
14
Невозможно было привыкнуть к тому, что стоит лишь спуститься по лестнице (на цыпочках, чтобы взрослые не услыхали), приоткрыть тяжелую дверь, и перед тобой, словно в романсе, несколько дорог, одна другой заманчивей.
Хочешь – иди вдоль Дарро до самого ее впадения в Хениль, слушай, как перекликаются прачки, колотя бельем о камни, гляди, как ребятишки бесстрашно плещутся в ледяной воде. Хочешь – отправляйся на площадь Бибаррамбла, где когда-то мавры состязались в воинском искусстве, а потом испанцы устраивали рыцарские турниры и сжигали на костре еретиков. Или пройдись по Алькайсерии – похожей на ущелье улочке, до того узкой, что два человека, взявшись за руки, могут ее всю перегородить. Или войди в собор: там в углу есть две картины, которые не надоедает разглядывать. На той, что справа, – Боабдиль на фоне зубчатых башен Альамбры; сойдя с коня, он протягивает победителям ключи от города. А победители изображены на картине слева: Фернандо и Исабель, – они едут верхом во главе своего войска, и целый лес копий поднимается за ними.
Освоившись, Федерико стал отваживаться и на более дальние прогулки. Пройдя через весь город, он попадал на Новую площадь, а оттуда по улице, идущей в гору, поднимался между двумя рядами лавчонок к Гранадским воротам – полукруглой арке на толстых колоннах. Сразу же за воротами начинались сады. Вперемежку росли здесь дубы и олеандры, вязы, лавры и еще много других деревьев, которые он и не знал, как называть. Со всех сторон раздавалось журчанье, солнечные пятна дрожали на стволах, а сквозь просветы в листве виднелись нависавшие над головой коричневато-красные стены, увитые плющом.
Но самое интересное находилось дальше. По любой из трех аллей можно было подняться в Альамбру и целыми часами бродить по лабиринту из полуразрушенных зал, двориков, комнат и павильонов, разглядывать причудливую мозаику и таинственные письмена. Так он дошел однажды до Дворика Львов, где со всех сторон – галереи, украшенные тончайшим каменным кружевом, а посредине – бездействующий фонтан, вокруг которого уселись каменные львы, похожие на громадных собак. В соседнем дворике оказался бассейн с такой неподвижной водой, что ее можно было принять за стекло. А рядом поднималось суровое здание, не шедшее к изящной Альамбре, – Федерико уже знал, что это дворец Карла V, который начали строить, когда император решил было сделать Гранаду своей столицей...
Забравшись так далеко, жалко было бы не подняться в Хенералифе – летний дворец мавританских владык, стоящий еще выше, чем Альамбра. Из окон этого дворца Гранада со всеми своими домами и колокольнями казалась игрушечным городом, канувшим на дно зеленой пропасти. Блаженная лень охватывала Федерико; он готов был без конца сидеть тут, не думая ни о чем, а только глядя вниз и слушая пение невидимых ключей. Но снизу, с тропинки, доносилась незнакомая речь, слышался профессионально-восторженный голос гида, и нужно было поскорее спускаться по противоположному склону.
Тут подстерегал его новый соблазн – гора Сакро-Монте, желто-бурая, голая, лишь кое-где утыканная кактусами и терновником. Дорога идет вверх уступами, по одну сторону обрыв, по другую отвесная стена, местами выбеленная известкой, и в этих местах – отверстия, прикрытые занавесками. И по всей горе, куда ни глянь, прямо из земли поднимаются струйки дыма. Там, в пещерах, живут цыгане.
Когда ветер вздувал занавеску, Федерико, замирая от страха, заглядывал внутрь, видел плетеные табуретки, посуду на полках, разноцветное тряпье на стенах, очаг, пылающий в глубине. Случалось, что навстречу ему звенела потревоженная гитара, выбегали цыганки в пестрых юбках, кубарем выкатывались голые малыши, но, увидев, что это не турист, все возвращались обратно.
Давно пора было возвращаться домой, есть хотелось нестерпимо, и мучила мысль о предстоящем возмездии за долгую отлучку. И все же, как Федерико ни торопился, он не мог заставить себя быстро идти по крутым и извилистым улочкам Альбайсина. Старинное это предместье, где дома громоздились друг на друга, словно сваленные в кучу ураганом, жило своей жизнью, отличной от размеренной и нарядной жизни других кварталов Гранады. Люди здесь выглядели беднее, но и свободнее, женщины орали во всю глотку, мужчины раскатисто хохотали и сквернословили. Из одних окон несся шум ткацких станков, в других виднелись гончары, и как же было не полюбоваться теми чудесами, которые они выделывали, превращая бесформенный ком глины в стройный кувшин!
Между тем дон Федерико Гарсиа выходит из себя. С тех пор как семья переехала в Гранаду – а для кого это было сделано, как не для детей, не для их образования? – старший сын совершенно отбился от рук. Целыми днями шатается по городу, домой приходит невесть когда, исцарапанный, одичавший, и тут же утыкается в книжку – отнюдь не в учебник! – или берется за гитару. И такого бездельника предоставить самому себе, разрешить ему самостоятельно готовиться к сдаче экзаменов на степень бакалавра? Ну, нет! Только в школе – и более того, в школе церковной, а не светской, отец вынужден это признать, несмотря на все свое свободомыслие, – Федерико узнает, что такое настоящая дисциплина!
15
Школа Святого сердца Иисусова была, пожалуй, первым, что возненавидел Федерико в своей жизни. Началось это с того дня, когда, войдя в класс, он увидел, как несколько учеников, толкая друг друга и фыркая, прилаживают иголку к стулу учителя. Самым поразительным было то, что остальные смотрели на это спокойно, некоторые даже смеялись.
Он не успел еще ни на что решиться – из коридора донеслось шарканье, озорники кинулись по местам. Учитель вошел, приблизился к кафедре, но, прежде чем сесть, – Федерико готов был уже закричать – деловито провел рукой по сиденью. Обнаружив иголку, он нисколько не удивился, ловко извлек ее и обвел класс азартным взглядом. Одни сидели, скромно потупившись, другие листали учебники, и только новичок, полуоткрыв рот, смотрел на него с непонятным, но, во всяком случае, дерзким выражением. Так вот чьих рук это дело!
Преступник оказался закоренелым: он не оправдывался и не просил прощения, на все вопросы отвечал упорным молчанием да знай таращил глаза. В конце концов он был поставлен к стене истоял весь урок, слушая, как учитель диктует классу рассказ о разоблаченном злодействе. Хуанито был очень дурной мальчик; однажды он перелез через ограду и украл самую лучшую грушу, какая только была в саду... написали?.. Но когда он возвращался обратно, уверенный, что преступление его останется в тайне, с неба раздался голос, вещавший: «Бог видел тебя, плут!»
Федерико ждал новых допросов, но тем дело и кончилось. Он неуверенно сказал соседу по парте, что, по-видимому, дон Луис человек добрый, и услыхал в ответ, что подобной скотины свет не видал. Просто здесь учатся дети богатых родителей, и, поскольку за их обучение хорошо платят, наказывать их нельзя – так говорит директор, сосед сам слышал. Иголка что! Старшеклассники и не такое вытворяют. Недавно они заключили между собой пари, носит ли корсет сеньор Канито, преподаватель географии, уж больно прямо он держится.
Подстерегли его на школьном дворе, привязали к столбу галереи и раздели до пояса. Оказалось, никакого корсета на нем нет, и те, кто проспорил, до того разозлились, что вылили с балкона на учителя кувшин воды. А то еще...
Федерико больше не слушал, с него было довольно. Он заявил родителям, что не пойдет больше в школу. Но отец насупился, мать расплакалась. Пришлось покориться.
Потянулись постылые, неотличимые друг от друга недели. Вставать затемно, чтобы поспеть к ранней обедне, потом брести, зевая, вместе с другими по низким сумрачным коридорам, со страхом думать – вызовут сегодня или пронесет, – все это еще можно было стерпеть. Хуже была пронзительная тоска, не отпускавшая Федерико с той минуты, как он входил в класс и из всех на свете цветов оставались только черный цвет парт, доски, учительских сюртуков да белый – стен, потолка, бумаги, мела, из всех на свете звуков – только ровное гудение голосов, скрип перьев, шелест перелистываемых страниц, из всех запахов – лишь смешанный, кислый запах чернил и пыли. На уроках грамматики составляли таблицы, на уроках географии чертили карты, а на уроках истории и составляли таблицы и чертили карты. Когда учитель говорил о чужих странах, представить эти страны можно было только в виде раскрашенных кусков бумаги, а если учитель рассказывал о королях или полководцах, то было совершенно ясно, что это не люди, а просто имена с двумя датами, соединенными черточкой. Да полно, шумит ли еще там, снаружи, Гранада, и переливается ли на солнце снег окрестных вершин, и дышат ли в садах тяжелые, осенние цветы?
Литературу преподавал дон Мигель, хромой старик с рыжеватыми волосами, автор нескольких сонетов, помещенных в «Гранадской мысли», и трагедии, которая чуть было не увидела сцены. Безобидный, рассеянный, он мог целыми часами разглагольствовать с кафедры о любимом предмете, предоставляя ученикам заниматься чем угодно.
Федерико сначала вслушивался. «Что есть идея? – спрашивал дон Мигель и сам себе отвечал: – Умственное представление о вещи или предмете. Хорошо! Научимся же выяснять, какая идея заключена в литературном произведении и выразителями каких идей являются действующие в этом произведении лица». Он называл знакомые книги, говорил о Дон-Кихоте, Стойком принце и других людях, которые давно уже расположились в жизни Федерико, словно в собственном доме, наполнив ее своими похождениями, спорами и безумствами.
Но чем больше рассуждал учитель, тем становилось скучнее. Друзья – живые, теплые – тускнели, рассыпались в слова. Истаял на глазах Рыцарь Печального Образа, превратившись в целых две идеи – Добра и Самоотвержения; от Педро Креспо, Саламейского алькальда (его Федерико всегда представлял себе похожим на отца, таким же сдержанным и суровым) осталась идея Чести, от храброй и нежной Лауренсии – тоже какая-то идея...
Еще хуже бывало, когда дон Мигель принимался читать стихи. Голос его делался ненатурально певучим, лицо бледнело, в глазах появлялось восторженное и вместе умоляющее выражение, и Федерико опускал голову, испытывая мучительную неловкость оттого, что не чувствует никакого восторга. А однажды, декламируя стихотворение Сорильи «Скачка Альамара», учитель до того увлекся, что, забыв о своей укороченной ноге, подпрыгнул на кафедре – и тут же рухнул навзничь. Только несколько учеников бросились вместе с Федерико на помощь старику – остальные хохотали. Эта сцена, жалкая и безобразная, долго еще вспоминалась Федерико всякий раз, как заходила речь о поэзии.
Всему этому нужно было сопротивляться. Постепенно Федерико научился читать, держа книгу под партой. Перес Гальдос, Гюго, а там и запретные Золя с Мопассаном скрасили ему немало часов школьной жизни. Он научился давать отпор задирам, лгать на исповеди и отводить душу, рисуя карикатуры на учителей и товарищей. Рисовал он их одним штрихом, не отрывая карандаша от бумаги – получалось причудливо, но похоже; одноклассники начали уважать его. А когда становилось совсем уж невмоготу, он удирал из школы и, махнув рукой на последствия, отправлялся бродить по городским окраинам.
В один из таких дней Федерико снова поднялся в Альамбру. Казалось, кислый школьный запах преследует его и здесь; он избавился от этого ощущения, лишь забравшись подальше, к северной стене. Была тут небольшая зала, сверху донизу разрисованная цветными узорами. Изображения незнакомых растений всползали по стенам, переплетаясь с арабскими буквами, хитроумные сочетания чередовались в каком-то сложном порядке, и не было ни концов, ни начал, а одно лишь нескончаемое повторяющееся движение, от которого понемногу начинала кружиться голова. На что это было похоже? А, на музыку, на те повторения звуков, что рождались у матери под пальцами!.. Мелодия зазвучала в нем, он стал вполголоса напевать ее, прислушиваясь к эху, проснувшемуся в каменных развалинах.
Странное, однако, было здесь эхо – оно не запаздывало, не вторило Федерико, а словно бы пело вместе с ним, только другим, более низким голосом. Он обернулся и увидел, что это вовсе не эхо. Высокий, юношески стройный старик стоял, улыбаясь, у входа, и голова его – вся в седых кудрях – светилась в солнечном луче, падавшем из узкого окна.
Смутившись, Федерико хотел было проскользнуть мимо старика, но тот с неожиданной силой схватил его за руку и, повернув ладонью вверх, принялся бесцеремонно, как цыганка, ее разглядывать. «Какой у тебя слух – это я уже знаю, – объяснил он спокойно, – а вот какие пальцы...» По-видимому, пальцами он тоже остался доволен, потому что, не выпуская руки Федерико, стал с пристрастием расспрашивать, как его зовут да кто его родители, любит ли музыку, откуда знает эту сонату Моцарта, хотел ли бы сам учиться... Даже очень? Ну что ж, Федерико, беги домой и обрадуй родителей: тебя будет учить музыке Антонио Сегура, ученик великого Верди!
16
– Я не обучаю игре на фортепьяно! За этим можешь обратиться к сеньоре Бермудес с Пласа де Грасиа, она живо научит тебя отхватывать тарантеллу Поппера и «Молитву девы». А я обучаю музыке, запомни!
Старик вскакивал, бегал по комнате, размахивая руками. Каждый настоящий гранадец, превыше всего ценящий сдержанность, нашел бы его поведение просто неприличным, но Федерико смотрел на учителя с обожанием. Такого человека он еще не встречал: с ним даже гаммы играть было интересно! Но интересней всего бывало, когда, вот как сейчас, вспылив по какому-нибудь поводу, Антонио Сегура разражался страстной беспорядочной речью, сам себя перебивая и перескакивая с одного на другое.
– Ты думаешь, музыка – это бессмысленные рулады, ласкающие слух? Нет! В ней есть высочайший смысл. Словами его не выразишь, они для этого слишком слабы. И неточны, да, да! Прав был Мендельсон, когда говорил, что по сравнению с настоящей музыкой слова кажутся ему туманными и двусмысленными.
А знаешь, сколько лет было Мендельсону, когда он написал свою увертюру к «Сну в летнюю ночь»? Семнадцать! Правда, и умер он рано. Верди созрел позднее – «Набукко», первая опера, принесшая ему славу, была написана в двадцать восемь лет. Зато какую жизнь он прожил!
Последний раз я разговаривал с ним в девяносто пятом году, за шесть лет до его смерти... Учитель был на вершине славы, вся Италия молилась на него, а он оставался все таким же – спокойный, ласковый, в знакомом коротеньком пиджачке да в галстуке, повязанном бантом. Он положил мне на плечи – вот сюда – свои широкие костлявые ладони и расспрашивал меня об Испании. Он любил нашу музыку и доказал это в «Дон Карлосе».
Жалко, что он не успел узнать нашего Альбениса. Ах, Альбенис, какой это был композитор! Известно тебе, кстати, что мальчишкой он убежал из дому и объездил всю страну? Как-то граф Морфи, тот, что вместе с Педрелем создал испанскую оперу, ехал в поезде вместе с женой и дочерью. Вдруг слышит – кто-то возится под скамейкой. Он нагнулся и увидел чумазого паренька лет двенадцати. «Ты кто такой?» – спросил граф. И услышал в ответ: «Я великий артист!» Это и был Альбенис.
Я-то помню его уже совсем другим – добродушным толстяком, любившим спозаранку усесться за рояль в одних кальсонах и с сигарой во рту. «Я мавр», – говаривал он про себя, хоть и был каталонцем по происхождению. И в самом деле, вот эта пьеса из третьей тетради его «Иберии» – ты послушай, ведь это же сама душа Гранады!
Учитель с разбегу присаживался на табурет, играл, не отрывая глаз от Федерико, наслаждался его восхищением. Потом возвращались к уроку, но и тут Сегура все время что-нибудь придумывал.
– Попробуй-ка десять раз подряд взять на фортепьяно один-единственный звук, ну, хоть соль-бемоль, – но так, чтобы каждый раз это звучало по-новому. Если у тебя есть воображение, то в одной этой ноте ты сумеешь выразить множество оттенков чувства – и грусть, и нежность, и смелость, и гнев... Без воображения – нет музыканта!
Так продолжалось до тех пор, пока в дверь не просовывалась головенка Пакито, посланного из дому за братом. Учитель приходил в смятение: per bacco! опять он увлекся и задержал Федерико. Нет, он не может так его отпустить, он проводит ученика и объяснит почтенным родителям, что сам виноват в его опоздании.
На улице мальчики с трудом поспевали за Сегурой. Долговязый, стремительно шагающий, в крылатом плаще, он казался диковинной птицей, неведомо откуда залетевшей в сонную Гранаду. Сеньор Гарсиа приветствовал его почтительно, но холодно, и холодность эта сильнее задевала Федерико, чем мельком брошенный на него укоризненный взгляд отца. Впрочем, учитель ничего не замечал, он с удовольствием разговаривал с доньей Висентой и охотно соглашался остаться к ужину.
В один из таких вечеров, терпеливо выслушав соображения дона Федерико о перспективах войны в Марокко, Сегура обратился к нему с неожиданной просьбой. Ему хорошо известно, что дон Федерико – знаток настоящей андалусской песни. Какое счастье было бы его послушать!
Строго глянув на сына, сеньор Гарсиа стал отнекиваться: никакой он не знаток, если что и помнил раньше, так всего несколько песенок, да и те давно перезабыл, и гитара запропастилась куда-то... Но учитель упрашивал с детской настойчивостью, а Федерико (ну, погоди же!) тащил гитару из своей комнаты – пришлось уступить. Он подергал струны, покашлял.
– «Если б в груди моей сделать оконца из хрусталя – все б увидели, как рыдает мое сердце из-за тебя!» Нет, вот эта, пожалуй, получше:
Такое у меня горе — не разберу ничего: то ли у меня горе, то ли – я у него?Незаметно для себя он прикрыл глаза, запел с увлечением, по-настоящему – con duende, как сказали бы в деревне. Федерико с гордостью поглядывал на учителя – тот, казалось, не дышал и только приговаривал умоляюще после каждой песни: «Еще, еще!»
Лишь после того, как отец решительно отложил гитару в сторону, Сегура вскочил и забегал по комнате, восхищаясь и негодуя. Обладать такими музыкальными сокровищами – и так плохо их знать, так варварски к ним относиться, о, на это способны только мы, испанцы! Мы ждем, пока другие откроют наши собственные богатства, как это было еще лет шестьдесят назад, когда основатель русской музыкальной школы Глинка провел целую зиму здесь, в Гранаде. Знаете, чем он занимался? Он слушал вот эти самые песни, он целые дни просиживал с гитаристом, по имени Франсиско Родригес Мурсиано, записывая за ним ронденьи, фанданго, хоты. А любители музыкальных безделушек небось и сегодня еще не могут понять, зачем это ему понадобилось!
Ну конечно, теперь уже другое время; Педрель, Альбенис, Гранадос возродили испанскую музыку. И все-таки где он, тот композитор, который станет черпать из народного мелоса так, как черпал из своего мой учитель Верди? Композитор, чьи кантилены будут, в свою очередь, распевать пастухи, рыбаки, ремесленники? Он придет, этот человек, я знаю, я жду его. Может быть, это молодой де Фалья, о котором теперь столько шумят в Париже? А может быть, он еще моложе, и сейчас еще только берет уроки музыки – вот как наш Федерико?
Федерико вспыхнул, отец нахмурился: этого еще не хватало. «Сеньору Сегуре, – подумал он, – прежде чем забивать голову мальчишке, не мешало бы вспомнить собственный опыт. Ученик Верди, написал, как говорят, несколько опер, а чем все это кончилось? Не сумел пробиться и на старости лет должен зарабатывать на жизнь уроками. Незавидная карьера!»
И все же дон Федерико обрадовался, когда в один прекрасный день получил приглашение почтить своим присутствием очередной вечер Литературно-художественного центра Гранады. В программе вечера значилось выступление юного пианиста Федерико Гарсиа Лорки. Что говорить, приятно было усаживаться в первом ряду (по левую руку – раскрасневшаяся, помолодевшая донья Висента, по правую – нервно покашливающий дон Антонио), приятно – сдержанными кивками отвечать на улыбки знакомых. Бледный Федерико за роялем выглядел старше своих лет; он отчаянно волновался, но, прикоснувшись к клавишам, вспомнил напутствие учителя: «Думай только о музыке!» – и все отступило.
Сердце доньи Висенты готово выскочить. Господи боже, и это тот самый красный комочек, тот беспомощный малыш... Она с трудом заставляет себя вслушаться. Пьеса, которую исполняет Федерико, хорошо ей знакома, но звучит она немного необычно, словно мальчик вносит в музыку что-то свое. Собственно говоря, это дерзость с его стороны, но дон Антонио, кажется, доволен, и мать успокаивается.
На следующий день Федерико приходит к Сегуре. Голова у него еще кружится от вчерашних похвал, но урок идет, как обычно, разве что учитель меньше отвлекается да порой Федерико с недоумением ловит его беспокойный взгляд. Внезапно дон Антонио снимает с пюпитра ноты и ставит новые – толстую тетрадь, которую ученик видит впервые. Федерико наклоняется к нотам, но учитель незнакомым, резким голосом приказывает ему сесть в кресло и слушать, а сам пересаживается со стула на вертящийся табурет и вскидывает руки над клавиатурой.
Все понятно: старик решил наконец-то познакомить его со своими произведениями. Федерико замирает в кресле, он полон гордости, благодарности, нежности. Он любит этого человека, любит его сгорбленную спину и худые руки, любит его музыку, наполняющую комнату, хотя, сказать по правде, никак не может на ней сосредоточиться. Когда учитель вдруг обрывает игру и, не поворачиваясь к Федерико, не подымая головы, опускает руки вдоль туловища, тот бросается к нему со словами восхищения. И останавливается: на него смотрит окаменевшее, чужое лицо.
– Мальчишка! – кричит Антонио Сегура, ударяя кулаком по клавишам, и старенькое фортепьяно вторит ему нестерпимым воплем. – Чему же я тебя научил, если ты не слышишь, что это сухо! надуманно!! бездарно!! Пожалеть меня вздумал?!
Старик срывается с места – ах, хоть бы он принялся бегать по комнате, но нет, он бросился к окну и стоит там, вцепившись руками в шторы, кидая через плечо злые, обидные слова. Федерико оглушен, растерян, но не чувствует обиды – только острую, рвущую сердце боль за дона Антонио. Наверное, он прав, раз так мучается. И помочь ему нечем.
Голос учителя становится глуше, отрывистые фразы – реже и спокойней. Искусство беспощадно, оно не терпит лжи. Даже лжи во спасение. Можно обмануть других, но себя не обманешь. Слабая, вымученная музыка не имеет права существовать, сегодня он лишний раз это понял.
Наконец старик оборачивается, лицо его приняло прежнее выражение, только глаза еще блестят.
– Ты добр, мой мальчик, – говорит он, положив руку на плечо Федерико, – и ты меня жалеешь. А меня, видишь ли, не надо жалеть. Я счастливый человек. И пусть вхраме искусства мне до конца дней суждено лишь пол подметать, я все-таки благословляю судьбу за то, что она позволила мне служить любимому делу.
Уже выйдя на улицу, Федерико слышит: вверху распахнулось окно. Он задирает голову.
– Послушай-ка! – на всю улицу восклицает Антонио Сегура.
Лица его не видно в сумерках, но Федерико чудится, что старик улыбается.
– Пусть мне не удалось достать до облаков, но облака-то ведь все равно существуют, а? – И, не дожидаясь ответа, захлопывает окно.
17
Как-то, еще до знакомства с Сегурой, Федерико попробовал показать на пианино, как звучит колокол в соборе. Одного звука оказалось мало – понадобилась целая горсть, но он все-таки подобрал и это звучание, и тоскливый возглас уличного торговца, и кое-что еще. Пальцы не сразу попадали на нужные клавиши, и так он обнаружил, что рядом со знакомыми созвучиями существуют другие, неслыханные. Некоторые из них нравились Федерико еще больше, чем знакомые, и он мог бы проводить целые часы, отыскивая все новые сочетания звуков, но даже донья Висента считала это пустой забавой, отвлекающей от серьезных занятий. Другое дело, если бы Федерико разучивал какую-нибудь пьесу или хотя бы подбирал танец... Ну, а теперь, имея такого учителя, как дон Антонио, и вовсе непростительно тратить время на подобную ерунду.
Как ни странно, дон Антонио оказался противоположного мнения. Он не только не запретил Федерико развлекаться, перебирая клавиши, но и отнесся к этому развлечению с чрезмерной, по мнению матери, серьезностью. «Вот так оно, видите ли, и начинается!» – заявил он ей однажды, и хоть, что это за оно, не было сказано, донья Висента поняла и только порадовалась тому, что муж не участвует в разговоре.
Музыка одолевала Федерико все сильнее. Ночью ему снились удивительные сны – из одних звуков, а когда он просыпался, какая-то часть его существа продолжала спать наяву и видеть – нет, слышать – сон, слушать музыку, звучащую где-то внутри. Это было радостно и мучительно: отвечать уроки в школе, обедать, разговаривать с родителями – и все время, не переставая, прислушиваться к тому, как оно там растет, ветвится, развивается. Но вот наступало время отправляться к дону Антонио. Еще по дороге Федерико полностью отдавался на волю звуков, и, если внутри в эти минуты пелось торжественное адажио,он шел по улице медленно и степенно, когда же начиналось престо фуриозо,несся, сломя голову и натыкаясь на прохожих.
Какое это было счастье – усесться за фортепьяно рядом со всепонимающим учителем и свободно, не боясь насмешек и язвительных замечаний, выкладывать наружу все, что накопилось! Многое оказывалось не своим, и дон Антонио тут же наигрывал: «Слышишь, откуда это у тебя?» Иное учитель решительно отвергал, необидно уличая Федерико в невежестве и заодно объясняя ему все новые секреты ремесла. Но случалось и так, что он вскакивал и, пройдясь раз-другой по комнате, хлопал ученика по плечу: «Ага! Вот так оно и начинается, дружище!»
И угораздило же Федерико захворать, когда дон Антонио уже собрался всерьез заняться с ним контрапунктом! Болезнь затянулась: черные сучья за окном давно оделись листвой, а его все держали в постели. Учитель несколько раз навестил Федерико, потом перестал приходить. За ним отрядили служанку, которая доложила, что сеньор Сегура сам заболел – лежит, бедняга, один-одинешенек в своей комнатенке, простыни черны как сажа, а стены-то, а умывальник – у-ух! Глаза доньи Висенты наполнились слезами, она тут же отправилась к учителю, и с этой минуты Федерико хоть и скучал по дону Антонио, но по крайней мере был за него спокоен.
Но вот доктор позволил Федерико подняться; он смог спускаться в гостиную и проводить целые часы за пианино, освобождаясь от музыки, распиравшей его все эти недели. Дон Антонио, пожалуй, будет доволен этими вот вариациями на тему малагеньи. Кстати, как здоровье учителя?
– Ничего, – отвечает донья Висента, переглядываясь с отцом, – поправляется мало-помалу.
Когда же разрешат выходить на улицу? Уже страстная неделя на носу – неужели он пропустит эти дни, когда вся Гранада станет похожа на медленную карусель, по улицам и переулкам поплывут над головами людей статуи Христа и Святой девы, а навстречу им – из-за решеток, с балконов – понесутся песни – саэты, выпеваемые страстными и скорбными женскими голосами!..
Наконец-то! Торопливо одеваясь, чтобы впервые выйти, он невпопад отвечает матери. Куда он собирается сейчас? Что за вопрос, к дону Антонио, разумеется. Донья Висента просит сына присесть рядом с ней на минутку, и, когда он, недоумевая, исполняет ее желание, мать делает то, чего уже давно не позволяла себе: прижимает голову Федерико к своей груди. Удерживая сына в этой неловкой позе, она прерывающимся голосом произносит приготовленные слова. Дон Антонио скончался, старое сердце не выдержало болезни. Это случилось уже давно. Решили не говорить об этом Федерико до выздоровления...
Федерико осторожно высвобождается. Ни горя, ни страха он не чувствует. Ерунда какая-то, что значит – скончался? Именно теперь, когда он так необходим?! Нет, тут какое-то недоразумение, сейчас все выяснится...
Удивляя донью Висенту своим спокойствием, он встает, выходит из дому, бредет, пошатываясь, тем самым путем, которым ходил столько раз, здоровается со знакомыми домами. Весенний город в полном цвету. На углу улицы де ла Кольча выстроились добровольцы, они готовятся изображать римских солдат в процессии на страстной неделе. У римлян одинаковые огненно-рыжие бороды, в руках – деревянные копья. Отставной капрал, который репетирует с ними, никак не может добиться, чтобы солдаты шагали в ногу и враз ставили на землю свои копья. Он вспотел, охрип и выражается далеко не благочестиво на потеху собравшейся толпе.
Постояв, Федерико идет дальше. Что же все-таки произошло? Такое ощущение, будто он оглох. Но нет: журчит вода в желобах, с перекрестка еще доносится голос замучившегося капрала. Он вслушивается в себя – вот оно что... Там, внутри, тихо, пусто. Музыка смолкла.
Глава вторая
Поэзия – невозможность,
становящаяся возможной.
Федерико Гарсиа Лорка1
Небывалая жара, стоявшая этим летом во всей Европе, чувствовалась даже здесь, в зеленой Гранаде, несмотря на все ее ручьи и фонтаны, несмотря на прохладный ветер со снежных гор. Обедать садились позже обычного, отец успевал просмотреть вечернюю газету. За обедом он рассказывал новости, потом решал семейные дела. Однажды порядок был изменен: вопрос не терпел отлагательства.
В смерти старого музыканта дон Федерико Гарсиа увидел перст судьбы. Бог свидетель, он от души жалел несчастного старика, но теперь все становилось на свое место. Такого учителя в Гранаде больше не найти; о том, чтобы отправиться куда-то в чужой город, нечего и думать, стало быть, самое время поговорить серьезно о будущем старшего сына. Мальчику шестнадцать лет, пора выбирать профессию. Музыка, конечно, прекрасная вещь, но не занятие для положительного человека. А своих сыновей дон Федерико, как всякий отец, желает видеть положительными людьми.
Так или примерно так говорит отец, всматриваясь в лицо сидящего напротив Федерико и пытаясь перехватить его взгляд, который, как всегда в таких случаях, непонятно где витает. Сельским хозяйством заняться он, конечно, не собирается. Не привлекает его и коммерция? Прекрасно. Но университет! Систематическое образование – вот что в наше время важнее всего. Так вот, намерен ли Федерико учиться в университете или он...
В этом месте донья Висента кладет свою ладонь на руку мужа, Федерико сдвигает брови, а младшие опускают глаза в тарелку.
Вопреки ожиданию сын отвечает вполне разумно. Да, он согласен поступить в университет, он благодарит отца. Разумеется, музыка не занятие для положительного человека...
Он так точно воспроизводит отцовскую интонацию, что донья Висента снова настораживается, но дон Федерико ничего не замечает, он обрадован, мальчик, кажется, становится мужчиной.
– Правильно, сынок! – гремит он на всю гостиную, но тут же спохватывается. – Университет – это ведь целых пять факультетов: медицинский, фармацевтический, точных наук, права и потом еще факультет литературы и, как ее, философии. Какой же из них выбирает Федерико? Я подозреваю, что к точным наукам сын мой не очень-то склонен. Да и к медицине. Значит, право? Превосходно! Федерико станет адвокатом!
– Ты ведь назвал еще один факультет, – осторожно замечает донья Висента, – литературы и философии.
Дон Федерико хмурится: это что-то не очень серьезное.
– Неважно, мама, – говорит вдруг Федерико, – у факультета права общее подготовительное отделение с литературным факультетом, выбирать по-настоящему придется только через год.
Дон Федерико доволен; решительно, сын уже не прежний мечтательный юнец, он, оказывается, сам навел справки. Все как будто выяснено, но Федерико возобновляет разговор.
– Я хотел бы знать, – спрашивает он мягко, и только одна мать знает, сколько упрямства за этой мягкостью, – позволят ли мне заниматься музыкой в свободное время?
Разумеется, позволят. Отец даже несколько обижен, не такой уж он сухарь. Посещай аккуратно лекции, сдавай экзамены в срок, а в свободное время – все что угодно!
Обед окончен. Федерико еще раз благодарит отца, мимоходом тычется по-щенячьи носом в щеку доньи Висенты и двумя прыжками взлетает по лестнице наверх в свою комнату, откуда почти сейчас же доносятся меланхолические аккорды гитары. Сообщая жене последние новости, дон Федерико не без удовольствия прислушивается к этим звукам. Сегодня в газете нет ничего особенного. В Лондоне эти сумасшедшие суфражистки опять устраивают свои демонстрации и бросают бомбы. В Петербурге гостила английская эскадра. А где-то, не то в Сербии, не то в Боснии, убили австрийского наследника престола, эрцгерцога Франца Фердинанда вместе с его супругой.
– И стрелял в него – ты подумай только! – какой-то мальчишка, гимназист... Каково-то теперь старому императору Францу Иосифу? Бедняга! Не хотел бы я оказаться на его месте.
Донья Висента вздыхает, но думает она при этом не о старом императоре и не о злосчастном его наследнике. Сердце ее сжимается от неразумной жалости к сербскому гимназисту, которому, наверное, столько же лет, сколько ее Федерико. Каково-то теперь его матери?
А Федерико в это время рассеянно, почти бездумно перебирает струны. Свою музыку он пока что отстоял, это главное. Университет, профессия, карьера – все это кажется чем-то бесконечно далеким, почти нереальным. Он не понимает сверстников, мечтающих поскорее вырасти. Куда торопиться? Ему еще не надоело бродить по улицам Гранады, трогать шершавые и теплые камни мавританских зданий или, забравшись поглубже в сад под стенами Альамбры, часами слушать сонное бормотание воды. И ждать какого-то чуда, которое обязательно должно случиться.
Есть у него любимая забава, ребячество, в котором он никому бы не признался: зажмуриться, зажать уши – и сразу все исчезнет. Исчезнет это вечернее небо, и коврик на стене, и голос отца внизу, и едва слышный плеск Дарро за окном. Останутся только оглушительные удары сердца и радужные круги перед глазами. Но стоит открыть глаза, отнять пальцы от ушей – и все вернется таким же, даже лучше, чем прежде. Ворвутся с улицы звонкие голоса, и небо с первыми звездами опрокинется прямо в комнату. В его власти вызвать весь этот мир из небытия, заставить его звучать, переливаться красками. Сознание – нет, еще только предчувствие своей силы просыпается в нем.
2
Война, которую позднее назовут мировой, а еще позднее – первой мировой войной, вошла в жизнь Федерико газетными заголовками и разговорами старших. Разговоры были тревожные: того и гляди сами ввяжемся в эту войну, вот только неизвестно, на чьей стороне.
Если верить газетам, чуть не вся Испания разделилась на два лагеря – германофилов и сторонников Антанты, альядофилов, как их называли. Первые прославляли немецкую организованность и дисциплину, грозно спрашивали, до каких пор наши копи, наши железные дороги будут обогащать французских и английских капиталистов? Вторые расписывали зверства тевтонов в Бельгии, гневно восклицали: «Германия – это Карфаген всемирного милитаризма, и он должен быть разрушен!»
Говорили, что король Альфонс – за немцев, но жена-англичанка склоняет его на сторону своих. Говорили, что в столице дело дошло до потасовок между германофилами и альядофилами. Говорили, что власти воспретили редакциям газет вывешивать на улице афиши с телеграммами, газетчикам – выкрикивать новости, а всем остальным – обсуждать в публичных местах вопросы внешней да заодно и внутренней политики. «Опасаются гражданской войны», – пояснил дон Федерико значительно.
Постепенно тревога улеглась. Правительство придерживалось нейтралитета. Выяснилось, что, кроме германофилов и альядофилов, в Испании есть великое множество людей, не расположенных умирать ни за тройственный союз, ни за сердечное согласие. Газеты по-прежнему заполнялись корреспонденциями с театра военных действий, но публика потеряла к ним интерес. Отец привез из Мадрида значок, который там все носили. Значок можно было прикалывать любой стороной; на одной стороне была надпись «Не говорите мне о войне!», на другой – «Поговорим о Бельмонте!». Бельмонте был великий матадор.
Только мальчишки сохраняли верность войне, безраздельно завладевшей их играми. Сражение на Марне, битва в Галиции, бои между английским и германским флотом разыгрывались снова и снова на улочках гранадских предместий, воинственные крики неслись из садов и внутренних двориков. И настоящая война, громыхавшая далеко на востоке, начинала представляться отсюда тоже какой-то гигантской, кровавой игрой.
3
Оказалось, что университет мало чем отличается от школы. Знакомое чувство скуки и одиночества охватывало Федерико, как только он входил в аудиторию, сырую и холодную во всякое время года. Он старался занять место подальше от кафедры и поближе к окну. Отсюда можно было наблюдать за тем, как небо, бледно-голубое с утра, постепенно заволакивается городскими дымами и становится грязно-белым, как пожелтевшая за лето листва торопится снова зазеленеть, пока не опадет вовсе под проливными ноябрьскими дождями.
А здесь внутри ничто не менялось. С одним и тем же выражением показного усердия на лицах лихорадочно скрипели карандашами зубрилы в первых рядах; на задних столах развлекались тихими играми, шепотом поверяли приятелю сердечные тайны и обменивались впечатлениями о запретных местах, посещенных накануне. Сменяли друг друга профессора на кафедре, но если закрыть глаза, то можно было подумать, что это один и тот же равнодушный и усталый человек излагает основы римского права, рассказывает про учение Платона или толкует о нумизматике.
Оживление наступало лишь изредка – например, когда на кафедру, потирая пухлые ручки, взбирался дон Рамон Гиксе-и-Мехиа, известный несокрушимым благодушием и готовностью к рассуждениям на любые темы, не имевшие ничего общего с его предметом – политической экономией. Не успевал он приступить к лекции, как поднимался кто-нибудь из студентов и, рассыпаясь в извинениях, просил высокочтимого профессора высказать свое мнение – ну, хотя бы о будущем автомобильного транспорта. Этого было достаточно. «Дражайший ученик!» – начинал дон Рамон, а затем следовала пространная речь, пересыпанная примерами, почерпнутыми из иллюстрированного еженедельника «Ла Эсфера». Как только эрудиция профессора истощалась, вставал другой студент. Он нижайше просил бы многоуважаемого учителя поделиться своими взглядами на учение русского писателя и философа Льва Толстого. Дон Рамон клевал и на эту приманку: «Граф Леон Толстуа, в просторечии Толстой, чьи произведения столь же изящны по форме, сколь глубоки по мысли...»
Чтобы поддерживать уверенность профессора в ценности и оригинальности его высказываний, одни студенты яростно строчили в своих тетрадях, словно боясь упустить хоть слово, другие театрально прикладывали к уху ладонь, сложенную лодочкой, третьи, имитируя экстаз познания, широко открывали глаза, приподнимались с мест и даже издавали сдавленные крики восторга. Когда же лекция – если можно было назвать это лекцией – кончалась, слушатели обступали дона Рамона и толпой провожали его до дверей с изъявлениями самого крайнего восхищения. Под возгласы «Целуем ваши руки!», «Поклон вашей очаровательной супруге!» и просто: «Да здравствует дон Рамон!» – растроганный чуть не до слез профессор, кланяясь направо и налево, шариком выкатывался в коридор.
По-иному оживлялись студенты на лекциях по каноническому праву. Перед этими лекциями даже отпетые лоботрясы с задних скамеек оставляли свои развлечения. Дон Андрее Манхон, худощавый человек с лицом цвета старой бумаги и глубоко запавшими черными глазами, входя, окидывал всех взглядом, от которого ничто не могло укрыться. Затем по знаку профессора все вылезали из-за столов и, преклонив колени, читали «Отче наш» и «Аве Мария». Лекция Манхона то и дело перемежалась яростными выпадами по адресу всех врагов католической церкви – от французского безбожника Хуана Хакобо Рус-со до современных отечественных вольнодумцев, всех этих Лопесов Домингесов и Каналехасов. Филиппики свои дон Андрее имел обыкновение произносить, впиваясь глазами в тех студентов, которые, по его сведениям, принадлежали к либеральным семьям. Мало того, он заставлял этих студентов вставать и повторять за ним самые бранные прозвища, которыми награждал либералов, республиканцев и социалистов. Все знали: неподчинившегося профессор провалит на экзамене.
Всякий раз, когда дон Андрее начинал искать глазами очередную жертву, сердце Федерико проваливалось куда-то вниз. Это не было страхом: он почти хотел, чтобы выбор, наконец, пал на него, пытался перехватить угрюмый взгляд мучителя... Но тот даже не смотрел в его сторону. Дон Федерико Гарсиа успел уже приобрести вес в гранадском обществе, и было известно, что нрав у него крутой.
Настоящая жизнь начиналась после занятий. Хорошо было не спеша брести домой, выбирая все новые маршруты. Разглядывать прохожих, придумывать про них разные вещи. Вон по противоположной стороне под руку с престарелой сеньорой идет тоненькая девушка, потупив глаза. А что, если бы навстречу ей – смуглый печальный юноша с белой розой в руке? Поравнявшись, они обменялись бы мгновенным, как удар ножа, взглядом. Мать потянет девушку дальше, а юноша, выронив розу, будет потерянно смотреть ей вслед. Он может побледнеть, прислониться к садовой ограде, и тогда Федерико, перебежав улицу, бросится к нему на помощь.
А из этого узкого зарешеченного окна мог бы, звеня, упасть старинный ключ. Федерико наклонится его поднять, но приземистый человек со шрамом через все лицо опередит его...
Дома он рассказывал эти истории так, словно они произошли на самом деле, показывал в лицах – вот так пошатнулся юноша, так кинулся за ключом незнакомец. В семье уже привыкли к тому, что с Федерико каждый день что-нибудь случается («Почему со мной ничего не случается?» – удивлялся отец), и только донья Висента порою смотрела испытующе. Но сын отвечал открытым взглядом, и мать успокаивалась: мальчик не лжет, тут что-то другое.
4
Однажды, опоздав на лекцию, Федерико бродил по полутемным коридорам. Сзади послышались тяжелые шаги, и он, не оглядываясь, скользнул в приоткрытую дверь, за которой виднелись ряды книжных полок. Человечек с седым пухом на голове, близоруко щурясь, поднялся ему навстречу. Шаги приближались. С неожиданным проворством человечек пробежал мимо него, дернул к себе дверь и дважды повернул ключ в замке. Шаги удалялись. Федерико перевел дух и рассмеялся. Старик вторил тоненьким голосом. Отсмеявшись, он деловито спросил, с какой лекции сбежал Федерико, и, услышав, что с естественного права, понимающе кивнул. Увы, как это ни прискорбно, лекции многих уважаемых профессоров... Уже не один студент находил убежище в этом храме, смиренным служителем которого является ваш покорный слуга. Однако он не допускает сюда бездельников и профанов, не ведающих радости общения с книгами. Его молодому гостю знакома эта радость? Какие же книги его интересуют? Быть может, развлекательные повестушки – «Тарквиниева теща» или что-нибудь в этом роде? Ага, он любит классиков? В самом деле? Ну вот что, сынок, ноги у тебя помоложе моих, возьми-ка лесенку и достань вон с той полки «Селестину». Только будь поосторожней, такого издания ты еще никогда не видывал.
Они подружились, и Федерико стал проводить целые часы, пристроившись где-нибудь на лесенке между полками, перелистывая том за томом. Старый библиотекарь говорил о книгах, как о хорошо знакомых людях, – улыбался, гневался, укоризненно покачивал головой. Гранадский уроженец и старожил, он помнил решительно все, что было когда-либо написано об этом городе, знал всех писателей, не только родившихся, но и хотя бы однажды побывавших в Гранаде. От него Федерико впервые услышал, как назвал родной город старинный поэт Сото де Рохас – «рай, запретный для многих, сад, открытый не всем». Он написал эти слова два с половиной века тому назад, когда, устав от превратностей столичной жизни, возвратился в свой сад, в нашу Гранаду. «Paraiso cerrado para muchos...» Было что-то в этих словах, помимо их смысла, какая-то ускользающая музыка, не дававшаяся уму.
Иногда Федерико провожал старика домой, и тот нарочно делал крюк, чтобы пройти по улице, носившей имя поэта Сорильи. Ему посчастливилось видеть и слышать этого знаменитого поэта в 1889 году, в тот самый день, когда наша Гранада увенчала его лаврами и нарекла императором поэзии. Какое это было торжество! А как-то раз старый библиотекарь повел его через весь город. Они поднялись к Альамбре и, пройдя мимо ее красных полуразвалившихся стен, по узкой тропинке стали взбираться к Хенералифе. Тропинка вывела их на крохотную площадку, окруженную тополями. Посредине бил источник, вода бесшумно стекала по замшелым камням. Старик тяжело дышал, глаза его увлажнились. Вот оно, то самое место, куда приходил беседовать с друзьями наш учитель, наш печальный пророк, безвременно погибший Анхель Ганивет! Здесь он читал свои опыты, размышлял вслух о будущем Испании... Бедная Испания, как рано уходят из жизни лучшие твои сыновья!
Федерико стоял насупившись. Не впервые слышал он об Анхеле Ганивете – писателе, философе, гранадце с головы до ног, покончившем с собой тридцати трех лет от роду. И всякий раз старшие говорили что-нибудь в этом же роде: учитель, пророк был слишком хорош для нашего мира. Ну, а вы, стало быть, оказались не слишком хороши? Почему же ты, бедная Испания, позволяешь так рано гибнуть лучшим твоим сыновьям? Ларра, Беккер, Ганивет... Он вдруг разозлился так, что сам испугался. Старик был с ним добр, не следовало его огорчать. Он помог ему спуститься, проводил до самых дверей, был особенно почтителен.
5
Разбуженный внезапным ощущением счастья, он подолгу лежал с закрытыми глазами. Еще все спали. Спал город, который он чувствовал, как собственное тело, и только птичья трескотня, перебивавшая привычный, еле слышный рокот Дарро, извещала о том, что золотистый отсвет уже ползет вниз по куполам и башням. Он слушал это как музыку, знакомую до мельчайших подробностей, мысленно подавая знак, когда каким вступать инструментам. Сейчас вот откуда-то с запада донесется овечье блеяние. А теперь завозятся под карнизом тяжелые голуби. А там ударят низкие колокола собора, им откликнутся звонкие альбайсинские колокола, жалобно вскрикнет локомотив на станции... Пора! И он открывал глаза в тот самый момент, когда солнце показывалось из-за гор и стены домов делались ослепительно белыми, зелень – пронзительной, а башни – огненно-красными.
Он охотно пролежал бы так целый день, вслушиваясь в голоса города, любуясь чередованием красок, но надо было одеваться, завтракать, спешить на осточертевшие лекции. И праздничное настроение выветривалось, уступая место глухому, сосущему беспокойству.
Даже приглашения на собрания Литературно-художественного центра перестали радовать Федерико. Программа этих собраний была известна наперед: сперва какая-нибудь знаменитость из Мадрида будет долго и витиевато говорить о судьбах культуры, о гении испанской расы и тому подобное, а председатель в отменных выражениях поблагодарит уважаемого гостя за глубину и тонкость его сообщения. Потом поэт Мануэль де Гонгора – прославленная фамилия с особенной силой оттеняет его убожество! – прочтет новое стихотворение, посвященное плеску фонтанов Гранады, блеску черных очей, теням мавританских королей, витающим в Альамбре, и все будут шумно восхищаться, а Федерико в сотый раз подумает, что, видно, никогда он не сумеет полюбить поэзию. А в заключение председатель попросит нашего молодого, но уже известного музыканта исполнить что-нибудь по его усмотрению, и Федерико будет играть и Моцарта и Шопена, и все будут растроганы, но сам он будет знать, что играл он вяло, sin duende, и что дон Антонио, будь он жив, не похвалил бы его за такое исполнение.
Однажды чинный распорядок собрания был нарушен. Произошли чрезвычайные события, требовавшие решительных мер. Кучка безответственных юнцов выпустила журнальчик под претенциозным названием «Андалусия, 1915» – вот он перед вами, досточтимые сеньоры! В нем они подвергают возмутительным нападкам деятельность нашего Центра, позволяют себе высмеивать наши собрания, требуют каких-то перемен... Чего именно они требуют? О, они и сами не знают! Что вы хотите, господа, эта война и нашу молодежь сбила с толку!..
Федерико прочитал журнал с увлечением. Что говорить, чувство юмора у этих ребят было, и смешную сторону они видели отлично. Но всего важнее было не то, что напечатано, а то, что угадывалось между строчками, – безотчетное недовольство, тревога, злость. Значит, и другие испытывали эти же чувства, они жили в одном с ним городе, некоторые даже учились в университете.
Имя одного из редакторов журнала было ему знакомо; кажется, так звали студента-старшекурсника, с которым Федерико иногда сталкивался в библиотеке. Его насмешливое лицо не очень-то располагало к общению; прошло еще немало времени, прежде чем Федерико, встретив как-то вечером этого студента на улице Католических королей, решился остановить его вопросом:
– Вы Хосе Мора Гварнидо?
Тот замялся. Полемика с Литературно-художественным центром достигла такого накала, что от обиженных просветителей всего можно было ожидать. Должно быть, эта же мысль пришла в голову остановившему его юноше; не дожидаясь ответа, он широко улыбнулся и протянул руку:
– Меня зовут Федерико Гарсиа Лорка.
Хосе Мора Гварнидо – друзья называли его просто Пепе Мора – считал самым важным для журналиста (и для писателя, каким втайне надеялся стать) умение с первого взгляда определить характер человека, с которым имеешь дело. Человек, шедший сейчас рядом с ним, выглядел типичным андалусским seсorito – барчуком; он был невысок ростом, молод и казался еще моложе в своем строгом черном костюме с белым пикейным воротничком и небрежно повязанным черным галстуком. Блестящие черные волосы, гладко зачесанные назад, открывали широкий лоб. Густые брови, казавшиеся почти сросшимися, когда он хмурился, смугловато-бледное лицо, острый мальчишеский подбородок. Глаза... вот тут Пепе Мора запнулся, увидев эти по-крестьянски диковатые глаза, внимательные и настороженные, как у молодой овчарки. Порою выражение их становилось рассеянным и все-таки сосредоточенным – таким, какое бывает у человека, который вслушивается в отдаленную, лишь ему внятную музыку. Но стоило Федерико улыбнуться – а улыбался он то и дело, – как лицо его делалось совершенно детским.
Впрочем, все это Пеле Мора по-настоящему разглядит уже впоследствии, а сейчас он просто шагает вместе с Федерико по улице и, повинуясь невесть откуда взявшемуся чувству приязни к этому юнцу, забыв о разнице лет, изливает душу. Конечно, невелика заслуга – дразнить этих старых ослов из Центра, но, черт возьми, надо же как-то протестовать! Злость берет, когда видишь, что делают с Гранадой торгаши, да еще корчат из себя меценатов. Испанцы и не подозревали, какие архитектурные сокровища оставили им мавры, они преспокойно позволяли этим сокровищам разрушаться до тех пор, покуда сто лет назад Вашингтон Ирвинг не ткнул их прямо носом в Альамбру. Тогда они спохватились, но зачем? Чтобы беречь, изучать, сохранять для будущих поколений? Как бы не так! Чтобы извлекать прибыль! Дай им волю, они оставят несколько памятников, повесят на них идиотские таблички, а весь остальной город превратят в гостиницу для туристов. И превращают уже! Знаете, что было здесь, – он топнул ногой о тротуар, – на месте улицы, по которой мы сейчас идем? Дарро делила Гранаду на две части; легкие воздушные мосты соединяли берега, заросшие кустарником, травой, цветами. Чистейшая вода со склонов Сьерра-Невады бежала через весь город! Дикие голуби – представляете? – перепархивали тут с ивы на иву. Но разве можно допустить, чтобы в центре благоустроенного города текла какая-то речушка? И вот речку загнали в трубу, а над нею, на радость лавочникам и парикмахерам, проложили эту пошлую, прямую как линейка улицу Католических королей. Но и этого им показалось мало – какой же современный город без Главной улицы? Разрушили несколько древних улочек, на которых в любое время дня можно было укрыться в тени, уничтожили прекрасные мавританские дома, бани, сады, а на их месте воздвиглась вожделенная Главная улица, еще более уродливая, чем эта. И назвали ее, разумеется, именем Колумба. А как же! Католические короли, Колумб, историческое предназначение иберийской расы – все эти напыщенные словеса так крепко засели в головах у испанцев, что и катастрофа девяносто восьмого года не выбила их оттуда. Отцы наши по-прежнему убеждены в том, что именно они – соль земли, законодатели вкусов, а достопочтенные метры из Литературно-художественного центра изо всех сил стараются укрепить их в этом приятном заблуждении!
Он так и сказал: «отцы наши», и Федерико подивился, с какой легкостью были выговорены эти кощунственные слова. Студент, всего на каких-нибудь два-три года старше его, осуждал отцов, издевался над такими вещами, на которые Федерико и в мыслях не посягал! Он не испытывал желания протестовать, жадно слушал, наслаждаясь головокружительным чувством свободы.
Они не заметили, как дошли до того места, где Дарро вырывалась из трубы на волю. Отсюда было рукой подать до дома Федерико, и Пепе Мора, которого ждали дела, неожиданно для самого себя согласился зайти. Усадив его в кресло, Федерико присел к пианино. Он играл ему и Моцарта и Шопена, а тот не хвалил, только сердито посапывал в своем кресле, и Федерико был счастлив: он нашел друга.
6
У каждого из гранадских кафе была своя постоянная клиентура. Кафе Пассажа служило местом встреч самым знатным семьям города, студенты собирались в кафе «Империаль», деловые люди предпочитали Швейцарское кафе, которое славилось фирменным блюдом – супом из трески. Адвокаты и учителя проводили вечерние часы у «Колумба», а любого врача в эти часы можно было найти в кафе «Ройяль», напротив муниципалитета.
Пожалуй, самая разношерстная публика посещала кафе «Аламеда», неподалеку от площади Кампильо. По утрам это кафе заполняли дюжие молодцы с бойни и рыночные торговцы, вечерами же здесь собирались торерильо, окруженные своими почитателями; певцы и музыканты из других кафе приходили сюда отдыхать после своих выступлений, а ближе к ночи, когда кончалось представление в театре Сервантеса по соседству, зрители занимали последние свободные столики, громко обсуждая только что прослушанную сарсуэлу. Убранство тут было самое обычное; столики с мраморными досками, зеркала, диваны, обтянутые красным бархатом. На маленькой эстраде играл оркестр из пяти человек. По странному капризу хозяина исполнял он только классические произведения. Впрочем, посетители «Аламеды» к этому привыкли и не требовали другой музыки.
Позади эстрады был еще уголок, где помещалось всего два-три столика. Его-то и облюбовала для своих встреч компания Пеле Моры. В этом тоже был вызов унылым педантам из Литературно-художественного центра, величавой скуке их собраний. Юноши из хороших семей, они вначале не без легкого трепета собирались по вечерам в это кафе с сомнительной репутацией. Потягивая легкое вино, поглядывая в общий зал, отделенный от них лишь невидимой музыкальной завесой, молодые люди были готовы к опасностям и искушениям. «Клуб кутил» – так решили они себя назвать.
Но все оказалось проще. Посетители «Аламеды» вели себя тихо; певицы, только что возбуждавшие страсти в соседнем казино, становились здесь обыкновенными усталыми женщинами, а если какому-нибудь загулявшему театралу приходила охота затеять скандал, появлялся официант Наваррико, выкладывал на стол пудовые кулачищи – и дело чаще всего кончалось миром. Никто не прислушивался к их разговорам. Название «Клуб кутил» не привилось. Они привязались к этому кафе, к своему закоулку, и себя стали называть закоулочниками – rinconcillistas.
Почти каждый вечер приходил сюда и разваливался на диване Франсиско Сориано Лапреса, тучный не по возрасту юноша, обладатель одной из лучших библиотек Гранады. Вместе с богатым состоянием он унаследовал неизлечимую болезнь, от которой погибали все мужчины в его роду. Франсиско знал толк в живописи и музыке, изучил несколько восточных языков, чтобы читать в подлиннике любимых поэтов. Был он щедр, добродушен, насмешлив и лишь чуточку грустней остальных.
Состязаться в эрудиции с Франсиско мог, пожалуй, только маленький и самолюбивый кабальеро из Альпухарры Рамон Перес де Рода, успевший в свои годы повидать свет. Отпрыск старинной дворянской семьи, он был со скандалом изгнан «за ересь» из коллежа иезуитов в Малаге, рассорился с родителями и уехал в Англию, где зарабатывал на жизнь переводами для Британской энциклопедии. Из странствий Рамон вывез любовь к пешим прогулкам и отличное знание английской литературы – он подолгу читал приятелям Шелли и Байрона наизусть.
Приходили и другие – погруженный в свои ученые раздумья студент-филолог Хосе Фернандес Монтесинос, опубликовавший уже несколько работ о Лопе де Вега, веселый лентяй Мигель Писарро, который чуть не каждый день влюблялся в новую красотку, начинающий художник Мануэль Анхелес Ортис, молодой, но уже известный скульптор Хуан Кристобаль... Направление ума у всех было самое критическое, споры вспыхивали по любому поводу и тянулись часами. Бесспорным считалось одно: все, что их окружало, вся жизнь, которую оставило им в наследство старшее поколение, – все это было сплошным враньем, подделкой, фальшью.
Ложь царила в университетских лекциях и церковных проповедях, ложь наводняла речи министров и чиновников, ложь кривлялась на газетных страницах. Ложью были застольные родительские поучения, книги, которыми полагалось восхищаться, дешевая гранадская экзотика для туристов. Ложь казалась вездесущей и непобедимой, бороться с ней было, разумеется, бессмысленно. Не обманывали только искусство, поэзия, дружба. Насчет любви мнения уже расходились: Мигель Писарро включал ее в разряд бесспорных ценностей, но собственное его непостоянство свидетельствовало об обратном. Бесспорным был их закоулок – здесь по крайней мере можно было говорить все, что думаешь, издеваться над чванными пошляками, затевать веселые розыгрыши.
Была у них одна общая слабость – Гранада. Ее вообще-то полагалось бы презирать – за банальности, нагроможденные вокруг ее имени, за толпы кретинов с бедекерами, за одно то, что слово «Альамбра» красуется на вывесках увеселительных заведений во всех странах мира. И все-таки они любили свой город, любили ревниво и придирчиво. Чувство это не полагалось обнаруживать перед чужими, но в своем кругу они давали ему волю, щеголяли друг перед другом знанием исторических подробностей, выискивали живописные уголки и древности, ускользнувшие от путеводителей, не ленились потратить несколько часов, чтобы на закате полюбоваться Гранадой с одной из окрестных гор.
Федерико был среди них младшим, первое время он помалкивал, прислушиваясь к разговорам. Разговоры были необыкновенны. Истины, само собой разумевшиеся, оказывались старческими бреднями, незыблемые авторитеты опрокидывались двумя-тремя щелчками. Даже завоевание Гранады испанцами, прославленное в учебниках торжество креста над полумесяцем выглядело в этих разговорах не таким уж великим событием. Город, во всяком случае, от этого не выиграл, испанцы сумели его лишь обезобразить, а с изгнанием мавров Гранада постепенно утратила душу и пришла в упадок.
О поэзии судили еще строже. Весь XIX век, оказывается, был жалким временем для испанской поэзии, погрязшей в риторике, в высокопарной болтовне. Сорилья был утомителен и велеречив, Кампоамор попросту смешон. Поэтов, имена которых на заседаниях Литературно-художественного центра произносились с восторженным придыханием, закоулочники ни в грош не ставили. Излюбленной мишенью для острот служила «коронация» Сорильи в Гранаде, торжественное провозглашение его императором поэтов. В событии этом они видели апогей пошлости, безвкусицы, дурного тона – всего того, что закоулочники обозначали кратким, свистящим словечком «cursi».
Здесь ценились другие имена: Беккер, непонятый своими современниками, Дарио – «великий Рубен», варвар из Никарагуа, вливший юную кровь в старческие жилы испанской поэзии, и те, кто пошел за ним, – Хуан Рамон Хименес, Вильяэспеса, братья Мачадо. Стихи дона Мануэля де Гонгоры вовсе не считались поэзией. Настоящая поэзия не терпела пустословия, она была точна, как музыка.
Когда дело доходило до музыки, все поворачивались к Федерико. Пакито Сориано и Перес Рода были и тут в курсе всех новостей, могли поговорить о русской школе, о Дебюсси и Равеле, но настоящим музыкантом был он один, и, побывав у него дома, все это молчаливо признали. Случалось ему и в «Аламеде» подняться на эстраду. Публика смолкала, как по команде; Наваррико застывал между столиками с подносом в руках; лицо Пеле Моры из насмешливого делалось жалобным, а толстяк Сориано, согнувшись над столом, все протирал и протирал платком свои очки. А потом на Федерико обрушивалась целая гора аплодисментов, из-за каждого столика к нему бросались с просьбами оказать честь и разделить компанию – разумеется, вместе с его уважаемыми друзьями. Они не отказывались.
Друзья дали Федерико весьма ценный совет. По окончании подготовительного отделения вовсе не обязательно выбирать какой-нибудь один из двух факультетов, разумней оставаться на обоих и впредь. Некоторое увеличение общего количества экзаменов компенсируется несомненными удобствами. Можно, например, пропустить лекцию по каноническому праву, оправдываясь необходимостью присутствовать в эти часы на лекции по истории испанского языка, лекцией же по истории испанского языка пожертвовать ради лекции по каноническому праву. Ну, а время, освобождающееся благодаря таким несложным операциям, посвящать беседам, прогулкам, чтению и прочим делам, достойным взрослого человека.
Так Федерико и поступил.
7
Однажды неутомимый Рамон затащил их особенно высоко в горы; возвращались затемно и по узким улочкам Альбайсина – ночь была безлунная – петляли уже в полной темноте. На одном из перекрестков слабо блеснул фонарь, он не висел, а стоял на чем-то – на ведре или на бочонке. На земле, головой к фонарю лежал человек, лицо его было укрыто, белая рубашка распахнута на груди, из которой торчал какой-то странный предмет, никак не вязавшийся с этой рубашкой, с раскрытой грудью, с беззащитным человеческим телом.
Убийство, по-видимому, произошло уже давно, народ разошелся, и только один гражданский гвардеец в своей клеенчатой треуголке переминался, скучая, возле трупа. Он охотно пояснил юношам, что нож из груди до прихода начальства вынимать не положено, что убитый никем не опознан. А убийца? Кто знает! Когда люди сбежались, парень уже валялся на земле с ножом в груди.
Они помолчали и пошли дальше, разговаривая преувеличенно-громко, чтобы прогнать неприятное чувство. Федерико говорил и смеялся вместе со всеми, но так, будто кто-то другой делал это за него, а сам он оставался у фонаря. Казалось, что и Гранада, и закоулок в кафе «Аламеда», и все они со спорами их и шутками нарисованы на огромном занавесе. Занавес приоткрылся, и там, в глубине, лежал человек с ножом в груди.
Один и тот же сон стал его мучить. Он сам был этим человеком, он лежал на перекрестке с дрожащим фонарем в головах, и несколько ножей с разных сторон тянулись к его обнаженному сердцу. Хуже всего было то, что никто не знал его.
Почему-то именно эта смерть разбудила в нем давний ужас, испытанный в детстве, когда он впервые понял, что всему наступит конец. Что же помогало ему тогда? Не музыка ли?
Вспоминая советы дона Антонио, Федерико садился за пианино, знакомая волна подхватывала его, пальцы сами находили клавиши. Музыка была и тревожной и грустной, и все же чего-то она не ухватывала. В ней была грусть вообще, тревога вообще, а ему нужен был тусклый свет фонаря, и страшное своей неподвижностью тело, и ни на что не похожее чувство, которое он испытал в ту ночь...
Написать об этом? Таинственное убийство, ночь, мертвое тело... Он просидел целый вечер, стихи шли легко; он писал почти без помарок. Кончив, он перечитал с удовольствием: пожалуй, это не стыдно показать и закоулочникам. Впервые за долгое время Федерико спал спокойно, без сновидений и кошмаров.
Наутро, еще раз перечитав написанное, он остолбенел, задохнулся от разочарования. Все было верно: кривые улицы предместья, безлунная ночь, неожиданная встреча, кинжал. И все было неверно – гораздо красивей, чем на самом деле, и в то же время бесконечно бледнее, будто с чужих слов.
И он еще собирался хвастаться этим перед друзьями! Тщательно изорвав листки, он отнес их на кухню, сунул в плиту и не отходил, пока не сгорел последний клочок.
8
Каникулы Федерико проводил вместе со всей семьей за городом, в Аскеросе. Возвращалось детство – гравюры, изображавшие историю дона Бойсо, старинная люстра, закутанная в покрывало из розового газа, чехлы на креслах, знакомые до последней складочки. Единственная улица, казавшаяся в воспоминаниях такой широкой, выглядела теперь просто проулком; речка – приток Хениля – оказалась ручьем, до того пересыхавшим в это время года, что можно было, не разуваясь, перейти его по камням.
Федерико любил уходить из дома в полуденный зной, когда прекращались все работы и крестьяне спали в своих домах. Он ложился где-нибудь в тени и слушал, как побулькивает вода в оросительных каналах, как заливается цикада, опьянев от солнца. А если как следует прислушаться, можно было различить легкий серебряный звон, который издают налитые колосья, когда ветер ударяет их друг о друга.
Когда ветер усиливался, то казалось, что огненные волны бегут по пшеничному полю, разбиваясь о темно-зеленый берег рощи. И сердце Федерико начинало вдруг бешено колотиться от прилива каких-то непонятных ему самому чувств, от острого желания немедленно, сию же минуту разделить эти чувства с другим человеком. Он вскакивал и пускался куда глаза глядят. Но в этот час на поле никого не было, только голые бронзовые ребятишки плескались в канаве и барахтались в пыли. Да если и встретить кого-нибудь, что смог бы он ему сказать?
Как-то послышался ему женский голос. На краю поля, в кустах, мать баюкала ребенка. Федерико осторожно раздвинул ветки. Слова были знакомые – он слышал их в детстве – о человеке, который привел коня на реку, а конь не хочет пить. Забытое волнение поднялось в нем. Кто он, этот человек? Что особенного в том, что конь его отошел, не прикоснувшись к воде? Так какое же колдовство скрыто в этой песне, что и печаль в ней, и покорность, и предвестие неминуемой беды?
Другой раз встретились по дороге цыгане – совсем не похожие на тех, в живописных лохмотьях, что стоят у входа в пещеры на Сакро-Монте и за серебряную монету, предварительно попробовав ее на зуб, восхищают туристов песнями и плясками. Эти двое были настоящими – Федерико сразу это понял, хоть и не ответил бы почему. Молодая женщина с перевязанной ногой сидела боком на ослике, цыган постарше шел рядом, поигрывая прутиком. Толстый слой пыли лежал на их одежде, на затейливой сбруе осла. Должно быть, он слишком засмотрелся на женщину: уже пройдя, цыган глянул через плечо, и Федерико долго еще видел перед собой его бешеный, налитый кровью глаз.
Спадала жара, работа возобновлялась. На току шла молотьба, золотая солома плавала в воздухе, садилась на плечи людей и спины мулов, устилала землю. А когда смеркалось, на этой мягкой и скользкой подстилке рассаживалась молодежь – поболтать, посмеяться, послушать песни кума Санчо, старого сплетника и говоруна. Федерико был тут среди своих, все знали его с детства, а кроме того, он никогда не отказывался подыграть на гитаре.
Песни все были старые, знакомые – про четырех погонщиков, про влюбленных пилигримов, которых поженил сам папа римский, и та, чей напев, лукавый и грустный, приводил Федерико в восхищение, – «Три листочка»:
Под листиком, листочком, листком латука любовь я прячу злую, — какая мука!Случалось, что кум Санчо пел и романсы; знал он их множество, но предпочтение отдавал мавританским и с особенным чувством исполнял тот, в котором говорится про скорбь короля Боабдиля, потерявшего свою Альаму. Тексты этих романсов Федерико видел в библиотеке Паките Сориано, но там, в ученых сборниках, снабженные вариантами и комментариями, они были похожи на засушенных бабочек. А здесь, в поле, под бездонным августовским небом, в устах полуграмотного старика они звучали так, как будто только что родились, как будто падение Эльвиры не менее современное событие, чем битва на Марне или взятие Перемышля. И слушали их так же серьезно и взволнованно, как, наверное, слушали триста и четыреста лет тому назад.
Здесь, в деревне, поэзия была не той, что в Гранаде. Тамошняя – знатная дама – жила где-то высоко и к людям спускалась на считанные минуты; здешняя была загорелой батрачкой, неотличимой от остальных крестьян, вместе с которыми она жала в поле и отплясывала в кругу. Та была лакомством, эта – солью: много ее не съешь, но и дня без нее не обойдешься. Во всем была растворена эта соль – в песнях, в присловьях, в обиходной речи, которая на каждом шагу задевала слух, будила воображение.
Еще в детстве Федерико слыхал выражение «buey de agua» – «водяной вол» – так называют мощный поток в оросительном канале. Теперь знакомые слова вдруг поразили его. Невозможно было точнее сказать об этой массе воды, об ее медлительной, неудержимой силе. Точность была результатом смелости: тот, кто первым произнес эти слова, не сравнивал, не уподоблял – он дерзко столкнул два различных понятия, словно два мира соединил.
Он стал внимательно прислушиваться ко всему, что говорили вокруг. Любимую сласть детворы – яичные желтки в сиропе – называли «небесное сало». Другое лакомство звалось «вздохи монашки». «Половинка апельсина», – говорили, имея в виду небесный купол. Работник, тащивший целую охапку влажных прутьев, объяснил деловито, что ивняк всегда растет «у реки на языке».
Сам не зная зачем, Федерико копил эти выражения, повторял их про себя, поворачивал так и этак, пробовал придумывать свои. Это стало игрой, вошло в привычку.
Однажды под вечер он возвращался домой по знакомой тропинке. Там, где тропинка впадала в дорогу, лежали два камня; один скрывался в тени кустов, а другой был освещен заходившим солнцем, и на нем, как всегда в этот час, грелась ящерица. Тут повсюду было много ящериц, они носились по дорожкам – стремительные, верткие и все же чем-то напоминавшие своих неповоротливых и зубастых тропических родичей, но Федерико любил думать, что на камне его всякий раз встречает одна и та же ящерица, его знакомая. Он придумал ей целую биографию: это старый, умудренный летами дон Ящер выползал по вечерам погреть свои старые кости, и Федерико, усевшись на камень под кустом, вел с ним длинные безмолвные беседы.
И на этот раз он, уже присев, подыскивал достойное обращение. Дон Ящер слегка приподнял переднюю часть своего зеленого туловища, теперь он был особенно похож на крокодила, только уменьшенного раз в тысячу. Маленький крокодильчик? Родственник крокодила? Ящерица застыла – капля живой плоти, прильнувшая к поверхности камня, готовая в любой момент скатиться...
Капелька крокодила!
Он едва не сказал это вслух, с трудом удержался, сидел, переполненный безотчетной радостью. Ящерица смотрела на него с камня – пристально, терпеливо, бесстрастно.
9
Неподалеку от Аскеросы, в деревне Пинос Пуэнте, проводил каникулы Пеле Мора. Когда он приходил к Федерико, донья Висента, знавшая всех в округе, расспрашивала:
– Ну что, не вышла еще замуж Ампаро Медина? А Мария Санчес все так же хороша собой?
Федерико был знаком с Марией Санчес. Волосы у нее были седые, а лицо молодое, нежное. Поседела она в один день, много лет назад, когда у нее на руках умер жених, упавший с лошади. На старуху она не походила и всякий раз, как Федерико и Пеле навещали ее, встречала их оживленно и весело, болтала о всякой всячине. Но в самом этом ее оживлении, в слишком уж звонком смехе было что-то щемящее, жалкое.
История Ампаро Медины была еще обыкновеннее: ее жених из года в год откладывал свадьбу под разными предлогами, а время шло, из девушки она превращалась в старую деву. Проходя мимо ее дома, Пепе и Федерико всегда видели, как она, в праздничном платье, тщательно причесанная, сидит у окна, устремив куда-то в пространство свой голодный, неистовый, взывающий к справедливости взгляд.
Этот взгляд преследовал их всю обратную дорогу до Аскеросы, и Пепе, яростно сбивая палкой верхушки бурьяна, произносил речи о несчастной судьбе испанских женщин. Смолоду перед ними открыты лишь две возможности: если девушка красива, из нее делают приманку для богатого жениха, если же нет, то роли меняются и крючок забрасывает жених – разумеется, небогатый. Браки по любви – редкость, во всяком случае, в высшем и среднем классе. Но страшнее всего остаться одинокой, окруженной презрением и насмешками или той жалостью, которая хуже всяких насмешек. И вот, пока молодые франты прогуливаются по улицам, на каждом балконе, за каждой оконной решеткой надеются, томятся, изнывают тысячи девушек, разбиваются тысячи сердец!
Федерико шагал молча, завидуя Пепе, умевшему выговориться. То, что чувствовал он сам, не укладывалось в слова – это было глухой, привычной болью, шедшей откуда-то из детства, может быть, из воспоминаний о случайно подслушанном разговоре, о потаенных материнских слезах. Иногда эта боль обострялась, к ней присоединялось ощущение своей вины – необъяснимое, но такое мучительное, что он готов был прибежать под окно к Ампаро, сказать слова любви, что угодно, лишь бы увидеть радость в ее глазах! Потом острота сглаживалась, боль словно засыпала, но никогда не уходила совсем и довольно было легкого толчка, чтобы вновь ее разбудить.
Из всех известных ему несправедливостей жизни ни одна почему-то не ранила его так глубоко. Мир был построен мужчинами, уверенными и решительными, а женщинам с их нежными, беззащитными сердцами в этом мире было холодно и неуютно. Мужчины уходили в море, а женщины ждали их на берегу. Мужья отправлялись на войну, а жены оставались дома. Матери отдавали сыновей на муки, а сами могли лишь рыдать у подножия креста. И все же самым ужасным было не найти себе места в этом жестоком мужском мире, не оставить в нем следа, пройти незамеченной.
И в Гранаде все напоминало о том же. В Королевской часовне покоилась Хуана Безумная, несчастная дочь Фернандо и Исабель, сошедшая с ума после смерти своего мужа и погребенная вместе с ним. Собираясь в кондитерскую, донья Висента говорила по старой памяти: «схожу к красоткам с Кампильо». За выражением этим стояла целая история о двух сестрах, открывших еще в конце прошлого века кондитерскую на площади Кампильо. Пока они были молоды и привлекательны, от покупателей отбоя не было, гранадские юноши проводили целые дни в кондитерской, но почему-то ни один из них так и не решился предложить какой-либо из сестер руку и сердце. Шли годы, девушки высохли, состарились, торговля пришла в упадок и название «красотки с Кампильо» стало звучать насмешкой. А сколько таких же историй происходило вокруг!
Просыпаясь на рассвете, Федерико вспоминал: сейчас вместе с ним этот утренний перезвон колоколов слушают девушки Гранады и Кордовы. Девушки Андалусии – Верхней и Нижней. Девушки всей Испании, воспетые поэтами, прославленные живописцами – черные глаза, маленькая ножка, мантилья, гребень... Они слушают эти колокола на заре, после бессонной, бесконечной ночи, после горючих слез в подушку, с новой, робкой, последней надеждой. Дайте им эту надежду, колокола Кордовы! Пообещайте им счастье, колокола Гранады!
10
Тяга к стихотворству одолевала его все чаще. Федерико пытался противиться: стихи писались слишком легко, а музыка приучила его бояться этой обманчивой легкости. Но попробуй удержись, когда все друзья словно помешались на поэзии – сочиняют, декламируют, без конца спорят. Все же своих стихов он им не показывал, довольствуясь участием в коллективном сочинении пародий.
У закоулочников это стало теперь любимым развлечением. Никакой разбор, никакая критика не способны были так обнажить и выставить на свет божий всю напыщенность, пошлость и фальшь какого-нибудь Мануэля де Гонгоры, как удавалось это сделать с помощью одной счастливой строки, написанной в его же собственной, чуть утрированной манере. Они проводили прекрасные минуты в поисках такой строки, потешаясь, фыркая, наперебой придумывая стихи.
Федерико еще в детстве заставлял всю семью покатываться со смеху, показывая, как донья Висента ищет пропавший клубок ниток по всему дому или как гневается отец, если заговорить с ним о делах перед обедом. С годами лицедейство вошло в привычку, Федерико слыл пересмешником, хотя и сам он не смог бы сказать, что тут было от игры, а что – от жгучего, становившегося порой непреодолимым желания проникнуть в чувства другого человека, через внешнее – жест, походку, манеры – прикоснуться к чему-то сокровенному в нем.
Еще он любил развлекаться тем, что проигрывал на пианино музыкальные отрывки, заставляя окружающих догадываться, откуда это. «Из Шопена!» – говорила мать, заслышав славянскую, элегически-танцевальную мелодию. «А это?» – «Это, пожалуй, из Бетховена». – «А это?» – «Ну, это твой новый любимец-француз, как его там, словно кошка ходит по клавишам...» – «Ничего подобного! – смеялся Федерико, – это все Федерико Гарсиа Шопен, Федерико ван Бетховен, Федерико Гарсиа Дебюсси!»
Литературные забавы друзей пришлись ему по вкусу. И здесь вся штука заключалась в тем, чтобы не просто подражать, а ухватить суть. Пародируемые поэты были таковы, что самое существенное оказывалось и самым смешным. Пакито Сориано отлично чувствовал юмор, но природная мягкость, пожалуй, мешала ему. Пепе Мора, наоборот, впадал, увлекаясь, в обличительный тон. Федерико внимательно слушал их спор, давал им выдохнуться, потом лицо его становилось совсем детским, и он предлагал свой вариант. Закоулочники вскидывали брови, значительно переглядывались.
Несколько пародий, сочиненных общими усилиями, решили послать под разными псевдонимами на традиционный литературный конкурс, который ежегодно проводился в Гранаде Королевским экономическим обществом друзей страны, – авось жюри примет их за чистую монету! К восторгу закоулочников, шутка удалась, стихотворения были даже премированы. Тогда возник новый план: писать под общим псевдонимом, объединиться в одном лице и наградить это лицо всеми пороками господствующего вкуса.
Так появился на свет Капдепон – поэт, не существовавший в действительности и тем не менее внесший, как принято выражаться, свой вклад в историю испанской литературы. Исидоро Фернандес Капдепон (громозвучной фамилией этой закоулочники немало гордились) родился, разумеется, в Гранаде, «под сенью фонтанов и тенью олив». Достигнув юношеских лет, он отправился в Америку, где в беспрерывных странствиях развивал и совершенствовал свой творческий гений, и лишь теперь, увенчанный лаврами, возвратился на родину. Он оказался необычайно плодовит и в самый непродолжительный срок наводнил своей продукцией периодические издания обеих Кастилии и Леона (в андалусские издания поэт-невидимка первое время из осторожности не совался).
Стихи Капдепона помещали довольно охотно. Его трескучие оды, слезливые элегии и приторные мадригалы были ничуть не хуже множества других, публиковавшихся в журналах и газетах Испании. Горделивые воспоминания о прошлом, туманные, но вполне оптимистические прорицания, несокрушимая твердость в вопросах веры и умеренная игривость в делах амурных – от всего этого веяло истинно испанским духом.
Мало-помалу дон Исидоро сделался известен в литературных кругах. Дошло до того, что критик Диес-Канедо, посвященный закоулочниками в заговор, поместил в одной из мадридских газет статью, в которой выдвигал кандидатуру Капдепона на вакантное место в академии. Пепе Мора откликнулся на это другой статьей, содержавшей подробные биографические сведения об «одном из самых выдающихся поэтов иберийской расы» и характеристику его книг «Лира странника», «Трубадур двух миров» и других.
Слава вскружила голову Капдепону, и он потерял осторожность. Это его и погубило. В журнале «Торговый союз», выходившем в Малаге, появился сонет Капдепона, посвященный Севильскому поэту Хуану Антонио де Кавестани, похожему на него во всем, с одной только разницей: этот на самом деле существовал. Восхваляя в прочувствованных выражениях дар севильца, гранадский поэт вспоминал о своих с ним встречах в Америке:
С тобой на уругвайских берегах делили одиночество мы – ах! — взаимно услаждаясь медом дружбы. И ныне здесь, отчизну возлюбя, я, мой собрат, приветствую тебя среди забот твоей священной службы!Кавестани возмутился. В письме, опубликованном в следующем номере журнала, он утверждал, что никогда не имел чести быть знакомым с сеньором Капдепоном и сверх того никогда не бывал в Америке. Редакция со своей стороны заявила, что была введена в заблуждение неизвестными шутниками, и дону Исидоро ввиду таких обстоятельств пришлось прекратить свою столь блистательно начатую карьеру.
Сочинению пародий Федерико предавался с азартом. Никто не знал о тех, других стихах, которые он писал втихомолку. Между двумя этими занятиями существовала, однако, тайная связь. Собственные стихи тоже были подражательны, теперь он отлично понимал это. Но Федерико упрямо продолжал их писать, вживаясь в манеру то одного, то другого поэта, все больше увлекаясь этой игрой.
Игрой? В глубине души он давно уже знал, что это не так. Выбор был сделан – это произошло как-то незаметно. Слово – вот чем победит он смерть, вот во что претворится, вот ключ, которым отомкнет целый мир, заключенный внутри него и рвущийся наружу. Человеческое слово, средоточие всех чувств, сгусток жизни, нить, связывающая людей! Его затаптывают в грязь, его калечат, подделывают, наряжают в шутовские одежды. Но приходит поэзия, и очищает слово, и возвращает ему первозданную, чудотворную силу. И невозможное становится возможным.
Он был как путешественник, подошедший к рубежу огромной неведомой страны. Вот сейчас кончатся чужие следы и придется пробираться сквозь чащу. Всматривайся же в безвестную даль, привыкай к непривычным масштабам, высматривай кратчайший путь к заповедным местам.
Федерико искал этот путь, перебирая любимых поэтов. Ему давно уже нравился Беккер – грустный, слегка иронический. Потом его покорил Рубен Дарио, он был заворожен музыкальностью этих нарядных стихов, исписывал в подражание им страницу за страницей. Но, быть может, именно музыкальность в конце концов и расхолодила его: человеческий голос не нуждался в украшениях, свою силу он должен черпать лишь в себе самом.
Потом – Мануэль Мачадо; его книга «Канте хондо» показалась было Федерико настоящим откровением – сборник андалусских песен. Такие же песни распевали в Фуэнте Вакеросе, и в Аскеросе, и здесь, в кабачках Гранады. Такие же? Да, в этих малагеньях и севильянах все, казалось, было как в настоящих, а вот поди ж ты, не трогали они сердце и в сравнении с незамысловатыми песенками старого болтуна Санчо выглядели бумажными розами.
Хуан Рамон Хименес вначале не производил на него особенного впечатления: изящество, чистота, но слишком уж холодновато. После пиршества звуков и красок у Дарио эти стихи выглядели бедными. Но как-то, листая «Пасторали», Федерико остановился. Поле, вечер. Со скошенных лугов тянет запахом сена. Уснувшие сосны и нежно-фиолетовое небо над холмом. Я иду по тропинке, а где-то впереди печальная песенка – то ли песня, то ли плач по умершей любви, – и в песенке этой вся печаль иных сентябрьских вечеров, которые вот так же пахли сеном.
И вдруг Федерико узнал себя, свои вечерние прогулки в Аскеросе, свои собственные неопределенные чувства, которые именно в эту секунду приобрели очертания, облеклись в слова. Боже мой, да ведь это же самое вынашивал и он, только не мог, не умел, не решался выразить... Так вот как поступает настоящий поэт! Никаких подходов и разъяснений, закреплять ощущение, быть верным чувству, не пытаться досказывать... Это бедность? Да здравствует бедность!
Он читал Хименеса словно впервые. Все теперь восхищало его в этом поэте – и андалусский колорит, и чисто андалусская сдержанность. Этот не подражал музыке, не тягался с живописцами. Неприхотливые рифмы, немногочисленные образы. Все решало слово – весомое, безошибочно выбранное; поэзия рождалась от его соприкосновения с другими словами. Под народную песню Хименес не подделывался, он учился у нее, а в чем-то и соперничал с нею. Цветовой символикой он пользовался совершенно так же, как те безыменные сочинители, которые умели одним лишь упоминанием белого цвета сказать о грусти, а красным – о страсти. И с той же свободой, что они, предоставлял он воображению читателя дорисовывать едва намеченную картину.
Учиться у Хименеса было невыносимо трудно. Этот поэт не поддавался пародированию, не отдавал своих секретов даром; он, как дьявол в сказке, требовал взамен душу. Перечитывая собственные стихи, Федерико то и дело обнаруживал в них чужие мысли, чужую, заемную скорбь. Хуже всего было то, что у него все это получалось каким-то уменьшенным, несерьезным: не мудрость, а многозначительность, вместо недосказанности – недомолвки. И такая злость охватывала Федерико, что он, если бы только мог, тут же бросил бы стихи навсегда. Но он не мог.
11
В университете появилась новая фигура – профессор политического права Фернандо де лос Риос. Известно было, что он из Мадрида, питомец Свободного института образования, полон всяких либеральных идей и проектов.
Новый профессор оказался моложав, несолиден, усы у него были редкие и торчали кверху, пиджак он носил слишком короткий, со студентами держался запанибрата. Вдобавок ко всему он еще состоял в гражданском браке, и дон Андрес Манхон вынужден был посвятить целую лекцию папским декреталиям, гласящим, что гражданский брак есть незаконное сожительство.
И студентам дон Фернандо поначалу не понравился. Товарищеский тон его был истолкован как заигрывание, призывы к самостоятельной исследовательской работе, к участию в заседаниях кафедры сочтены пустым прожектерством. А когда он попросил, чтобы каждый студент дал ему свою визитную карточку (как будто у них имелись визитные карточки!), написав на ней, какими языками он владеет (как будто они владели какими-нибудь, кроме испанского!), для того, чтобы профессор смог снабдить их дополнительной литературой из своей личной библиотеки (как будто мало им было учебника!), – приговор был произнесен, и свистящее словечко «cursi» пронеслось над аудиторией.
Выскочку следовало проучить. На мятых, вырванных из тетрадей листках они написали свои фамилии и названия языков, выбрав позаковыристей: китайский, арабский, сиамский, калмыцкий... И стали с наслаждением ожидать скандала.
Скандала не последовало. На следующий раз профессор вошел в аудиторию, оглядел студентов смеющимися глазами и принялся как ни в чем не бывало рассказывать о политической жизни древних Афин. И даже самые завзятые лодыри не могли не признать, что говорит он интересно, живо и что некоторые его замечания насчет преимущества демократических порядков над монархическими наводят на весьма любопытные размышления.
Мало-помалу лед таял. Несколько старшекурсников – в их числе Пепе Мора – решились принять предложение дона Фернандо и побывали у него в гостях. Дома он был еще более прост, радушен, рассказывал преинтересные вещи о Марбургском университете, где учился когда-то, о своем знаменитом дяде – просветителе и яром республиканце Франсиско Хинер де лос Риосе, позволял себе вольные суждения о политике.
Пепе описал свой визит друзьям, те заинтересовались: черт подери, наконец-то свежий человек в нашей сонной Гранаде. Со своей стороны профессор явно искал сближения с молодежью. Все это привело к тому, что в один прекрасный вечер дон Фернандо, ничуть не смущаясь, вошел в кафе «Аламеда». Знакомство состоялось, а через несколько дней профессор был торжественно провозглашен почетным закоулочником.
Всем он понравился. Пакито нашел в нем настоящего знатока инкунабул, с Рамоном у него оказались общие знакомые в Англии, и даже Мигелю Писарро он сумел угодить, шутливо вступившись за вертопраха, когда друзья начали подтрунивать над его очередным увлечением. Он хохотал до слез над пародиями и довольно тонко разобрался в тех противоречивых чувствах, которые его молодые друзья питали к своему городу. Кстати, к нему тут в скором времени должен приехать друг, французский философ Анри Бергсон, так вот, не возьмутся ли они показать его гостю Гранаду – настоящую Гранаду, вы понимаете?
Когда же речь зашла о более серьезных вещах, закоулочники только рты разинули – по части свободомыслия дон Фернандо мог дать им сто очков вперед. Но дело было не в одном этом. Все то, что сами они лишь смутно чувствовали, то, что питало их недовольство, злость, отвращение, в устах профессора приобретало четкие очертания, выступало в виде точных, категорических формул. Дни монархии в Испании сочтены, королевская власть продержится не больше нескольких лет. Политическая система одряхлела, обе правящие партии безнадежно скомпрометировали себя в глазах общества. Страной фактически управляют тысячи маленьких диктаторов – касиков: помещики, священники, ростовщики, политиканы. Каждый из этих касиков – неограниченный повелитель в своем районе или провинции; без его согласия не решается ни одно дело, не выносится ни один приговор, не назначается судья, не выбирается чиновник. Но терпение народа истощилось. Испания накануне великих событий, в результате которых – как знать? – она, быть может, сумеет подать пример и другим европейским нациям, погрязшим ныне в братоубийственной войне.
– Кто же будет, так сказать, автором этих событий?
– Народ, разумеется.
– Каким это образом?
– Ну, хотя бы посредством всеобщего волеизъявления.
– Профессор имеет в виду выборы? Но кто же не знает, в какую комедию превращаются у нас выборы? Заранее можно предсказать, кто на этот раз окажется у кормушки правления – либералы или консерваторы!
Он это знает не хуже, чем его юные друзья. Но времена меняются. Рост недовольства в стране создает условия, позволяющие здоровым общественным силам взять под контроль ход голосования и подсчет результатов.
– Где у нас такие силы? Не сам ли профессор с одинаковым презрением отозвался и о консерваторах и о либералах? Или, быть может, он возлагает серьезные надежды на республиканскую оппозицию?
– Не только. Представителей здоровых общественных сил в наше время следует искать скорее вне стен дворца, где заседают кортесы. Было бы неразумно, например, недооценивать ту роль, которую в жизни страны начинает играть рабочее движение. О, конечно, он имеет в виду не анархистов – эти люди неспособны внести положительное начало в политическую действительность Испании. Зато социалисты заслуживают весьма пристального внимания. Они замкнуты, ограничены профессиональными интересами, им недостает широкого взгляда на вещи, не хватает культуры, но учение, положенное в основу их деятельности, – учение гуманистическое, христианское в подлинном смысле этого слова. К сожалению, мыслящая часть испанского общества до сих пор как-то сторонится социалистов. А напрасно! Объединив свои силы с силами организованного движения рабочих, мы смогли бы направить судьбы страны по новому пути.
Искреннее волнение, звучавшее в голосе дона Фернандо, не гармонировало с его округлыми фразами, литературными оборотами, со всей его плавной, как бы журчащей речью. Вместе с тем сама эта гладкость и стройность как-то умеряли впечатление от неслыханных вещей, которые он говорил. Ведь то, что спокойно излагал им моложавый профессор, было настоящей крамолой, просто революционной программой какой-то! При всем своем нигилизме закоулочники никогда даже не помышляли о чем-нибудь похожем.
Наедине они обдумывали услышанное, старались найти слабые места, сообща придумывали возражения, которые затем дон Фернандо с легкостью разбивал. Нет, они не собирались вставать под знамя этого мадридского Робеспьера, политика их не привлекала, и все же надо признать, что профессор политического права изрядно их взбудоражил.
Один Федерико оставался спокоен. Журчащий голос профессора нагонял на него дремоту, и он, как в университете, чувствовал себя безнадежно неспособным к восприятию отвлеченных идей. То, что говорил дон Фернандо, было очень умно и, по-видимому, справедливо, но все это скользило где-то по поверхности, не задевая чувств. «Общественные силы», «оппозиция», «анархисты», «социалисты» – каждое из этих понятий оставалось для него только словом, сочетанием букв, за которым ничего не стояло.
В свою очередь, и дон Фернандо внимательно – они и не подозревали, как внимательно! – изучал компанию, собиравшуюся по вечерам в кафе «Аламеда». Он знал себе цену, знал, что время работает на него, и не склонен был расходовать его попусту. Необходимо было встречаться с молодежью, чтобы завоевывать единомышленников, готовить помощников для предстоящей общественной деятельности.
Закоулочники, за исключением Пепе Моры, не внушали ему особенных надежд. Мечтатели, сибариты, остряки, готовые вышутить все на свете, но неспособные осознать историческую ответственность своего поколения! Часы, проведенные с ними, можно было считать потерянными. И все же дон Фернандо два-три раза в неделю обязательно заглядывал в знакомое кафе. Смешно сознаться, но он привык к этому закоулку, к нестройному говору, смешивавшемуся с музыкой, к добродушно-свирепому Наваррико, к болтовне, шуткам и выпадам безответственных юнцов.
Была еще одна причина: самый младший из закоулочников, почти подросток, с широким крестьянским лицом и густыми бровями. Профессора он слушал менее внимательно, чем другие, позволял себе даже дремать во время его разъяснений, и тем не менее ни к одному человеку в этой компании дон Фернандо не испытывал такой безотчетной симпатии, как к этому мальчишке, который чем-то напоминал ему веселого, доверчивого, беззаботного щенка. Да и у остальных, заметил он, при одном только имени Федерико лица добрели.
Профессор испытывал удовлетворение всякий раз, когда ему удавалось овладеть вниманием Федерико, добиться того, чтобы его отсутствующий взгляд стал другим – глубоким, цепким, как бы вбирающим в себя. Это происходило в тех случаях, когда речь заходила о живых людях, когда дон Фернандо вспоминал занятные факты, красочные подробности. О, разумеется, он не собирался профанировать серьезную беседу в угоду какому-то юнцу, и все же...
Знакомство ли с доном Фернандо было тому виной или просто времена такие подошли, но только политика, от которой так долго отгораживались друзья Федерико, все чаще вторгалась в их разговоры. Каждая встреча начиналась с обсуждения последних новостей и слухов. Война теперь уже не была чем-то далеким, она придвинулась к самой Андалусии: волны Атлантического океана выбрасывали на пляжи вблизи Кадиса трупы мужчин, женщин, детей – жертв подводного разбоя. Поговаривали, что немецкие подводные лодки, охотящиеся за пароходами нейтральных стран, находят убежище где-то здесь же, в испанских гаванях. Правительство беззастенчиво торговало своим нейтралитетом, и многие люди сказочно наживались на войне. При этом все были всем недовольны: и республиканцы, и либералы, и даже монархисты. Все чаще звучало непривычное слово «забастовка» – бастовали ткачи в Барселоне и здешние, андалусские батраки. Армия и та была охвачена брожением: рассказывали, что повсюду создаются офицерские хунты, которые готовятся навести свой порядок в стране. Но вот удастся ли им это – на сей счет у дона Фернандо, которого уже несколько раз видели в рабочих кварталах Альбайсина, было свое мнение.
Однажды он, посмеиваясь, рассказал закоулочникам последнее столичное происшествие. Депутаты испанских кортесов издавна пользовались священным правом бесплатно кушать конфеты во время заседаний, и вдруг министерство экономических реформ забило тревогу. Оказалось, что государственному бюджету грозит форменная катастрофа: депутаты не только сами поглощают множество конфет, но еще и в огромном количестве преподносят конфеты своим друзьям и знакомым. И тогда был торжественно принят закон, согласно которому конфетами первого сорта могли отныне угощаться лишь министры, депутаты же должны довольствоваться дешевыми конфетами. Вот она, наша парламентская система во всем ее величии!
Профессор почувствовал легкое удовлетворение: глаза Федерико блестели. Об остальных и говорить нечего. Пепе Мора усмехался язвительнее, чем обычно, Мигель покатывался со смеху. Ей-богу, это уже последняя капля! Все наши институты обанкротились, правители впали в слабоумие, слова не подберешь, чтобы назвать все это. Кто-то нерешительно предложил: «Cursi?» – «Нет, слабовато, тут нужно что-то порезче».
– Гнилье, – сказал вдруг Федерико, – cosas putrefactas.
Закоулочники переглянулись. Cosas putrefactas? Истлевшие вещи, рухлядь, труха... Пожалуй, это било в самую точку. Гниением, распадом охвачено, в сущности, было все – политика, литература, искусство. Те, кто там хозяйничал, только выдавали себя за живых, а на самом деле они давно уже мертвецы, труха, гнилье. Cosas putrefactas! Это обобщало. Выражение понравилось, привилось, вошло в их лексикон.
12
Он жил теперь словно двумя разными жизнями. Не только университет, но и вечера в «Аламеде», беседы с друзьями, даже музыка – все это было одной, внешней жизнью. Никто не догадывался о другой, лишь донья Висента вздыхала по ночам, прислушиваясь к шагам в комнате сына.
Каждый день приносил открытия. Он понял, почему романсы в книгах напоминали засушенных бабочек. Стихи рождались, чтобы звучать. На бумаге слово было мертвым, в устах оно оживало, приобретало объем, вес, цвет. За привычным его значением показывалось иное, глубинное: открывалось неожиданное родство с другими словами, откликавшимися его звучанию. В слове «alba» – «заря» – просыпалась белизна – albor предрассветного неба, а в памяти отзывались и каменщик – albanil, и все в цвету абрикосовое дерево – albaricoque, и буревестник-альбатрос, а там еще и еще...
Но и звучащее слово обнаруживало свою скрытую силу, играло всеми красками лишь в соседстве с другими словами. Все зависело от взаимного расположения слов, законы которого были непостижимы, однако неумолимо сказывались, как только их нарушали. Неудачно поставленное слово меркло, тускнело, поэзия улетучивалась... Федерико мучился часами, тут не помогали ни логика разговорной речи, ни правила стихосложения. И вдруг какой-то удачный поворот, и сразу же слово, которое только что казалось дешевой стекляшкой, вспыхивает всеми своими гранями, а остальные слова мгновенно располагаются вокруг в стройном, единственно возможном сочетании. К таким моментам привыкнуть было нельзя, каждый раз они казались чудом.
Стихи, которые он сочинял, были все еще слабыми, несамостоятельными, он хорошо понимал это. Но иногда он испытывал странное ощущение – как будто зрение, слух, память сливаются в какое-то одно, новое, не имеющее названия чувство, и это чувство само начинает властно подсказывать слова. Сперва Федерико записывал такие слова не без внутреннего протеста – словно бы не сам их придумал! – но убеждался, что они гораздо вернее, чем стихи, сочиненные в обычном состоянии, передают то, что ему хотелось выразить. Потом он понял, что el duende – старый ревнивый домовой простил ему измену музыке и снова стал навещать его.
С некоторых пор Федерико начала раздражать манера, в которой читали стихи его друзья. Напевность, подвывание, понижение и повышение голоса в такт размеру – как они не понимали, что вся эта внешняя музыкальность только вредит поэзии, заглушая ту подлинную музыку, которая заключена в словах! Наконец он не вытерпел и прочитал им Хименеса по-своему – спокойно, четко, но так, чтобы донести каждое слово, каждую паузу.
Эффект был необыкновенный. Закоулочники слишком любили поэзию, чтобы не согласиться с Федерико. Отныне ничье исполнение не могло их удовлетворить, они желали слушать только Федерико, тем более что, как выяснилось, он знал на память множество стихов. Его заставляли читать целыми часами – на прогулках, в гостях, в том же кафе под разноголосый гул. Негромкий голос его словно выключал все посторонние звуки, оставались только стихи, падающие весомо, как спелые яблоки с дерева. Друзья смотрели влюбленно, а на лице дона Фернандо появлялось такое выражение, как будто он хотел и не мог решить какую-то задачу.
Федерико и сам полюбил читать вслух. Стихи, оказывается, жили не сами по себе, они нуждались в слушателях, в людях, которые становились бы им сопричастны. Внимание этих людей, их волнение, биение сердец, подавленный вздох – все это было органической частью стихотворения, и только со всем этим стихи приобретали свою настоящую силу.
Однажды вечером сидели в том уединенном уголке поблизости от Хенералифе, который показал Федерико старый библиотекарь, – они теперь часто бывали здесь. Был с ними и профессор де лос Риос. Бесшумно струилась вода, принимаясь журчать уже где-то внизу; в свете садившегося солнца все краски – зелень тополей и травы, серая поверхность камней, красно-бурая земля обрыва – выступали особенно ярко, отчетливо отделяясь друг от друга. Обстановка располагала к стихам, и Федерико стал читать любимого всеми Хименеса. Пакито Сориано, помнивший чуть ли не все стихи этого поэта, слушал с особенным удовольствием.
Одно стихотворение показалось ему незнакомым. Утренняя заря, чувства, которые испытывает человек перед рассветом. В сердце его – боль любви и мечта о дальних просторах. В тревожных образах этого стихотворения было что-то непохожее на просветленную мудрость знаменитого андалусца. Над огромным катафалком ночи поднимается черный занавес... А дальше – по-юношески безрассудное отчаяние. Что же мне делать на этих полях, где только ветви да гнезда, мне, человеку, окруженному светом зари, с душою, в которой ночь! Что же мне делать, если глаза твои умирают в лучах рассвета и тела моего не коснутся твои раскаленные взгляды! Короткая пауза – и последние строки, почти жалобные, если б не гордыня, прорвавшаяся под конец:
Зачем в тот ясный вечер потерял я тебя навсегда? Вот и высохло мое сердце, как угаснувшая звезда.Как только Федерико умолк, Пакито спросил его невинно, из какого это сборника. «Кажется из „Пасторалей“, – ответил тот небрежно. Нет, он ошибается, в „Пасторалях“ такого стихотворения нет. „Ну, значит, из „Элегий“. О нет, „Элегии“ Пакито только что перечитывал. Федерико насупился: он не помнит в точности откуда, да и какое это имеет значение? Однако Сориано не отставал. „А может быть, это вовсе и не Хименес, а какой-нибудь другой поэт?“ – „Может быть“. – «А кто бы это мог быть?“
Друзья удивлялись: Пакито никогда не отличался такой назойливостью, но он продолжал этот нелепый допрос до тех пор, пока Федерико не замолчал, рассердившись. Тогда Пакито протер очки и как ни в чем не бывало заявил, что он, кажется, может назвать имя автора. Все глядели на него с любопытством.
– Ставлю всю мою библиотеку против прошлогодней любовной записочки, случайно сохранившейся в кармане штанов у Мигеля, – Пакито снова водрузил очки на нос, голос его звучал торжественно, – что автор этих стихов не Хименес, не один из братьев Мачадо, не Сальвадор Руэда, не Франсиско Вильяэспеса и даже не сам Рубен Дарио, а... – он повернулся к Федерико, указывая на него прокурорским жестом, – не кто иной, как присутствующий здесь великий трубадур и гнусный мистификатор сеньор Федерико Гарсиа Хименес, Федерико Гарсиа Мачадо, Федерико Гарсиа Руэда, который, как я, наконец, понял, уже не первый раз проделывает эту шутку со своими друзьями! Стойте! – взревел он, потому что все рванулись к Федерико, а тот вскочил, побледнев. —Если он и впредь хочет отпираться, тогда конец нашей дружбе, а если нет, так пусть он запомнит, кто первый узнал в нем поэта, и... дай обниму тебя, обманщик бессовестный!
Секунду Федерико стоял молча, бледный и злой, и вдруг он захохотал. А потом все долго хлопали его по спине, и он хлопал каждого и легонько похлопал даже дона Фернандо, который улыбался как человек, наконец-то решивший трудную задачу.
Так расстался он со своей тайной. Словно гора с плеч – не надо было больше прятаться, притворяться. Неподдельный энтузиазм друзей, их вера в него заражали Федерико, ему самому теперь больше нравилось то, что он писал. Он охотно читал свои стихи закоулочникам, выслушивал их советы, соглашался и не соглашался. Только переписывать стихи он не давал – уклонялся, отшучивался, а когда уж очень приставали – становился серьезным, сдвигал брови, и друзья отступали.
13
Приходила весна, цветущий миндаль покрывал склоны окрестных гор пеной всех оттенков – от снежно-белого до сиреневого, и Гранада хорошела несказанно. Чтобы налюбоваться ею, дня не хватало; лунными ночами друзья до рассвета бродили по городу.
А между тем надвигались экзамены. Дон Федерико, уже давно недовольный малым рвением сына, грозил, что, если тот срежется хотя бы по одному предмету, всей семье придется оставаться летом в городе, пока Федерико будет готовиться к переэкзаменовке.
Друзья старались как могли. Фернандо де лос Риос употреблял все свое влияние, остальные пускали в ход знакомства и связи. Перед экзаменом по гражданскому праву Хосе Мора отправился к старому другу своей семьи, добродушному профессору Гильермо Гарсиа Вальдекасасу, и заявил ему напрямик:
– Дон Гильермо, к вам придет экзаменоваться той друг, который не знает гражданского права...
– Юноша! – только и мог вымолвить пораженный профессор.
– ...и который никогда не будет знать гражданского права, – продолжал Пепе Мора неумолимо, – и вы тем не менее поставите ему удовлетворительную отметку или возьмете тяжкий грех на свою душу.
Греха на душу дон Гильермо брать не хотел. В результате продолжительных переговоров помирились на том, что Федерико выучит одну-две лекции, некоторые наиболее важные статьи кодекса, ну, а профессор... словом, все окончилось благополучно.
К профессору, читавшему историю испанского языка, не удалось подступиться ни с какой стороны. На экзамене Федерико получил ноль – круглый и огромный, как арена для боя быков. Тогда закоулочники, собравшись втайне от Федерико, написали письмо профессору. Они не берутся судить, говорилось в письме, оставит ли след в истории ученая деятельность их уважаемого наставника. Но даже если этого не случится, то сам он, во всяком случае, оставит след в биографии замечательного поэта, творчество которого для испанского языка будет иметь во много раз большее значение, чем вся ученая деятельность высокочтимого профессора. Каким будет этот след, хорошим или дурным, решать, конечно, профессору; они же хотели лишь обратить его внимание на упомянутое обстоятельство.
Адресат пришел в ярость. Какие-то юнцы будут поучать его, чуть ли не ультиматумы ему предъявлять! Он потребует беспримерного наказания для этих нахалов. По дороге к ректору он встретил профессора политического права, известного своими демагогическими заигрываниями с молодежью. Ну как тут было не показать ему письма – полюбуйтесь, мол, до чего дошли ваши юные друзья.
Дон Фернандо прочитал, нахмурился: дерзость возмутительная, уважаемый коллега вправе гневаться. Во всем письме есть только одна вещь, заслуживающая внимания, все же прочее – бред, чепуха. Какая вещь? Да то, что говорится насчет этого мальчишки, Федерико Гарсиа Лорки. Юноша-то ведь действительно феноменально талантлив, лично он, Фернандо де лос Риос, уверен, что еще будет гордиться тем, что учил его. А впрочем, коллега, разумеется, волен поступать так, как находит нужным. Кажется, звонок на лекцию?
Профессор испанского языка остался в замешательстве. Не оставлять же эту выходку без последствий! Но, с другой стороны, шут его знает, а ну, как мальчишка и вправду будущий гений? Времена такие, что ни за что нельзя поручиться. Де лос Риос хитер, держит нос по ветру. Проэкзаменовать его, что ли, еще раз, поэта этого? Кстати, любопытно было бы к нему присмотреться...
История эта, получившая некоторую огласку, имела одно неожиданное последствие для Федерико: его пригласил к себе профессор Берруэта.
О Мартине Домингесе Берруэте, возглавлявшем кафедру теории литературы и искусства, даже у закоулочников не имелось единого мнения. Многие считали его типичным cursi, если не хуже. Никакой теории в его лекциях и в помине не было, одни дифирамбы во славу великих произведений искусства и их творцов, пересыпанные довольно банальными рассуждениями на «вечные» темы. Восторженность и детское тщеславие толкали его порой на весьма экстравагантные поступки. Насмешники любили рассказывать о том, как однажды профессор назначил студентам собраться в лекционные часы на кладбище, у могилы недавно скончавшейся заезжей балерины, и там разразился перед ними патетической речью об эфемерности плотской красоты и о могучей власти смерти, уравнивающей людей. При всем этом он действительно любил искусство до самозабвения, был добр и трогательно преклонялся перед всяким, в ком замечал искру таланта.
Федерико припоминал все это, когда сидел в кабинете у Берруэты, утопая в слишком глубоком для него кресле, украдкой поглядывая на стены, увешанные портретами с автографами, и пытаясь понять, куда клонит его учтивый собеседник. Малорослый, с острой козлиной бородкой и глубоко посаженными пронзительными глазами – этакий карманный Мефистофель, – профессор разглагольствовал о том, о сем. Университетские порядки излишне суровы, они рассчитаны на бездарных и невежественных студентов. Но и талант нуждается в руководстве, в дисциплине, если угодно. Подлинное дарование так редко встречается и так нелегко его развить! Вот недавно он не без удовольствия прочитал в «Бюллетене Литературно-художественного центра» небольшой этюд под названием «Символическая фантазия».
Федерико вспыхнул. Надо же так случиться, чтобы его первым опубликованным произведением оказалась именно эта вещица – стихотворение в прозе для специального номера «Бюллетеня», посвященного столетию со дня рождения Сорильи! Он сочинил его по просьбе Фернандо де лос Риоса, успевшего к тому времени сделаться президентом Центра (в интересах консолидации общественных сил, как объяснял профессор шокированным закоулочникам). Как ему не хотелось писать по заказу, да еще на юбилейную тему! Нодон Фернандо не отставал. Тогда он разозлился: ну, ладно же!
«Символическая фантазия» начиналась описанием ночной Гранады, над которой витает дух воспевшего ее Сорильи – голос его слышится в звоне колоколов. Появляется другой дух – и голосом Анхеля Ганивета оспаривает у Сорильи честь называться возлюбленным Гранады. В конце концов еще один голос – реки Дарро – мирит соперников: оба они достойны имени возлюбленных Гранады, и город продолжает спать своим таинственным сном. Возвышенные тирады духов сделали бы честь самому Капдепону, а в то же время Федерико не удержался и в описание спящей Гранады вложил свои собственные, далеко не иронические чувства. Вышло нечто непонятное ему самому: и не пародия и не всерьез. Впрочем, дон Фернандо остался доволен, друзья обошли этот дебют тактичным молчанием... неужели теперь Берруэта начнет поучать его или хуже того – хвалить!
Берруэта не сделал ни того, ни другого. Он говорил о том, что таланту нужен кругозор, что, как ни прекрасна Гранада, по ней еще нельзя судить о всей Андалусии, так же, как и по одной Андалусии нельзя судить об Испании. А возможно ли стать испанским поэтом, не зная своей страны?
Невозможно, с этим Федерико совершенно согласен. Ну, а хотел бы он повидать Кастилию, Леон, Галисию? Еще бы! Но как это сделать? Очень просто: он может принять участие в традиционной каникулярной поездке по стране.
Этого Федерико не ожидал. Поездки по Испании, которые каждое лето предпринимал дон Мартин в компании нескольких учеников, были гордостью профессора. Студентам, отобранным для участия в этих поездках, все завидовали. Попасть в их число можно было только благодаря выдающимся успехам. Счастливцы, на которых падал выбор, посещали разные города, знакомились с историческими и литературными памятниками, встречались с профессорами и студентами других университетов, даже сами выступали на торжественных актах в их честь. Уж не заблуждается ли уважаемый профессор относительно академических успехов Федерико? Нет, уважаемый профессор не заблуждается.
14
Так вот ты какая, Испания!
Одно дело – пробегать описания природы у Гальдоса и Асорина, разглядывать гравюры и открытки с видами городов, замков, соборов... И совсем другое – из окна ползущего на север поезда собственными глазами следить за тем, как постепенно бледнеет и гаснет зелень, как ее вытесняют желтые, бурые, коричневые тона, как все вокруг становится суше, скупее, суровей.
Спутники дремлют, дон Мартин уткнулся в какую-то книгу – верно, пополняет эрудицию перед грядущими достопримечательностями. Уплывает назад унылая равнина Ла-Манча; проносятся мимо чахлые пристанционные садики; овцы, сбившись в кучу, пережидают, пока промчится чудовище, повстречавшееся им на древней тропе. А то вдруг вынесется из-за поворота целый город со сказочными башнями и колокольнями, с целым лесом флюгеров на крышах. Флюгера в форме сердца неторопливо поворачиваются, и сердце Федерико как будто тоже начинает поворачиваться за ними.
Новая Кастилия сменяется Старой. Все выше плоскогорье, угрюмей природа, молчаливей жители. Не живописная гранадская бедность – голая, отчаянная нищета глядит отовсюду. Люди двигаются медленно, словно придавленные непомерным грузом. Какая-то непонятная тревога сквозит во всем – в разговорах на станциях, в суете кондукторов, в беспокойных взглядах, которые бросают вокруг себя гражданские гвардейцы, по двое прохаживающиеся по перрону с винтовками за спиной.
Ночью Федерико не может заснуть. Он пробирается по вагону, открывает дверь на площадку. К нему испуганно оборачиваются проводник и двое крестьян, едущих без билета, но, увидев молодого человека, успокаиваются и продолжают беседу. Да это и не беседа, старик крестьянин что-то рассказывает, а те молча покачивают головами – то ли в знак согласия, то ли просто в такт поезду.
Старик говорит на кастильском диалекте, знакомые слова звучат непривычно, а интонация та же самая, с которой рассказывают о своих бедствиях земляки Федерико, крестьяне Веги, – в ней покорность судьбе, горечь, гордость. Речь идет о каком-то управляющем имением, где работают оба крестьянина, – сущем изверге. Он и надсмотрщик, он и сборщик податей; он выколачивает из крестьян арендную плату, а из тех, кого летом нанимает на полевые работы, все соки выжмет. Попробуй кто поставить силок на кролика в господском лесу или поймать форель в господском ручье – он тут как тут. И чуть что – сразу вызовет гражданских гвардейцев, для них в имении и казарма нарочно построена. И вот с неделю назад пропали из сарая автомобильные шины. Туда-сюда – никаких следов. Тогда он что сделал: приказал гвардейцам взять пастушонка, мальчишку лет двенадцати, хоть и знал, что тот не мог украсть, и велел пороть его до тех пор, пока не выдаст, кто стащил шины. Мальчишка слабенький, сирота, однако молчит. Запороли до полусмерти. Обиделись люди. Сеньор управляющий – человек осторожный, без сопровождения гвардейцев – никуда, но тут поторопился как-то, пошел один да еще лесом...
Гудок паровоза, поезд замедляет ход, крестьяне вскидывают на плечи свои мешки. Так Федерико и не узнает, что случилось с сеньором управляющим. Но, уже шагнув на ступеньку, тот из крестьян, что помоложе, оборачивается к нему, подмигивает и улыбается – белозубо, мстительно, торжествующе. И Федерико отвечает ему такой же улыбкой.
И снова за окном вагона в бледном свете занимающегося утра проплывают полуразрушенные замки, редкие хутора, заросли кустарника, бурая, морщинистая равнина. Потревоженная свистком чета аистов на дряхлой башне вытягивает шеи вслед поезду...
Так вот ты какая, моя Испания!
15
В Бургосе пересели на автобус. Пассажиров было мало – впрочем, немного их было и в поезде: кому могла прийти охота разъезжать по стране? Путешествовали только коммивояжеры, чиновники, бродячие артисты да студенты, а все остальные проводили жизнь на одном месте, умирали там же, где родились.
– И это испанцы! – сетовал дон Мартин дребезжащим от тряски голосом. – Можно подумать, что исторический испанец, завоеватель и властелин полумира, избороздивший моря и пустыни всего света, теперь состарился и заперся у себя в доме, чтобы греть усталые кости и дремать у очага!
Федерико помалкивал, всматриваясь в тополя, бегущие навстречу по обеим сторонам дороги, в одинокие покосившиеся кресты, в красноватые склоны отдаленных холмов. Селения казались вымершими – даже мальчишки не выбегали навстречу, и такая стояла тишина, будто время остановилось.
В одном из селений автобус оставил их и, громко трубя, умчался; и все они, не исключая и профессора Берруэты, почувствовали себя такими маленькими, затерянными посреди бескрайней кастильской равнины! Но вот подошел дилижанс, весь в облаках пыли, три изможденные клячи тащили его, позвякивая бубенчиками. Усевшись в дилижанс, они погрузились в дремоту, а между тем холмы подступили ближе, выросли в целые горы, и змеящаяся дорога привела, наконец, к знаменитому Силосскому монастырю.
Они провели здесь несколько дней, осматривая памятники и реликвии. Федерико ходил вместе со всеми, выслушивал объяснения, делал записи в книжечке и с каждым часом все сильнее ощущал давящее одиночество и тоску, какой не испытывал еще никогда в жизни.
Оставаясь в отведенной для ночлега келье, он воображал себя одним из тех, кому суждено провести здесь всю жизнь и каждую ночь видеть, как падает лунный свет на каменные плиты, каждую ночь слушать вой огромных монастырских собак. А когда он слушал торжественные литургические песнопения, ему чудилось, что эта стройная хоровая молитва – огромная колонна из черного мрамора, подымающаяся в беспредельную высь, к самому престолу господню... но зачем? Не затем ли, чтобы напомнить об обманутых надеждах, загубленных жизнях, о вопросах, на которые никто никогда не даст ответа?
Бродя в последний день по собору, Федерико разговорился с органистом. Еще мальчиком тот попал в монастырь, здешняя жизнь ему нравилась, никакие соблазны не смущали его душу. Был он светел, глядел безмятежно и сам предложил гостю поиграть на органе. Федерико сел за орган, нерешительно прикоснулся к клавишам и, не раздумывая, начал любимое – аллегретто из Седьмой симфонии Бетховена. Могуче загудело под сводами – любовь, скорбь, жалоба, но так человечно звучало все это в сравнении с отрешенностью грегорианского песнопения! Органист сидел рядом, удивлялся, потирал руки. Вдруг Федерико почувствовал: кто-то смотрит ему в затылок. Позади стоял пожилой монах с мучнисто-бледным лицом.
– Продолжайте, пожалуйста! – взмолился он, прикрывая глаза рукой.
Когда Федерико кончил, бледный монах сдержанно поблагодарил его. Не зная, что сказать, Федерико спросил, очень ли он любит музыку.
– Больше, чем вы можете себе представить, – ответил тот, неприятно улыбаясь, – но я отказался от нее, ибо она ввергала меня в скотство. Она – это само сладострастие... и я дам вам один совет, юноша: бросьте музыку, бросьте эту прекрасную ложь, если не хотите погубить свою жизнь! Молитва – вот единственная музыка, угодная господу. Впрочем, – сказал он, улыбаясь еще неприятнее, – наш юный гость, по-видимому, еще не расположен следовать добрым советам?
– Нет, не расположен, – ответил Федерико с неведомо откуда взявшимся высокомерием.
– Да благословит вас бог, – промолвил монах смиренно.
На обратном пути, в автобусе, профессор спросил Федерико, доволен ли он посещением монастыря. Очень доволен? Прекрасно! Он заметил, что Федерико записывал свои впечатления и мысли, – не сочтет ли молодой коллега возможным поделиться со своими спутниками какою-нибудь из этих записей?
Федерико сдвинул брови, но тут же улыбнулся. Хорошо, он прочтет одну, самую последнюю. Не заглядывая в книжечку, он прочитал на память: «Неужто ради этого каждое утро восходит солнце, и прорастают семена, и раскрываются цветы, и журчат источники?»
Страница из путевого дневника Федерико:
«Трактир где-то в Кастилии. Засаленные, грязно-желтые стены, шелковые звезды паутины в углах... Почесывая в затылке, входит угольщик в синей куртке. Неразборчивым бормотанием он приветствует хозяйку – растрепанную беременную женщину с глазами во все лицо.
– Выпьешь стаканчик? – спрашивает та.
– Нет, с животом что-то неладно.
– Из деревни идешь?
– Нет... Навещал сестру, она подхватила эту новую хворь...
– Была бы она богатой, – вздыхает хозяйка, – врач ее мигом бы вылечил, а бедняки...
Мужчина устало машет рукой, повторяя: – Бедняки... бедняки!..
И, наклонившись друг к другу, они продолжают вполголоса вечную песню обездоленных».
Еще несколько страниц:
«Галисийская осень. Дождь беззвучно и неторопливо поливает нежно-зеленую землю. Изредка меж блуждающих, сонных туч проглядывают горы, заросшие соснами. В городе тишина. Напротив церкви из зеленовато-черного камня – здание приюта, бедное и жалкое... Отсыревшая парадная дверь говорит о заброшенности... Внутри запах скверной пищи и отчаянной нищеты. Дворик в романском стиле... Посреди играют воспитанники – нечесаные, хилые дети с тусклыми глазами. Многие когда-то были белокурыми, но болезни выкрасили их волосы в странные цвета... Бледные, узкогрудые, с бледными губами и худыми руками, они гуляют или играют друг с другом под беспрерывным галисийским дождем... Некоторые, самые болезненные, не играют, они неподвижно сидят на скамейках, повесив голову и безразлично глядя перед собой. А вот хромоножка, которому трудно перепрыгивать через камни... Торопливо входят и выходят монахини, перебирая четки. В углу двора – увядший розовый куст.
В тоскливых лицах можно прочесть предчувствие близкой смерти. Вот входная дверь, огромная и приземистая, – сколько процессий, сколько людских теней видела она! Но люди торопливо уходили, а заброшенные дети оставались... Как глубоко я сочувствую этой двери, через которую вошло сюда столько несчастных... она, наверное, понимает, какую играет роль, и готова умереть с тоски, недаром же она так грязна, источена червями, расшатана... Быть может, когда-нибудь, исполнившись жалости к голодным детям и гнева против несправедливого общества, она всею своею тяжестью обрушится на одну из благотворительных муниципальных комиссий, где подвизается столько бандитов в приличных сюртуках. Быть может, она расплющит в лепешку хоть несколько ханжей, принесших Испании так много зла... Ужасен этот приют, ужасен его нежилой вид, рахитичные и печальные дети. В сердце рождаются неудержимое желание плакать и неистовая жажда равенства...
По белокаменной галерее, сопровождаемый монахинями, шествует превосходно одетый господин, равнодушно поглядывая направо и налево... Дети обнажают головы, они полны почтения и страха. Это посетитель... Звонит колокол... Дверь отворяется, пронзительно и гневно визжа... Затворяясь, она скрипит слабее, словно рыдая... А дождь все льет...»
17
И вот уже позади пустынные каменистые поля, постоялые дворы, погруженные в спячку города, соборы, соборы, соборы... Снова Андалусия – зеленая, золотая. А перед глазами все стоит ветхая башня с гнездом аистов...
Последний привал перед Гранадой, городок Баэса. Достопримечательность в нем одна – старый друг профессора Берруэты, преподаватель местного института Антонио Мачадо.
Немного на свете людей, внушающих Федерико такое уважение, как этот поэт – мечтатель, философ, вольнодумец, автор озорного «Плача по добродетелям и строф на смерть дона Гидо», сатирической отходной всему испанскому дворянству. Быть представленным ему в качестве начинающего рифмоплета? Ни за что! Он просит дона Мартина, чтобы тот ни под каким видом не говорил своему другу о стихах Федерико, и вовремя: профессор, оказывается, именно это собирался сделать. Но, разумеется, если он возражает...
Знакомясь со знаменитым отшельником, Федерико подавляет вздох. Стареющий мужчина с одутловатым лицом, одетый старомодно и неряшливо, – вот это и есть тот самый певец умершей любви, последний якобинец? Учтивость, доходящая до церемонности. Неуклюжая походка выдает плоскостопие. Усталые, погасшие, словно паутиной затянутые глаза.
Не поэт – провинциальный преподаватель водит их по городку, показывает старинные здания, развлекает местными анекдотами, рассказывает о том, как, впервые приехав в Баэсу и явившись представиться директору института, он услыхал от швейцара, что сеньор директор в агонии. Как он растерялся! Начал что-то бормотать, дескать, какое несчастье, поистине не в добрый час он явился... Швейцар посмотрел презрительно: да ничего с сеньором директором не случилось, он сидит в казино на улице Баррерас – это казино у нас давно прозвали «Агонией».
Переждав вежливый смех, Мачадо добавляет без улыбки:
– Я теперь тоже частенько захаживаю в «Агонию». Могу сказать, что прозвище довольно меткое. В казино этом собираются самые выдающиеся представители здешнего общества, и состояние, в котором они находятся...
Он обрывает, не докончив, и Федерико в порыве сочувствия поворачивается к нему, пытается заглянуть в глаза... но встречает холодный, непроницаемый взгляд.
В том самом казино на улице Баррерас и устраивается вечер в честь прибывших. Все идет по заведенному порядку. Профессора местного института и наиболее уважаемые граждане Баэсы тепло приветствуют гранадских гостей. Затем дон Мартин произносит речь о вкладе Андалусии в культуру Испании и всего мира. За время путешествия Федерико выучил эту речь наизусть, он беззлобно отмечает про себя: вот сейчас профессор окинет взглядом присутствующих, а сейчас возвысит голос. Что с того, что римляне владели Андалусией, если самим Римом правили андалусцы – Траян, Адриан – и андалусцы же – Лукан, Сенека – диктовали законы римской литературе! Публика одобрительно гудит, алькальд громко сморкается, преподаватель Мачадо сидит с неподвижным лицом.
Доходит очередь и до него. Наш прославленный поэт, наша гордость, конечно, не откажется прочитать что-нибудь из своих стихов? Ваша гордость не откажется. Дон Антонио тяжеловато поднимается со своего места, собираясь прочесть одно-два стихотворения из тех, что обычно исполняются в подобных случаях. В последний момент он вдруг замечает глаза того юнца, что давеча так неловко сунулся было к нему, – эти глаза смотрят прямо на него, вопросительно, доверчиво, – и неожиданно для себя он произносит совсем другое название: «Земля Альваргонсалеса».
С первых слов начинается чудо. Нет ни дрянного казино, ни агонизирующих его завсегдатаев, ни надоевших спутников по поездке. Один только глуховатый, размеренный голос, и голос этот не стихи читает – он говорит с тобой о самом важном, о том, что лежит у тебя на сердце, и вот он проник во все, и понял, и высказал. Ты еще только думал, какими словами сказать об открывшейся тебе душе кастильской земли, а он уже нашел эти слова:
Степь голая, волки воют на ясный месяц и бродят от рощи к роще; утесы и скалы в местах бесплодных; скелет на скалах белеет, стервятниками обглодан; поля бедны, одиноки, дорог и харчевен не сыщешь, — поля нищеты проклятой, поля моей родины нищей!Неспешно разматывается старая, как мир, новая, как мир, повесть о крестьянине Альваргонсалесе, вспахавшем землю своими руками, о злых сыновьях его, что убили отца из алчности, о неумолимой совести, казнившей убийц...
Пришли к верховьям убийцы, пришли они к Черным Водам, к воде, немой и прозрачной вкруг скал огромных, холодных; вверху ястреба гнездятся, и эхо спит выжидая; чтоб выпить воды кристальной, орлы сюда прилетают; здесь жажду свою косуля, олень и кабан утоляют; вода чиста, молчалива, и вечность она отражает. Вода бесстрастна и звезды на лоне своем охраняет. – Отец! – они закричали и бросились в Черные Воды. – Отец! – повторило эхо по скалам и до небосвода.Старинный романсовый стих сродни ручью – бежит, а словно бы не трогается с места; одна и та же простенькая рифма еле слышно, словно вода с камушка, отмечает его течение. И каждый всплеск, каждое повторение подтверждает снова и снова: да, так, именно так все это и было. Так свершилось злодейство, и так были наказаны преступники, и так да будет наказано зло ныне и во веки веков!
Поэт Антонио Мачадо счастлив. Боковым зрением он замечает, что утомленные длинной поэмой слушатели с трудом сохраняют внимательное выражение на своих лицах, что профессор Берруэта слишком поглощен чувством гордости за своего знаменитого друга, чтобы еще слушать его стихи... Но прямо перед ним – широкое мальчишеское лицо, огромные, невидящие глаза, и у него такое чувство, как будто с каждой строкой в эти глаза переливается часть его собственного существа.
Пока дон Антонио усаживается на место, Федерико, с трудом приходящий в себя, слышит свое имя. Его просят сыграть на пианино. Но что же можно играть сейчас, после этого?.. Разве что... и, ударив по клавишам, он срывающимся голосом запевает песенку – одну из тех, что слышал дома, в Аскеросе. Профессор Берруэта хмурится, классическая музыка была бы теперь более уместна, но публика шумно выражает одобрение, требует еще и еще... А что же дон Антонио? И тут на плечо Федерико мягко ложится маленькая властная рука.
18
Впервые Гранада показалась ему слишком сонной, захолустной, как будто уменьшившейся в размерах. И в первый раз потянуло куда-нибудь в большой город, где толпы на улицах, крики газетчиков, огни реклам, шумная, стремительная жизнь.
Такое же настроение овладело и другими закоулочниками. Торчать в провинции теперь, когда война наконец-то близится к концу и во всем мире такое творится! Вот, например, события в России... Страна Платонов Каратаевых, задумчивых тургеневских героинь, совестливых и беспомощных чеховских интеллигентов – кто бы мог подумать, что народ этой страны способен за один год свергнуть сначала царя, а потом еще какое-то правительство, выйти из войны и провозгласить социализм государственной политикой!
А сама Испания? Семнадцатый год показал, какие грозные силы выросли здесь. Забастовка железнодорожников переросла во всеобщую стачку – подобной еще не знала история страны. Рабочие Мадрида и Барселоны вышли на улицы, десятки их были расстреляны, сотни брошены в тюрьмы. Совсем неподалеку, в Рио-Тинто, поднялись горняки – расправиться с ними удалось, лишь бросив войска. Как всегда, отличилась гражданская гвардия – не щадили ни женщин, ни стариков. В сущности, только армия поддержала на этот раз пошатнувшуюся королевскую власть. Но что будет, когда она откажет Альфонсу в своей поддержке?
Фернандо де лос Риос полагал, что кровопролития можно и должно избежать. Но серьезные события близятся, это несомненно, и исход их во многом будет зависеть от того, сумеют ли мыслящие представители нации возглавить ее и повести за собой в решительный момент. Он высоко ценит талант своего друга Антонио Мачадо, и тем более огорчительными представляются ему те рискованные пророчества, на которые толкает этого поэта его якобинский темперамент.
Понизив голос, он укоризненно скандировал:
Неумолимая, простонародная, разрывая рассветом сумерки грязные, с топором, занесенным для возмездья, грядет она — Испания ярости, Испания разума!Нет, нет, можете называть его старомодным, а он все-таки скажет: Испании разума не по пути с Испанией ярости! И не топор принесет спасение нашей стране, но просвещение, культура, гуманность. Именно так смотрят на дело социалисты, к которым он теперь имеет честь принадлежать, хотя, разумеется, они не исключают и насильственных средств воздействия.
Федерико читал друзьям свой путевой дневник. Все-таки он немало сумел заметить за короткий срок поездки, зарисовки его воспринимались как комментарии к тому, о чем только что спорили. Географические названия оживали, заселялись людьми.
Кто-то из закоулочников предложил: а не издать ли этот дневник? Ведь он – готовая книга. Черт возьми, это мысль! А что скажет Федерико? Да он и сам об этом подумывал... Через несколько минут вопрос считался решенным, дело было только за деньгами.
Деньги соглашался дать отец. В конце концов он в состоянии истратить тысячу-две песет, чтобы доставить мальчику удовольствие. Другой в его возрасте мог попросить автомобиль, а то и увлечься чем-нибудь похуже. Дона Федерико заботило иное: он не желал, чтобы все гранадские шутники насмехались над его сыном. Не ерунда ли то, что сочинил Федерико? – вот единственное, что его тревожит. Получив надлежащие заверения – не от друзей сына, этим свистунам он не очень-то доверял, но от вполне солидных людей, профессоров Берруэты и де лос Риоса, – отец успокоился и отсчитал нужную сумму.
Федерико был как во хмелю. Забросив лекции, он готовил дневник к печати, дописывал, правил, а в голове стучало одно: «Моя книга, первая моя книга!» Он дополнил путевые записи несколькими пейзажами Гранады – летний рассвет, Альбайсин, город на закате солнца, – придумал название «Впечатления и картины», посвятил книгу памяти покойного учителя музыки, профессору Берруэте, товарищам по путешествию...
Волнуясь, он вписал в пролог заветные, давно придуманные слова: «Поэзия заключена во всех вещах – в уродливых, прекрасных, отталкивающих; все дело в том, чтобы суметь извлечь ее... Все увидеть, все почувствовать...»
Отрезвление наступило внезапно, в тот самый момент, когда он впервые взял в руки томик, на обложке которого стояло его имя. Чужими, безжалостными глазами рассматривал он страницы, не понимая, как мог раньше не замечать всего, что лезло в глаза из каждого абзаца. Невыносимое многословие, напыщенные обороты, манерность, приблизительные, неточные слова! А сколько подражательного, чужого!
Что с ним произошло? Ведь он не позволил себе опубликовать ни одного из стихотворений, давшихся с гораздо большим трудом. Уж не показалось ли ему, что проза сама собой пишется? Что ж, пожинай теперь, что посеял...
Подумав о том, что эта дилетантская мазня может попасться на глаза Хименесу или Антонио Мачадо, он даже сморщился, и весьма некстати: хозяин типографии и без того уже давно стоял, недоумевая, почему бы это молодой автор не отвечает на его поздравления. А еще предстояло дарить эти книги друзьям, выслушивать их поздравления, читать сочувствие на их лицах!
Все обошлось. Книга «Впечатления и картины» не снискала Федерико славы, но и не вызвала ничьих нареканий – мало ли путевых записок выходило в Испании! Очень скоро он перестал чувствовать себя автором книги, вернулось восхитительное ощущение: все еще впереди. Но воспоминание о том стыде, который он испытал, держа в руках свое скороспелое произведение, осталось где-то в глубине саднящей царапиной.
На всю жизнь.
19
Теплым весенним днем дон Федерико неторопливо шагает домой, бессознательно любуясь знакомой панорамой сахарных вершин Сьерра-Невады. Вот и война кончилась, а покоя все-таки нет.
В казино сегодня рассказывали, что случилось недавно в Ceppo де лос Анхелесе. Король с министрами приехали туда на торжественное открытие алтаря Сердца Христова. Собралось множество народу, сам Альфонс XIII произнес речь, вручая Христу судьбу своей страны. А когда по знаку короля покрывало свалилось, все увидели, что на камне под высеченными словами «Ты будешь царствовать в Испании» красуется другая, поспешно нацарапанная надпись: «Так хотите вы, но этому не бывать!»
Погруженный в раздумья, дон Федерико не сразу слышит, что его окликают. Это Фернандо де лос Риос, профессор политического права и сам довольно искусный политик, он стремится попасть в кортесы от Гранады и, по-видимому, попадет. Обмен приветствиями, разговор о погоде, о политических новостях – дон Фернандо склонен более оптимистически смотреть на будущее, чем дон Федерико. Затем речь заходит о старшем сыне дона Федерико. Ах, он не очень-то радует отца! Мальчик славный, добрый, но никакой ответственности, никакой заботы о будущем! Можно подумать, что он так всю жизнь собирается прожить, поигрывая на пианино да пописывая сочинения!
Как раз о нем-то и собирался поговорить профессор с доном Федерико. Дело в том, что, по его мнению, Федерико-младший исключительно и разносторонне одаренный юноша, к которому нельзя подходить с обычными мерками. Он не берется предсказывать, в какой именно области талант Федерико раскроется с наибольшей полнотой, но в том, что это произойдет, он уверен. Однако профессор разделяет тревогу отца. В свои двадцать лет юноша все еще не нашел себя, и дон Фернандо опасается, что, оставаясь в провинции – а наша дорогая Гранада, сознаемся, это все-таки провинция! – Федерико рискует остаться дилетантом.
Как же быть? Очень просто: Федерико нужна столица. Только в Мадриде, в интеллектуальной среде, в атмосфере, насыщенной искусством и политикой, юноша сможет по-настоящему развернуть свои дарования. Он, Фернандо де лос Риос, берется устроить его в Студенческую резиденцию – превосходное учреждение, находясь в котором Федерико смог бы продолжать свои занятия и в то же время встречаться с писателями, художниками, музыкантами, дышать, как говорится, воздухом современности.
Дон Федерико несколько ошарашен. Удивляет его даже не столько то, что говорит профессор, сколько то, как он это говорит – взволнованно, горячо, можно подумать, что речь идет о его собственном сыне. Неосознанное чувство отцовской ревности поднимается в нем, и, может быть, именно поэтому он сдержанней, чем следовало бы, благодарит де лос Риоса за его любезное предложение. Он подумает над ним. Он, сказать по правде, не уверен в том, что переезд в Мадрид будет так уж благотворен для Федерико, – знаете, эти студенческие компании, богема... Впрочем, пусть дон Фернандо не сомневается в его искреннейшей благодарности.
Задумавшись еще глубже, он входит в дом. Не-
обходимо прежде всего поговорить с сыном. Ну, разумеется, его нет дома. А может, он просто у себя, наверху – с ним это бывает: замечтается и не слышит, что его зовут. Лесенка жалобно поскрипывает. Нет, и здесь его нет. А беспорядок-то – господи боже! Бумажки на столе не помещаются... Дон Федерико машинально берет одну, всматривается в знакомые крючочки. Стихи? Какая-то чепуха – встречи путешествующей улитки. Описание тихого утра... Как это понимать: «в спокойствии утра – детская нежность»?
Протягивают деревья руки свои к земле. Колеблющимся туманом покрылись поля и посевы, и в воздухе ткут шелковинки пауки для своих сетей — сверкающие дорожки на голубом стекле.Ну-с, далее... Улитка – мирный буржуа! – отправилась в путь, чтобы добраться до края дороги. Встреча с лягушками, их разговоры... детская сказка. А вот улитка натыкается на муравьев, которые, ругаясь, тащат за собою полумертвого муравья. За что они его так? Муравей объясняет: он видел звезды. Что это такое – звезды? Другие муравьи не знают, улитка тоже.
«Да, – муравей отвечает, — я видел звезды, поверьте, я поднялся высоко, на самый высокий тополь, и тысячи глаз лучистых мою темноту пронзили». Тогда спросила улитка: «Но что же такое звезды?» «А это огни, что сияют над нашею головою».Аллегория довольно прозрачная: где уж этой буржуа-улитке знать, что такое звезды, то ли дело вдохновенный лодырь, который только и умеет, что задирать вверх голову! А работать кто будет? Его же товарищи с полным основанием заявляют:
«Тебя мы убьем: ленив ты и развращен. Ты должен трудиться, не глядя внебо».Ну и правильно! Что же он им отвечает? Да все то же: «Я видел звезды».
Лесенка скрипит еще жалобнее. «Я видел звезды» – нечего сказать, солидное возражение! И к обеду он, конечно, опять опоздает, будет любоваться сумерками... И звездами... Дались ему эти звезды!
Поздно ночью, когда весь дом спит, заснул и Федерико, пропустивший не только обед, но и ужин и втихомолку накормленный матерью, отец рассказывает жене про беседу с профессором де лос Риосом. Даже мысль о разлуке с сыном для нее непереносима, но сейчас донья Висента не пугается, настроение мужа ей известно. Заранее уверенная в ответе, она спрашивает, что же все-таки скажет муж дону Фернандо.
– Ты знаешь, – медленно отвечает дон Федерико, – я думаю, что нам следует согласиться. – И, не глядя в расширившиеся глаза доньи Висенты говорит растерянно и невразумительно: – Кто его знает, может, он и в самом деле... видит звезды...
Глава третья
О где-то затерянное селенье
в моей Андалусии
слезной...
Федерико Гарсиа Лорка1
Хотя Пепе Мора всего за несколько месяцев до Федерико перебрался в Мадрид, он приветствует друга со снисходительностью, достойной столичного старожила. Ну кто же, мой милый, носит теперь такие торжественные черные костюмы? Разве что на похоронах! И эти лакированные туфли! А чемоданы небось набиты крахмальными манишками и рекомендательными письмами?
Федерико не смущается: что ж, провинциал так провинциал. Зато каким франтом стал наш Пепе, сил нет, вот бы подивились на него гранадские родственники! Ах, чуть было не забыл, от родственников -куча поручений! Кузина Ангустиас просила крепко поцеловать милого жениха и напомнить ему про клятвы в апельсиновом саду – и, не выпуская из рук чемоданов, он заключает в объятия оторопевшего Пепе. Дядя Педро наказал передать, чтобы Пепе перестал, наконец, шляться по дурным женщинам. Тетушка Кристина посылает племянничку собственноручно связанный набрюшник – говорят, что вечера в Мадриде холодные, а ведь у Пепе такой слабенький желудочек! А бабушка Мария Хосефа...
Пронзительный голос Федерико разносится по всей привокзальной площади. Пеле находит, что шутка несколько затянулась, но тот не унимается – он шарахается от автомобилей и трамваев, поминутно хватается за карманы и сыплет уменьшительными андалусскими словечками, будто не замечая зевак, наслаждающихся даровым представлением.
Наконец приятели усаживаются в открытую пролетку – Пене все-таки не упускает случая сообщить, что такие пролетки в Мадриде называют мануэлами в отличие от зимних экипажей – симонов, – и словоохотливый извозчик моментально вступает в разговор.
– Хорошо вам, южанам, въезжаете в столицу через парадный вход. А высадились бы на Северном вокзале – и тащились бы сейчас в гору по булыжной мостовой под тусклыми газовыми фонарями!
Пролетка выезжает на Пасео дель Прадо. В черной асфальтовой реке колышутся отражения электрических светильников, по сторонам, вкаштановых аллеях, сплошными толпами движутся гуляющие. Справа дышит свежестью какой-то сад – ага, ботанический, – слева, за деревьями, тянутся дома, один нарядней другого. А вот и справа большое, знакомое по открыткам здание с колоннами перед входом – музей Прадо. Фонтан со статуей Нептуна... Огромный – в целый квартал длиной – Дворец путей сообщения...
Дома и статуи кажутся знакомыми, а вот люди... Где же сотни раз воспетые и нарисованные столичные манолы, почему не прохаживаются они неторопливо, накинув мантильи, шурша накрахмаленными юбками? Где классические щеголи в гетрах, повязывающие шею шелковым платком? Откуда взялись эти вызывающе декольтированные женщины в платьях до колен, эти деловитые молодчики в непромокаемых плащах нараспашку? И куда, скажите на милость, так торопятся все эти люди, почему так судорожны их движения, словно они стараются попасть в такт нервической, квакающей музыке, несущейся из окон отелей и ресторанов? Пепе усмехается:
– Я же тебе говорю, что Мадрид давно не тот, каким мы его представляли себе. За Пиренеями можно было отсидеться от войны, но не от послевоенного нашествия иностранных товаров и иностранных мод. Вместо польки танцуют фокстрот, а там, где раньше попивали вальдепеньяс или чинчон, теперь тянут коктейль и виски.
– А футбол, ради которого мадридцы изменяют даже корриде? – вставляет извозчик. – А пять тысяч автомобилей, отравляющих воздух своим перегаром и оглушающих нас своими клаксонами?
– Европеизируемся, – вздыхает друг, – ничего не поделаешь!
Чтобы попасть в Студенческую резиденцию, нужно ехать прямо, но время позднее, лучше переночевать в пансионе, где живет Пепе, – кстати, это в самом центре города. Пролетка огибает бронзовую богиню, восседающую на колеснице, влекомой двумя львами, и по ярко освещенной шумной улице Алькала направляется к площади Пуэрта дель Соль.
Прославленная площадь, «сердце Мадрида», оказывается неожиданно маленькой, окруженной высокими домами с рекламными надписями на фасадах. Кафе, находящиеся в нижних этажах, выставили столики наружу, гуляющие оттеснены с тротуаров и заполняют все остальное пространство, в центре которого возвышается киоск со стеклянными козырьками – станция подземной дороги. Разноголосый гул, выкрики разносчиков, отчаянный трезвон трамваев и нетерпеливые автомобильные гудки... Федерико даже за уши хватается, а Пепе подмигивает: «Это тебе не Гранада».
Пока извозчик, размахивая кнутом и крича во все горло, прокладывает дорогу через толпу, их атакуют со всех сторон: «Гвоздичку в петличку, фиалки для вашей сеньориты – не купите ли цветочков, всего один реал!», «Посмотрите-ка на этот лотерейный билет, его номер оканчивается на цифру „тринадцать“, это счастливый номер!», «А вот „Ля Вос“, вечерний выпуск! Экстренное сообщение: вооруженные силы юга России, развивая наступление на большевиков, заняли город Эль Курско и продвигаются к Москве!», «Позвольте, сеньоры, почистить, как зеркало блестеть будут!»
Но вот и пансион. Не успевает Пепе нажать кнопку звонка, как двери сами распахиваются и выпорхнувшее из них ослепительное черноглазое виденье, несмотря на свою воздушность, едва не сбивает Федерико с ног. Он бормочет извинения, девушка, заливаясь смехом, по-приятельски здоровается с Пепе. Тот знакомит:
– Это Энкарнасьон Лопес, по прозвищу Аргентинита, она делает лишь первые шаги в балете, но в самом ближайшем будущем прогремит на всю Испанию, а это Федерико, мой друг из Гранады, приехавший, чтобы завоевать Мадрид.
– Уж не вы ли тот самый поэт, стихи которого нам постоянно читает Пепе? – И, по-видимому, сочтя достаточным подтверждением укоризненный взгляд, который Федерико бросает на друга, она произносит нараспев, довольно похоже передразнивая Пепе:
Над прохладным ручьем сердце мое отдыхало. Ты затки воду тенью, паук забвенья! Опрокинувшись, сердце в свежий родник упало. Руки, что белеют далеко, удержите воду потока!Ну конечно, стихотворение бессовестно переврано – пропущена вся середина, а все же приятно, черт возьми, услышать свои стихи в чужих устах, да еще в таких устах – пунцовых, смеющихся! Хорошо бы продолжить разговор, но Энкарнасьон спешит, ее ждут друзья, и, дробно процокотав каблучками, она исчезает за углом (одна! в такой поздний час!.. да, это и впрямь не Гранада!).
Комната Пепе очень уютна, но сам он чем-то смущен, украдкой поглядывает на часы. Федерико, конечно, устал с дороги, ему нужно как следует отдохнуть... Он не очень обидится, если оставить его одного? Дело в том, что у Пепе тоже назначена встреча...
Великодушно выпроводив друга, Федерико долго не раздумывает – ночной Мадрид выманивает и его наружу. Народу на улицах стало еще больше, можно подумать, что здесь никто вообще не ложится спать. Толпа, плывущая мимо ярко освещенных витрин, кажется не такой уж чужой, когда с ней смешаешься. Трещит словесная перестрелка: мужчины не пропускают ни одной красотки без комплимента; обмен любезностями принимает моментами довольно рискованный характер, но это не смущает никого, даже духовных лиц, то и дело попадающихся навстречу.
Пройдя несколько улиц, Федерико присаживается к столику на одной из террас. Вокруг рассуждают о политике, о бое быков, об итальянской опере, бьют с размаху костяшками домино по мраморным доскам, звенят ложечками о фарфор и хлопают в ладоши, подзывая официанта. А из глубины кафе женский голос зовет не дозовется какого-то Федерико. Как ни странно, голос этот кажется ему знакомым, и все же он не догадывается обернуться до тех пор, пока его не трогает за плечо Энкарнасьон, Аргентинита, которая – что ж тут удивительного? – сидит как раз в этом кафе со своими друзьями-артистами.
После того как произнесены все слова о том, насколько тесен мир и столица в частности, после того как Аргентинита высказала все, что она думает о человеке, покинувшем друга в первый же вечер («и, главное, ради кого?! Ради Исабелиты, этой смазливой вдовушки!»), после того как Федерико представлен ее друзьям и усажен за их стол, – прервавшийся было за этим столом спор возобновляется. Речь идет о недавней театральной сенсации – «Кармен», поставленной на «Пласа де Торос», прямо на арене для боя быков. В четвертом акте оркестр и певцы уступили место самой настоящей квадрилье, Марсело Леон убил своего быка, а потом опера продолжалась. Некоторые находят все это новаторским зрелищем, другие же до глубины души возмущены таким, как они восклицают, профанированием сразу двух великих искусств.
Последним высказывается дон Грегорио – чахоточного вида мужчина лет сорока, с большими усами, орлиным носом и лихорадочно блестящими глазами. Говорит он негромко, но страстно, и по тому, как его слушают, легко понять, что в этой компании он старший не только по возрасту.
Дон Грегорио считает, что балаган, устроенный на «Пласа де Торос», не имеет ничего общего с настоящим искусством. Но дело даже не в этой постановке, она лишь один из симптомов общей болезни: зрителя стараются любой ценой привлечь в театр, а он все упорнее сопротивляется. Почему? Да потому, друзья мои, что театр наш давно перестал быть чудом и сказкой, что в драме господствует штамп, а комедия задушена бытом. Есть у нас и прекрасные актеры и талантливые режиссеры, нет одного, самого главного – пьес. Ну, конечно, я так и знал, что вы закричите: а Хасинто Бенавенте? а братья Кинтеро? Давайте говорить честно, дон Хасинто – великий мастер, но ведь он уже лет десять, как повторяет самого себя. Да и братья Кинтеро... вы не думайте, я очень люблю их комедии из андалусского быта, и все же сегодня эти комедии не удовлетворяют мало-мальски искушенного зрителя – слишком они поверхностны и примитивны. А кто кроме них? Арничес, ударившийся в глубокомысленную трагикомедию? Или Муньос Сека с его пошлыми фарсами, стоящими уже за гранью литературы? И это в то время, когда в Англии – Шоу, в Бельгии – Метерлинк, в Италии – Пиранделло!
– А у нас Грегорио Мартинес Сьерра! – не очень уверенным голосом возражает кто-то из компании. Он не находит поддержки у остальных, а дон Грегорио, досадливо морщась, отмахивается, как от слишком уж явной лести: ну, какой он драматург, да особенно теперь, когда труппа все время отнимает...
Ах, так вот он кто!.. Федерико читал рассказы Мартинеса Сьерры, слыхал о его пьесах, а в последнее время это имя стало мелькать в театральной хронике под такими примерно заголовками: «Став директором театра „Эслава“, Мартинес Сьерра пытается воспитывать вкусы мадридской публики», «Шекспир и Ибсен на сцене „Эслава“.
– Нет, друзья мои, – продолжает дон Грегорио, воодушевляясь, – испанский театр нуждается в новых авторах, которые вольют молодую кровь в его старческие жилы. И знаете, что они должны будут сделать прежде всего? Возвратить на подмостки театральность в самом высоком значении этого слова, театральность Лопе и Кальдерона! Восстановить в правах сценическую иллюзию! Не принижать театр до жизни! А если выразить все это одним словом, то я сказал бы так: испанский театр должен снова стать поэтическим. Нет, не в том смысле, в котором употребляет это выражение мой друг Эдуарде Маркина. Для него «поэтический» – синоним слова «стихотворный», да и темы для своих пьес он ищет в истории, в романсеро, а мне мерещится нечто другое, нечто, – он щелкает пальцами, – извлеченное из обычной жизни, эдакая поэтическая суть простых вещей...
Разговор продолжается, но Федерико не слышит больше. Слова дона Грегорио расшевелили в нем какие-то собственные мысли, он пытается поймать их, а они ускользают... и тут он замечает, что директор театра «Эслава» внимательно разглядывает его своими блестящими глазами. Так и есть: Энкарнасьон, подсев к дону Грегорио, о чем-то тихо говорит ему – ясно, о чем. Сейчас, чего доброго, попросят стихи почитать. Федерико даже съеживается, но в это время компания, слава богу, с шумом поднимается с мест. Им с Энкарнасьон по дороге. Оказывается, и дону Грегорио по пути с ними?..
У дверей пансиона Федерико огорошен предложением дона Грегорио: не хочет ли наш юный друг еще немного прогуляться – разумеется, если общество такого старика, как он, ну, и так далее... Отказаться невозможно. Аргентинита скрывается, соблазнительно позевывая, а Федерико, подавив вздох, продолжает прогулку, которая, кажется, из ночной превращается в утреннюю. Впрочем, довольно скоро досада его улетучивается – дон Грегорио, надо отдать ему должное, знает, что показать человеку в Мадриде.
Он ведет Федерико на Пласа Майор, старинную площадь, замкнутую в прямоугольник зданиями XVII века. С этих вот зарешеченных балконов дамы s фижмах глядели на бой быков, а то и на аутодафе. Там – дворец, в котором томился Франциск, король французский, пленник императора Карла... Стертые шагами каменные плиты – чьи только ноги не ступали по ним! А в этом дворе вполне могли давать театральные представления – посмотрите: у дальней стены ставились подмостки, на галереях, идущих вдоль каждого этажа, размещалась публика, только ту часть галереи, которая находилась над сценой, зрители не занимали. Она заменяла декорации, и, когда нужно было изобразить башню, гору, балкон, артисты просто влезали туда по лестнице...
Небо над парком Ретиро светлеет, но дон Грегорио неутомим. Нельзя же не показать гостю «нижние кварталы» – и они идут по узким улочкам, мимо дряхлых домов, в которых ютится столичная беднота. Прохожие здесь выглядят иначе, чем в центре, – женщины закутаны в шали, на кавалерах шляпы, нахлобученные до бровей, и традиционные шейные платки. Нет, не весь Мадрид изменил прежним вкусам! – издалека доносится сиплый голос шарманки, вон на углу слепой старик, подыгрывая себе на скрипке, тянет романс про Диего Монтеса, славного разбойника, а девчонка-поводырь протягивает желающим листочки со словами песни.
Не устал ли Федерико? Пожалуй, сейчас самое время выпить кофе у Манко! И вот они сидят в крохотной грязной кофейне, где хозяин, смахивающий на отставного бандита, сам рассчитывается с посетителями, единственной рукой ловко сгребая монеты в кожаный кошель, подвешенный к поясу, а за соседним столиком подозрительные субъекты разговаривают на непонятном жаргоне. А известно ли молодому гранадцу, что самые знаменитые писатели наведываются сюда, к Манко, – поискать персонажей, подслушать меткие словечки?..
Молодой гранадец переполнен впечатлениями – и всем этим он обязан дону Грегорио! Благодарность рождает доверие. Теперь директору театра «Эслава» остается только выказать сердечный интерес к Гранаде – и замкнутость Федерико побеждена. Он охотно отвечает на вопросы – сначала об университете, об общих знакомых (ну кто же в Мадриде не слыхал о сеньоре де лос Риосе, на таких, как он, политических деятелей вся наша надежда!), а там и о себе самом.
На обратном пути доходит очередь и до стихов. Рассвело. Они сидят на бульварной скамейке, совсем одни в огромном, ненадолго угомонившемся городе. Федерико окончательно покорен тем, как слушает его дон Грегорио – не пускаясь в рассуждения, не восторгаясь, не гурманствуя, а попросту отдаваясь музыке стиха с отсутствующим, даже поглупевшим, лицом. Лишь когда Федерико окончательно умолкает и поднимается со скамейки, его собеседник, встряхнув головой и откашлявшись, просит еще раз прочесть сказку про бабочку, сломавшую крылья.
Как раз этим стихотворением Федерико не особенно доволен, но он исполняет просьбу. Бабочка, повредившая себе крылья, упала в гнездо к полевым тараканам. Они спасли ее, вылечили, а младший из тараканов влюбился в чудесную гостью. Как только бабочка смогла вновь летать, она взвилась в небо, а таракан остался на земле с разбитым сердцем. Вот и все, и никаких аллегорий, и насекомые были самые настоящие, из детства.
Теперь дон Грегорио слушает по-другому – он теребит усы, устремив взгляд в одну точку. Едва дослушав, он вскакивает, кладет обе руки на плечи Федерико и впивается в него глазами. Понимает ли Федерико, что в стихотворении, которое он только что прочел, уже заключена – как та бабочка в куколке! – целая пьеса? Отдает ли он себе отчет в том, что, быть может, это именно та поэтическая пьеса, которую ждет испанский театр?!
В первый момент Федерико ничего не понимает, в следующий – принимает все это за шутку, а поняв, наконец, чего хочет от него дон Грегорио, приходит в ужас. Здесь какое-то недоразумение! Он никогда не сочинял для театра, даже не помышлял об этом, сказка о бабочке – безделица, недостойная того, чтобы превращать ее в пьесу, да и что тут превращать! Дон Грегорио, безусловно, слишком добр к нему и несколько увлекся...
Но дон Грегорио и слышать не хочет никаких возражений. Он не первый год работает в театре и, слава богу, кое-что смыслит в драматургии. Если он говорит, что Федерико может развить это стихотворение в прекрасную комедию – романтическую, лирическую, в духе ростановского «Шантеклера» – значит, так оно и есть. А раз Федерико может – значит, он обязан это сделать!
Нет никакой интриги? То есть как это нет? У вашего юного таракана обязательно должны быть соперники. С другой стороны, у него, конечно, есть невеста, которую он покидает из-за бабочки... А представьте себе еще, что невесту ему подыскала мать, готовая теперь на все, чтобы образумить сына!
Федерико продолжает отбиваться, а дон Грегорио ведет себя так, словно пьеса уже у него в портфеле, – раскрыв записную книжку, он прикидывает сроки, намечает исполнителей.
– Знаете, кто будет играть бабочку? Аргентинита! Эта роль прямо создана для балерины! Сеньора Бар-сена превосходно сыграет мать... Декорации закажем уругвайцу Баррадасу – художник он увлекающийся, но даровитый. Начнем репетировать, как только сдадите первый акт, и тогда успеем, пожалуй, будущей весной выпустить премьеру. Весь Мадрид повалит на вашу пьесу!
Пустынные улицы, гипнотический взгляд дона Грегорио и его сумасшедшая деловитость – все это похоже на сон, и чувство головокружительной легкости вдруг охватывает Федерико. А может, именно так и надо?..
Пепе Мора набрасывается на друга с упреками – он глаз не сомкнул, он собирался уже заявлять в полицию...
– Хорош провинциал! С кем это ты прошатался целую ночь?
– С доном Грегорио, – отвечает Федерико, укладываясь; он так устал, что еле ворочает языком, – с директором театра «Эслава»...
– С сеньором Мартинесом Сьеррой? А что тебе от него понадобилось?
– Не мне от него, а ему от меня, – Федерико продолжительно зевает, – он, видишь ли, ставит мою комедию. Через месяц – начало репетиций... И куда такая спешка, не понимаю!..
Кажется, Пепе замолчал? Ну то-то! С наслаждением вытягиваясь на постели, Федерико бормочет:
– Не забудь привести на премьеру Исабелиту... И мгновенно засыпает.
2
Альберто Хименес, директор Студенческой резиденции, любит подниматься рано, чтобы обойти свое беспокойное хозяйство, пока все еще спят. В такие минуты он сам себе напоминает сурового отца, дающего волю родительским чувствам лишь тогда, когда дети не видят. Если бы кто-нибудь из этих лежебок вышел и столкнулся с доном Альберто, неспешно идущим по дорожке, то, пожалуй, не узнал бы своего энергичного и жестковатого шефа: по лицу блуждает задумчивая улыбка, взгляд ласков и рассеян.
Отсюда, с вершины холма, – однофамилец и друг дона Альберто, поэт Хуан Рамон, окрестил его Тополиным холмом – весь Мадрид как на ладони. Обернешься на север – там горы Гвадаррамы. В прозрачном осеннем воздухе они вырисовываются так четко, что хочется рукой достать. Стройные деревья уходят ввысь словно мачты, над крышами полощутся бурые, рыжие, золотые паруса листвы, и кажется, что вся Резиденция медленно плывет куда-то, как та галера, о которой поется в старинном романсе:
...на ней якоря золотые, а парус – из тонкого льна, ею моряк управляет, песня его такова: – Галера, моя галера, храни тебя бог ото зла, отврати опасности мира, и морской ураган, и заливы Леона, и пролив Гибралтар, и шхуны мавров-пиратов, что любят на нас нападать.Что ж, и в самом деле, это его корабль, вышедший в плаванье десять лет назад, когда руководители движения за университетскую реформу вызвали из Малаги молодого издателя и журналиста Альберто Хименеса. Надежд на реформу не осталось, решено было искать обходных путей, и тогда возник план – организовать по примеру Свободного института образования нечто вроде независимого университета, разумеется не называя его этим именем, чтобы не привлекать преждевременно внимания властей. Правительство спохватиться не успеет, как рядом с государственным университетом возникнет наш, вольный. Постепенно он перетянет на свою сторону общественное мнение, а тогда... Всем известен интерес сеньора Хименеса к проблемам образования, богатый опыт, который он приобрел, изучая постановку дела в английских университетах, – не согласится ли он возглавить это начинание?
Согласится ли он? Предложение отвечало самым сокровенным его мечтам – не о карьере, но о будущем Испании. Уже давно пришел он к выводу: корень всех бедствий великого испанского народа заключается в невежестве и эгоизме тех, кто им управляет. Воспитать поколение просвещенных и гуманных людей, любящих свою родину и способных сменить нынешних ее правителей, – такому делу стоило посвятить жизнь!
У других были путешествия, наука, политическая деятельность. У него только Студенческая резиденция, как решили в конце концов ее наименовать, или попросту Рези, как стали ее называть питомцы. Вначале их было всего пятнадцать, и в крохотной гостинице на улице Фортуни удалось разместить лишь спальни, столовую, библиотеку да первую из Лабораторий...
А сколько было волнений, когда король Альфонс, прослышав о Резиденции, изъявил вдруг желание ее посетить! Некоторые считали, что Хименес обязан решительно воспротивиться этому, – ведь поступил же так основатель Свободного института образования Франсиско Хинер, заявивший во всеуслышание: «В нашем доме имеются две двери, и как только его величество окажет нам честь войти через одну из них, я выйду через другую».
Нет, он не мог поставить под удар едва начатое дело. Король был встречен с подобающим почетом, держался он сперва настороженно, но, выслушав разъяснения, отнесся милостиво. Деятельность Резиденции стала расширяться, в ней читали лекции такие ученые, как филолог Менендес Пидаль или ректор университета в Саламанке Мигель де Унамуно; поэты Хуан Рамон Хименес и Антонио Мачадо выступали там со своими новыми произведениями, лучшие артисты и художники захаживали туда по вечерам.
И все же настоящая история Резиденции началась уже на этом Тополином холме, открытом всем ветрам, когда построенные здесь здания, простые и строгие, наполнились голосами, смехом и ровным шумом, похожим на гудение огромного улья. Местоположение было выбрано с тонким расчетом: в пределах столицы и в то же время вдали от столичной суеты. Вот так же – не изолированно от общественной жизни, но и не соприкасаясь с ней слишком тесно, а как бы возвышаясь над нею, – должно было совершаться гармоническое воспитание юношества. Несколько писателей, художников, исследователей, известных своим трудолюбием и безукоризненной честностью, получили приглашение поселиться в Резиденции с единственной задачей – служить нравственным примером для студентов.
Созданию обстановки, способствующей развитию в молодых людях чувства прекрасного, было уделено не меньше внимания, чем оборудованию лабораторного корпуса. Сам Хуан Рамон Хименес руководил посадкой кустов и разбивкой цветников – в этом вот уголке, прозванном Садом поэтов, он собственноручно посадил олеандры, привезенные из Эскуриала, окружив их со всех сторон самшитовыми деревьями.
Сегодня в Рези полтораста студентов – разумеется, из обеспеченных семей: пребывание здесь обходится не дешево. Лучшие умы Испании участвуют в ее работах, да и европейские знаменитости, посетившие Мадрид, не минуют Тополиного холма, а иные из них приезжают специально по приглашению Альберто Хименеса. На публичные лекции по самым разнообразным вопросам – от астрономии до этнологии, на концерты и литературные вечера собирается цвет столичной интеллигенции. Итак, корабль благополучно миновал опасные рифы, выдержал не одно пиратское нападение... Так что же тревожит капитана, почему в это безмятежное утро он вдруг хмурится и лицо его отвердевает?
Стоит только взглянуть за пределы Резиденции, как вспоминаешь, что вся эта пустующая территория вокруг нее продается. Пока что поблизости находится только здание Музея естественной истории – соседство вполне достойное – да еще казарма гражданской гвардии – соседство, не столь желательное, но и особого беспокойства не доставляющее. А найдись покупатель на пустыри – и прощай тогда тишина и уединение: понастроят кругом доходные дома, обезобразят несравненный вид, открывающийся с вершины холма, и шум городского торжища ворвется в аудитории.
Но что эта внешняя опасность по сравнению с той, которая подкрадывается изнутри! Дух всеобщего отрицания, дух безверия и цинизма, тлетворный дух времени – за какими стенами спрятать от него молодежь?
Когда Испания осталась в стороне от военного безумия, охватившего великие нации, не один Альберто Хименес увидел в этом знамение судьбы. Быть может, именно испанцам суждено уберечь от пожара сокровища разума и человечности, стать провозвестниками духовного обновления Европы? При мысли о том, какая миссия ожидает Резиденцию после войны, голова начинала кружиться.
Однако послевоенная Европа не собиралась образумиться; жестокость победителей, угрюмое бешенство побежденных, классовые бои – все сулило новые потрясения. Цивилизация, в которую дон Альберто верил, как в бога, обнаруживала признаки неизлечимой болезни, зловещие пятна проступали на всех ее плодах, на самых утонченных произведениях человеческого ума и таланта.
А теперь вот эта болезнь беспрепятственно проникает в Испанию. И здесь раздаются модные пророчества о крушении всего, на чем держится свет, – и религии, и морали, и государства, и семьи. Мыслящая интеллигенция набросилась на книгу француза Поля Валери, который приглашает философски взирать на то, что мир наш рушится в бездну. Перепечатываются манифесты дадаистов, освобождающих слово от смысла, а человека от ответственности; находит приверженцев кубистическая живопись, на которую дон Альберто не может смотреть без отвращения. Обзавелись мы и собственным «измом» – бойкие юноши (как их, бишь? Да: ультраисты) произносят скандальные речи, выпускают журнальчики в непристойных обложках и, бог ты мой, к чему только не призывают – к разрыву со всеми условностями, к динамизму, к новизне во имя самой новизны...
Хуже всего – легкость, с какой это поветрие овладевает умами молодежи. Был студент как студент, сидел в библиотеках, в меру ленился, в меру повесничал, и вдруг – экстравагантность в одежде, движения развинченные, а в глазах полнейшее недоверие, а то и презрение ко всему, что скажут старшие, ему же, юнцу, добра желающие. Взять хотя бы того же Луиса Бунюэля, который сперва занялся энтомологией, потом решил стать инженером, а теперь все забросил и увлекся – смешно сказать! – кинематографом. Начнешь его увещевать – заявляет, что в одних только похождениях смешного человечка в котелке больше мудрости, чем во всех чудесах науки и техники. Что выйдет из этого юноши?
А что выйдет из его приятеля-гранадца? Этот о мудрости вообще не заботится, к лекциям – никакого интереса. Целыми днями носится по городу, как веселый щенок, пропадает в театрах, а вернется в Резиденцию – и все поставит вверх дном, только и слышно: «Федерико, спой!» да «Федерико, почитай!»
Поет он, правду сказать, превосходно и стихи пишет славные, без выкрутасов, не мудрено, что все студенты их повторяют. Альберто Хименес и сам знает кое-что на память. Это вот, например:
Выходят веселые дети из шумной школы, вплетают в апрельский ветер свой смех веселый. Какою свежестью дышит покой душистый! Улица дремлет и слышит смех серебристый.Стихи как стихи, ничего особенного, однако с каждой строчкой к дону Альберто возвращается хорошее настроение, в котором он начал свою прогулку. А дальше как?
Иду по садам вечерним, в цветы одетым, а грусть я свою, наверно, оставил где-то...Оглушительный треск – словно небо разодралось сверху донизу. Директор вздрагивает, но тут же успокаивается: это в казарме гражданской гвардии, там сегодня учебные стрельбы.
3
Поздно ночью, выпроводив засидевшихся приятелей и завесив окно, чтобы свет не выбивался наружу, Федерико принимался за пьесу. В ней появились новые лица – Тараканиха-колдунья и злой Скорпион, циник и пьяница; действие усложнилось. Мирок насекомых потрясали те же страсти, что и людской род, получалось чуть забавно, чуть трогательно...
Ничего не получалось! Была комедия в стихах, а поэзии в ней не было, поэзия исчезла куда-то, и монологи звучали напыщенно, а шутки – тяжеловесно. Напрасно он расцвечивал речь персонажей, сочинял для них андалусские песенки – ощущение деланности не оставляло его, работа шла безрадостно.
Но наступало утро, в телефонной трубке раздавался нетерпеливый голос директора театра «Эслава», и времени для колебаний не оставалось. Федерико мчался к дону Грегорио, прочитывал ему сделанное за ночь. Тот приходил в восторг, требовал продолжения.
Затем отправлялись на репетицию. Упоительно пахло клеем, гримом, пылью. Люди, которые каждый вечер заставляли смеяться и рыдать капризную мадридскую публику, заполнявшую зал – такой пустой и темный сейчас, – эти самые люди двигались по сцене, произнося написанные им, Федерико, слова! Но теперь это были словно уже не его слова – слитые с движениями, жестами, мимикой актеров, они неузнаваемо менялись, приобретали пугающую самостоятельность. Казалось, новорожденная пьеса отделяется от автора, бредет, пошатываясь, на слабеньких ножках...
Баррадас приносил эскизы декораций. Смелость этих эскизов смущала даже дона Грегорио – деревья, травы, цветы выглядели на них не то раздробленными на кусочки, не то отраженными в тысяче зеркал. Художник пояснял: пьеса – из жизни насекомых, а у насекомых глаза устроены совсем иначе, чем у нас с вами, на их сетчатке мир отражается именно таким, каким я его изображаю.
Артисты покашливали, переглядывались, но спорить не решались.
Иногда на репетициях к Федерико подсаживалась Мария Мартинес Сьерра – жена дона Грегорио и негласный соавтор почти всех его произведений. Среди экспансивных актеров донья Мария выделялась сдержанностью манер. Она одна не делала Федерико никаких комплиментов, зато высказала несколько стилистических замечаний, справедливость которых он охотно признал.
Федерико нравилась эта немолодая женщина, похожая на школьную учительницу. Она и в самом деле была учительницей и еще недавно преподавала в рабочих кварталах Мадрида. Однажды она задала своим ученицам сочинение на тему «Как бы хотела я провести день, чтобы чувствовать себя совершенно счастливой». Знаете, что они написали?
«Я хотела бы целый день сидеть в кафе и есть мясо с картошкой».
«Я пошла бы в лавку и купила бы еды для всей семьи, а для себя – еще взбитые сливки»...
«Я бы наелась лепешек со свиным салом»...
Скрытый упрек послышался Федерико в этом рассказе, он насупился, приготовившись к проповеди, -дескать, в то время, когда... Но донья Мария заговорила о другом. И все же в эту ночь пьеса показалась ему особенно постылой.
Наконец он вывел на последней странице слово «Занавес». Не хватало только названия. Пора было заказывать афиши, Мартинес Сьерра из себя выходил, а Федерико все не мог ничего придумать. Странное безразличие охватило его – пусть сам дон Грегорио поставит какое угодно название, он заранее соглашается с любым.
Дон Грегорио поймал его на слове. В одно весеннее утро Федерико увидел анонс, извещавший население столицы о том, что 22 марта 1920 года в театре «Эслава» состоится премьера комедии в двух актах с прологом – «Злые чары бабочки».
«Злые чары»! Псевдоромантическое, претенциозное выражение – одно из тех, которые Федерико не выносил... Но, быть может, пьеса его и не заслуживает иного названия? Неужели дон Грегорио, не подозревая того, ухватил самую суть? Недаром репетиции идут последнее время все более вяло, и Федерико уже не раз ловил на себе по-матерински жалостливый взгляд доньи Тараканихи – Каталины Барсены.
Надо было что-то предпринимать. Он с раскаянием вспомнил о закоулочниках – многие из них уже перебрались к этому времени в Мадрид, но в суете столичной жизни Федерико редко с ними встречался. Старые друзья – только с ними мог он сейчас посоветоваться!
Закоулочники явились на зов немедленно, побросав все свои дела. Он прочел им пьесу, потом, не дав никому говорить, первым сказал все, что он о ней думает. Комедия не удалась, ее наверняка освищут, и вопрос теперь только в том, что лучше: покорно ждать провала или отступить, пока не поздно. Он уже приготовил два письма: одно директору театра «Эслава» с предложением отменить премьеру, другое – в Гранаду, отцу, с просьбой прислать денег на покрытие убытков, понесенных театром.
С горьким удовлетворением убедился он, что не ошибся в оценке пьесы, – никто из друзей не стал с ним спорить. Будь еще комедия Федерико одной из тех заурядных пьесок, какими привыкли пробавляться зрители, но в том-то и дело, что в ней немало нового, непривычного, и в то же время это новое было слишком слабо, чтобы постоять за себя. Мадридская публика упряма и зла, что хороший бык, сразить ее можно только безошибочным ударом, а удар, нанесенный неопытной рукой, лишь раздразнит быка... Может, и в самом деле лучше отменить спектакль?
Но тут заговорил Пепе Мора, предложивший взглянуть на дело более широко. Двадцати лет от роду, едва приехав в Мадрид, начинающий драматург удостаивается чести, о которой мечтают десятки писателей, – увидеть свою пьесу на сцене одного из лучших театров столицы. Этого факта не зачеркнет даже провал спектакля – мало ли их проваливалось! – а имя «Эславы» откроет Федерико двери других театров. Напротив, беспрецедентный отказ от постановки накануне ее завершения нанесет незаслуженную обиду дону Грегорио и создаст автору дурную репутацию – едва ли какой-нибудь театр захочет после этого иметь с ним дело.
Доводы Пепе были признаны основательными. В конце концов решили: во-первых, премьеру не отменять – будь что будет; во-вторых, возможный провал встретить стоически; в-третьих, как бы ни прошел спектакль, сразу же после его окончания собраться всем в ресторане и...!
И все же скандал, разразившийся на премьере «Злых чар бабочки», превзошел самые худшие ожидания. Пожалуй, с конца прошлого века – с того памятного мадридским старожилам вечера, когда какой-то завистливый драматург выстрелом из ложи насмерть ранил удачливого соперника, вышедшего на сцену раскланиваться, – старинный зал театра «Эслава» не видел ничего подобного.
Уже пролог, прочитанный перед занавесом одним из актеров, произвел странное впечатление на публику, заполнявшую партер и ложи. Никому не известный автор, дерзко обращаясь к зрителям, упрекал их за пренебрежительное отношение к миру зверей и насекомых: «Вы, люди, полны грехов и неизлечимых пороков – так почему же вам внушают отвращение смиренные червяки, которые спокойно ползут по лугу, купаясь в нежных утренних лучах солнца?»
Впрочем, слова о грехах и пороках позволяли надеяться, что комедия окажется чем-нибудь вроде притчи или басни в лицах. Когда занавес поднялся и на фоне изумрудных декораций начали свой диалог две Тараканихи в причудливых костюмах, публика притихла и стала вслушиваться в слова актеров, ища в них скрытый смысл. Но действие шло, скрытый смысл не обнаруживался, а явный мог лишь усугубить раздражение зрителей: им, взрослым людям, всерьез предлагали вникнуть в переживания всяких там мушек и таракашек!
Негодующий шепот перешел в гул, послышались гневные возгласы. Разошедшиеся остроумцы перебивали актеров ядовитыми замечаниями. Этой участи не избежала даже любимица публики, сеньора Барсена. Стоило ей, изображая мучительное раздумье, приложить руку к блестящей шапочке с двумя торчащими перьями и произнести полагающиеся по роли слова: «Но что гнетет рассудок мой?», и какой-то шутник громогласно откликнулся из партера: «Пара рогов!» – под смех и аплодисменты зрителей.
Напрасно в задних рядах и на галерке надрывались студенты из Резиденции, требуя тишины, – голоса их тонули в криках, топанье и стуке тростей, которыми колотили в пол возмущенные театралы.
Из директорской ложи Федерико глядел на сцену и в зал, судил себя беспощадно. Артисты сделали все, что могли, он один виноват, удар нанесен неопытной, робкой рукой. А все-таки было что-то в его комедии – недаром же так выходит из себя вон тот лысый толстяк в первом ряду партера!
Актеры мужественно пытались продолжать спектакль. Воспользовавшись минутным затишьем, Скорпион выговорил очередную реплику: «Сегодня я на завтрак съел шесть мошек». Толстяк в первом ряду подскочил как ужаленный и, потрясая кулаками, завопил: «Отвратительно, asqueroso!!»
Аскероса! Имя селения, где прошло детство, – каким родным показалось оно в эту минуту! Утренний дым над домами, неумолчная песня воды, и старые тополя, и цикады, скачущие по скошенному лугу, – все вдруг возникло в памяти, и неудержимая, беззаботная радость откуда ни возьмись ворвалась в грудь. А лысый толстяк все не унимался – надо было видеть, как он вертится во все стороны, обрызгивая слюной свое семейство!
Марии Мартинес Сьерра, сидевшей слева от Федерико, послышались звуки, похожие на всхлипывания. Охваченная состраданием, она повернулась и увидела, что освистанный автор хохочет, как школьник, прыская и зажимая рот рукой.
4
На заседании кортесов депутат от Гранады сеньор де лос Риос с гневом говорил о бедственном положении андалусских рабочих, чей суточный рацион не содержит и полутора тысяч калорий. По закону им полагается пенсия начиная с шестидесяти лет, но мало кто в Андалусии доживает до этого возраста! Депутаты слушали сумрачно, гранадский профессор не сообщил ничего нового. Столь же безотрадные вести поступали со всех концов Испании – дороговизна, голод; кое-где дошло до разгрома магазинов и продовольственных складов. Весна двадцатого года была беспокойной: снова забастовали железнодорожники, правительство установило военное положение в Саламанке, Валенсии, Кревильянте; в самом Мадриде женщины «нижних кварталов» вышли на улицы, требуя открыть булочные, запертые хозяевами.
На собраниях и митингах все чаще звучало новое слово – soviet. И анархисты и социалисты призывали к поддержке революционной России, а съезд Национальной конфедерации труда от имени своей миллионной организации заявил: «Нет ничего лучше в мире, чем умереть под знаменем Коммунистического Интернационала». Рассказывали, что даже в казармах Главного штаба стали появляться надписи на стенах: «Да здравствует революция! Да здравствуют Советы!» Офицеры тщетно грозили, увещевали, наконец, старший из них, построив солдат и посулив виновнику прощение, скомандовал: «Кто писал – шаг вперед!» И тогда шагнул вперед весь строй.
Кто-то принес в Резиденцию номер газеты «Реновасьон», издаваемый, как стояло в подзаголовке, национальной федерацией социалистической молодежи, примыкающей к III Интернационалу. Помещенный там манифест «К испанскому пролетариату» клеймил позором социалистических лидеров, толкающих рабочий класс на бесплодный и обманчивый путь парламентаризма, и извещал о создании Испанской коммунистической партии. Далее следовали сообщения из России: Красная Армия отражает натиск белогвардейских сил; в «Правде» опубликована статья Ленина о задачах мирного строительства; Луначарский заявляет, что неграмотность в стране будет ликвидирована в самые ближайшие годы. Была и такая заметка – Федерико она заинтересовала более всего: «В городе Киеве Народный комиссариат просвещения организовал передвижной театр, который предназначается исключительно для обслуживания крестьянства».
Основатели новой партии, решительные и непримиримые юноши, выступили в мадридском Атенее – клубе либеральной интеллигенции – с речами, каких здесь не слыхивали. «Мы пришли сюда, – сказал один из них, – чтобы рассказать вам, как мы, молодые коммунисты, сумели использовать ваши библиотеки. Из накопленных там богатств человеческого знания мы извлекли взрывчатый материал, который разрушит все ваше грязное общество. Воздвигая горделивое здание вашей науки, вы и не воображали, что в его недрах будет выковано непобедимое оружие, несущее вам смерть!»
Аудитория добродушно аплодировала – коммунист выглядел так молодо, грозные слова его казались обычным ораторским преувеличением. Конечно, время беспокойное, народ ропщет, но, с другой стороны, – когда же испанцы не роптали, ведь это естественное их состояние. Правду говорит старая эпиграмма, что легко узнать, откуда человек, по такому признаку: если он хвалит Англию – значит он англичанин, если ругает Германию – значит француз, а если ругает Испанию – значит... испанец!
Столичная жизнь шла своим порядком. Каждый день по Мадриду расходились свежие анекдоты о короле Альфонсе, франте и позере. Каждый день перед королевским дворцом на Пласа де Армерия собиралась толпа, чтобы полюбоваться пышной церемонией смены караула. В Королевском театре русский балет Дягилева давал «Треуголку», и очарованные зрители не знали, чем более восхищаться – музыкой Мануэля де Фальи, танцами Карсавиной или декорациями Пикассо. По-прежнему корриды волновали сердца и умы сильнее, чем прения в кортесах, и когда разнеслась весть о том, что гениальный Хоселито убит быком в Талавере де ла Рейна, столица погрузилась в траур. Всеобщая скорбь усугублялась тем обстоятельством, что ровно за день до гибели своего любимца придирчивая и ревнивая мадридская публика освистала его и закидала подушками.
Субботними вечерами в кафе «Помбо» прославленный писатель и острослов Рамон Гомес де ла Серна, окруженный друзьями и поклонниками, сыпал парадоксами, вышучивал все на свете. Другого, не менее знаменитого Рамона – писателя Рамона дель Валье-Инклана, пьесами которого Федерико особенно восхищался, можно было встретить в ресторанчике «Ла Гранха»; худой, долгобородый, он рассказывал собеседникам свои бесконечные истории, в которых правда мешалась с вымыслом. Ультраисты облюбовали кафе «Прадо» напротив Атенея – там они ниспровергали авторитеты, сочиняли манифесты, готовились дразнить публику очередными журналами и выставками.
С некоторых пор литературная молодежь заговорила о новом поэте – юном андалусце из Студенческой резиденции, который не публиковал своих стихотворений, однако не отказывался прочесть их в дружеской компании. Стихи эти не поражали оригинальностью – чувствовалось в них влияние и Хименеса и Антонио Мачадо, но местами на первый план, оттеснив учителей, выступал провинциальный подросток, выросший на гранадской равнине и еще не позабывший язык детских игр и песенок. Подросток, как ему и полагалось, размышлял над вечными проблемами Добра и Зла (разумеется, с большой буквы), старался выглядеть искушенным и разочарованным, на самом же деле был простодушен, мечтателен и глядел на мир с радостным изумлением.
Впрочем, все эти соображения приходили в голову слушателям лишь некоторое время спустя, когда к ним возвращалась способность рассуждать и они начинали разбираться в своих впечатлениях. Что же это было? Юноша, широкоплечий и смуглолицый, стоял перед ними, читая стихи. Его чтение не имело ничего общего ни с декламацией, ни с импровизаторским наитием – слова рождались, как вздох или вскрик, и звучали с первозданной выразительностью. И казалось, что в стихах широкоплечего юноши изливается лишь часть поэзии, переполняющей все его существо.
Федерико мог торжествовать. Это было то, о чем он мечтал: не доверяясь печатному станку, самому вывести в свет свои стихи и защищать их. Молодого автора, возрождающего традиции устной поэзии, награждали лестными прозвищами – его называли последним аэдом, сравнивали со средневековыми трубадурами и жонглерами, а вождь ультраистов Гильермо де ла Toppe изобрел даже специальный неологизм, окрестив Федерико поэтом догутенберговской эпохи – poeta pregutenbergesco.
А в нем нарастало смутное беспокойство. Никогда еще стихи не давались так легко: достаточно было перенестись в детство – а оно всегда летело рядом, – достаточно было опять почувствовать себя тем мальчиком, который еще недавно бродил по гранадским окрестностям... Однако писать стихи означало теперь для него почти то же, что и жить, а в двадцать два года нельзя жить одним прошлым. Новый, огромный, тревожный мир обступал Федерико, и голос этого мира неясным гулом отдавался в глубине его сознания.
Этот гул – то отдаленный, то подкатывающийся почти вплотную – был, пожалуй, сродни той музыке, что пела в Федерико во время занятий с Антонио Сегурой. Вслушиваться в него, пытаться разобрать в нем хотя бы одно слово стало для Федерико привычкой, не покидавшей его и во сне. Не раз он просыпался с бьющимся сердцем, надеясь восстановить в памяти приснившиеся словосочетания. То, что припоминалось, было лишено всякого смысла.
Случалось ему и на людях забываться, испытывая странное чувство: гул как будто сгущался, в нем почти угадывались готовые прорезаться слова... Лицо его бледнело от напряжения, взгляд становился сумрачным, обращенным внутрь. Приятели поталкивали друг друга локтями, показывали глазами на Федерико: «Сочиняет»... Но волна откатывалась, не оставив ничего на берегу. Федерико приходил в себя и градом насмешек вымещал досаду на окружающих.
5
Хорошо было после духоты мадридского лета снова вдохнуть чистый воздух Гранады, поразить сестренок рассказами о столичных модах, поймать на себе ласковый взгляд отца из-под клочковатых бровей и, подхватив на руки мать – она стала совсем легонькой, – носиться с нею по комнатам, отчего донья Висента приходила в неописуемый ужас: «Федерико, ради бога, ты меня уронишь!»
Хорошо было увидеться опять с закоулочниками – с теми, кто, подобно ему, приехал домой на каникулы, и с Рамоном и Пакито, не покидавшими Гранады. Эти двое приготовили друзьям сюрприз, поведя их в первый же вечер не в кафе «Аламеда», а к стенам Альамбру, в маленькую таверну, затерянную среди лавчонок, торгующих сувенирами для туристов.
По дороге они рассказали, что хозяин таверны, старик Антонио Барриос, обладает по крайней мере тремя достоинствами, редкими в трактирщике: не разбавляет вина водой, кормит в долг художников и поэтов, а самое главное – он знаменитый в прошлом кантаор – исполнитель андалусских песен, до сих пор не позабывший своего искусства. Другая достопримечательность – сын его Анхель, превосходный гитарист и незаурядный композитор. Еще перед войной он организовал «Квинтет имени Альбениса», совершивший триумфальное турне по странам Европы. Успех, который выпал на долю каждого гитариста, оказался роковым для квинтета в целом – один из участников застрял в Петербурге, в объятиях русской княгини. Недолго продержался и оставшийся квартет, в следующей столице он такими же судьбами превратился в трио... и в конце концов один только Анхель Барриос возвратился в Гранаду, где ведет ныне жизнь истинного мудреца, совершенствуясь в игре и помогая отцу в таверне. Люди они приветливые, но тряхнуть стариной соглашаются нечасто, и если вам, столичные снобы, посчастливится их услышать, то помните, что этим вы будете обязаны единственно протекции своих друзей, хранящих верность Гранаде. Но бойтесь испортить дело поспешностью и несдержанностью, которыми вы заразились в вашем Мадриде!
Пришлось проглотить эту нотацию и весь вечер провести в крошечном зальце, увешанном сверху донизу картинами и эскизами, терпеливо пересиживая остальных посетителей. Лишь за полночь, когда закрылась дверь за последним туристом, хозяин – седой, проворный крепыш – вышел из-за стойки, снял фартук и, приблизившись к компании закоулочников, предложил им перейти в сад. Там, среди миртовых зарослей, он составил с подноса на стол пузатую бутылку, стаканы, блюдечко с маслинами и уселся вместе со всеми. Неслышно подошел человек средних лет, темнолицый и толстогубый. В руках у него была старинная гитара, тихим звоном откликавшаяся на каждое слово.
Они сидели в голубом лунном свете, потягивая старое вино, слушая ночь. В тишине возник томительный звук, точно огромная муха, тоскуя, билась в паутине, – это Анхель Барриос, склонившись над гитарой, ткал гранадское тремоло. И старик запел – без предупреждения, словно продолжая разговор.
Да, это был мастер! С какой легкостью выделывал он самые головокружительные мелодические переходы, как расцвечивал и украшал знакомые напевы! Под стать ему оказался и сын – не аккомпаниатор, а равноправный участник дуэта, соперник и в то же время вдохновитель певца, искусно распалявший его своей гитарой. Песни следовали одна за другой – малагенья, пахнущая морем, лихой контрабандистский фанданго, болтливая простушка сегедилья...
Потом наступила продолжительная пауза. Федерико хотел уж было заговорить, но Рамон сжал под столом его руку, призывая к молчанию. Даже в неверном свете луны заметно было, как побледнел старик, —лобего залоснился, на виске взбухла вена. Снова забилась струна, затрепетала, как тростник на ветру. Где это Федерико видел такой тростник? В памяти встали дрожащие стебли на речном берегу, за ними веером распахнулась в обе стороны масличная равнина в полумраке, под холодным, низко нависшим небом. Но запахнулся веер, пропал тростник. Струнная дрожь превратилась в плач – жалобный, монотонный, нескончаемый плач, слушать который становилось все больнее, все мучительней...
Нестерпимый вопль заставил всех содрогнуться – он распорол ночь надвое, черной радугой повис в воздухе, обернулся песней. Нагое, бесстыдное чувство правило голосом старого кантаора – так говорят с женщиной в час любви, так молят палача повременить. Так пел он о горе, что глубже самых глубоких колодцев, о смерти, бессильной перед любовью, о любви, беспощадной, как смерть. И сверкали ножи во тьме пещер, и раскрывала свои могилы злая, каменистая земля, и дети в лохмотьях глядели на дорогу, по которой меж двух жандармов уходит в тюрьму их отец.
Минута взволнованного безмолвия, полная отзвуков услышанного, и вдруг все поплыло в танце, и Антонио Барриос показал этот танец, не трогаясь с места, скупыми, задумчивыми движениями корпуса и рук. А после не было уже ни пения, ни музыки, одна лишь звенящая тишина, которая все истончалась, таяла, пока последний звук не растаял в воздухе, пока не стала пустыня там, где только что прошла цыганская сигирийя – мать андалусских песен...
– Ну, вот вам, молодые люди, настоящее канте хондо, – севшим голосом сказал старик, утирая лицо и шею.
Молодые люди повскакали с мест. На этот раз дон Антонио превзошел самого себя! Это было феноменально! Да, в столице такого не услышишь!
Федерико молчал. Громадная волна обрушилась нанего, накрыла с головой, подхватила и понесла. Канте хондо – «глубокое пение»? Нет: песнь из глубин, поток, бегущий через столетия, от первого на земле рыдания и первого поцелуя! Скорбная мудрость мавров, дикая вольность цыганского племени, испанская, меры не знающая гордыня – все слилось в этом потоке. Сколько людей припадало к нему, растворяя в нем соль и мед своих жизней! Песня была их исповедью, песня становилась их бессмертием. Сменялись поколения и династии, а песня жила и будет жить до тех пор, пока существуют эта земля, это небо, эти неистовые человеческие сердца...
Назавтра же они снова явились в таверну, и дон Антонио из-за стойки приветствовал Федерико как старого знакомого. Опять была ночь в саду, а за ней еще и еще, и все эти ночи были посвящены канте хондо.
Не всякая песня имела право так называться. Гранадины и малагеньи, ронденьи и севильяны, а также многие другие, именуемые обычно андалусскими – фламенко, – все эти песни, неплохие сами по себе, для истинного знатока всегда останутся легким жанром, канте ливиано. Совсем иное дело – несколько старинных песен, не испорченных граммофонами и эстрадными исполнителями. Их нельзя петь когда угодно и перед кем попало, для них нужны особая обстановка, понимающие слушатели, а главное – нужен певец, способный настолько проникнуться духом песни, чтобы запечатленная в ней тоска стала его собственной, чтобы подлинная мука рвала его сердце и подлинные слезы клокотали в горле.
Такова цыганская сигирийя. Такова солеа– слово это означает одиночество, но также и женское имя, и поют ее чаще женщины, чем мужчины. Таковы горная серранаи саэта —разговор с богом на языке песни. Такова петенера,названная именем женщины, которая первой ее сочинила и тем приобрела, говорят, такую славу, что,
когда умерла Петенера, понесли ее хоронить, — не хватило на кладбище места всем, кто шел ее проводить.Мелодии этих песен не ласкали, а ранили слух. А слова преодолевали сопротивление мелодии – так птица преодолевает сопротивление воздуха, без которого она не смогла бы лететь. Три-четыре стиха вмещали содержание целой драмы, строфа – копла – стоила философского трактата. Песня шла к цели кратчайшим путем, отбрасывая логические мостки. В нескольких словах умела она рассказать о лютой тоске:
«Иду, словно арестант; позади – моя тень, впереди – моя дума».
И о горькой доле:
«Один я на свете, и никто обо мне не вспомнит; прошу у деревьев тени – и засыхают деревья».
И сказать о нетленной страсти:
«Возьми мое сердце, сожги его на свече, но не касайся пепла – и он тебя обожжет».
И о всемогущей любви:
«Я посильнее бога: сам бог тебе не простил бы того, что простил тебе я».
И о непоправимой утрате:
Месяц в желтом кольце, мой любимый в земле.Федерико казалось, что в двух этих строках больше тайн, чем во всех пьесах Метерлинка. Ни мистических рощ, ни покинутых кораблей, блуждающих в ночи.
Месяц в желтом кольце, мой любимый в земле.Подражать этим стихам было невозможно, да они и не существовали сами по себе, без исступленного голоса, без гитары, без голубой ночи, без задыхающихся от волнения слушателей – без всего, что делало их песней. Ах, раствориться б и ему в той песне, безвестным кантаором бродить от селения к селению!
6
По всем дорогам гранадской равнины тянулись медленные вереницы повозок, груженных сахарной свеклой. Пронзительный скрип колес висел с утра до вечера над Фуэнте Вакеросом, над Аскеросой, над Вегой де Сухайрой, где семья дона Федерико проводила теперь конец лета.
Спасаясь от этого скрипа, Федерико на целый день уходил из дому. Он шагал напрямик, не разбирая дороги, недовольный окружающим и собой. Тополя золотятся, лето позади. Он вернется в Мадрид не с пустыми руками – написано немало новых стихов, некоторые из них, пожалуй, лучше всего, что он сочинил до сих пор. Откуда же эта постоянная глухая тревога, это ощущение, как будто он пытается и не может вспомнить сон, неведомо когда приснившийся?
Зелень вокруг бледнела, отступали назад сады, тропинка становилась круче, горы вырастали, закрывали полнеба. И постепенно раздражение уступало место иному чувству, похожему на то, какое испытывал Федерико в детстве, когда мать заставляла его искать под музыку спрятанную вещь. Повинуясь этому чувству, он брел вперед, в сторону Альамы, оставляя за спиной возделанную долину.
Красноватая пыль под ногами, голые бурые откосы по сторонам. От гранитных скал пышет жаром, который кажется еще сильнее из-за снежно-белых осколков мрамора, попадающихся по пути. Растительность исчезла – лишь кое-где торчит на обрыве искривленное фиговое деревце да топорщится в ущелье агава, подобная окаменевшему спруту. Тишина такая, что в ушах звенит... или это колокол звонит где-то в горах, словно выговаривает: «канте хондо, канте хондо»?..
За поворотом открывается холм. Он лыс; на самом темени – часовня, оттуда-то и доносится унылый равномерный звон. У подножия разбросано несколько домишек; выше, на склоне, виднеются дыры пещер: там обитают бедняки. Какая, должно быть, суровая и однообразная жизнь у людей в этом селении! Что им до того, что есть где-то Мадрид, Европа, великая и кичливая цивилизация? Оливковая роща, источник, церковь да кладбище – весь их мир, неизменный, недвижный, и только флюгера крутятся на ветру, как сто, как двести лет назад.
Канте хондо, канте хондо... Да, это здесь. Не на плодородной равнине Веги, что кажется земным раем, созданным для наслаждения, а именно здесь, в таких вот затерянных селениях, в горестной, в слезной Андалусии живет и поныне ее душа, ее древняя песня. Дикий, заунывный напев, сухая, сосредоточенная страстность, скупо отмеренные слова – все это было как-то связано с замкнутым в кольцо гор пространством, с раскаленными скалами, с низенькими придорожными крестами, которые ставили встарь в тех местах, где совершилось убийство.
Вот как раз один из таких крестов. Буквы стерлись: «Здесь убили...», а дальше не разобрать. Кто поставил его? Быть может, сами разбойники, чтобы проезжие поминали душу убитого? А кто был тот, чья дорога окончилась на этом месте, – торговец, крестьянин, цыган? Ну, пусть цыган... И пусть звали его, как того цыганенка в Фуэнте Вакеросе, – Амарго. Амарго – горький, это имя здесь подходит, вся судьба в нем предсказана.
Имя потянуло за собой остальное: беспредельное одиночество путника, тоскливое предчувствие, ночь – потому, что смерть настигает человека ночью, – очертания горных вершин на звездном небе, топот за спиной, и, когда позади на самом деле послышался стук копыт, Федерико всем телом ощутил темный ужас. Добродушный крестьянин, учтиво его приветствовавший, давно уж скрылся за поворотом на своем вислоухом осле, а Федерико, злясь на себя, все не мог унять сердца.
Домой возвращался поздно, опустевшими, молчаливыми полями – лишь сова вскрикивала вдалеке. Потом у себя в комнате, примостившись к подоконнику, он старался поймать словами то бесформенное, то несказуемое, что томило его и гоняло целый день по горным дорогам. Но слов не было. Так легко рождавшиеся, пока дело касалось верхнего, осознанного слоя чувств, они иссякали сразу же, как только из глубины существа подымалась волна безъязыкой стихии.
Еще не дописав строки, он проникался отвращением к тому, что выводило его перо. Не стихи – чернильные закорючки, бесконечно далекие от владевшей им страсти! Стаи букв, как мошкара, кружились перед глазами Федерико; чудилось, что даже мозг его покрыт чернильными пятнами. Луна бесстрастно освещала ворох исчерканной бумаги.
Это была сущая мука. Но вовсе не знать этой муки было бы, пожалуй, еще мучительней.
7
Мадрид был все тог же – нарядный, легкий, похожий на огромный пароход, совершающий увеселительное плаванье. Конечно, и на таком пароходе есть усталая команда, задыхаются кочегары у топок, но это где-то там, в глубине, а все каюты, салоны, палубы полны беззаботных пассажиров, которые попивают кофе, болтают, кружатся в танцах.
Закружился и Федерико. Внутреннее напряжение ослабло – он снова шутник, пересмешник, всеобщий любимец, душа студенческой компании, о похождениях которой будут годами вспоминать в Резиденции. Впрочем, так ли уж беззаботна была эта компания? То и дело разгорались споры – начавшись на прогулке где-нибудь в окрестностях Мадрида, они допоздна продолжались в кафе «Прадо» и заканчивались под утро в белой, узенькой, как келья, комнатке Федерико.
– Да поймите же, – рычал Луис Бунюэль, сверкая угольно-черными глазами и поворачиваясь всей своей атлетической фигурой то к одному, то к другому собеседнику, точно боксер, принимающий стойку, – поймите, что тот уютный эвклидов мир, который столетиями отражался в зеркале старого искусства, больше не существует! Революция в физике не оставила от него камня на камне! Люди привыкли думать, что живут в доме с ровными, неподвижными стенами, а все это оказалось иллюзией. Стены исчезли, и вокруг – только вихри вещества, только круговорот неведомых форм, мчащихся с чудовищной скоростью. О таком мире не расскажешь средствами удобопонятного, милого вашему сердцу искусства. Тут нужна совершенно новая эстетика!
– Ну, а человек? – пощипывая усы, мягко возражал Хосе Морено Вилья, худощавый поэт и художник лет тридцати с лишним, – один из тех, кто жил в Резиденции по приглашению директора, дабы личным примером благотворно действовать на молодежь. Удавалось ли ему это – сказать трудно, но, во всяком случае, студенты его любили – за скромность, за трогательную преданность искусству, и в компании Федерико он был принят как равный.
– Ведь человек остается человеком и в этом, эйнштейновом, или как его там назвать, мире. Как же быть с человеческим сердцем, как быть с добротой, с любовью, которые ничем не измеришь, которые все те же, что и столетия тому назад! Не в том ли заключается задача художника, чтобы в любых условиях напоминать о человеке, вступаться за него?
Но тут на него всею своей эрудицией обрушивался Гильермо де ла Toppe, доказывавший, что и человек – во всяком случае, современный человек – далеко не таков, каким привыкло его изображать искусство. Человек в нашу эпоху чувствует себя игрушкой непостижимых и безжалостных сил, да и в себе самом он обнаруживает мрачные пучины. Его сознание разорвано, расщеплено, его нравственность оказалась в высшей степени относительным понятием, что убедительно продемонстрировала хотя бы минувшая война. Мифы о светлом человеческом разуме, о добром человеческом сердце развенчаны точно так же, как миф о неделимом атоме. Не пора ли и искусству отбросить эти мифы, оставить мещанам здравый смысл, пустопорожнюю мораль и всецело довериться инстинкту, как это делаем мы, ультраисты!
Федерико слушал внимательно, но сам помалкивал. Когда к нему подступали, требуя высказаться – с кем он: с ультраистами, с модернистами? – отвечал, смеясь: «С жизнью. Я – „жизнист“!» Однако друзья не отставали. Тогда, чтобы откупиться, он читал им стихи, привезенные из Гранады, предупредив, что никакого отношения к предмету спора эти стихи не имеют, – просто запись несвязных мыслей и чувств, пронесшихся в нем вслед за падучей звездой, прочертившей ночное небо.
Охотники неземные охотятся на планеты — на лебедей серебристых в водах молчанья и света. Вслух малыши-топольки читают букварь, а ветхий тополь-учитель качает в лад им иссохшей веткой. Теперь на горе далекой, наверно, играют в кости покойники: им так скучно весь век лежать на погосте! Лягушка, пой свою песню! Сверчок, вылезай из щели! Пусть в тишине зазвучат тонкие ваши свирели! Я возвращаюсь домой. Вомне трепещут со стоном голубки – мои тревоги. А на краю небосклона спускается день-бадья в колодезь ночей бездонный!Друзья вздыхали, переглядывались. Разговор принимал новое направление: до каких пор Федерико будет отказываться публиковать свои стихи? Если б еще негде было, а то Гарсиа Марото, художник и издатель, просто по пятам за ним ходит, предлагая выпустить сборник хоть немедленно. Ведь дошло до того, что в печати появляются стихотворения всяких юнцов, явно подражающих Федерико, а сам он продолжает оставаться неизвестным широкой публике!
Федерико и тут отмалчивался. Ну, как растолковать им то, чего он сам себе не мог объяснить, только чувствовал: став рядами печатных строчек, стихи оторвутся от него, приобретут пугающую самостоятельность, ему нельзя уже будет читать их людям так, как прежде. С чем он тогда останется?..
Оставшись один, Федерико задумывался. Он не любил отвлеченных рассуждений, и все-таки споры друзей волновали его сильнее, чем казалось. Конечно, он на стороне Морено Вильи, почему же слова Луиса и Гильермо так задевают его – и даже не столько слова, сколько угадывающееся за ними чувство тревоги, неблагополучия, катастрофы? Не потому ли, что тревога эта находит отзвук и в его собственном сердце, что минутами и у него возникает ощущение, как будто почва уходит из-под ног, а все вокруг становится зыбким и призрачным?
Хмурый осенний рассвет глядел в окно. Сквозь капли, бегущие по стеклу, еле виднелись горы, начинающиеся сразу же за Мадридом. Сразу же за Мадридом начиналась страна, населенная миллионами людей, словно вышедших из той земли, на которой они живут. Жизнь их бедна, горька, но не суетна. Добро в ней остается добром, правда – правдой, поэзия – поэзией.
Но разве сам он не из этих людей?
8
Накануне Нового года вернулся из России профессор де лос Риос. Почти два месяца провел он там в качестве делегата Испанской рабочей социалистической партии, знакомясь с жизнью Республики Советов и ведя переговоры о вступлении своей партии в III, или Коммунистический, Интернационал. Побывал он и на фабриках и в народных комиссариатах, в детских домах и на специальном факультете для рабочих, наведался даже на «черный рынок», встречался с руководящими деятелями Российской Коммунистической партии, а также и с представителями оппозиционных политических течений. А перед самым отъездом из Москвы он был принят Лениным и долго с ним беседовал.
Дон Фернандо полон противоречивых чувств. Он восхищен подвигом русского пролетариата, который ценой неимоверных лишений удержал власть, организовал отпор вооруженным силам реставрации, героически преодолевает голод, мороз, разруху. Однако режим пролетарской диктатуры с его нетерпимостью к инакомыслящим смущает и даже страшит профессора. Непреклонная убежденность большевиков в том, что только их путь верен, кажется ему фанатизмом, а планы построения свободного и гармоничного общества в отсталой стране, где всего 60 лет назад отменили крепостное право, граничат, на его взгляд, с утопией. Разумеется, он считает, что каждый социалист обязан всемерно поддерживать Советскую Россию, а если понадобится – и встать на ее защиту. Но он решительно против вступления в III Интернационал – такой шаг, по его мнению, ограничит самостоятельность испанских социалистов, лишит их свободы действий.
Как всегда, Федерико пропускает мимо ушей политические рассуждения профессора. Слушая его, он видит гостиницу под непонятным названием «Деловой двор», солдат, шагающих по площади мимо красной зубчатой стены, вагоны, на которых намалеваны аллегорические фигуры, обледеневшие улицы Петрограда, княжеский дворец, превращенный в народный санаторий, где среди мраморных статуй расставлены железные койки, застеленные грубыми одеялами... Он пытается представить себе крутолобого, необыкновенно подвижного человека в Кремле, который с таким живым интересом, вникая в мельчайшие подробности, расспрашивал испанского гостя о положении крестьян в Андалусии и Эстрамадуре, а после увлеченно рисовал перед ним картину будущей России, залитой электрическим светом.
У дона Фернандо узнает Федерико некоторые новости и о собственной стране – из числа тех, что не попадают в печать. Оказывается, правительство Эдуардо Дато, взбешенное успехами рабочего движения, перешло к жесточайшим репрессиям в Каталонии. С благословения премьер-министра губернатор Барселоны генерал Мартинес Анидо организовал форменную охоту на профсоюзных активистов. Вооруженные банды врываются в дома рабочих, устраивают беззаконные обыски, производят повальные аресты, убивают задержанных якобы при попытке к бегству. Каталонские тюрьмы переполнены, по дорогам тянутся вереницы арестантов, отправляемых в самые глухие места. Прискорбно и то, что на правительственный террор анархисты решили ответить своим террором – ни к чему хорошему, считает профессор, это не приведет.
Федерико вспомнит об этих словах через несколько недель, когда Мадрид облетит весть о том, что трое неизвестных на мотоцикле с коляской, нагнав на площади Индепенденсия автомобиль, в котором возвращался домой Эдуардо Дато, всадили в него восемнадцать пуль и скрылись. Сеньор премьер-министр скончается, не приходя в сознание; убитая горем супруга заявит журналистам: «Я так и знала! Сколько раз я говорила, чтобы он не ездил без охраны!», а в общем все останется по-старому.
...А за всем тем, проглядывает ли Федерико газеты, сидит ли в библиотеке, дурачится ли с друзьями, – в нем безостановочно идет незримая работа, смысл которой темен ему самому. И наступает, наконец, момент, когда поющее внутри пробивается наружу, когда волна неотступного гула впервые выносит слова. Они не придумываются, не припоминаются – они возникают, словно кристаллы в перенасыщенном растворе. Довольно случайного толчка – звука потревоженной струны на рассвете, подступившей к горлу тоски по Гранаде – и начинается...
«Начинается плач гитары...»Будто кто-то прошептал ему эту фразу на ухо – он явственно слышит ее интонацию, подчиняется ее ритму:
Начинается плач гитары.Стихотворение выступило на поверхность одним лишь краешком, как когда-то в Аскеросе мозаичная римская плитка, вывороченная из земли отцовским плугом, но Федерико уже угадывает его очертания, предчувствует все, что там будет, – до горестного вздоха в конце. Запершись на ключ, не отвечая на стук в дверь, он расхаживает по комнате, вслушивается, мычит. Слова проявляются, как тайнопись, выстраиваются на бумаге почти без помарок:
Начинается плач гитары. Разбивается чаша утра. Начинается плач гитары. О, не жди от нее молчанья, не проси у нее молчанья! Неустанно гитара плачет, как вода по каналам – плачет, как ветра над снегами – плачет, не моли ее о молчаньи! Так плачет закат о рассвете, так плачет стрела без цели, так песок раскаленный плачет о прохладной красе камелий. Так прощается с жизнью птица под угрозой змеиного жала. О гитара, бедная жертва пяти проворных кинжалов!Федерико перечитывает стихотворение вслух. Собственный голос кажется ему незнакомым. Такого он еще не писал. Явственней, чем когда-либо, был он в этих стихах самим собою, но он был и гитаристом Анхелем, и стариком кантаором, и каждым из тех, с кем делил тоску и страсть старинной андалусской песни. Канте хондо, канте хондо... Как пароль, как заклинание повторяет Федерико два слова. Он ощущает всем телом: перевал позади.
9
Все прежние стихи сразу отступили назад, в прошлое. Вот теперь, пожалуй, можно и отпустить их в печать. «Наконец-то!» – восклицает Гарсиа Марото, но вскоре приходит в отчаяние от медлительности, с которой автор отбирает стихотворения для своего первого сборника, безжалостно уничтожая слабые и несамостоятельные.
Пора уже отправлять рукопись в типографию, а Федерико вдруг заколебался. Каким юнцом – наивным, незащищенным – глядит он с этих страниц! Отроческая пылкость, безмерная амбиция – легко представить себе, как примет это публика, освиставшая его пьесу! Но воспоминание о публике пробуждает в нем веселую злость. Да, уважаемые сеньоры, он предлагает вам точный образ своего отрочества, своей юности, и он не станет отрекаться от себя даже под угрозой вашего презрения. Набросав предисловие в этом духе, Федерико заканчивает его такими словами:
«При всем ее несовершенстве, при несомненной ее ограниченности книга эта наряду со многими другими достоинствами, которые я в ней усматриваю, обладает тем достоинством, что всегда будет напоминать мне о моем пылком детстве, носившемся босиком по лугам окруженной горами долины».
«Книга стихотворений» выходит из печати весной 1921 года. Друзья шумно поздравляют Федерико, но на то они и друзья; критика безмолвствует – не в ее привычках откликаться на первые книги поэтов, а читатели... откуда ему знать, что думают читатели?
Откуда, например, знать ему, как зачитывается «Книгой стихотворений» девятнадцатилетний художник Рафаэль Альберти, пациент санатория для легочных больных в горах Гвадаррамы? Художник и сам сочиняет стихи, восторгается манифестами ультра – и вот перед ним книга молодого поэта, написанная так, будто никаких ультраистов нет и в помине. И какая книга! Лишь некоторые стихотворения вызывают у Альберти чувство протеста – ну, кого в наше время может интересовать ода, посвященная донье Хуане Безумной? – зато другие, по-народному прозрачные, перевитые припевами детских песенок, пленяют его сразу и навсегда. Он повторяет полюбившиеся строки, наслаждается их звучанием и, быть может, впервые задумывается над тем, сколько возможностей таит в себе песенный строй. Однообразный шум сосен особенно надоедает ему в этот день. Скорее бы поправиться, вернуться в Мадрид, встретиться с этим Федерико Гарсиа Лоркой!..
В уединении кабинета, куда не проникает столичный шум, «Книгу стихотворений» читает – неторопливо и тщательно, как все, что он делает, – человек лет сорока, словно сошедший с одного из портретов Эль Греко, – черный костюм, черная остроконечная бородка, пронзительные черные глаза на бледно-смуглом лице. Выражение этих глаз постепенно теплеет, сомкнутые брови расходятся. Сказать по правде, Хуан Рамон Хименес не ожидал такой книги от милого, непутевого юноши, любимца всех шалопаев Студенческой резиденции. Он видит, разумеется, сколько в ней провинциальности, мальчишеского позерства и просто дурного вкуса, но замечает и несомненный талант. А вот стихи, от каких бы, пожалуй, и сам ом не отказался.
О мой дождь францисканский, ты хранишь в своих каплях души светлых ручьев, незаметные росы. Нисходя на равнины, ты медлительным звоном открываешь в груди сокровенные розы. Тишине ты лепечешь первобытную песню и листве повторяешь золотое преданье, а пустынное сердце постигает их горько в безысходной и черной пентаграмме страданья.Что ж, поэту Хименесу приятно новое подтверждение того, что молодое поколение испанской лирики идет по его пути. Юноша заслуживает внимания. Надо помочь ему найти себя, избавиться от злосчастной тяги к актерству... Пусть поймет, что только одиночество и самоуглубление воспитывают поэта. И он решает пригласить Федерико Гарсиа Лорку участвовать в журнале «Индисе», вокруг которого Хуан Рамон Хименес намерен собрать лучшие поэтические силы.
Фернандо де лос Риос получил сборник стихов Федерико не в очень-то подходящее время. На только что состоявшемся Чрезвычайном съезде социалистической партии большинство делегатов поддержало его точку зрения, проголосовав против вступления в III Интернационал. Тогда старейший деятель партии Антонио Гарсиа Кехидо от имени делегатов, оставшихся в меньшинстве, заявил, что они покидают съезд и образуют другую партию, которая присоединится к Коммунистическому Интернационалу. Это раскол.
Но чем же, как не поэзией, отвлечься от докучных мыслей! Дон Фернандо рассеянно перелистывает книгу, радуясь встрече со знакомыми стихами, улыбаясь воспоминаниям, которые они будят. Да, гранадская долина, утренняя свежесть, песня воды... И вдруг: Великий Ленин.
Что такое? Он, должно быть, переутомился... Федерико, с его равнодушием к политике! И все же – черным по белому: Великий Ленин.
Профессор возвращается к пропущенному началу стихотворения. Название самое невинное – «Песня луне», а дальше нечто, хм, причудливое. Поэт в шутливо-торжественном тоне обращается к луне. Луна в его глазах – жертва тирании Иеговы, который обрек ее вечно двигаться в небесах одним и тем же путем. Поэт призывает луну взбунтоваться! Верь, говорит он ей, что и в небесной округе появится свой Великий Ленин...
Все это не более чем озорство. Смешно было бы на основании такого стихотворения делать выводы о каких-то политических симпатиях. Навряд ли и компаньеро Гарсиа Кехидо одобрит подобное легкомыслие. Что же касается дона Фернандо, то он, разумеется, не сердится – на Федерико вообще невозможно сердиться, – просто хватит с него на сегодня стихов.
Однако надо же: в сборнике, где нет ни одного стихотворения на общественную тему, ни одного имени современного деятеля, – и вот извольте...
Ему досадно.
10
Здесь кончались чужие следы. Земля, лежавшая перед ним, была его родина, его Андалусия, – не такая, какой выглядела она со стороны, и не такая даже, какой запомнил ее Федерико, а такая,какой лишь сама она умела видеть себя в зеркале народной поэзии. В том колдовском зеркале отражалось не только пространство, но и время. Пропадало все случайное, преходящее, оставалось изначальное, вечное. Открывался древний, неумирающий мир, таящийся за личиной повседневности, мир ненасытных страстей, мир поверий и мифов, мир канте хондо.
Принадлежать к этому миру значило быть сопричастным всему сущему – луне и звездам, земле и морю, камню, птице, цветку розмарина. Обращаться за помощью к ветру, поверять реке сокровенные чувства. Ощущать себя каждым из живущих рядом с тобою людей, дышать и трепетать в одном с ними ритме.
Любовь, тоска, ужас смерти – все в этом мире было огромным и грозным, как впервые. Куда только девались пресловутый андалусский юмор, гранадская сдержанность! Здесь не стыдились патетики, не знали полутонов, жили крайностями. Человек то падал лицом в дорожную пыль, то с вызовом обращал взор в небеса. Он понимал, что обречен, и не искал утешения, но требовал ответа: за что?
Песни других областей Испании позволяли представить место их действия – горы Астурии в сером тумане, безлесную арагонскую степь. В канте хондо пейзажей не было. Ни скал, ни рощ, ни вечерних и утренних зорь – одна лишь безлунная, все, кроме звезд, скрывавшая ночь. Ночь, как судьба, настигала человека в дороге, ночь оставляла его наедине с любовью и скорбью. Дорога никуда не вела; впереди, на перекрестке, ждала смерть – женщина в черном платье. Холодный металл входил в живое, трепещущее сердце, над убитым вставало пламя погребальной свечи, звон колокола горестным эхом отдавался в тысячах сердец...
Древняя андалусская песня вела за собой Федерико, учила своему языку, который чем дальше, тем больше казался ему похожим на полузабытый язык раннего детства. Нет, не гостем чувствовал он себя во владениях канте хондо – скорее законным наследником, не объявлявшимся до поры. И не за малой данью, не за примерами для подражания пришел он сюда – ему нужен был весь обступивший его мир, со всем, что угадывалось в его глубинах. Завоевать этот мир для поэзии, перенести его целиком в свои стихи – вот чего он хотел.
11
Неужели она получилась, наконец, эта музыкальная фраза? Недоверчиво вслушиваясь, Мануэль де Фалья еще и еще раз проигрывает четыре такта – результат нескольких дней изнурительного труда. Да, кажется, он добился-таки необходимого ему варварского звучания для сцены у мавров, где томится в плену прекрасная Мелисандра... Радоваться рано; возможно, что завтра, в беспощадном утреннем свете, все снова покажется неудовлетворительным, но на сегодня – довольно. Он выпрямляется, потягивается, встает из-за пианино.
Еще не остыв от работы, он выходит на балкон, смотрит на снежные вершины вдали, на черепичные крыши Гранады, убегающие вниз. Прекрасный вид, прекрасный дом – да еще за такую сравнительно низкую плату! – и всем этим он обязан своим молодым друзьям, закоулочникам, как они себя называют...
Композитор усмехается, вспомнив, с каким откровенным изумлением воззрились они на него в вечер их знакомства в таверне Антонио Барриоса, явно не веря, что невзрачный, тощий человечек в потертом костюме из магазина готового платья – это и есть знаменитый Мануэль де Фалья, создатель «Короткой жизни», «Треуголки», «Ночей в садах Испании»! И как смутились эти юноши, когда он со своей обычной откровенностью спокойно сообщил им, что из-за размолвки с издателем оказался вынужденным свести к минимуму все расходы, да, собственно, и в Гранаду надумал переехать, прослышав о здешней дешевизне. «И это в то время, – воскликнул, не удержавшись, один из них, Хосе Мора, – когда сочинители куплетцев и порнографических водевилей загребают сказочные гонорары!»
На следующий же день новые знакомцы явились в гостиницу, где он остановился. Не согласится ли маэстро взглянуть на дом, который они присмотрели для него на улице Верхняя Антекеруэла? Он не согласился только с титулом «маэстро» – «учитель», приличествующим одному Иисусу Христу, все же прочее принял с благодарностью и вот уже который месяц живет здесь, наслаждаясь возможностью спокойно работать над оперой «Театрик мастера Педро».
Первое время он опасался, не станут ли молодые друзья слишком докучать ему своим вниманием. Однако юноши оказались в высшей степени тактичными и приходили в гости не иначе, как по приглашению. Он приглашал их все чаще; композитору нравилась эта компания, связанная давней дружбой и каждое лето воссоединявшаяся в Гранаде.
Незаметно для себя он привязался к закоулочникам – к рассудительному и энергичному Пепе Море, к меланхоличному толстяку Пакито Сориано, к великолепному гитаристу – если б он только не мнил себя еще и композитором! – Анхелю Барриосу, даже к Федерико Гарсиа Лорке, хоть Федерико и заслуживал осуждения: обладать такими способностями – и променять музыку на литературу!.. Он проводил с ними целые вечера, беседовал, играл отрывки из своих любимцев – Куперена, Скарлатти, Рамо, с удовольствием слушал их рассуждения на любые темы, кроме одной: политику Мануэль де Фалья раз и навсегда попросил оставлять за порогом его дома.
Кое-кого из них он счел возможным познакомить со своей работой. Либретто его беспокоило, местами текст никак не ложился на музыку. Федерико, следует отдать ему справедливость, бывал здесь особенно полезен – он с такой легкостью находил словесные соответствия музыкальным образам, словно сам жил в двух стихиях сразу.
Закоулочники оказали дону Мануэлю еще одну немаловажную услугу. Как только он обосновался в Гранаде, сюда то и дело стали наезжать почитатели его таланта из разных стран. Очутившись в прославленной мавританской столице, они, естественно, не могли не осмотреть всех ее достопримечательностей, и долг гостеприимства стал бы для композитора тягостным, если б не молодые друзья, которые охотно брали на себя обязанности гидов и тем сберегали ему драгоценные часы для работы. А когда отбывали гости, гиды вознаграждали себя представлениями, которые Федерико давал в садике у дона Мануэля. Композитор невольно фыркает, вспомнив последнее из этих представлений: клавесинистка Ванда Ландовская пытается объясниться с цыганами на Сакро-Монте.
Пора спускаться к вечернему чаю – снизу уже доносится запах поджаренного с сыром хлеба, любимого угощения закоулочников. А вот и они. Оживленная компания вываливается из-за угла. В центре – Федерико; опять, наверное, кого-то изображает. Ну, так и есть. Он как будто стал меньше ростом; походка осторожная, точно у слепого, невидимая трость в руке, и во всей фигуре – смешанное выражение замкнутости, сосредоточенности, отрешенности... Ба, да ведь это же я, Мануэль де Фалья!
Невидимый с улицы за листьями винограда, облепившими балкон, композитор жадно вглядывается. Ему и в голову не приходит обидеться. Откуда, ну откуда так знает его этот широколицый мальчишка, которому он в отцы годится? Откуда ему знать о бессонных ночах, о вечно грызущей неудовлетворенности сделанным, об одиночестве, о редких минутах счастья, когда вдруг чувствуешь: получилось, вышло! И все-таки он, несомненно, знает все это – и не только знает, но и каким-то непостижимым образом умеет передать, воспроизвести всем своим существом!
Сходя по лестнице навстречу молодым голосам, Мануэль де Фалья с удивлением думает о том, что осенью, когда почти все закоулочники снова покинут Гранаду, ему никого так не будет недоставать, как этого мальчишки.
12
Еще в Мадриде, отхлопывая до боли ладони на представлениях балетов де Фальи, на концертах, где исполнялись его произведения, Федерико не без ревнивого чувства говорил себе: «Вот человек, который в своем деле достиг того, к чему я в своем только еще подбираюсь». Этот уроженец Кадиса, прошедший новейшую французскую школу, сумел, как никто до него, оценить и использовать музыкальные богатства старинной андалусской песни – ее полувосточный колорит, мелодическое своеволие, свободный и вместе с тем напряженный ритм. Он принес в свою музыку страсть и скорбь канте хондо.
Ни к одному поэту не пошел бы Федерико в ученики так охотно, как к этому композитору. Но с чем, собственно, мог он прийти к де Фалье, о чем просить его? Он так бы ни на что и не решился, если б не счастливый случай, столкнувший их как-то летом в Гранаде.
Все восхищало его в доне Мануэле – взыскательность к себе, безразличие к славе, отвращение к громким словам, пунктуальность, граничащая с педантизмом. Даже благочестие, чуждое всякого фанатизма, напоминавшее Федерико наивную набожность его земляков. Он знал, что композитор, равнодушен к его стихам, осуждает его за измену музыке, считает дилетантом – ну и пусть... Было радостью хоть чем-нибудь помочь этому человеку, развлечь, увидеть редкую улыбку на его лице. Было радостью просто сидеть подле него, молчать, слушать неторопливую речь.
Музыка в этом доме, где ей так самозабвенно служили, вовсе не считалась ни волшебным таинством, ни божественным откровением – композитор называл ее своим ремеслом и говорил о ней увлеченно, но трезво. Говорил он о том, что вот уже и в Испании завоевала права гражданства простая истина: единственный хранитель музыкальных традиций, источник музыки – это народ. Однако так ли уж проста эта истина, как думают иные люди, которые сочиняют по готовым фольклорным образцам, подвергая их соответствующей обработке? Что касается его, то он так не думает. Важен дух народного творчества, а не буква, и сам народ дает лучшее тому доказательство – он бесконечно варьирует мелодии своих песен, но бережно сохраняет коренные особенности их звучания и ритмики. Итак, не копировать внешние проявления народного духа должен композитор, а идти в глубину песни, к ее истокам, постигнуть ее законы и только тогда создавать собственную музыку. Дойти до сути и выразить ее – огромный труд, но труд этот должен быть совершенно скрыт or слушателей, так, чтобы произведение казалось чуть ли не импровизацией!
Следя за размышлениями дона Мануэля, Федерико не переставал думать о своем. Непосредственной связи тут не было, его поиски шли в другом измерении, где ничем не могли помочь самые интересные мысли о тональном своеобразии андалусской песни или о самостоятельной роли, которую играет в ней аккомпанемент. И все же каждый вечер, проведенный с де Фальей, помогал ему. Возникали образы, проступали отдельные строки. Вырисовывались очертания целой книги – он назовет ее «Стихи о канте хондо».
Эта книга станет дневником его путешествия в мир старинной андалусской песни – со всем, что он понял и пережил, идя по следам цыганской сигирийи, слушая солеа, оплакивая петенеру. Там будет и земля, на которой родилась песня, и города, в которых она поселилась, и люди, которые поют песню, и то, о чем поют они. Каждая запись в дневнике будет стихотворением – конечно, не таким, какие писал он раньше... Но каким же?
Казалось бы, сама песня подсказывает ответ, предлагает свои литые, десятилетиями выверенные строфы – точнее, лучше, чем там, не скажешь. Бери эти строфы за образец, состязайся с их безыменными авторами! Но Федерико знал: не к соперничеству ведет этот путь, а к подражанию, к подделкам вроде тех, что встречал он в «Канте хондо» Мачадо – не Антонио, а Мануэля.
Каждая народная строфа была сгустком страстей, крохотным хранилищем опыта многих поколений. Каждая строфа подобна была сказочному сосуду, в котором заключен джинн – и не один, а тысяча! Копировать такую строфу – все равно что срисовывать запечатанный сосуд: рисунок может выйти очень похож, почти неотличим от оригинала, но то, что внутри, останется неуловленным... Так как же дойти до сути и выразить ее собственными словами?
Распечатать сосуд! Выпустить на волю всех джиннов – пусть хозяйничают в твоей жизни! Принять в себя других людей, любить и страдать вместе с ними, тысячу раз умереть и воскреснуть – и лишь затем сесть за стол и, успокоившись – обязательно успокоившись, – заключить все это снова в стихотворение, в свое стихотворение. В такое вот:
Восточный ветер: фонарь и дождь, и прямо в сердце нож. Улица — дрожь натянутого провода, дрожь огромного овода. Со всех сторон, куда ни пойдешь, прямо в сердце нож. Или в такое; Лабиринт, возводимый годами, уносится дымом. И остается пустыня. Сердце, гнездовье страданий, уносится дымом. И остается пустыня. Все грезы на утренней рани, все слезы уносятся дымом. Вечна одна пустыня. В вечных волнах пустыня.Меж тем близилась осень. Придя однажды к дону Мануэлю, закоулочники застали его в непривычно дурном настроении, тем более неожиданном, что как раз накануне они провели с ним чудесный вечер в саду у Антонио Барриоса, и старый кантаор, не пожалев сил, привел композитора в полнейший восторг. Впрочем, именно это и оказалось косвенной причиной мрачности хозяина. Сразу же после чая он заговорил о том, что его мучит. Великое, древнее искусство канте хондо гибнет у нас на глазах! Ну, сколько осталось настоящих кантаоров, таких, как дон Антонио? И ведь все они старики. А кто им наследует? Эстрадные певцы, утратившие чистоту стиля, уснащающие свое пение безвкусными фиоритурами! Песня, которая была для народа святыней, ритуалом, превращается в дешевое развлечение, в забаву для туристов. Песня, давшая жизнь нашей музыке, загнана в грязные кабачки, в дома терпимости, а мы, представители образованных классов, спокойно взираем на все это!
Но что же можно сделать?
Дон Мануэль ждал этого вопроса. Расхаживая по комнате, он поделился идеей, которая возникла у него минувшей бессонной ночью: организовать в Гранаде фестиваль канте хондо. Пригласить отовсюду народных певцов, устроить конкурс. Привлечь к фестивалю внимание страны, собрать средства, сделать все для возрождения андалусской песни.
Закоулочники зашумели. Идея великолепная, вот только где взять на это деньги? А муниципалитет? Если убедить чиновников в том, что фестиваль прославит Гранаду, они могут и расщедриться! Кроме того, меценаты, не перевелись же они в Андалусии!
Композитор попросил внимания. Он сам намерен обратиться с ходатайством куда следует, написать друзьям – в частности, знаменитый художник Игнасио Сулоага едва ли откажется помочь такому начинанию. Но дело не только за этим. Дон Мануэль уже немолод, его силы, время и, увы, средства весьма ограничены, а фестиваль потребует огромной предварительной черновой работы, и приступить к ней необходимо теперь же, чтобы успеть к будущему лету.
Нужно вести переговоры и рассылать письма, нужно съездить в Кордову, в Севилью, в Малагу, заручиться согласием тамошних кантаоров... Короче говоря, нужен хотя бы один человек, готовый безраздельно и безвозмездно посвятить себя организации фестиваля.
Ну, так он и знал – молчание! Композитор поочередно обводит взглядом гостей, и под этим взглядом первым опускает глаза Пакито Сориано – конечно, где ему с его здоровьем... Анхель Барриос? К сожалению, таверна требует все больше внимания, отец совсем состарился... Пеле Мора и рад бы взяться, но ему пора возвращаться в Мадрид – как, впрочем, всем остальным, стало быть, и говорить больше не о чем. Обижаться, собственно говоря, не на кого, но по крайней мере Федерико мог бы проявить больше такта и не улыбаться во весь рот – что это его так развеселило?
Он хотел бы заняться подготовкой к фестивалю? Разве он не собирается в Мадрид? То есть как это -будет ездить туда и сюда? А что же с занятиями? И как посмотрят на это родители? А... твои стихи, мой мальчик?
То, что дон Мануэль вспомнил о его стихах, трогает Федерико больше, чем все остальное. Он представляет себе, как нахмурится отец, как пожмут плечами столичные друзья, вспоминает свою уютную келью в Резиденции и веселую толкотню на Пуэрта дель Соль (а до чего же тоскливо зимой в Андалусии!) и, стараясь, чтобы голос его звучал как можно беспечнее, повторяет:
– Я хотел бы за это взяться.
13
Открытие продолжалось. Открытием становилась теперь вся его жизнь. Через горы, поросшие пробковыми дубами, по пустынной равнине – туда, где встает вдалеке одинокая Кордова, окруженная развалинами мавританских стен. И дальше, вниз по течению Гвадалквивира, мимо оливковых и апельсиновых рощ, в звонкую Севилью, в белоснежный Кадис. А еще есть древний город Херес де ла Фронтера – колыбель канте хондо, есть еще Малага, где женщины носят красные мантильи, где ветер пахнет солью и йодом...
Имя Антонио Барриоса открывало Федерико двери любых таверн и кафе в часы, когда там собирались лишь посвященные – мастера, знатоки. В позеленевших зеркалах плавали огни люстр, струны гитар начинали свой медленный танец. Люди на подмостках вступали в спор с судьбой, люди за столиками еле заметно вторили их движениям, шевеля пересохшими губами. Все было всерьез – тоска, страсть, боль, скорбь. Искусство здесь, как в бое быков, ходило рядом со смертью.
В перерывах вспоминали знаменитых кантаоров былых времен – Долорес ла Паррала, лучше которой никто не мог «сказать» солеа, Хуана Бреву – великана с детским пронзительным голосом. Еще находились старики, помнившие самого Сильверио Франконетти, несравненного исполнителя цыганской сигирийи. В середине прошлого века он вдруг бросил свое занятие и отправился в Америку искать счастья. По слухам, он стал там пикадором, потом солдатом, потом разнеслась весть о смерти Сильверио, и мало-помалу имя его забылось. Прошло лет десять, и вот как-то в одном из Севильских кафе появился богатый незнакомец, с перстнями на пальцах и золотой цепью на груди. Он велел позвать лучших певцов и танцоров, всю ночь пил херес, слушал и смотрел. А под утро гость, видимо, захмелев, пожелал сам спеть что-нибудь и попросил гитариста подыграть ему ни более, ни менее, как... цыганскую сигирийю! Пробовали его отговорить, он заупрямился – ну ладно же, решили: проучим нахала! Но когда отзвучало вступление – раздался вопль, от которого у всех, кто был в кафе, волосы встали дыбом, уверяют даже, что зеркала потрескались. Мужчины кусали губы, следя за неслыханными изгибами этого раздиравшего сердце голоса, женщины не сдерживали рыданий. Как только он умолк, поднялась старуха танцовщица и вскричала:
– Стойте! Только один человек во всем мире способен так спеть сигирийю!
– Кто же этот человек? – спросил незнакомец, усмехаясь.
– Вы, дон Сильверио!..
Давно уже день наступил, а прославленный кантаор пел и пел, и вся Севилья, столпившись вокруг кафе, праздновала возвращение своего Сильверио Франконетти.
А какие саэты можно было услышать в Севилье на страстной неделе! В ночь на пятницу, когда било два часа, отворялись тяжелые двери церкви Сан-Лоренсо, и толпа, заполнявшая площадь, напряженно вглядывалась в таинственную глубину, где клубился дым курений, мерцали огни, переливались золотые отблески. Оттуда появлялась процессия – идущие по двое люди в черных капюшонах, похожие на диковинных единорогов. Они шагали медленно и торжественно, перекинув через левую руку длинные шлейфы, а в правой неся огромные восковые свечи. Пламя этих свечей двумя огненными линиями прочерчивало темноту площади. В дверях церкви показывалась статуя Христа. Напряжение достигало предела, и в этот момент из толпы, как стрела, спущенная с тетивы, – да ведь саэта и значит «стрела»! – вылетала песня.
Это была почти та же цыганская сигирийя, да и говорилось в ней о том же – о смерти, о скорби, о безмерной муке матери, потерявшей сына, только сыном был Христос, а матерью – дева Мария. И такая земная, языческая страсть клокотала в этой песне, такова была жестокая точность ее слов, что казалось, евангельская трагедия разыгралась только что, на этих вот Севильских улицах, и каждый – певец или слушатель – был ее участником и свидетелем.
Процессия двигалась дальше, по улицам, запруженным народом, а навстречу ей с балконов, из окон и прямо с тротуаров все летели и летели стрелы саэт...
И это все тоже превращалось в стихи.
14
– Дамы и господа! Ко всем, кого хоть раз в жизни взволновала народная песня, долетевшая издали, ко всем, в чьи сердца стучалась своим клювом белая голубка любви, ко всем ценителям исконной традиции, неразрывно связанной с будущим, к тем, кто штудирует книги, и к тем, кто возделывает землю, – ко всем вам обращаюсь я с почтительной просьбой. Не дайте погибнуть живым сокровищам народа, драгоценному кладу, веками хранимому в духовной почве Андалусии! Возвращаясь отсюда под покровом гранадской ночи, поразмыслите о патриотическом значении того проекта, который мы вам предлагаем!
Аплодисменты. Уф!.. Кажется, лекция о канте хондо – первая лекция, которую прочитал Федерико в своей жизни, – прошла благополучно. Он кланяется, оглядывает переполненный зал гостиницы «Дворец Альамбры», снятый на сегодняшний вечер Литературно-художественным центром Гранады, отыскивает глазами мать, брата, сестренок. Рядом с доньей Висентой – незанятое место: отец не пришел, он возмущен тем, как легкомысленно проводит Федерико драгоценные зимние месяцы. Мануэль де Фалья одобрительно кивает – ну, слава богу, ведь дон Мануэль не уставал повторять, что от успеха этой лекции будет зависеть судьба фестиваля. Что ж, Федерико не пожалел сил, чтобы тронуть сердца почтенных сограждан и сделать более податливыми их кошельки.
Ну и пришлось же ему потрудиться! Он вложил в свою лекцию все, что узнал сам, вычитал в книгах, выспросил у дона Мануэля. Он рассказал о том, как пятьсот лет назад цыганские племена, появившись в Андалусии, соединили свои древние напевы с древними песнями обитавшего здесь народа. Изложив в доступной форме мысли де Фальи о чисто музыкальных особенностях канте хондо, он подогрел гордость аудитории сообщением о том, какое воздействие оказала андалусская песня на развитие русской музыки – от Глинки до Римского-Корсакова, на французскую музыку – на Дебюсси и Равеля.
Однако по-настоящему свободно Федерико почувствовал себя, заговорив о поэтических богатствах канте хондо. Не заглядывая в записи, он читал на память десятки строф, восхищался ими, заражая своим восхищением слушателей, сравнивал, размышлял вслух, делился тем, что открылось ему самому в последние месяцы. Не без усилия вернулся он квыспреннему тону, в котором полагалось закончить лекцию.
Но это еще не все. После лекции – концерт, в котором среди прочих принимает участие знаменитый гитарист Андрее Сеговия, охотно согласившийся поддержать проект фестиваля. А в заключение концерта молодой гранадский поэт Федерико Гарсиа Лорка прочтет отрывки из своей будущей книги «Стихи о канте хондо».
Потому ли, что сегодня здесь так много говорилось о ритмике, тональности, мелодиях андалусских песен, потому ли, что всего несколько минут назад растаяли в воздухе последние аккорды гитар, а может, и по каким-нибудь иным причинам, но стоит только молодому гранадскому поэту произнести первые строки, как большинству сидящих в этом зале начинает снова чудиться музыка – заунывные, страстные, дикие звуки канте хондо.
Вот и композитор де Фалья не может избавиться от этого наваждения. Уж он-то твердо знает, что лишь музыка в полной мере обладает божественной способностью воспроизводить в памяти ту обстановку, в которой она была впервые услышана, со всеми тогдашними запахами, красками, чувствами, словами. Однако сейчас происходит едва ли не обратное: именно слова, несущиеся со сцены, воскрешают в его сознании цыганскую сигирийю, прозвучавшую в саду у старого кантаора. Он явственно слышит, как забилась, затрепетала струна под пальцами Анхеля Барриоса, как то усиливается, то слабеет томительный звук, хотя ни о чем таком не говорится в стихах Федерико, там – просто пейзаж.
Масличная равнина распахивает веер, запахивает веер. Над порослью масличной склонилось небо низко, и льются темным ливнем холодные светила. На берегу канала дрожат тростник и сумрак, а третий – серый ветер. Полным-полны маслины тоскливых птичьих криков. О бедных пленниц стая! Играет тьма ночная их длинными хвостами.И подобное же чувство испытывает дон Мануэль, слушая, как Федерико читает следующее стихотворение, посвященное самой скорбной из андалусских песен – трагической солеа. Собственно говоря, о песне и здесь ни слова, и все-таки она как бы предчувствуется в этих строках, отрывистыми аккордами падающих в тишину:
На темени горном, на темени голом — часовня. В жемчужные воды столетние никнут маслины. Расходятся люди в плащах, а на башне вращается флюгер. Вращается денно, вращается нощно, вращается вечно. О где-то затерянное селенье в моей Андалусиислезной... Композитор задумывается. О чем они, эти стихи, не заимствующие у музыки выразительных средств и тем не менее обнаруживающие такое кровное родство с музыкой – с его музыкой? И вдруг понимает: да о том же, что сам он стремится высказать – не словами, разумеется, а звуками. В словах это стало бы обычной банальностью... «душа Андалусии» или что-нибудь в том же роде. Но вот, оказывается, можно это высказать и словами.
А Федерико уже читает новый отрывок, и публика на несколько минут превращается в уличную толпу, окружившую кантаора, который, никого не стесняясь, самозабвенно и театрально оплакивает петенеру.
Ай, петенера-цыганка! Ай-яй, петенера! И место, где ты зарыта, забыто, наверно. И девушки, у которых невинные лица, не захотели, цыганка, с тобою проститься. Шли на твое погребенье пропащие люди, люди, чей разум давно не судит, а любит, шли затобою, плача, по улице тесной. Ай, моя петенера, цыганская песня!Вот это овация! Пожалуй, сам Андрее Сеговия не удостоился такой. Аплодируя вместе со всеми, композитор любуется сверкающей улыбкой Федерико. Какое счастье – быть молодым, играючи постигать тайны искусства и даже не понимать значения того, что создаешь! Ему бы, Мануэлю де Фалье, хоть на час мальчишескую эту беспечность!
Аудитория не унимается: молодой поэт должен прочесть еще что-нибудь. Тишина воцаряется лишь после того, как он делает знак согласия. Улыбка исчезает с лица Федерико. «Когда умру», – говорит он негромко, и слушатели встречают кивками знакомые слова: так начинаются многие строфы сигирийи, теперь пойдут вариации...
Нет, не вариации. Человек, стоящий на сцене, – кому это он казался мальчишкой? – говорит сейчас о себе самом. Он смотрит в лицо собственной судьбе.
Когда умру, схороните меня с гитарой в речном песке. Когда умру, в апельсиновой роще старой, в любом цветке. Когда умру, буду флюгером я на крыше, на ветру. Тише... когда умру!Смутная тоска сжимает сердце дона Мануэля, воротничок вдруг становится ему тесен. Он оборачивается – и видит расширившиеся от ужаса глаза доньи Висенты.
15
Все теперь удавалось ему. Даже продолжительные переговоры с муниципальными чиновниками увенчались успехом – отцы города согласились отпустить на проведение фестиваля 12 тысяч песо.
Дожидаясь как-то приема в муниципалитете, Федерико от нечего делать разглядывал картины на стенах. Около одной он задержался. Молодая женщина в одежде смертницы, окруженная монахинями. «Что за горестный день в Гранаде...» – запели в нем тоненькие голоса еще до того, как он узнал Мариану Пинеду, героиню своих детских снов.
Надо же было случиться, чтобы чуть ли не в тот же день старенький университетский библиотекарь, к которому Федерико заглядывал время от времени, показал ему редкую книгу, изданную еще в сороковых годах прошлого века под обстоятельным заглавием: «Донья Мариана Пинеда; повествование об ее жизни, об уголовном процессе, где ей вынесли смертный приговор, и описание ее казни, совершившейся 26 мая 1831 года».
Он читал до утра. Бесстрастная мраморная кукла на одной из гранадских площадей – как не похожа она была на эту строптивую и пылкую дочь капитана военного флота, которая пятнадцати лет от роду связала судьбу с революционером, восемнадцати – похоронила мужа, в двадцать шесть лет помогла бежать из тюрьмы другу генерала Риего, а в двадцать семь отдала жизнь за свободу! Но и книга не договаривала всего, в истории Марианы Пинеды угадывалась какая-то горькая тайна, разгадать ее до конца могло только воображение.
Стех пор Мариана Пинеда стала ходить вместе с ним по Гранаде. Вспоминалась она Федерико и в Мадриде, куда он то и дело наезжал, замечая всякий раз, что политика начинает занимать все больше места в разговорах друзей. После военной катастрофы в Марокко, где в июле 1921 года испанская армия отступила, разбитая наголову, оставив на поле боя больше пятнадцати тысяч убитых и раненых, уже никто не сомневался в том, что монархия катится в пропасть. Расследование причин катастрофы с неопровержимостью выяснило, что одним из главных виновников, наказания которых громко требовали повсюду в кортесах, на страницах газет, в кафе, на улицах, – является сам король.
Слушая рассказы о скандальных подробностях поражения, о телеграмме, которую Альфонс XIII послал генералу Сильвестре, подстрекая его к злосчастному наступлению на Аннуал («Делай то, что я тебе говорю, и не заботься о военном министре: это дурак»), Федерико невольно думал о том, как мало переменились испанские Бурбоны за минувшее столетие. Нынешний король, вероломный и фальшивый, – чем, в сущности, отличается он от Фердинанда VII, при котором казнили Мариану Пинеду?.. Он слушал, а перед глазами стояла нежная, большеглазая женщина, вышивающая для друзей-революционеров знамя со словами: «Закон. Свобода. Равенство».
Летом 1922 года в Гранаде состоялся наконец-то фестиваль канте хондо. Местом для него была избрана Пласа де лос Альхибес в Альамбре, так что художникам под руководством Игнасио Сулоаги пришлось позаботиться главным образом о том, как поэффектнее осветить эту старинную площадь с высокими башнями по углам. Съехались любители со всей Андалусии, специальная ложа была отведена музыкальным критикам, другая – представителям прессы.
Вечером 13 июня гранадцы заполнили площадь. Даже цыгане покинули ради такого случая свои пещеры на Сакро-Монте. На башнях зажглись багровые фонари, приехавший из Мадрида писатель Гомес де ла Серна произнес краткое вступительное слово, и на сцену, где восседало жюри под председательством де Фальи, начали один за другим подниматься певцы и гитаристы.
Федерико не захотел сидеть на сцене. Куда интереснее было слушать из публики вместе со всеми! Он переходил с места на место, пока не очутился вблизи цыган, державшихся обособленно. Здесь были знатоки построже тех, что сидели в жюри. Рыдания знаменитой певицы Гаспачи, сигирийя, которой кантаор Мануэль Торрес приводил в неистовство остальных слушателей, удостаивались у них лишь сдержанного одобрения.
Негромкие, гортанные голоса цыган, их движения, полные сдержанной силы, волнуют Федерико необычайно. На некоторое время он даже перестает слышать певцов. Все, чем живет он последнее время – не только канте хондо, но и судьба Марианы Пинеды, и мысли о своем будущем, и мадридские новости, не идущие из головы, – все каким-то образом связано с этими бронзоволицыми людьми, еще в детстве завладевшими его снами.
Но вот на подмостки взбирается поддерживаемый под руки с двух сторон семидесятилетний Диего Бермудес из окрестностей Севильи. Запрокинув лицо, иссеченное морщинами и шрамами, неожиданно сильным, пронзающим сердце голосом затягивает он древнюю, никем из присутствующих не слыханную серрану. По площади будто вихрь проносится, цыгане разражаются криками, а там, па сцене, Мануэль де Фалья, привстав, осеняет себя крестным знамением. И в этот момент Федерико видит впереди знакомую спину – значит, отец не утерпел, пришел все-таки! Забыв обо всем, пробирается он к отцу, хватает его руку и, счастливый, ощущает ответное крепкое пожатие.
Отец и сын вместе возвращаются домой в эту ночь. Они словно поменялись ролями. Дон Федерико без умолку говорит о канте хондо, вспоминает мастеров, слышанных в молодости, пророчит первый приз старику Бермудесу, хвалит устроителей конкурса. А Федерико, благодарный и размягченный, внезапно дает обещание: не позднее чем через год он сделает то, чего ждут от него родители, – закончит свое образование и сдаст экзамен на степень лиценциата.
– Лиценциата права? – уточняет отец на всякий случай.
– Лиценциата права, – отвечает Федерико решительно.
Дон Федерико не очень верит в серьезность намерений сына, тем более что все последующее подтверждает его сомнения. Сын по-прежнему делит время между Мадридом и Гранадой; чем он там занимается, в столице, – неизвестно, но здесь никто не видывал у него на столе учебников или кодексов, а только стихи, ноты да еще рисунки: новое, видите ли, увлечение появилось! Приехав же домой на рождество, Федерико с головой погружается в подготовку... кукольного спектакля для гранадских детей. Он сам сочиняет пьесу, расписывает декорации, распределяет роли между добровольцами, вызвавшимися помогать ему. Втянул в это занятие сестер и Франсиско; в доме – столпотворение, с утра до вечера толкутся приятели, что-то мастерят, репетируют, дурачатся, и даже донья Висента потихоньку от мужа шьет кукольные наряды. Тишина наступает только по вечерам, когда Федерико отправляется к ком– позитору де Фалье, который пишет музыку для спектакля.
Однажды отец не выдерживает. Всем известно, что композитор де Фалья в высшей степени почтенный и к тому же чрезвычайно занятой человек; интересно было бы знать, что заставляет его уделять столько внимания детской забаве?
– Дело в том, – охотно объясняет Федерико, – что дон Мануэль только что закончил работу над оперой «Театрик мастера Педро», которая, по мысли автора, должна исполняться марионетками. Но прежде чем осуществить этот смелый замысел, следует кое-что проверить на практике – детский кукольный спектакль как раз и предоставляет такую возможность.
Что ж, дона Мануэля можно понять. Непонятно только, какую пользу принесет вся эта затея Федерико, отдающему ей столько времени и труда. Не собирается же он стать директором бродячего театра?.. Ну конечно, сын опускает глаза, молчит, улыбается.
А Федерико и себе самому не смог бы объяснить, почему возня с куклами так захватила его. Со времени премьеры в театре «Эслава» он не испытывал ничего похожего на то волнение, какое чувствует вечером 5 января 1923 года, когда, выйдя из-за ширм, он торжественно обращается к маленьким зрителям: – Внимайте, сеньоры, программе представления, которую я объявляю со сцены нашего театра для сведения всего света! Сначала мы исполним интермедию Сервантеса «Два болтуна». Затем вы увидите старинную «Мистерию о трех восточных царях». И в заключение – андалусская сказка «Девушка, которая поливает цветы, и любопытный принц», приспособленная для кукольного театра Федерико Гарсиа Лоркой. Музыка из произведений Педреля, Альбениса, Дебюсси, Равеля, Стравинского подобрана сеньором Мануэлем де Фальей, который руководит нашим небольшим оркестром и сам исполняет в нем партию фортепьяно. Смотрите же и слушайте!
Успех спектакля полностью вознаграждает Федерико. На следующее утро он просыпается человеком, популярность которого у детского населения Гранады может соперничать со славой самых знаменитых разбойников и матадоров. Счастливцы, побывавшие на премьере, разносят слух о ней по всему городу, в дом сеньора Гарсиа приходят целые депутации с просьбами о повторении спектакля, и такими же просьбами осаждают Федерико дети прямо на улицах, обступая его всюду, куда бы он ни пошел. Гордость, с которой он об этом рассказывает, заставляет дона Федерико лишний раз подумать о том, что его двадцатичетырехлетний сын сам еще не вышел, как видно, из детского возраста.
Доходит, однако, очередь и до обещания, данного отцу. В следующий приезд Федерико заявляется в Гранаду вместе с другом, Гильермо де ла Toppe. Чемоданы обоих набиты фолиантами, один вид которых вызывает почтение. Друзья запираются в комнате наверху, и целыми днями оттуда доносится только жужжание зубрежки, звучащее в ушах дона Федерико сладчайшей музыкой.
Наступает высокоторжественный день. Облачившись в парадные костюмы и наискромнейшим образом повязав галстуки, Гильермо и Федерико, бледные и решительные, отправляются в Гранадский университет держать экзамен. Несколько часов мучительного ожидания – и семья ликует, поздравляя двух новоиспеченных лиценциатов права, донья Висента укоризненно посматривает на мужа, а тот облегченно вздыхает: наконец-то Федерико сможет стать адвокатом! «Адвокатом?» – повторяет Федерико рассеянно, и отец машет рукой: ладно, у нас еще будет время поговорить!
Лето в этом году тревожно, как никогда: отовсюду поступают грозные вести. В Басконии – кровавые столкновения полицейских с рабочими, в Каталонии шайки убийц, нанятых хозяевами, расправляются с забастовщиками, а на это анархисты отвечают новыми террористическими актами. Споры в кортесах о наказании виновников разгрома под Аннуалом достигли высшего накала. Генералы в бешенстве, правая печать открыто заявляет, что только диктатура твердой руки может спасти монархию и страну. Зашевелилась и армия: в Малаге взбунтовался батальон пехоты, отказавшийся отправиться в Марокко, какие-то волнения происходят и в гранадском гарнизоне...
Уж не потому ли, что местные власти не слишком надеются на солдат, в Гранаде нынче столько гражданских гвардейцев? Они постоянно попадаются навстречу Федерико, их сапоги то и дело грохочут у него за спиной. Ему вдруг вспоминаются слышанные недавно в Мадриде слова Рамона дель Валье-Инклана: «В Испании у интеллигентов общая судьба с цыганами – и тех и других преследуют гражданские гвардейцы».
Сентябрьским вечером закоулочники приходят навестить дона Мануэля в последний раз перед ежегодным разъездом. Только Пепе Мора запаздывает – его, по-видимому, задержали сборы в дорогу более дальнюю, чем у всех остальных: Пепе уезжает в Уругвай. «Может быть, Федерико прочтет что-нибудь новенькое?» – «Охотно. „Сцена с подполковником гражданской гвардии“, – объявляет он и, приметив тень неудовольствия, скользнувшую по лицу хозяина, добавляет: – Из книги „Стихи о канте хондо“.
Федерико читает, почти не меняя выражения лица, но слушатели видят перед собой то подполковника, окоченевшего от собственного величия, то сержанта – олицетворение служебного усердия. «Я – подполковник гражданской гвардии», – произносит он медленно, как бы упиваясь звучанием каждого слова. «Так точно!» – щелкает каблуками сержант. «И нет никого, кто бы меня опроверг». – «Никак нет!» – «У меня три звезды и двадцать крестов». – «Так точно!» – «Сам кардинал приветствует меня». – «Так точно!» – «Я – подполковник. Я – подполковник. Я – подполковник гражданской гвардии».
Внезапно казарменная идиллия нарушается. Свежий, молодой голос – голос самого Федерико – напевает песенку, бессмысленную и задорную. «Луна, луна, луна, петух поет на луне, и ваши дочки, сеньор алькальд, любят глядеть на луну». – «Что там такое?» – «Цыган!» – кричит сержант, срываясь с места, и вот уже возмутитель спокойствия изловлен, схвачен, доставлен по начальству. Несчастный, он, конечно, даже не догадывается, кто перед ним. «Я – подполковник гражданской гвардии». – «Да», – отвечает цыган небрежно. «А ты кто?» – «Цыган».– «А что это такое – цыган?» – «Да как сказать...» – «Ты где был?» – «На мосту через реки». – «Через какие реки?» – «Через все реки». – «А что ты там делал?» – «Башню из корицы», – говорит цыган, как о чем-то само собой разумеющемся. Башню из... корицы?! «Сержант!» – восклицает подполковник голосом, в котором нет прежней уверенности.
Снизу по лестнице поднимается запыхавшийся Пепе Мора. У него какая-то новость, но, остановленный дружным шиканьем, он осторожно присаживается на краешек стула и делает Федерико знак, чтобы тот продолжал.
«Я изобрел крылья, чтобы летать, и летаю», – сообщает цыган доверительно. «Ай!» – вскрикивает подполковник, а может быть, он уже и не подполковник, ведь все пошло кувырком в этом устойчивом и трезвом мире, стоило только заглянуть туда сказке. «Впрочем, крылья мне не нужны, я летаю и без них». – «Ай!» – «Захочу – и лимоны расцветут в январе». – «Ай-й!» – жалобно повторяет подполковник, отступая. «И апельсиновые деревья распустятся на снегу». – «Ай-й-й-й!» – и, взвыв в последний раз, подполковник гражданской гвардии опрокидывается навзничь с балаганным треском: пум, пим, пам! Он мертв. «Его душа – табачного цвета, цвета кофе с молоком, – деловито поясняет Федерико, – вылетает в окно казармы». «На помощь!» – орет пришедший в себя сержант.
Отсмеявшись, все поворачиваются к Пепе. Стараясь говорить спокойно, он сообщает, что минувшей ночью генерал-капитан Каталонии Мигель Примо де Ривера объявил Барселону на осадном положении и опубликовал воззвание ко всему испанскому народу. Текст воззвания не оставляет сомнений в том, что события в Барселоне лишь начало государственного переворота, цель которого спасти монархию, отдав Испанию под власть военной директории. Там сказано, что страна будет очищена от профессиональных политиков, все центры коммунистической и революционной пропаганды будут заняты войсками, а подозрительные лица будут задерживаться. Одним словом – диктатура...
В наступившей тишине слышен с улицы цокот подков. Федерико бросается на балкон. Лошадиные крупы проплывают под ним, черные плащи, тускло поблескивающие треуголки. Гражданские гвардейцы на конях спускаются вниз по улице.
Глава четвертая
Печаль цыганских кочевий,
о ключ заветный и светлый!
Печаль заглохших истоков,
печаль далеких рассветов!
Федерико Гарсиа Лорка1
И снова Тополиный холм, розоватые, доцветающие олеандры в Саду поэтов, светлая келья, обитателем которой лиценциат Гарсиа Лорка твердо намерен оставаться и впредь. Никогда еще старушка Рези не была ему так мила, как теперь, когда она переживает трудные времена. Все ее враги зашевелились, наиболее усердствующие газеты требуют закрыть этот рассадник вольномыслия и нигилизма. Пошли инспекции, ревизии; совет попечителей, очищенный от либералов, заставляет директора отчитываться за каждый шаг.
Дон Альберто похаживает по Резиденции с видом коменданта осажденной крепости, того и гляди скомандует: «Закрыть ворота, поднять мосты!» На тревожные взгляды студентов он отвечает бодрой улыбкой – ничего, дескать, как-нибудь отсидимся. Есть и у Резиденции влиятельные друзья, сам герцог Альба обещал поддержку, так что занимайтесь спокойно.
Но какое там спокойствие, если снизу, из столицы, ползут что ни день, словно туман с болота, все новые вести и слухи. Диктатор хозяйничает вовсю. Конституция фактически упразднена, кортесы уничтожены вместе с сенатом, муниципальные советы распущены. В каждый округ правительством назначается делегат, которому предписано обеспечивать неуклонное выполнение всех приказов Военной директории, укреплять гражданскую дисциплину, воспитывать население в духе патриотизма. Делегат этот должен быть офицером в чине не ниже капитана, а лучше всего – майором, ибо, как сказал Примо де Ривера, только майор обладает полностью сложившимся мировоззрением военного человека и хорошо развитым чувством субординации. Поговаривают, что в узком кругу диктатор добавил еще один довод: испанский майор-де уже не так молод, чтобы угрожать добродетели девушек, но в то же время и не так стар, чтобы потерять надежду дослужиться до генерала.
Если Примо де Ривера и вправду сказал это, то не иначе, как напрашиваясь на лестное возражение – сам-то он (не столько, впрочем, сам, сколько с помощью высокопоставленного дядюшки) был произведен в майоры двадцати пяти лет. Кроме того, доподлинно известно, что и в свои пятьдесят три года генерал Примо де Ривера отнюдь не перестал быть грозой прекрасного пола. О подвигах его по этой части, так же как и о его пристрастии к азартным играм и крепким напиткам, ходит немало рассказов.
Совсем недавно, в бытность капитан-генералом Валенсии, он пригласил к себе в театральную ложу молоденькую хористку и, не задернув даже занавесок, дал зрителям возможность полюбоваться спектаклем, куда более захватывающим, чем тот, что развертывался на сцене. Рассказывают, что и теперь по ночам генерала можно встретить в глухих кварталах Мадрида – изменив свою внешность, он бродит, как новый Гарун-аль-Рашид в поисках сильных ощущений, а замаскированная охрана следует поодаль. А вот последний анекдот: специальным распоряжением Военной директории содержателям кабаре под страхом крупного штрафа воспрещено демонстрировать на подмостках своих заведений любимое зрелище мадридских холостяков, или, как сказано в официальном тексте, «женские танцы в костюмах, оскорбляющих нравственность». Однако, будучи тонким ценителем этого жанра, сам генерал время от времени является в одно из кабаре и, уплатив сумму штрафа из собственного кармана, требует исполнения программы в неурезанном виде.
Диктатор осведомлен о подобных разговорах, но не настаивает на их пресечении – пусть знает страна, что ею управляет не какой-нибудь штафирка-интеллигент, а настоящий мужчина! Таким уж создал Мигеля Примо де Риверу господь бог, избравший его своим орудием. А в божественности своей миссии генерал нисколько не сомневается. Андалусский помещик, потомственный военный, он распоряжается Испанией с патриархальной простотой и чисто профессиональной решительностью. Ему ясно, что в бедствиях государства повинна только одна категория людей – так называемые политики: все они плуты, все безбожники, всех их нужно вывести на чистую воду и упрятать в тюрьму. Спасение страны – в единоначалии; отныне по воле монарха командует он один. Прочим ради собственного их блага надлежит повиноваться без рассуждений. Положитесь же без колебаний на счастливую звезду генерала, на легкую его руку, которая не подводила Примо де Риверу ни на полях сражений, ни за карточным столом! Он возвратит державе былое величие, сделает счастливыми всех испанцев – предпринимателей и рабочих, коммерсантов и батраков, а потом сложит с себя бремя власти и возвратится на любимое военное поприще.
Худощавое, мужественное лицо генерала улыбается с газетных страниц, заполненных его же пространными речами. Речи – невинная страсть диктатора, для утоления которой годится любой повод: дипломатический прием, церковный праздник, выпуск военной академии, открытие художественной выставки... Обо всем на свете он высказывается безапелляционно, как приличествует человеку, выражающему мнение всей испанской нации.
С такою же безапелляционностью генерал извещает нацию о том, что ее мнение по тому или иному вопросу коренным образом изменилось. Давно ли, скажем, – правда, еще до прихода к власти – он утверждал, что национальные интересы требуют вывода испанских войск из Марокко, а ныне заявляет, что Испания обязана любой ценой выполнить свой цивилизаторский долг перед народами Африки. Или на следующий день после переворота, находясь в Барселоне, не объяснялся ли он опять-таки от имени всей нации в любви каталонцам, не клялся ли, что служить Каталонии едва ли не главная его забота? Однако не прошло и недели, как возлюбленные каталонцы прочитали декрет, гласивший, что отныне всякое выступление против единства нации, в том числе и такое, как употребление каталонского языка в публичных выступлениях и официальных актах, будет караться самыми суровыми мерами вплоть до расстрела.
Перечитывая речи диктатора, можно было бы отметить немало примеров подобной непоследовательности. Но кому же, кроме презираемых им политиков, придет в голову перечитывать эти бесконечные речи?
Впрочем, первое время многие политики – не только монархисты, но и либералы и даже республиканцы – настроены вполне лояльно. Всех утомил традиционный испанский беспорядок. Не мечтал ли еще когда-то сам Коста, патриот и просветитель, о сильном диктаторе, который будет подобен Христу, изгнавшему менял из храма? Конечно, самоуверенный и грубоватый Примо де Ривера не очень-то похож на Христа, но как знать – быть может, именно такой правитель и нужен сейчас Испании? С помощью армии он избавит страну от застарелых язв, покончит с вопиющими злоупотреблениями, уймет расходившихся анархистов, а там, как он сам обещал, передаст власть гражданским лицам... «Общественное мнение с радостью восприняло падение людей и методов, которые не оправдали себя», – заявляет близкая к монархическим кругам газета «Эль Импарсиал», а либеральная «Эль Соль» сожалеет лишь о том, что переворот этот не совершился лет на двенадцать раньше.
А что говорят социалисты? Их руководители призывают народ не вмешиваться в происходящие события. Не оказывать поддержки военной диктатуре, но в то же время и не выступать против нее. Военную диктатуру такая позиция, по-видимому, устраивает: социалистической партии разрешено продолжать свою деятельность. Анархисты объявили о роспуске своих организаций, закрыли газеты. Одни только коммунисты зовут к сопротивлению, но их мало, их партия загнана в глубокое подполье.
Однако Примо де Ривера не довольствуется этим. Подлинное единоначалие невозможно без единомыслия, а единомыслие во вверенной ему стране воцарится лишь тогда, когда никто не сможет критиковать действия правительства. Разгон кортесов и сената мало что даст, пока сохранит свои права «третья палата», как называют в Испании прессу. Для нее необходим хороший намордник. С первых же дней диктатуры газетам и журналам запрещается публиковать какие бы то ни было материалы, способные нанести ущерб авторитету властей. В обеспечение этой меры вводится предварительная цензура печати.
Такого испанцы не припомнят. Не иметь права выругать свое правительство – это уж чересчур! Завсегдатаи кафе, оставленные без привычной пищи для споров, гневно потрясают кастрированными номерами газет. Интеллигенция ропщет – отныне даже ученый, написавший книгу по математике или философии, обязан представить ее на просмотр какому-то капитану или майору, от каприза которого будет зависеть, выйдет ли она в свет. А тут еще власти начали вмешиваться в университетские дела!
Постепенно разочарование ширится. Где обещанный порядок? Где обновление страны? Только нескончаемый поток декретов, законов, постановлений, проектов. Реорганизация армии и флота. Перестройка министерств. Отныне каждый чиновник должен быть обеспечен отдельным рабочим местом. Отныне Генеральное управление тюрем будет именоваться Генеральной инспекцией тюрем. Все та же нищета внизу, все та же продажность наверху. Лишившись и тех свобод, какие имели, испанцы ничего не получили взамен.
В частных разговорах Примо де Риверу начинают звать уменьшительным именем – Мигелито. Анекдоты о нем становятся все злее. Богатый материал для этих анекдотов дает поездка в Италию, совершенная диктатором вместе с Альфонсом XIII, – напыщенные, самодовольные речи, от произнесения которых генерал не удержался и за границей, его откровенное заискивание перед Муссолини, звание вождя испанского фашизма, пожалованное Примо де Ривере итальянским дуче, и церемониальный удар шпаги, закрепивший это пожалование.
Доходит и до открытых выступлений. Старый республиканец Родриго Сориано поднимается на кафедру мадридского Атенея, чтобы прочесть лекцию о борьбе Испании за свободу. Коснувшись истории, нарисовав портреты различных тиранов, лектор переходит к современности. Образ правления, установившийся ныне в стране, он характеризует как диктатуру легкомысленного андалусского «сеньорите», отказывая последнему даже в сходстве с Муссолини. Уж если искать в данном случае сходства с кем-нибудь, заявляет Сориано под одобрительный смех аудитории, то разве что с цирковым импресарио Барнумом – прославленным мастером рекламы и помпезных зрелищ. И заканчивает призывом отстаивать независимость Атенея – последнего убежища свободной мысли в Испании, а если правительство осмелится назначить и сюда своих делегатов – захлопнуть дверь перед ними!
Донесение о лекции Сориано (правда, Барнума оттуда на всякий случай вычеркнули) не очень беспокоит диктатора. Интеллигенты могут сколько угодно сотрясать своими речами воздух Атенея – лишенные возможности публиковать эти речи, они ему не опасны. Генерала больше заботит ненадежность тех, в ком он должен быть уверен, как в офицерах перед боем, – правительственных чиновников, собственных его слуг. Некоторые из них оказываются вдруг способными на прямое неповиновение.
Однажды кто-то из приятелей, в компании которых Примо де Ривера имеет обыкновение отдыхать от государственных трудов, обращается к нему с пустяковой просьбой. Помнит ли он Каобу? Еще бы не помнить! И генерал целует кончики пальцев, представив себе носительницу этого экзотического прозвища – темпераментную особу не слишком строгих правил с роскошными волосами цвета красного дерева. Так вот, у малютки Каобы – крупные неприятности. Арестована ее сестра по обвинению в торговле кокаином, да и против самой Каобиты возбужден процесс. Наследники старого богача, потратившего на нее уже добрую половину своего состояния, заявили, будто бы она искусственно удерживает старика во власти своих чар, разрушая его здоровье посредством все того же кокаина.
Какая чепуха! Генерал, черт побери, по собственному опыту знает, что чары Каобы не нуждаются в помощи каких-то там снадобий. У наследников есть все основания беспокоиться, но беззакония мы не потерпим! Кто ведет это дело? Судья Прендес? Отлично! Итак, сеньору Прендесу: с получением сего немедленно освободить из-под стражи... и прекратить дело.
Кто бы мог ожидать, что судья Прендес откажется выполнить приказ диктатора! Он позволяет себе дерзко ответить, что правосудие не нуждается в указаниях. Более того, он заявляет, что письмо Примо де Риверы будет приобщено к материалам процесса. Да это бунт! Генерал приглашает к себе главу всего испанского суда – президента Верховного трибунала, сеньора Муньоса. Не находит ли сеньор Муньос, что дальнейшее пребывание некоего Прендеса на посту судьи способно только подорвать авторитет правосудия?
Ах, он не находит этого? Он считает даже, что его подчиненный действовал честно и беспристрастно, обнаружив примерное мужество и неподкупность? Что ж, этого следовало ожидать: рыба гниет с головы. Сеньор Муньос, его королевское величество соблаговолил удовлетворить ваше прошение об отставке. Прошение представьте немедленно. Мы вам покажем, кто командует в Испании!
Скандал получает огласку. Мадридцы, верные себе, отвечают новым взрывом острот и каламбуров, в которых на разные лады обыгрываются красное дерево – каоба, краснодеревщики, кокаин... Во всех кафе смакуют пикантные подробности дружбы бравого диктатора с медноволосой потаскушкой, благо сама Каоба, празднуя в казино свою победу, во всеуслышание делилась этими подробностями с друзьями.
Не все, однако, склонны отшучиваться. Над кем смеемся – не над собой ли? Неугомонный Родриго Сориано снова выступает с речью в Атенее, заявляя, что пришла пора покинуть созерцательную позицию. «Мы будем поистине смешны, – восклицает он, – если станем и далее заниматься здесь изучением того, что писали греческие философы против своих тиранов, в то время как сегодняшние тираны ломятся в наш дом!» Подробно разобрав историю с Каобой, которую он сравнивает с Далилой и Мессалиной, Сориано заявляет, что если Испания стерпит и это оскорбление, то стыдно будет называться испанцем.
Речь эта – собственно, не так даже речь, как донесение о том, что толпа молодежи, запрудившая улицу перед Атенеем, бурно приветствовала оратора при выходе, – кладет конец терпению генерала. Правительственная «Гасета» публикует декрет о высылке сеньора Сориано на Канарские острова «за тяжкое оскорбление, нанесенное одной достойной сеньорите». Его под охраной усаживают в андалусский экспресс. Попытки собравшихся на вокзале превратить его проводы в демонстрацию пресечены полицией, кое-кто задержан. Арестованы и участники шутовского шествия, которые направились было с зажженными свечами в руках к известному дому свиданий, посещаемому, по слухам, Каобой, – умолять некоронованную королеву Испании о смягчении участи Родриго Сориано.
Все эти меры приносят некоторые плоды. Никто больше не отваживается на дерзкое выступление в Атенее; мадридцы делаются сдержаннее в разговорах и начинают остерегаться чересчур внимательных слушателей. Как вдруг по столице разносится слух о том, что в аргентинском журнале «Носотрос» напечатано письмо Мигеля де Унамуно, ректора университета в Саламанке, а в том письме предана гласности постыдная история с Каобой и о самом диктаторе такое сказано!
Увидеть аргентинский журнал собственными глазами удается немногим. Но кто же не знает про неукротимый характер и ядовитый язык старого саламанкского отшельника, который самого бога потребует к ответу, если сочтет, что тот не прав! Уж он-то нашел, что сказать, можно не сомневаться. Весть о том, что хоть словечко правды вырвалось за рубеж, действует ободряюще. Вновь развязываются языки, повсюду открыто обсуждают поединок «Мигель против Мигелито», спорят о том, каков будет ответный удар генерала.
Вопрос этот особенно волнует Резиденцию. Для всех, кто живет здесь, Унамуно – это не только имя, вытисненное на книжных корешках, не только один из портретов в галерее знаменитых мыслителей Испании. Для них это и попросту хороший знакомый, шестидесятилетний человек с головой старого филина и юношески порывистыми движениями, страстный спорщик, готовый во всякое время схватиться с любым собеседником, будь то его друг Альберто Хименес или какой-нибудь зеленый новичок. Приезжая в Мадрид, дон Мигель почти все свободное время проводит на Тополином холме, окруженный молодыми людьми. Давно ли, кажется, стоял он среди них в последний раз – любовался городом, расстилающимся внизу, рассуждал о глубочайшем различии между Саламанкой – созданием каменотесов – и Мадридом, который весь почти сложен из кирпича, сотворен, как человек, из глины... Неужели эти солдафоны посмеют расправиться с Унамуно?
Дон Альберто уверен, что не посмеют. Слишком велик авторитет Мигеля де Унамуно не только в Испании, но и за ее пределами, – Военная директория не захочет скомпрометировать себя в глазах цивилизованного мира. А кроме того, власти уже поставлены в известность, что возмутившее их письмо носило частный характер и в печать попало без ведома автора.
И все же наступает тот омерзительный февральский день, когда директор Резиденции одним из первых в столице узнает, что накануне Мигелито нанес ответный удар. Прославленный друг сеньора Хименеса грубо оторван от семейного очага, от всех своих трудов, от университета и отправлен в ссылку на остров Фуэртевентура.
Как не хочется дону Альберто возвращаться с этой новостью к себе на Тополиный холм, к ожидающим его студентам! Несмотря на холод, на слабый и все-таки до костей пробирающий ветер – тот самый, что «свечи не задует, а человека убьет», – он плетется в гору пешком, то и дело останавливаясь, безотчетно стремясь оттянуть неприятный момент. Но вот из побледневшей зелени выглядывают знакомые кирпичные корпуса. А вот и его питомцы: сбившись в кучу, стоят они поперек дорожки, вглядываются в приближающегося директора.
Ну, конечно, все здесь – и пылкий Бунюэль, и весельчак Пепин Бельо (как непривычно видеть его серьезным!), и ангел-хранитель компании, степенный Морено Вилья... Смотрите-ка, даже Гарсиа Лорка с ними, вот уж не поверил бы, что этот сибарит способен покинуть свою комнату в такую погоду! Подойдя вплотную, дон Альберто ждет расспросов, но те молчат. Ясно, всё уже знают сами. Так чего же они хотят от него? Что означает это непонятное, доверчивое и вместе с тем нетерпеливое выражение, сообщающее минутное сходство их лицам?
Легкий холодок пробегает вдруг у него по спине. А ведь, пожалуй, скажи он сейчас одно слово, дай только знак – и эти молодые люди поднимут всю Резиденцию, пойдут куда угодно: на улицы, на площади, под копыта жандармских лошадей! Стоит лишь начать, как присоединится университет, а там и коллежи...
Но чем все это кончится? Или у полиции не хватит сил расправиться с безоружной молодежью? Власти, наверно, будут даже рады – это даст им повод окончательно прибрать к рукам все учебные заведения, закрыть Атеней, до отказа завинтить пресс. А что будет тогда? Что станется с Резиденцией, с его Телемской обителью, с последним, быть может, очагом свободного образования в стране? Нет, он не позволит высоким, но бесполезным чувствам увлечь себя. Он обязан быть мудрым... Как же, однако, горька эта мудрость!
И впервые в жизни Альберто Хименес опускает глаза перед своими питомцами.
2
Ах, да какое ему в конце концов дело до водевильных похождений диктатора, до угодливой газетной трескотни, до приглушенных, с оглядкой через плечо, разговоров о свободе? Его свобода – поэзия.
Когда еще раньше случалось ему столько писать? Книга о канте хондо растет, словно сказочное дерево, стремительно выбрасывая побег за побегом, – иные из них уходят далеко от ствола, пускают собственные корни. В нижнем ящике шкафа – друзья именуют его подвалом, где Федерико изволит выдерживать свои вина, – прибавилось еще несколько школьных папок с тщательно завязанными тесемками. На одной папке выведено «Canciones» – «Песни», остальные пока без надписей.
Начиналось с утра, с самых первых минут, когда рассыпается беззаконная логика сна, а трезвая дневная логика не спешит вступить в свои права. Федерико любил эти минуты не бескорыстно. Лежа с закрытыми глазами, он будто со стороны следил, как оживают в сознании слова – еще не слипшиеся в привычные сочетания, самостоятельные крохотные миры, – как они там блуждают, сближаются, повинуясь взаимному притяжению, и вдруг, столкнувшись, высекают неожиданный образ. Случалось, такой образ, как взрыв, прокладывал путь застрявшей накануне строке, а то и давал новый поворот всему стихотворению. Боясь положиться на память, Федерико тянулся за листком, целую ночь караулившим его на стуле возле кровати, – тут-то работа и брала его в плен. Иногда он так и оставался в постели весь день до заключительной строки, до тех пор, пока не пририсовывал в честь окончания затейливую виньетку.
Но случалось просыпаться и по-иному, когда, подброшенный среди ночи внезапным толчком изнутри, он подолгу лежал в темноте, не решаясь протянуть руку, чтобы не наткнуться на стены, вплотную обступившие его со всех сторон, не коснуться потолка, гробовой крышкой нависшего над самым лицом. Постепенно сердце успокаивалось, но тяжелое чувство не проходило. Враждебная, несущая уничтожение, неумолимая сила была где-то здесь, рядом; таясь по углам, она ждала лишь удобного случая, чтобы снова двинуться на него – неотвратимо и слепо, как океанский прилив. Мучительно было сознавать, что беспомощен. Еще сильнее мучила почему-то безыменность, безликость этой равнодушной стихии.
Впрочем, с ее безликостью-то Федерико знал, как справиться. На помощь, воображение! В предутренней мгле проступали знакомые, ненавистные черты. Жестокость, насилие, смерть – все, чем был он когда-либо ранен, олицетворялось, становилось картинами, проплывало перед глазами. Блистали, как рыбы, навахи убийц. Алая кровь, запекшаяся на груди, превращалась в темную розу. Черный конь уносил мертвого всадника. Другие всадники, в черных плащах, в клеенчатых треуголках ехали по дороге, мерно покачивая тяжелыми, будто свинцом налитыми черепами... Сразу же начинали сами собой шевелиться губы. Тоска, казавшаяся невыразимой, облекалась в слова, и, как в детстве когда-то, названное переставало томить. Он больше не был беспомощен. Глубоко, облегченно вздохнув, он переворачивал подушку, вытягивался, закрывал покрепче глаза.
Сон, однако, не шел. Теперь не хотела униматься та добрая сила, которая помогла Федерико одержать победу над черными призраками. Она рвалась наружу, звала поделиться ею с другими. Она, эта сила, будила в нем сокровенное чувство, которым сама же и была рождена, – пронзительное до боли чувство родства с людьми, с близкими и неведомыми собратьями. С тем, кто лежит в этот час, как он, напряженно всматриваясь во тьму, и с тем, кого жандармы ведут в тюрьму, скрутив за спиною локти. С матерями, оплакивающими сыновей, и с девушками, которым не дождаться женихов. С голодными бедняками, с цыганами, евреями, маврами. Но всегда не с победителями, а с побежденными, гонимыми.
Эти люди были связаны с ним целой сетью невидимых жил, по которым в сердце его проникали их страхи и страсти, по которым и сам Федерико мог всем своим существом перелиться в любого из них, перевоплотиться в него. Стоило лишь дать себе волю, стоило только вспомнить – ну, хоть раненого контрабандиста из песни, давно уже не дававшей ему покоя, – как из привычного гула, исподволь возникшего в глубине, опять выделялись слова. Словно ветер гранадской долины проносился по комнате, оставляя на губах привкус полыни и мяты, и, зная, что заснуть все равно не удастся, Федерико вставал, зажигал свет, присаживался к столу.
Контрабандист шел с моря; от самой Кабры пробирался он горными тропами в родную долину – туда, где его ожидает возлюбленная, ночи напролет глядя на дорогу с плоской крыши отцовского дома. Истекая кровью, преследуемый по пятам, он подходит к заветной двери. Предрассветный час. Кристалликами инея мерцают и переливаются крупные, низко повисшие звезды. Ночные тени растворяются в стелющемся тумане. Деревья ежатся на ветру. На фоне побледневшего неба отчетливо вырисовывается гора – как дикая кошка, щетинится она всеми колючками своих агав.
Конечно, гора эта – Сакро-Монте, да и дом знаком Федерико – на окраине Альбайсина есть точно такой, с такою же плоской кровлей, обнесенной решеткой, с водоемом во внутреннем дворике. Перегнувшись через решетку, девушка должна была видеть свое отражение в зеленоватой воде, а вода, пронизанная светом луны, отбрасывала на смуглое лицо зеленые блики.
Память подсказывала подробности, воображение их развивало. Повседневность сплеталась с легендой, собственные, выношенные образы перемешивались с народными, а старинный романсовый стих подхватывал все это, нанизывал на стальную струну сквозной рифмы, сплавлял воедино и нес, как река. Да, тут нужен был именно романс с его естественным, неторопливым течением и крутыми переменами в судьбах героев.
Федерико строил этот романс, как ласточка лепит гнездо, руководствуясь скорее инстинктом, чем планом. Ход событий не был известен заранее, он порождался людьми, в которых вселялся автор, – раненым контрабандистом, отцом девушки, выходившим навстречу запоздалому гостю. Федерико-пришелец и Федерико-хозяин (все потерявший, раздавленный горем, о котором еще не знает тот, другой) вели разговор, изъясняясь иносказательно, согласно законам песни:
– Сосед, на ее каморку коня своего я сменял бы, на зеркало – сбрую с седлом, мой нож – на ее одеяло. Сосед, я пришел весь в крови из Кабры, с гор, с перевала. – Будь воля моя, паренек, давно состоялась бы мена. Но я-то уже не я, и не мои эти стены. – Сосед, я хочу умереть в своей кровати, как должно: на прутьях стальных, с простынями голландскими, если можно. Ты разве не видишь, что рана раскрыла мне грудь до горла? – На белой груди твоей три согни розанов черных, сочится и пахнет кровь, кушак твой весь в красной пене. Но я-то уже не я, и не мои эти стены.Но где же девушка, что с ней? Понять это – значило самому превратиться в нее. Перенестись на плоскую крышу, где провела она столько ночей, ощутить на лице прохладу, идущую снизу, от водоема... Задохнуться от тоски по любимому, переполниться исступленной жаждой любви – той жаждой, когда ничего уже не видишь, не слышишь, – и в какой-то миг, будто в сомнамбулическом сне, шагнуть через решетку в зеленый мир своих видений, в свою зеленую сказку.
Зеленую – verde – это слово не шло у Федерико из головы. Оно буйной весенней травой пробивалось в каждой строке, разрасталось, тянуло за собой луга, и лужайки, и нежные, ранние всходы, и свежесрубленное, пронизанное соками дерево, и терпкий вкус молодого вина. Оно развертывало перед глазами целую радугу своих оттенков; от цвета морской воды – verdemar, до горной зелени, ярь-медянки – verdemontana. Просыпались дремавшие в этих названиях море – mar —и гора – montana, из них возникали новые картины, перекликавшиеся со всем, что было в романсе, говорившие о свободе, о молодости...
Покачивалось на поверхности водоема бездыханное тело девушки. И уже грохотали в дверь кулаками пьяные гражданские гвардейцы, празднуя свою победу. А поэзия не умирала, и как знак ее, как вестник бессмертной жизни струилась через романс неистребимая зелень – не выцветая, не умолкая, вновь и вновь вскипая в строках припева:
Верде ке те кьеро верде. Верде вьенто. Вердес рамас. Эль барко собре ла мар. И эль кабальо эн ла монтанья.Такою я и люблю тебя – в зелень одетой. Зеленый ветер. Зеленые ветви. Корабль на море. И конь на горе.
3
А вот романс о Мариане Пинеде не получался. Федерико знал уже об этой женщине столько, что хватило бы на целую книгу. Любой эпизод ее жизни просился в стихи. Например, вот такой: Мариана устраивает побег Альвареса де Сотомайора, приговоренного к смерти. Ей помогает какая-то комедиантка, раздобывшая в костюмерной своего бродячего театра монашескую одежду и накладную бороду. Мариана – «бой-баба», как назвал ее один из историков, – ухитряется передать это все заключенному во время свидания, и тот, переодевшись, с распятием и четками в руках, принятый всеми за исповедника, беспрепятственно покидает тюрьму.
Или такой: арестованная в своем доме Мариана не теряет присутствия духа и пытается скрыться. Конвоировавший ее стражник показал на суде, что преступница уговаривала его бежать вместе с нею, обещая «сделать на всю жизнь счастливым».
Из материалов процесса, из ученых трудов, из мемуаров вырастал образ мужественной героини, не ведавшей страха, недоступной человеческим слабостям, готовой на все во имя любви к свободе. Такой Мариане пошли бы рыцарские доспехи, ее подвиги заслуживали самых пламенных строф, но писать о ней не хотелось... И только старая, знакомая с детства песенка спорила с этим образом. В печальном ее напеве, в наивных словах, в уменьшительном «Марьянита» было что-то, говорившее об иной Мариане Пинеде – более слабой, более несчастной, более человечной.
Снова и снова листал он страницы, ища подтверждения смутным догадкам. Кое-что обнаруживалось. Сохраненный устной традицией слух о том, что Рамон Педроса, королевский судья, пославший на казнь Мариану, был влюблен в нее и предлагал ей купить жизнь бесчестьем, показался Федерико достовернее документов. Одна подробность особенно его поразила: оказывается, друзья-либералы собирались спасти Мариану в последний момент, вырвав ее прямо на площади из рук палачей, – и она знала об этом. Сочувствие народа жертве Педросы позволяло надеяться на успех дерзкого предприятия. Друзья действительно явились на площадь; Мариана, поднявшись на эшафот, увидела крутом знакомые лица... Однако в решительную минуту – историки так и не выяснили почему – ни один заговорщик не тронулся с места, и казнь состоялась.
Какое беспредельное одиночество должна была она ощутить в эту минуту! Что дало ей силы пойти на смерть? Вера? – спрашивал себя Федерико, и Мариана Пинеда представлялась ему в образе святой Олалии-мученицы с поднятыми к небу, полными слез глазами, озаренная необычайным светом, какой бывает только во сне. Или другая, земная страсть? И он видел ее женщиной из канте хондо, одинокой Солеа, завернувшейся в черный плащ: весь мир ей кажется крохотным, а сердце свое – огромным...
Промелькнула короткая мадридская весна. На «Пласа де Торос» открылся новый сезон боя быков. Его величество Альфонс XIII показал отличные результаты, стреляя по голубям в королевском парке Каса дель Кампо. Примо де Ривера торжественно объявил о создании массовой политической партии «Патриотический союз», в которую могут и должны войти все испанцы, стоящие за порядок и справедливость и придерживающиеся здоровых идей. Мигель де Унамуно бежал из ссылки во Францию и принялся метать оттуда в диктатора ядовитые стрелы своих статей. Федерико бродил по улицам, рылся в библиотеках, веселился с друзьями на загородных гуляньях – вербенах; папки в нижнем ящике шкафа увеличивались в объеме, а Мариана Пинеда все не оживала.
Как-то Морено Вилья, интересовавшийся решительно всем на свете, зашел к Федерико со старинным «Наставлением по цветоводству», заложенным на главе «О розах». Каких только сортов не бывает! Например, Rosa declinata, склоненная, с опущенными бутонами, и Rosa inermis – безоружная, без шипов, и Mirtifolia – миртолистная, ее родина – Бельгия, и Rosa sulfurata – сернистая, что светится в темноте. Но самая редкая – ты только послушай! – Rosa mutabilis, то есть «изменчивая, меняющаяся». Она цветет лишь один день – утром красная, к вечеру становится белой, а ночью отцветает.
В самом деле, это было занятно и легко укладывалось в стихи:
Когда раскрывается утром, она, словно кровь, красна. Под вечер она белеет, как пена, как соль, как волна. Когда же ночь наступает, тогда опадает онаЧересчур легко! – верный признак того, что скользнул по поверхности, а главного не уловил, не ухватил словами. Что же это за главное, скрытое в глубине? Чего она хочет от него, эта роза, Rosa mutabilis?
Как всегда в таких случаях, он чувствовал, что раздваивается: один Федерико слушал приятеля, продолжавшего чтение, кивал, удивлялся, а другой в это время шел по следам слова «роза», пробирался внутриязыковыми ходами в тайники памяти, пока не заныла в нем какая-то давняя ссадина, пока не зарозовело перед внутренним его зрением старомодное платье увядшей женщины, подруги доньи Висенты... в саду, где всхлипывала вода... в день, когда он впервые увидел Гранаду... Как же звали ту женщину – уж не Росита ли? Или Ампаро? Или Мария? Как бы ни звали, у нее было еще одно имя: soltera – старая дева.
Прежде чем Морено Вилья захлопнул книгу, Федерико успел прожить целую жизнь – томительную и бесплодную, прошедшую, как один, растянувшийся на десятилетия день, в течение которого распускается, вянет и опадает прекрасный и бесполезный оранжерейный цветок. План пьесы о донье Росите, девице, – да, пьесы, потому что только театр мог сделать видимым главное действующее лицо этой истории – неумолимое время! – сложился почти мгновенно, стал обрастать подробностями.
Нет, сейчас он не мог позволить себе и эту работу, не разделавшись с прежними замыслами, которые и без того уже разрывали его на части! Усилием воли он заставил донью Роситу отступить, погрузиться в те глубины, откуда сам ее вызвал.
Казалось бы, какое отношение имело все это к Мариане Пинеде? Что общего между ней и старой девой Роситой, кроме того, что обе жили в Гранаде? А может быть, не так уж мало в том общего: жить в Гранаде, любить, страдать? Как бы то ни было, Мариана с тех пор сделалась для Федерико понятней и ближе. Взращивая ее в себе, он все явственней ощущал силу, правившую ее жизнью, все отчетливей сознавал, что имя этой силе – любовь.
Просто любовь. Та, что движет горами и воскрешает мертвых. Историки и поэты изображали Мариану библейской Юдифью, принесшей себя на алтарь отечества, а его Мариана будет сестрой Джульетты, нежной и страстной андалуской, для которой в любимом сосредоточено все – отечество, мир, жизнь. И Свобода в его романсе будет не отвлеченной идеей, не аллегорической фигурой, не черными буквами на белой бумаге, а хрупкой женщиной, идущей на смерть во имя любви.
Окончательное решение созрело уже летом, в Гранаде. Уединившись в своей комнате наверху, он часами перебирал подаренную доном Антонио, библиотекарем, коллекцию старых наивных эстампов, раскрашенных синей, зеленой, желтой, розовой и небесно-голубой краской. На одном из эстампов, изображавшем давно снесенную мавританскую арку Лас Куча-рас, а за ней – площадь Бибаррамбла, какою была она лет сто назад, Федерико всякий раз задерживался подолгу. Там виднелся дом, расписанный по моде далекого времени гирляндами плодов и морскими сценами. Федерико никогда не бывал в этом доме, а между тем он мог бы поклясться, что знает, как выглядит каждая комната в нем. Белые стены, ветки искусственных роз над комодом, потолок увешан плодами айвы...
Грустный осенний запах айвы доносился снизу, где хозяйничала донья Висента, и этот запах каким-то образом соединялся с рисунком, с детской песенкой, вызванивавшей в памяти: «Что за горестный день в Гранаде...» Как во сне, он перешагивал через желтоватую рамку эстампа – и оказывался в доме Марианы Пинеды. Он сам был Марианой, он вышивал запретное знамя, ждал вестей, изнывал от тревоги и страха.
Что сделает эта женщина, услышав знакомые голоса? Поспешно отложит шитье, прикроет знамя куском материи... Вот таким жестом она поправит волосы, воткнет за ухо большую красную розу. Вот так – легко и стремительно – она выйдет в гостиную навстречу подругам.
Обозначались люди вокруг Марианы, завязывался разговор, возникало действие. Теперь оставалось только вслушиваться и записывать. Романс становился пьесой, это выходило как бы само собой.
И все-таки это был романс. Не трагедия, не героическая драма – народный романс в трех эстампах. Никаких фанфар и литавр! Плач воды и чистые детские голоса.
4
– Федерико выехал из Гранады, завтра он будет здесь!
Глиняные горшки из Талаверы, украшающие стены столовой, едва не трескаются от радостных криков. Новость мгновенно распространяется по Резиденции, стаей записок разлетается по аудиториям. Лентяи со вздохом облегчения откладывают книги. Прилежные с удвоенной энергией углубляются в занятия, чтобы высвободить побольше времени для ближайших вечеров.
Назавтра на Тополином холме царит полупраздничное настроение, похожее на то, какое бывает перед каникулами, – даром что октябрь на носу. Взрывы смеха перекатываются из комнаты в комнату, отмечая путь Федерико. В разгар лекционных часов вопреки запрету директора из музыкальной гостиной доносятся звуки рояля и хрипловатый мальчишеский голос, но самый строгий профессор, вместо того чтобы прийти в ярость, замолкает, прислушивается и видит на лицах студентов отражение собственной улыбки. И всем, даже снедаемому заботами дону Альберто, небо в этот день почему-то кажется голубее, воздух – прозрачнее, а запах цветов – настойчивее, чем обычно.
Когда же наступает вечер, чуть не вся Резиденция «погружается в поэтическое опьянение», как выразится впоследствии один из очевидцев. Федерико – повсюду: в столовой, в саду, в гостиной. Там он только что, завернувшись в платок, изображал кухарку, пришедшую с рынка и громко жалующуюся на дороговизну своей глуховатой хозяйке. Здесь представил в лицах целую сцену – заутреню в крохотной деревенской церкви: шаги и покашливание прихожанок, явившихся первыми, начало службы, бормотанье молящихся, прерванное внезапным появлением мальчишки, священникова сына, который, просунув голову в дверь, во всеуслышание сообщает отцу, что корова отелилась! Вот он встретил Морено Вилью и, расхвалив последнюю элегию друга, тут же начинает импровизировать пародию на нее. Громче всех хохочет автор элегии, а Федерико уже уселся за рояль, он обращается к окружающим: ну-ка, в каких краях поют эту песню, кто знает? Аккомпанируя себе, он запевает голосом, исполненным горестного предчувствия:
Парни из Монлеона пахать отправились рано – ай-яй! — пахать отправились рано...– Не в Саламанке ли? – говорит кто-нибудь нерешительно.
– Да, сеньор! – благосклонно кивает ему Федерико, не отрывая пальцев от клавиш, и продолжает на тот же мотив:
Я нашел ее в песеннике дона Дамасо Ледесмы – ай-яй! — дона Дамасо Ледесмы...И – новые песни, выдумки, розыгрыши, вовлекающие в свой круговорот всех, кто тут есть. Подмывающее чувство легкости и свободы охватывает людей – такое приходит к актерам на сцене в минуты подъема, – когда все, что ни скажешь, все, что ни сделаешь, выходит верно и хорошо. В заразительной атмосфере игры сами собой рождаются точные, хлесткие реплики; их подхватывают, отражают, словно перебрасываясь невидимым мячиком; слова и движения оказываются подчиненными некоему единому ритму, источник которого – этот вот оливково-смуглый, белозубый гранадец, Иным из присутствующих и впрямь начинает казаться, что они – персонажи пьесы, которую на ходу сочиняет Федерико Гарсиа Лорка, сам же ставит ее и сам играет главную роль.
Что ж, доля истины в этом есть. Ибо то, что для остальных развлечение, для Федерико и продолжение работы, владеющей им безраздельно, идущей в нем день и ночь. Он нуждается в этой игре, которая питается его вымыслами и, в свою очередь, питает их. Он дурачится, веселится, распевает и в то же самое время жадно схватывает все, что можно подбросить в огонь, гудящий внутри, – слова, жесты, выражение лиц, собственные мимолетные мысли... В чем секрет обаяния Федерико, странной власти его над людьми в такие минуты, как не в этой стихии, которая, не умещаясь внутри него, выплескивается наружу, захлестывает окружающих? И не в счастье ли ощутить себя – пусть на мгновенье! – соучастником творчества заключается разгадка необыкновенного чувства, испытанного всяким, кто провел с Федерико хотя бы вечер!
В один из таких вечеров является в Резиденцию молодой художник Рафаэль Альберти. Федерико встречает его, как брата, – ему нравятся картины Альберти, да притом они земляки: андалусец из Кадиса – это почти родственник, если не брат, то кузен – примо. У цыган это слово значит также «приятель» – если Рафаэль не против, он так и будет его называть. Кстати, не согласится ли Рафаэль написать для него картину весьма благочестивого содержания? Там должен быть изображен сам Федерико, спящий на берегу ручья, а над ним, в верхушке оливы – женский лик, окруженный сиянием. И внизу волнообразная лента с надписью: «Явление Госпожи Нашей дель Амор Эрмосо – Прекрасной Любви – поэту Федерико Гарсиа Лорке». Он хотел бы повесить такую картину в изголовье своей постели.
Художник как раз собирался признаться, что живопись ему опостылела и он окончательно решил посвятить себя поэзии, но как устоишь перед этой сердечной улыбкой! Ладно, он выполнит просьбу Федерико и на том распрощается с живописью.
После ужина в шумной компании Федерико зовет Рафаэля в сад. Резиденция погрузилась во тьму, только из двух-трех окон еще падает свет на кусты жасмина. Где-то вверху шуршит в тополях ночной ветер, где-то внизу булькает вода в канале. Но отступают и эти звуки. Остается лишь голос, воздействующий не на один слух, а словно бы и на другие чувства, – он смуглый, шероховатый, терпкий, по-андалусски мягко шелестящий своими «эс». «Сомнамбулический романс», – медленно говорит этот голос – и заполняет ночь.
В первые минуты Альберти еще способен давать себе отчет в своих впечатлениях, но постепенно голос завладевает им, и вот уже нет ничего, кроме зеленой ворожбы, кроме яростной страсти, повелевающей судьбами, сплавляющей воедино реальность и вымысел. Два человека тяжело поднимаются на крышу, оставляя за собою следы слез и крови. Ночь – не эта, мадридская, а летняя, благоуханная ночь в долине Гранады – незаметно переходит в рассвет.
Фонарики жестяные на черепицах мерцали, и ранили раннее утро хрустальные бубны печали.Вот они добрались. Вот вглядываются, перегнувшись через решетку, обступаемые со всех сторон неумолимой явью.
Покачивалась цыганка в бассейне на водной глади. Зеленые волосы, тело, глаза серебра прохладней. И лунная льдинка ее поддерживает над волнами. А ночь уютна, как площадь, зажатая между домами. Гвардейцы гражданские спьяна стучали в дверь кулаками.Повысив голос, Федерико в последний раз произносит строки рефрена:
Люблю тебя в зелень одетой. И ветер зелен. И листья.Замолкает на мгновенье. И – все ниже, все тише, будто удаляясь:
Корабль на зеленом море. И конь на горе лесистой.Рафаэль не сразу приходит в себя. Слова еще отдаются в нем. Он ощущает укол при мысли о том, как далеко покамест собственным его опытам до поэзии Федерико. Но все затапливает волна счастья: эта поэзия есть, она уже существует на свете, она принадлежит всем! И тут позади него раздается новый голос, восклицающий с сильным каталонским акцентом – настолько сильным, что кажется нарочитым:
– Здорово сделано! Можно подумать, что в этих стихах есть сюжет, но в том-то и штука, что никакого сюжета в них нет!
Обернувшись, Рафаэль видит стройного юношу, давно уж, наверное, стоящего у него за спиной, различает привыкшими к темноте глазами правильные черты тонкого лица. Что-то не нравится ему в этом лице – или в той самоуверенной интонации, с которой прозвучали слова о стихах? – но Федерико, сверкая улыбкой, обнимает Альберти за плечи и подталкивает навстречу юноше:
– Познакомься, примо, это Сальвадор Дали, мой друг.
5
С Сальвадором Дали Федерико впервые встретился еще в 1921 году. Войдя как-то утром в столовую Резиденции, он увидел за ближайшим столиком странно выглядевшую в этом помещении троицу: почтенного буржуа, по одежде и манерам которого легко было узнать провинциала, девочку с трогательными косичками – она тут же с жарким любопытством уставилась на Федерико, – и подростка, отличавшегося от своих спутников не менее, чем от студентов, галдевших вокруг. Подросток был необычайно худ, остролиц; нечесаная грива спадала на воротник его блузы, пронзительные глаза смотрели с вызовом.
Позавтракав, косматый юнец нахлобучил бархатный берет и задрапировался в плащ. В провинции, откуда онприбыл, такою, по-видимому, представляли себе внешность художника. И действительно отец семейства оказался каталонским нотариусом, приехавшим определять своего сына в Академию изящных искусств.
Нотариус с дочкой вскоре уехали, а юнец остался в Резиденции. Первые месяцы он всех чуждался, но до Федерико доходили слухи о необыкновенной одаренности новичка, благодаря которой тот был принят в Академию, хотя представленные им рисунки и не отвечали условиям конкурса, а сам он возмутил профессоров дерзостью и самомнением. Рассказывали также о титанических усилиях, прилагаемых доном Альберто к тому, чтобы убедить Сальвадора Дали стричься короче и одеваться не так причудливо.
Знакомство состоялось на открытии выставки картин уругвайца Баррадаса. Сперва разговор не клеился – Сальвадор глядел исподлобья, односложно отвечал на вопросы. Но когда Федерико спросил, побывал ли уже Сальвадор в Толедо, тот вдруг схватил его за руку.
– Эль Греко! – выдохнул он. – Когда я впервые очутился перед «Похоронами графа Оргаса», у меня вся кровь свернулась в жилах и я грохнулся на плиты как камень!
Он и сейчас побелел, говоря это. Федерико смотрел на него с интересом. С выставки они ушли вместе.
Что и говорить, этот юноша не походил ни на кого из приятелей Федерико. Все было в нем необычно, начиная с фамилии (унаследованной, по его словам, от алжирского пирата Дали-Мами, некогда взявшего в плен самого Сервантеса), – независимость и резкость суждений, откровенность, доходящая до самообнажения, гигантское честолюбие, которое, как охотно признавался сам Сальвадор, являлось главной пружиной его поступков.
– Шести лет от роду я мечтал стать поваром, – говаривал он без улыбки. – В семь захотел сделаться Наполеоном. С тех пор тщеславие мое непрерывно растет.
Впрочем, воспоминания Сальвадора захватывали и более ранний период. Он всерьез уверял Федерико и тех из друзей Федерико, с которыми подружился, что помнит даже время своего пребывания во чреве матери и когда-нибудь обязательно напишет «Внутриутробные мемуары».
– А не после того ли, как ты прочитал Зигмунда Фрейда, появились у тебя эти воспоминания? – спрашивал Луис Бунюэль, насмешливо глядя на него черными глазами навыкате.
В ответ Сальвадор, не смущаясь, приводил кучу подробностей, якобы сохранившихся в его памяти, – немыслимых, невозможных и все же до жути правдоподобных.
Фантазия у него была поистине дьявольская и работоспособность такая же. Работать он мог несколько суток подряд, запершись в своей комнате, входя в которую Федерико не знал, куда ногу поставить, – наброски и эскизы не только закрывали все стены, но и устилали пол в несколько слоев.
Федерико любил пейзажи, привезенные Сальвадором из родных мест, – кипарисы, оливы, голубоватые горы, с пронзительной ясностью вырисовывающиеся в сухом, прозрачном, как бы дистиллированном воздухе Верхнего Ампурдана. Нравились ему и рисунки Дали – беглые, лаконичные, уверенные. Но сам Дали считал, что все это пройденные ступени: реализмом, импрессионизмом никого в наше время не удивишь, а он как раз хотел удивлять, ошеломлять, озадачивать. Ультраисты его привлекли бы, если б не печать неизлечимой провинциальности, лежащая на всех их сверхрадикальных затеях, а Сальвадор, успевший распроститься с плащом и беретом и похожий теперь на небрежно-изысканного мадридского сноба, ничего так не боялся, как показаться провинциальным. Теперь он ставил на Пикассо, увлекался кубизмом, и, когда его величество Альфонс XIII, соблаговоливший посетить Академию изящных искусств, выразил желание позировать ученикам, Дали написал портрет короля в кубистической манере, чем вызвал страшный скандал и навлек на себя гнев всех putrefactos.
«Путрефактос», «гнилье» – это гранадское словцо Федерико приводило Сальвадора в восторг. Черт возьми, да ведь это символ всей нашей жизни, а то и всей жизни вообще! В конце концов он решил создать целую серию рисунков под общим названием «Путрефактос» и с увлечением принялся за работу. Он выискивал натуру повсюду – в Рези, в Академии, в кафе, на бульварах, среди всех сословий и возрастов. Увидев пожилого человека, греющегося на солнце, он почтительнейшим тоном просил разрешения сделать набросок, и гот, польщенный, послушно застывал в указанной позе, не подозревая, в какую гнусную падаль его обращает карандаш молодого художника.
Показывая друзьям новые листы своей серии, Дали сопровождал их краткими пояснениями. Вот охотник и с ним собака – попробуйте различить, где кто! Вот гражданский гвардеец, занимающийся любовью в полном обмундировании. А это отец наш и благодетель, непобедимый генерал дон Мигель Примо де Путрефакто, который сочиняет возражение на статьи Унамуно в «Ле Котидьен».
Рисунки были злыми, жестокими, уморительно смешными. Друзья восхищались. Кое-что, правда, вызывало недоумение. За что попали в галерею гнилья ни в чем не повинные люди – ну, хотя бы старый садовник Резиденции, ворчун и добряк? И зачем понадобилось включать в эту серию издевательские портреты некоторых ученых и писателей, известных чистотой жизни и либеральными взглядами? Дали презрительно усмехался: все они мразь, эти добренькие либералы и республиканцы, только обманывают себя и других, он бы собственными руками повесил их на одном дереве. По нему, уж лучше откровенные монархисты – те по крайней мере знают, чего хотят!
Компания покатывалась со смеху – Дали был забавен во гневе. Надменные тирады его звучали так же преувеличенно, как его каталонский акцент, цинизм казался наигранным. Громче всех хохотал Федерико – он-то знал, каким великодушным и щедрым может быть Сальвадор, какой он преданный друг, как умеет слушать стихи, заливаясь тою же бледностью, что и при первом их разговоре.
Молодой каталонец все более нравился Федерико. Сказать по правде, он даже слегка завидовал Сальвадору, завидовал его неколебимой вере в собственное высокое предназначение, его решительности и воле, его хладнокровию и осмотрительности, скрытым за внешней эксцентричностью поведения, – всем тем качествам, которых не находил в себе. Рядом с этим юнцом, на шесть лет его моложе, Федерико чувствовал себя увереннее, спокойнее. Вдвоем они были способны на самые рискованные выходки.
Одна из таких выходок доставила немало неприятностей дону Альберто. Побудительной причиной ее было прозаическое безденежье, одолевавшее обоих друзей с тех пор, как отцы их, словно сговорившись, почти одновременно перешли от родительских увещеваний к экономическим санкциям. Возникла идея: а не заставить ли раскошелиться кого-нибудь из иностранцев – любителей живописи, целыми табунами слоняющихся по Мадриду? И вот уже некий американский дипломат и его супруга рассматривали картины Дали, внимая проникновенным речам Федерико, стремившегося убедить их в том, что покупка произведений столь многообещающего художника – – наивыгоднейшая форма помещения капитала.
Опасения дипломатической четы, достаточно ли современны произведения многообещающего художника, были мигом развеяны: такого авангардизма они не видывали и в Париже. Что ж, мистер Янки остановился бы, пожалуй, на двух этих картинах, но – тут между супругами состоялся краткий обмен взглядами – лучше всего встретиться завтра в кафе «Алькала» и там окончательно договориться.
Назавтра в кафе «Алькала» стало ясно, что дело плохо. Жена ли отговорила или сам дипломат решил поискать более надежную форму помещения капитала, но только супруги не заикались более о приобретении картин Дали, а говорили преимущественно о своем восхищении Испанией, о матадорах, о знаменитых исполнителях фламенко, с профессиональной легкостью ускользая от всех попыток Сальвадора и Федерико направить разговор в нужное русло. Прошел час, другой, был исчерпан запас андалусских анекдотов, наконец, терпение Федерико лопнуло. А не показать ли нашим дорогим заокеанским гостям один интересный фокус? – Просим, просим! – Но для фокуса необходимы две совершенно одинаковые денежные купюры, по десять долларов каждая. Так, прекрасно. Теперь смотрите внимательно: вот эта – для Сальвадора, а эта – для меня. Раз, два, три!.. И пока американцы, еще ничего не понимая, растерянно провожали глазами бумажки, с волшебной быстротой исчезнувшие в карманах друзей, Федерико потащил Сальвадора к выходу, приговаривая:
– Пойдем, Сальвадор, мы и так уже потеряли много времени с этими индюками.
Почти все свободные часы они проводили вместе. Иногда лишь – посреди шумного сборища в Рези, в разгар пирушки с друзьями – Сальвадор вдруг загадочно пропадал куда-то, и в течение двух-трех дней все попытки разыскать его оказывались безуспешными. Потом он появлялся как ни в чем не бывало, но на все расспросы приятелей отвечал молчанием, либо плел несусветные небылицы.
– Да отстаньте вы от него, – вступался, наконец, Федерико, – могут же быть у человека секреты!
Мог ли знать Федерико, что он-то и был невольным виновником этих внезапных исчезновений и что причина, заставлявшая его друга искать одиночества в какой-нибудь загородной гостинице, была сродни той, которая заставила когда-то юношу-каталонца грохнуться навзничь перед картиной Эль Греко! Ибо в чувстве, потрясшем тогда Сальвадора в Толедо, счастье встречи с созданием гения смешалось с мучительным ощущением своего ничтожества перед гением, с внезапной, нестерпимой ненавистью к нему.
Он любил Федерико, да и как было не любить этого человека, не испытывать радости, встречаясь с ним! А в глубине где-то жило чувство, настойчиво говорившее, что все, чем так богат Федерико – его мальчишеская беспечность, и естественная, легкая доброта, и поэзия, негасимым костром пылающая в нем день и ночь, и непостижимый дар, позволяющий ему перевоплощаться в других людей, оставаясь самим собой, – все это не только противоположно ему, Сальвадору Дали, но как бы отрицает, зачеркивает его. В присутствии Федерико теряло цену слишком многое из того, что составляло его, Сальвадора, жизнь и от чего он уже не мог отказаться. Глухая, тайная злоба рождалась в нем – временами она усиливалась, подступала к самому горлу, и тогда приходилось бежать, скрываться, чтобы не выдать себя.
Наедине с собой он неистовствовал. Лица Федерико сотнями возникали перед ним на бумаге – уродливые, жалкие, смешные. Но все это не помогало. Помогала лишь одна трезвая мысль: поэтический век недолог. Он потухнет, этот костер, превратится в золу, над которой можно будет согреть руки, не обжигаясь...
Успокоившись, он возвращался в Рези, спешил к Федерико, требовал новых стихов, наслаждался ими и был искренне благодарен другу за то, что тот ни о чем его не расспрашивал.
6
Всякий раз, когда на Тополином холме появлялся Хорхе Гильен – долговязый, сутуловатый, в больших очках, из-за которых смотрели добрые, внимательные глаза, – Федерико радовался, как обрадовался бы старшему брату. В свои тридцать два года Гильен мог служить примером вполне определившегося человека: преподаватель испанской литературы и языка, счастливый супруг, нежный отец... А жил он для одной поэзии и в этой жизни был ровесником Федерико, хоть и вовсе на него непохожим, писал не торопясь еще только первую свою книгу, проводил целые ночи с молодыми друзьями, оставаясь посреди самых яростных споров таким же сдержанным, немногословным, чуть педантичным, каким представал поутру перед учениками. И лишь те, кто читал стихи Гильена – сам он никогда не читал их вслух, – знали, как зорок взгляд его близоруких глаз, сколько дерзких, фантастических мыслей проносится за его высоким лысеющим лбом, прежде чем сгуститься в эти скупо отмеренные, тысячу раз взвешенные и выверенные слова.
Приверженец классической чистоты, аскетически строгий к себе строитель хрустальных, тщательно сбалансированных строф, он удивлял друзей своей способностью тонко чувствовать всякое подлинное искусство – не только чужое, но и чуждое ему самому. Обладая абсолютным вкусом, как другие обладают абсолютным слухом, болезненно реагируя на малейшую фальшь, Хорхе Гильен неизменно узнавал настоящую поэзию, в каких бы обличьях она ни явилась. Ни к одному человеку после Мануэля де Фальи не испытывал Федерико такого доверия. Уже написанные стихи он мог читать любому, но замыслами своими делился лишь с Хорхе.
Поделиться было чем. Не закончив еще ни «Стихов о канте хондо», ни «Песен», Федерико думал уже о том, как много важного, выношенного останется за пределами этих книг (впрочем, он пока не решался назвать их книгами). Да, он сумел проникнуть в душу Андалусии, постиг ее сокровенный язык, научился извлекать ее поэтическую сущность. Но сущность эта, выплавленная из жизни, как металл из руды, не желала довольствоваться теми формами, которые он ей предназначил. Как расплавленный жидкий металл, она хлынула через край этих форм и пронизала собою все, что годами копилось в сознании, – детские сны, дорогие и тягостные воспоминания, лица и судьбы, горькие, будничные раздумья... Образовался новый, неожиданный сплав. Занося на бумагу стихи, посвященные андалусской песне, подчиненные ее законам, Федерико все явственней различал очертания какого-то иного мира, исподволь вызревавшего в нем.
Иного ли? Не того же ли самого, в котором он родился и вырос? Картины, всплывавшие в воображении, оказывались знакомыми – гранадская долина с ее нежно-зеленой порослью, сахарные вершины на горизонте, ночная дорога в горах, кривые улочки Альбайсина, пещеры цыган на Сакро-Монте... А те, кто населял этот мир, – кузнецы и разбойники-бандолерос, судьи и карабинеры, – разве он не помнил их с детства?
Итак, это снова была его Андалусия. Еще раз предстояло ему открыть ее, завоевать, превратить в слова. Но теперь она виделась ему не такой – вернее, не только такой! – какой выглядела в неподвижном, древнем зеркале канте хондо.
В Андалусии, рождавшейся в нем теперь, поэзия не отделялась от быта, но как бы высвечивала быт изнутри. Сказка вырастала из жизни, чтобы снова в ней раствориться. Сквозь подробности житейского обихода вдруг проглядывала история. Пуническая война, задевшая эту землю своим крылом два с лишним тысячелетия тому назад, оживала на миг в смертельной схватке между участниками традиционного шествия ряженых на страстной неделе, – и судья, склонившись над мертвыми телами, констатировал деловито: «Погибло четверо римлян и пятеро карфагенян». Цыгане ковали стрелы и солнца, ангелы принимали участие в земных делах. Сама дева Мария могла бы в любой момент здесь появиться – разумеется, в нарядном платье, не хуже, чем у дочки алькальда, и в сопровождении какого-нибудь лица, пользующегося солидной репутацией, – ну, скажем, сеньора Педро Домека, почтенного виноторговца из Кадиса...
Простодушные, вольные, гордые люди – вот на ком стоял этот пленительный мир. Их дыхание согревало его, их страсть, отвага, мечта в нем господствовали... иных бы господ и не знать ему! Но всесильная смерть бродила и по его дорогам. Только здесь она не была скорбной женщиной в трауре. Здесь смерть носила тяжелые сапоги, и клеенчатую лакированную треуголку, и черный плащ, весь в пятнах воска от свечных огарков, при свете которых гражданские гвардейцы вглядываются ночью в лица свода жертв.
«Сомнамбулический романс» был лишь одной из первых попыток перелить этот мир в стихи. Возникали новые планы. Чтобы без помех обсудить их, Федерико с Хорхе Гильеном отправлялись гулять куда-нибудь за город.
Разгребая ногами шуршащие вороха коричневых, желтых, золотых листьев, дыша полной грудью – только осенью мадридский воздух бывает таким родниково-чистым! – брели они вдоль шоссе, убегающего к Гвадарраме. Федерико, сосредоточенный, непривычно суровый, говорил будто сам с собой, то умолкая на полуслове, то с полуслова же додумывая вслух. Мысль о целом цикле романсов одолевала его все неотвязней. Множество лиц и событий толпилось в памяти, и за каждым вставала Андалусия. Взять хотя бы женщину, по имени Соледад Монтойя, о которой рассказывали ему в детстве, – она умерла от разлуки, как умирают от болезни. Или Антоньито Камборьо, лихой лошадник и пьяница, живший неподалеку от Фуэнте Вакероса и по вечерам проезжавший мимо их окон... Сколько раз Федерико выбегал полюбоваться, как легко сидит он в седле, поигрывая небрежно веточкой ивы! А однажды утром его нашли на дороге мертвым. Говорили, что накануне он выпил больше, чем следовало, и свалился с коня, да так неудачно, что напоролся на собственный нож. Говорили и по-другому: у Антоньито было немало врагов, его же двоюродные братья от зависти к нему могли на все пойти. Какую версию предпочесть?
Хорхе Гильен умел слушать, умел, не изменяя себе, заражаться волнением Федерико. В его присутствии Федерико легче было разобраться в собственных мыслях. Они так хорошо понимали друг друга, что порой, не дожидаясь, пока Хорхе заговорит, а лишь поглядев на него сбоку, Федерико бросался в спор, задумывался либо воодушевлялся.
На одной такой прогулке он рассказал Гильену, что принялся за новый романс. Вот как это будет начинаться:
Их кони черным-черны, и черен их шаг печатный. На крыльях плащей чернильных блестят восковые пятна...Да, он так и назовет его: романс о гражданской гвардии. О тех, кто давно уже стал для него воплощением всего ненавистного – жестокости, насилия, смерти. Но гражданские гвардейцы – это, так сказать, один полюс романса. А другой полюс – цыгане.
Хорхе пробовал усомниться: опять цыгане? Не нуждается ли этот замысел в чем-то... ну, более характерном, что ли? Но тут Федерико был непреклонен. Да, опять и опять цыгане! Если б Хорхе был андалусцем, он не стал бы спрашивать почему. Потому что для настоящего андалусца цыгане не экзотика, не то кочевое, чуждое племя, какими кажутся они до сих пор жителям северных провинций страны. Оседлые андалусские цыгане давно породнились со всем народом, стали неотъемлемой его частью, больше того – самой поэтической частью народа. Сам дуэнде – андалусский домовой – вселился в этих людей, недаром из них вышли лучшие кантаоры, танцовщицы, тореро. Андалусец видит в цыгане живое воплощение тех качеств, которые он ценит превыше всего, даже если сам не в достаточной мере ими обладает. Способность безоглядно отдаваться страстям, родство со стихиями природы, врожденный артистизм, презренье к богатству и власти, а если сказать это все одним словом, так вольность – вольность! – вот что такое цыгане. Если Андалусия – песня, то цыгане в этой песне – припев.
Вечерело. Они поворачивали, спускались в город, зажигавший свои огни, подходили к дому Хорхе Гильена. Заслышав в прихожей их голоса, дочь Гильена – пятилетняя Тересита с радостным визгом бежала навстречу своему другу, а тот становился на четвереньки и начинал оглушительно лаять. Хорхе еще пытался продолжать серьезный разговор, но где там! Двое детей, один из которых, по глубокому убеждению Хорхе, был надеждой всей испанской поэзии, носились по комнатам, опрокидывая мебель, хохотали, дурачились и унимались не раньше, чем хозяйка дома, чтобы унять их, отвешивала каждому по увесистому шлепку.
Только тогда игра принимала более спокойный характер. Тересита вытаскивала из-под стола игрушечное пианино о шести клавишах, а Федерико, преисполнившись важности, давал ей уроки фортепьянной игры и пения одновременно. Одной рукой извлекая из пианино что-то вроде мелодии, а другой утирая слезы, он пел пронзительным голосом кукольного паяца прочувствованную песенку о двух ящерицах, сочиняемую на ходу.
Ящер плачет. Ящерка плачет. Ящер и ящерка в беленьких фартучках. Потеряла ящерка колечко обручальное Ай, колечко ее из свинца! Ай, ее колечко свинцовое!7
Открывая глаза, Федерико не сразу соображает, где он. Незнакомый потолок, не похожий ни на один из тех, какие привык он видеть над собой, просыпаясь – в Резиденции ли, в Гранаде ли, – залит солнечным светом, ослепительным и дрожащим. За окном женские голоса негромко переговариваются на чужом языке. А откуда-то издали приближается нарастающий гул, подкатывается вплотную... грохот! – и сразу оглушительный шорох, тут же перебиваемый новым нарастающим гулом... А! Он на морском берегу, в Кадакесе – рыбацком поселке, в гостях у Сальвадора Дали.
Вообще-то семья нотариуса Дали живет постоянно в городке Фигерасе, километров за двадцать отсюда, а к морю перебирается только на лето. Но когда Сальвадор известил, что в этом, 1925 году приедет на пасху не один, а с другом-поэтом, ни разу не бывавшим в Каталонии, решено было принять гостя в Кадакесе, чтобы дать ему налюбоваться вволю видами здешних мест.
Места и в самом деле необыкновенные. Справа – если глядеть с моря – отроги Восточных Пиренеев подступают к самому берегу и превращаются в катастрофическое нагромождение рвущихся вверх и вкось утесов, скал, каменных глыб, словно вывороченных из недр земли каким-то гигантским взрывом. Взрыв этот, однако, не задел Кадакеса; дойдя до него, горы смиряются, переходят в холмы – покатые, голые, вереницей слонов огибающие бухту, по берегам которой разбросаны хижины рыбаков, а в глубине возвышается белая вилла сеньора Дали. Левее, к югу, ландшафт еще мягче, там оливковые рощи и виноградники, совсем как где-нибудь под Малагой. И все это зрелище, вставленное в общую раму из черно-зеленого с проседью моря и бездонного неба немыслимой голубизны, можно охватить одним взглядом.
Окаменевшее буйство изверженных горных пород, неумолкающий голос моря, древний промысел рыбаков, виднеющиеся кое-где на холмах развалины стен, построенных еще греками, сообщают природе Кадакеса нечто библейское, вечное. Федерико впитывает ее в себя всеми порами. По утрам, когда Сальвадор запирается у себя в мастерской на чердаке, а отец его, повязав фартук, уходит возиться в саду, гость часами бродит вокруг поселка. То он поднимается к остаткам циклопических стен, то забирается в скалы, где чувствуешь себя точно в жерле потухшего вулкана, а то просто сидит на песке, завороженно глядя, как волна подкатывается, опрокидывается – и целая шеренга белых лохматых пуделей выбегает на берег, кувыркаясь и уменьшаясь в размерах.
С морем у Федерико отношения сложные: оно и отталкивает его и влечет одновременно. Пульсирующая, живущая своей загадочной жизнью стихия кажется ему враждебной, подчас внушает непреодолимый ужас. Перед лицом этой бескрайности и бездонности Федерико ощущает пронзительную тоску по Гранаде, по возделанной, защищенной от бурь долине, по родному, обжитому миру детства. И все-таки его вновь и вновь тянет к морю, как мальчишкой тянуло, замирая от головокружения, смотреть вниз с башен Альамбры.
А между тем, куда бы ни пошел Федерико, за ним внимательно и ревниво следит пара черных глаз, принадлежащих Анне Марии, сестре Сальвадора. Девчонка, несколько лет назад беззастенчиво рассматривавшая Федерико в столовой Рези, превратилась в подростка – угловатого, обидчивого. Старший брат – ее идол, и ревнивое чувство у Анны Марии вызвано тем непривычным восхищением, с которым говорит он о своем друге. Послушать его, так этот андалусец – гений, чуть ли не такой же, как сам Сальвадор. Почему же тогда он ведет себя как простой смертный, не обнаруживая ни тщеславия, ни самовлюбленности, ни сатанинской гордыни – ни одной из тех черт, с которыми, как с неизбежными спутниками подлинной гениальности, вынудил примириться Анну Марию ее обожаемый брат?
Анна Мария старается не поддаваться добродушию андалусца, его открытой улыбке. Не без тайного злорадства сравнивает она широкое, почти квадратное лицо Федерико с точеным профилем Сальвадора, неуклюжесть, приметную в походке гостя, – с небрежным изяществом, сквозящим в каждом движении брата. Впрочем, в движениях Федерико, если всмотреться, есть, пожалуй, своя косолапая грация, какой обладают котята, щенки да очень маленькие дети.
Однажды как-то она застает Федерико на морском берегу в тот самый момент, когда неожиданно большая волна окатывает его – задумавшегося или задремавшего – с ног до головы. Надо видеть, как он шарахается, какая резкая бледность разливается по его смуглому лицу! И это мужчина?! – готова вознегодовать Анна Мария, бросаясь к нему на помощь, но, когда Федерико, все еще не опомнившись, совсем по-детски хватает ее. за руку, раздражение вдруг пропадает, сменяется незнакомым чувством, от которого сжимается сердце.
Как раз в этот день за обедом Сальвадор вспоминает, что Федерико привез с собой недавно законченную пьесу в стихах – да, народный романс в трех эстампах! – так вот, не соблаговолит ли он почитать ее нам? «В эстампах так в эстампах», – сеньор Дали, украдкой взглянув на садовые ножницы, восклицает с преувеличенным энтузиазмом, что он был бы счастлив послушать сочинение гостя. Вот и дочь тоже... но дочь, потупясь, строптиво молчит, и тогда Федерико кивает: хорошо, он согласен.
Чтение происходит здесь же в столовой, под улыбающейся из своей ниши старинной статуей божьей матери. Нотариус захвачен с первых минут, лицо его выражает бесхитростное удивление: не ожидал! «Ну, что я вам говорил?!» – усмехается Сальвадор. Анна Мария смотрит на Федерико в упор, но видит не его, а белую комнату в старом гранадском доме, видит разных людей, поочередно возникающих перед ее внутренним взором. Видит донью Ангустиас, до смерти перепуганную тем, что приемная дочь ее Мариана вышивает какое-то знамя для своих друзей-либералов. И беззаботных сестер – хохотушку Ампаро и сдержанную Лусию, не вовремя пришедших навестить свою старшую подругу Мариану Пинеду. И восемнадцатилетнего Фернандо, влюбленного в Мариану так беззаветно, что ради нее он готов пожертвовать даже любовью к ней... И Мариану в платье цвета светлой мальвы, Мариану, охваченную тревогой, Мариану, спасающую от гибели своего возлюбленного, заговорщика Педро де Сотомайора. И все они – в нем одном, в этом вот человеке, который показался Анне Марии таким беспомощным!
Второй эстамп Федерико читает уже при зажженной лампе – почти наизусть, как и раньше, лишь изредка наклоняясь к разложенным перед ним четвертушкам бумаги. За окнами не умолкает шум волн – или это порывы дождя и ветра хлещут по окнам старого дома в Гранаде? Там, в гостиной, играют дети, они вспоминают наперебой старинный романс о Лусенском герцоге, о девушке, вышивавшей знамя, о смерти, и слова романса – наивные, скорбные – звучат недобрым предвестием для Марианы Пинеды.
Но вот, наконец, спасенный ею дон Педро – суровый, сильный, располагающий к себе человек. Он полон признательности и нежности, Мариану он искренне любит, а Свободу – боготворит, и его ли вина в том, что любовь его поневоле выглядит слишком рассудочной и спокойной рядом со всепоглощающей, самозабвенной женской любовью? И что до этого Мариане, которая счастлива в эти минуты так, как только может быть счастлива женщина!
Собираются заговорщики. Ждут сигнала к началу восстания, но приходят дурные вести. Подмога из Кадиса не прибудет, в Малаге генерал Торрихос стал жертвой предательства, с выступлением придется повременить. Нужно расходиться, как вдруг – удары дверного молотка. Это Педроса, королевский судья, имя которого наводит ужас на всю Гранаду. Можно скрыться через потайную дверь, только что же будет с Марианой? «Нельзя ее одну оставить нам!» – восклицает кто-то из заговорщиков, но Педро решительно заявляет: «Так надо! Что скажем мы, когда нас здесь найдут?» Ах, он, конечно, прав, нельзя же из-за женщины ставить под угрозу восстание...
И женщина остается одна. Лицом к лицу встречает она Педросу, давно уж не дающего ей покоя своим вниманием. Начинается разговор, состоящий из незначительных фраз и полных глубокого значения пауз, во время которых два человека ведут глухую, отчаянную борьбу друг с другом. Педроса играет с Марианой, словно кошка с пойманной птицей, каждый его намек иглой вонзается в ее сердце. Вот как бы невзначай поминает он некоего дона Педро де Сотомайора – вожака либералов, котоporo Педроса надеется вскоре схватить... И вдруг, не сдерживаясь более, грубо обнимает ее, а встретив отпор, раскрывает свои карты. Знамя, вышитое Марианой, найдено в одном доме в Альбайсине. Мариана изобличена, но Педроса может и не губить ее. Пусть лишь она ответит, наконец, на его любовь, ну и, конечно, назовет имена друзей-заговорщиков.
«Никогда!» – восклицает Мариана в исступлении. Да, она вышила знамя своими руками – «вот этими руками, смотри, Педроса!» – и она знает поименно тех доблестных рыцарей, которые собирались поднять его в Гранаде, но не выдаст их даже под пыткой!
Объявив Мариану задержанной, Педроса уходит. Бежать? Поздно: стража у всех дверей. Проснулась и плачет маленькая дочь, бушует непогода на улице, и невозможно спастись, и немыслимо изменить себе, и ничего уже нельзя сделать. Так вот как подходит смерть!
Не успевает Федерико произнести: «Занавес быстро опускается», как странный сдавленный звук заставляет всех повернуться к Анне Марии. Прижимая к лицу ладони, натыкаясь на стулья, она выбегает из комнаты. Отец смотрит ей вслед озабоченно, Сальвадор – с легким неудовольствием. Федерико устало улыбается. Сейчас он выглядит гораздо старше своих лет.
8
Мерный гул моря преследует Федерико и дома, в Гранаде. Стоит только зажмуриться – и снова покатятся волны, поплывут перед глазами дикие скалы, бурые нагие холмы. И белые домики рыбаков. И длинные смоляные косы играющей с волнами Анны Марии – «маленькой морской сирены», как прозвал ее Федерико, когда они окончательно подружились.
Прежние замыслы на время оттеснены. В сказочных образах, навеянных Кадакесом, пробует Федерико найти соответствие некоторым из своих постоянных, годами вынашиваемых мотивов. Летом 1925 года он задумывает большую поэму.
«Эта поэма называется „Сирена и карабинер“, – сообщает он спустя несколько месяцев в письме Хорхе Гильену. – В ней рассказывается, как один карабинер выстрелом из ружья убил маленькую морскую сирену. Это трагическая идиллия. Под конец там будет великий плач сирен, плач, который вздымается и низвергается, словно вода в море, меж тем как карабинеры кладут мертвую сирену под знаменами в штабе».
Он набрасывает несколько начальных строф:
Петухи и баркасы раскрыли свои крылья из льна и перьев. Стайки дельфинов играют ныряя. Круг вечерней луны отрывается постепенно от холма из шорохов и бальзама. На берегу у воды поют матросы песни из бамбука с припевом из снега. Перепутанные карты блестят в их взорах, там Китай без воздуха и Эквадор без света. Медные трубы вонзают свои наконечники в румяное облако самого дальнего неба... Медные трубы, на которых играют карабинеры, с морем и его обитателями враждуя вечно.И все же Федерико так и не напишет этой поэмы. Андалусия вновь завладеет им ревниво и безраздельно, заставит позабыть обо всем на свете, кроме красноватых ее дорог, прохладных сонных равнин и гор, окутанных поутру синим туманом, исчезающим к полудню, кроме одиноких селений и городов, похожих на вдовствующих, старящихся красавиц, кроме ее людей, таких же, как и сам он, оливково-смуглых, суеверных, беспечных. А в награду за верность она будет особенно щедра к нему, снова опьянит его песнями, расскажет десятки историй, подстроит неожиданные встречи, пойдет на множество женских уловок, чтобы вернуть его к «Романсеро». И он вернется. И родная земля в это лето покажется ему той заморской тропической почвой, в которую, говорят, достаточно палку воткнуть – и вырастет дерево.
Уже осенью как-то он возвращается вместе с Пакито из дальней прогулки по Сьерра-Неваде. Устав за день, братья подсаживаются в поравнявшуюся с ними повозку, которую тащит пара мулов почтенного возраста. Вечереет; снеговая вершина на голубом небе сверкает, как раскаленная добела; из ущелий поднимается розовый пар. Поскрипывают колеса, шуршат камешки, скатываясь с обрыва. Погонщик-мулеро то клюет носом, то, словно проснувшись, затягивает песню, состоящую всего из трех строк:
Да, я увел ее к реке, думал я – она невинна, но она – жена другого!Подремлет – и опять: «Да, я увел ее к реке...» Федерико молчит, покачиваясь, а младшему брату хочется поговорить. Что думает Федерико о студенческих волнениях, которые произошли в Мадридском университете в начале нового учебного года? Шутка ли – освистали самого представителя Военной директории, генерала Вальеспиноса, во всех аудиториях разбрасывали листовки, призывающие к борьбе против диктатора и монархии! А какой скандал разыгрался только что на медицинском факультете, куда заявился другой высокий посетитель, генерал Мартинес Анидо! Студенты кричали: «Убийца!», «Бандит!» – до тех пор, пока барселонский мясник не ретировался с позором. Но всего интереснее, что даже зачинщики сравнительно легко отделались – студенчество и профессора сумели добиться освобождения арестованных и возвращения высланных. Не кажется ли Федерико, что подобные факты свидетельствуют о начавшемся кризисе диктатуры, позволяют надеяться на смягчение режима?
«Да, я увел ее к реке...» Нет, старший брат не разделяет этих надежд, просто ему лень спорить. Ему не верится, что правительство пойдет на уступки внутри страны теперь, когда оно наконец-то – после стольких провалов! – добилось военных успехов в Марокко. Удачная высадка в бухте Алусемас, наступление превосходящими силами на войска Абд эль-Керима – и вот уже патриотическая гордость взыграла в обществе, и многие из тех, кто вчера лишь смеялся над Мигелито, заявляют, что он как-никак смыл позор Аннуала. Газеты трубят о великой победе в Северной Африке, диктатор принимает поздравления и распределяет лавры, никто словно и не помнит о тысячах мертвецов, оставшихся в африканских песках.
«Да, я увел ее к реке...» Братья молчат. Дорога опускается в долину, тонущую в сером сумраке; из-за Сьерра-Невады выходит луна, а на самых высоких гребнях еще дотлевает закат.
А какое-то время спустя в памяти Федерико прорастает несколько слов. Он не помнит, откуда эти слова, да и не старается вспомнить, всецело поглощенный их смыслом. «Думал я – она невинна, но она – жена другого!» – не испанец навряд ли поймет, в чем тут обида. Нужно знать неписаный кодекс: настоящий мужчина влюбляется только в девушку. Замужняя женщина, обманом добившаяся его любви, наносит урон его чести. Такая женщина заслуживает того, чтобы обойтись с ней, как с продажной.
Несправедливо? Жестоко? Сейчас Федерико об этом не думает. Сейчас он – тот человек, что влюбился в чужую жену, приняв ее за невинную девушку. Упоение женским телом изведано им, оскорбленная гордость, неутолимая ревность – и рука его сотрясается, выводя стихи, от которых у него самого пересыхает в горле.
Проходит еще несколько дней. Однажды утром Федерико зовет к себе брата, и по его голосу тот сразу догадывается зачем. Так и есть – едва дождавшись, пока Франсиско усядется, Федерико читает ему только что законченный романс «Неверная жена»:
И в полночь на край долины увел я жену чужую, а думал – она невинна. То было ночью Сантьяго, и, словно сговору рады, вокруг фонари погасли и замерцали цикады. Я сонных грудей коснулся, последний проулок минув, и жарко они раскрылись, кистями ночных жасминов. А юбка, шурша крахмалом, в ушах звенела, дрожала, как полог тугого шелка под сталью пяти кинжалов. Врастая в безлунный сумрак, ворчали деревья глухо, и дальним собачьим лаем за нами гналась округа. За голубой ежевикой, у тростникового плеса, я в белый песок впечатал ее смоляные косы. Я сдернул шелковый галстук, она наряд разбросала. Я снял ремень и револьвер, она – четыре корсажа. Была нежна ее кожа, белей лилейного цвета — и стеклам в ночь полнолунья такого блеска не ведать. А бедра ее метались, как пойманные форели, то лунным холодом стыли, то белым огнем горели. И лучшей в мире дорогой до первой утренней птицы меня этой ночью мчала атласная кобылица... Меня не покинул разум, а гордость идет цыгану. Слова, что она шептала, я вам повторять не стану. В песчинках и поцелуях ушла она на рассвете. А гневные стебли лилий клинками рубили ветер. Я вел себя так, как должно, цыган до смертного часа! Я дал ей ларец на память и больше не стал встречаться, запомнив обман той ночи в туманах речной долины — она ведь была замужней, а мне клялась, что невинна.Франсиско молча разводит руками.
– И подумать только, – говорит он, переведя дух, – что ты сделал все это из песенки того мулеро... а я-то на нее и внимания не обратил!
– Какая песенка? – удивляется Федерико. – Какой мулеро?
Напрасно пытается младший брат восстановить в его памяти обстоятельства прогулки в Сьерра-Неваду – Федерико решительно не помнит никакой песенки. История с неверной женой, утверждает он, выдумана им сначала до конца. Настойчивость Пакито раздражает его, и, почувствовав это, брат растерянно замолкает.
Неловкую паузу прерывает дон Федерико, входящий с развернутой газетой в руках.
– Погодите с вашими стихами! – восклицает он добродушно. – Окончательная победа в Марокко! И сколько наград, вы послушайте! Примо де Ривере – целых два ордена: Большой лавровый крест святого Фердинанда и «Морская слава». А один полковник Иностранного легиона, тридцати четырех лет всего, производится в генералы – такого молодого генерала в Испании еще не было! Кстати, Пакито, он твой тезка – Франсиско Франко.
9
В марте 1926 года Федерико снова в Гранаде.
«Я сейчас много работаю, – пишет он Хорхе Гильену, получившему к этому времени кафедру в Мурсии. – Заканчиваю „Цыганский романсеро“. Новые темы и старые неотвязные чувства. Гражданская гвардия разъезжает взад и вперед по всей Андалусии. Хотелось бы мне прочитать тебе любовный романс о неверной жене или „Пресьосу и ветер“.
«Пресьоса и ветер» – это цыганский романс, который представляет собою миф,сочиненный мною. В этой главе романсеро я пытаюсь сочетать цыганскую мифологиюс откровенной обыденностью текущего времени. Получается нечто удивительное, но, надеюсь, и по-новому прекрасное. Я хочу добиться того, чтобы образы, которыми я обязан своим героям, были понятыими, были видениями того мира, где они живут, хочу сделать романс слаженным и словно камень крепким.
...Останется книга романсов, и можно будет сказать, что это книга об Андалусии. Уж это так! Андалусия не поворачивается спиной ко мне...»
А еще через месяц в компании с Хорхе Гильеном и Гильермо де ла Toppe Федерико отправляется в старый кастильский город Вальядолид по приглашению тамошнего Атенея. «Откуда они меня знают? – недоумевает он всю дорогу. – И с чем, собственно, буду я там выступать?»
Друзья помалкивают. Не говорить же, что вальядолидцы действительно не слышали даже имени Гарсиа Лорки (а кто виноват, как не сам он, годами не отдающий в печать лучшие свои стихи?) и пригласили его исключительно по настоянию Гильермо и Хорхе, лишь на этом условии согласившихся прочитать лекции о современной испанской литературе.
Встречающий их президент Атенея, дон Эврике, приветлив и деловит. «Сегодня, восьмого апреля, ваша лекция, дон Хорхе; любители поэзии ожидают ее с нетерпением. А потом наш... м-м... молодой друг почитает свои стихи?.. Ну и отлично!»
Поглядев на заполняющийся зал через дырочку в занавесе, Федерико приходит в уныние. В основном пожилые люди; лица как равнина Ла-Манчи – суровые, неподвижные, в морщинах. К таким не подступишься с песенками! Но тут Хорхе Гильен, бледный и важный, поднимается на трибуну, и Федерико скрывается в комнату за сценой – припомнить что-нибудь подходящее для этой аудитории. Прочесть им, что ли, «Элегию донье Хуане Безумной»?
Негромкая, размеренная речь Хорхе еле долетает сюда, но какие-то его слова заставляют Федерико прислушаться. Гильен говорит занятные вещи – о кризисе современной поэзии, раздробившейся на десятки течений и школ, об утрате единых критериев, о все возрастающем разрыве между искусством для избранных и искусством для всех. Где он, тот поэт, который сумеет преодолеть этот гибельный разрыв и станет народным, не отказавшись от завоеваний своих предшественников?
Ах вот как, такой поэт уже существует?.. Ему незачем ни порывать с традицией, ни отбрасывать достижения учителей. Он носит в себе и видит перед собою чудесный народ. И он принимается петь, как поет народ его Андалусии, и он превращает в стихи весь мир своей Андалусии: горы, небо, человека и призрак. Он не копирует их – он их поет, воображает, воссоздает; короче говоря, он претворяет их в поэзию. Но в каком великолепном единстве предстают земные стихии в этом творчестве, которое, в свою очередь, вобрало в себя поэтическое мастерство всех эпох!
Андалусец – значит, это он о Хименесе. С чего только Хорхе взял, что их общий учитель не печатает своих стихотворений, предпочитая исполнять их устно? Хуану Рамону это вовсе не свойственно. Постой, постой!.. И вдруг Федерико явственно различает свою фамилию, названия своих еще не опубликованных книг. Приоткрыв дверь, он с возрастающим ужасом вслушивается в незнакомо звенящий голос друга, сопровождаемый усиливающимся ропотом публики:
– Волнующее мгновение... Прежде чем войти уверенным шагом в Историю, он появляется перед нами. Нет еще ни официальной торжественности, ни заранее предрешенного мнения. И мы с вами не пассивные свидетели посвящения, нам выпала высочайшая честь быть активными, пылкими открывателями. Пройдут года, и мы сможем сказать: «Мы провидели в Федерико Гарсиа Лорке великого поэта, каким ему предстояло стать. Мы оказались теми, кто создает, а не теми, кто хоронит». Это звучит патетично и вместе с тем так просто: Федерико Гарсиа Лорка большой поэт, как дважды два – четыре. Истории не останется ничего иного, как только сказать: «Аминь».
Молчание. Несколько жидких хлопков, неразборчивые возгласы, шум. И почти сразу же за стеной, в коридоре, – торопливые шаги и два голоса. Один голос знаком Федерико – это президент Атенея, дон Энрике, взывает растерянно:
– Ну куда же вы, сеньор Коссио? Дон Мануэль! Погодите немного!
– Простите, дон Энрике, но я пойду, – отвечает другой, старческий голос – если бы еще злой, брюзгливый, а то он только дрожит от обиды, совсем по-детски, и колющая жалость на миг вытесняет из сердца Федерико все прочие чувства. – Как-то горько мне все это слушать. Знаю, знаю, исконная наша страсть к преувеличениям, задор молодости... И все же, когда в стране Манрике, и Гарсиласо, и Лопе – да что перечислять! – объявляют чуть ли не гением человека, выпустившего одну книгу юношеских стихов!..
– Все мы удивлены, – соглашается президент Атенея, – сеньор Гильен пользовался до сих пор репутацией вдумчивого и строгого критика. А все-таки, дон Мануэль, задержитесь хоть ненадолго, прошу вас!.. Ну, вот и прекрасно! А я отправлюсь за нашим гением.
Чтобы избежать встречи с ним, Федерико опрометью выскакивает из комнатки, делает несколько шагов в полутьме кулис и внезапно оказывается на сцене, лицом к лицу с публикой, которая разом смолкает при его появлении. Отступать некуда. Он всей кожей чувствует множество глаз, берущих его на прицел, но именно это чувство и возвращает ему присутствие духа. Побеждая смятение, нарастает в нем знакомая страсть: объединить всех этих людей, заставить их радоваться, тосковать, мечтать вместе с собой! Шагнув к самому краю сцены, Федерико начинает читать стихи – так, как читал бы одному-единственному человеку.
Он читает стихи о канте хондо, следя за тем, как разглаживаются морщины на лицах, напряженно вслушиваясь не в аплодисменты, взрывающиеся после каждого стихотворения, а в тишину, паутинкой повисающую в зале, как только он вновь открывает рот. Читает отрывки из книги «Песни» – полную черной тоски «Песню всадника» и ту, задорную, которую посвятил Ирене Гарсиа, служанке, и горькую – «Деревце, деревцо»:
Деревце, деревцо к засухе зацвело. Девушка рвала оливы над вечереющим полем. И обнимал ее ветер, ветреный друг колоколен. На андалусских лошадках ехало четверо конных, крылья чернели на куртках, на голубых и зеленых. «Едем, красавица, в Кордову!» Девушка им ни слова. Три матадора шагали, станом – лоза полевая; шелк отливал апельсином, сталь серебром отливала. «Едем в Севилью, красавица!» Девушка им ни слова. Когда опустился вечер, лиловою мглою омытый, юноша вынес из сада розы и лунные мирты. «Радость, идем в Гранаду!» И снова в ответ ни слова. Осталась девушка в поле стоять оливой в тумане, и ветер серые руки сомкнул на девичьем стане. Деревце, деревцо к засухе зацвело.Но лишь окончательно уверившись в своей власти над аудиторией, он решается вывести на подмостки Пресьосу-цыганочку, ветер и море:
Пергаментною луною Пресьоса звенит беспечно среди хрусталей и лавров бродя по тропинке млечной. И, бубен ее заслыша, молчанье бежит в обрывы, где море в недрах колышет полуночь, полную рыбы. Стрелки на черных утесах застыли в сонном молчаньи на страже у белых башен, в которых спят англичане. А волны, цыгане моря, играя в зеленом мраке, бросают к узорным гротам сосновые ветви влаги. Пергаментною луною Пресьоса звенит беспечно. И оборотнем полночным к ней ветер спешит навстречу. Нагой Христофор-святитель, в венце неземных звучаний, своей колдовской волынкой цыганочку он встречает. – О, дай мне скорей, Пресьоса, откинуть подол твой белый! Раскрой в моих древних пальцах лазурную розу тела!Кто это выдумал, будто кастильцы суровы и замкнуты? Поглядите-ка на них сейчас, когда они заворожены сказкой, рождающейся у них на глазах и увлекающей их в свой мир!
Пресьоса роняет бубен И птицей летит по склонам. Вдогонку ветер несется, свистя мечом раскаленным. Застыло дыханье моря, забились бледные ветви, запели флейты ущелий, и гонг снегов им ответил. Пресьоса, беги, Пресьоса! Все ближе зеленый ветер! Пресьоса, беги, Пресьоса! Он ловит тебя за плечи! Сатир из звезд и туманов в огнях сверкающей речи... Пресьоса, полная страха, бежит по крутым откосам к высокой, как сосны, башне, где дремлет английский консул. А следом, подняв тревогу, на крики спешат солдаты в заломленных набок шляпах, в широких плащах крылатых. Несет молока ей консул, холодной воды в бокале, подносит ей рюмку водки — Пресьоса не пьет ни капли. Она говорит, рыдая, про все, что случилось ночью... А ветер хрипит на кровле и рвет черепицу в клочья....Поздно ночью, когда банкет в честь Гарсиа Лорки и его друзей подходит к концу, когда речи и тосты, произнесенные вальядолидцами, далеко оставили за собой все сказанное Хорхе Гильеном, Федерико тихонько просит Гильермо узнать, нет ли среди присутствующих сеньора Мануэля Коссио.
– Сеньора Коссио из газеты «Кастильский Север»? Его здесь нет, он ушел, как только было прочитано последнее стихотворение. А что такое?
– Да нет, ничего, – растерянно говорит Федерико. Лицо его сумрачно.
10
Свое двадцативосьмилетие Федерико встречает с родными, в отцовской усадьбе Даймус, затерянной среди оливковых рощ и свекловичных полей. Лето выдалось на редкость жаркое и сухое – зелень выцвела, почва растрескалась, и кажется, что равнина вот-вот заполыхает со всех четырех концов. А на душе у Федерико холодно и тревожно.
Двадцать восемь лет! Не время ли задуматься, оглядеться, посмотреть на себя со стороны? Не пора ли остепениться? – читает он каждый день в суровом взгляде отца, в глазах матери, любящих и печальных. Да и в самом деле – ну, что он собой представляет, великовозрастный «сеньорито» без определенных занятий?! Автор двух книг, об одной из которых стыдно вспомнить, а другую он давным-давно перерос... Автор двух пьес – первая провалилась, а вторая не может увидеть сцены: сам Мартинес Сьерра, наговорив комплиментов, сказал откровенно, что только самоубийца решится в нынешних условиях поставить «Мариану Пинеду», которая, несомненно, будет воспринята как памфлет против диктатуры Примо де Риверы («Свобода? Конституция? – да вы что, с луны свалились, дружище?»)... А еще он – «последний хуглар», как прозвали его друзья, сочинитель песенок и романсов – их заучивают на память, передают из уст в уста; говорят, даже испанские студенты в Париже декламируют «Неверную жену» на вечеринках, – но следует ли удивляться тому, что родителям эта слава кажется сомнительной и неверной?
Ну, до каких пор можно жить на средства отца, во всем от него зависеть и всякий раз, обращаясь к нему за деньгами, чувствовать себя мальчишкой?
Нет, решает Федерико, необходимо что-то предпринять. Юриспруденция не для него, но разве не смог бы он, к примеру, преподавать литературу, как Хорхе Гильен?.. Идея! Именно к Хорхе Гильену и обратится он за советом!
«Я решил, —без предисловий пишет он другу, жирной чертой подчеркивая слово «решил», – подготовиться к конкурсу на должность преподавателя литературы, так как думаю, что имею к этому призвание (оно постепенно во мне рождается) и способен воспламенять слушателей.
В то же время мне хочется стать независимым и завоевать самостоятельное положение в семье, которая, разумеется, исполняет любые мои желания и всячески облегчает мне жизнь. Как только я сказал об этом дома, родители мои очень обрадовались и обещали, если я вскоре начну заниматься, дать мне денег на поездку в Италию, о чем я мечтаю уже несколько лет.
Я полон решимостии хочу, чтобы эта решимость стала еще сильней, но я не имею понятия о том, как делаются дела.Мне приходится сейчас отчаянно ломать голову над осуществлением этого плана, потому что я ничего не смыслю в чем-либо, кроме Поэзии. И вот почему я обращаюсь к тебе. Как ты думаешь, что нужно мне для того, чтобы, самым серьезным образом подготовившись, стать учителем... да, учителем поэзии? Что должен я предпринять? Куда направиться? Что изучать? За какие наукивзяться? Отвечай».
Хорхе не медлит с ответом. Он советует Федерико начать с планомерного изучения необходимых трудов, посылает их список, однако предупреждает, что дождаться подходящей вакансии не так-то просто – нужно запастись терпением. Последнее не устраивает Федерико – видимо, Хорхе недостаточно представляет себе его положение.
«Не считаешь ли ты, – спрашивает он Гильена, наспех поблагодарив его за советы, – что, помимо упорядоченного чтения, мне следовало бы поработать с кем-то? Поехать куда-нибудь? Выступить с лекциями? Дело в том, что сидеть в Гранаде, почитываяи ожидая вакансии, кажется мне нестерпимым – ты понимаешь?.. Кроме того, надолго это затянется? Вот что важно. Потому что мне необходимо определиться.Представь себе, что я захотел бы жениться. Мог бы я позволить это себе? Нет. И вот вопрос, который мне нужно решить... Не думай, я не связансейчас ни с какой девушкой, но ведь этого не миновать!»
И в конце письма Федерико опять возвращается к мыслям, не дающим ему покоя. Может быть, в самом деле начать выступать с лекциями? За границей? В Париже – это было бы лучше всего! Попытаться, что ли?
«Родители дадут мне столько денег, сколько я попрошу и даже больше, как только увидят, что я вступил на путь... как бы выразиться... официальный. Вот именно, официальный!
Но впервые они категорически возражают против того, чтобы я и впредь сочинял стихи, не думая более ни о чем. Малейшего усилия с моей стороны достаточно, чтобы они остались довольны. Поэтому я и хочу заняться чем-нибудь... официальным».
Однако теперь эти мысли уже не владеют им безраздельно. Житейские заботы отступают на задний план, как только он переходит к тому, что волнует его больше всего на свете. Голос, который слышится Хорхе Гильену, пробегающему глазами его письмо, вдруг делается таким, каким Федерико читает свои стихи. Да они и похожи на стихи, эти строки, где о поэзии говорится на собственном ее языке: «...Настоящая поэзия – это любовь, усилие и самоотвержение.Наполнять поэзию трубными звуками и украшать ее драпировками – все равно что превращать академию в публичный дом. Только тебе я могу сознаться, что ненавижу орган, лиру и флейту. Люблю человеческий голос. Одинокий человеческий голос, донага раздетый любовью...
...Мне очень нравятся твои стихи. И все-таки я думаю, что все мы грешны перед поэзией. Еще не написано стихотворение, которое пронзило бы сердце, как шпага...
...Я тоже грешен. Я пустил на ветер много чудесных поэтических мгновений, не в силах вытерпеть жара, который жег мне руки. Но теперь я переменился и с каждым днем буду меняться все сильнее». В этом же письме Федерико посылает другу новый романс. Он называется «Схватка» и начинается так:
В черных глубинах ущелья две альбасетских навахи, красуясь вражеской кровью, блестят, как рыбы во мраке. Под острой иглою света из резкой листвы возникли морды коней исступленных, профили всадников диких. Горестно плачут старухи под сенью древней, оливы. Неистовый бык раздора кидается на обрывы...Дойдя до подписи: «Федерико (неисправимый поэт)», Хорхе вздыхает с некоторым облегчением. Быть может, суровый приговор, который предстоит ему вынести утопическим проектам друга, окажется для того не таким уж тяжким ударом?..
И действительно, ни в одном из последующих писем Федерико не заикается больше о том, чтобы сделаться преподавателем или отправиться с лекциями за границу. Как раз в это время к нему в гости приезжает приятель по Резиденции, поэт Эмилио Прадос – «охотник за облаками», как назвал его Федерико в посвящении к одному из стихотворений. Сейчас он обосновался в Малаге и там вместе с Мануэлем Альтолагирре затеял издание журнала «Литораль», которому предстоит – Эмилио головой ручается – стать знаменем всей молодой испанской поэзии. Издатели «Литораля» намерены выпускать также отдельные поэтические сборники. Им уже обещал свою новую книгу Рафаэль Альберти, получивший в прошлом году Национальную премию по литературе. А другая книга... если говорить начистоту, за нею Прадос и явился в Гранаду.
Ну, конечно, кому не известно, как противится Федерико изданию своих сочинений! Но ведь рано или поздно придется на это пойти – мы живем не во времена трубадуров. Тем более что, отказываясь публиковать стихи, Федерико все равно не в силах помешать их распространению в списках, сделанных по памяти, с ошибками и искажениями! Так не лучше ли взять дело в собственные руки?
Приготовившийся к длительной осаде, Эмилио озадачен легкостью, с какою на этот раз удается сломить сопротивление Федерико. Боясь, как бы приятель не передумал, он торопится в Малагу со своим трофеем – школьной папкой, набитой исписанными листочками, а Федерико садится заканчивать «Цыганский романсеро».
Андалусская осень уже позеленила поля, склоны гор усыпаны нарциссами и гиацинтами, а Федерико все не спешит в Мадрид, и родители видят в этом доброе предзнаменование. Сын с утра до ночи занимается в своей комнате – глядишь, и дождется вакансии... Однажды утром донья Висента, волнуясь, протягивает ему конверт, надписанный незнакомой рукой, – из Вальядолида, университетского города. Уж не извещение ли о конкурсе, не официальное приглашение ли? Но Федерико достает из конверта номер газеты «Кастильский Север», и мать, читая через его плечо строки, обведенные красным карандашом, испытывает смешанное чувство – разочарования и гордости.
«Этот вечер, – напечатано там, – стал для меня чудесным открытием. Федерико Гарсиа Лорка еще неизвестен. Не пришло еще время для того, чтобы дети пели хором его романсы, а девушки повторяли тайком его песни. Но такой день наступит, и тогда я смогу сказать: „Я был одним из первых, кто видел его и слышал, и я не ошибся“.
И – подпись: Мануэль Коссио.
11
«Сеньору Хорхе Гильену, профессору литературы в университете города Мурсии.
Гранада, 8 ноября 1926 г.
Гильен! Гильен! Гильен! Гильен!
Зачем покинул ты меня?
Нехорошо. Я все время жду письма от тебя, а письма нет. Ты знаешь, что мои стихи ужев типографии?
...Тем не менее не могу не послать тебе этот отрывок из «Романса о гражданской гвардии», который я сейчас сочиняю.
Я начал его два года тому назад... помнишь?
Их кони черным-черны, и черен их шаг печатный. На крыльях плащей чернильных горят восковые пятна. Надежен свинцовый череп — заплакать жандарм не может; проходят, стянув ремнями сердца из лаковой кожи.Это пока еще пробный кусок. А дальше.
Полуночны и горбаты, несут они за плечами песчаные смерчи страха, клейкую тьму молчанья. От них никуда не деться — мчат, затая в глубинах тусклые зодиаки призрачных карабинов. О звонкий цыганский город! Ты флагами весь увешан. Желтеют луна и тыква, вскипает настой черешен. И кто увидал однажды, забудет тебя едва ли, город имбирных башен, мускуса и печали! Ночи, колдующей ночи синие сумерки пали. В маленьких кузнях цыгане солнца и стрелы ковали. Раненый конь в тумане печаль поверял полянам. В Хересе-де-ла-Фронтера петух запевал стеклянно. И крался проулками тайны ветер лесных одиночеств в сумрак, серебряный сумрак ночи, колдующей ночи. Иосиф и божья матерь к цыганам спешат в печали — они свои кастаньеты на полпути потеряли. Мария в бусах миндальных, как дочь алькальда, нарядна, шуршит воскресное платье, блестит фольгой шоколадной. Иосиф плащ развевает в толпе танцоров цыганских. А следом Педро Домек и три царя персианских. На кровле грезящий месяц. дремотным аистом замер. Взлетают огни и флаги над сонными флюгерами. В глубинах зеркал старинных рыдают плясуньи-тени. В Хересе-де-ла-Фронтера — полуночь, роса и пенье. О звонкий цыганский город! Ты флагами весь украшен... Гаси свой огонь зеленый — все ближе черные стражи! Забыть ли тебя, мой город? В тоске о морской прохладе ты спишь, разметав по камню не знавшие гребня пряди...И так далее, и так далее...
Вот до этого места я дошел. Здесь появляется гражданская гвардия и разрушает город. Затем жандармы возвращаются в казарму и там пьют анисовую настойку «Касалья» за погибель цыган. Сцены грабежа будут великолепны. По временам гвардейцы, неизвестно почему, станут превращаться в римских центурионов. Этот романс будет длиннейшим, но и одним из лучших. Заключительный апофеоз гражданской гвардии будет волнующим.
Как только закончу этот романс и «Романс о мучениях цыганки Святой Олалии из Мериды», буду считать книгу завершенной... Надеюсь, что это хорошая книга. Отныне не коснусь больше – никогда! никогда! – этой темы.
Прощай...
Гильен! Гильен! Гильен! Гильен!
Зачем покинул ты меня?
Федерико».
Правда, закончить «Романс о гражданской гвардии» удается не сразу. Еще много часов проводит Федерико за рабочим столом, напоминая себе охотника, потерявшего след. Замысел, казалось бы, продуманный до конца, повисает в пустоте, заготовленные строки не желают соединяться.
Вновь и вновь перечитывает он написанное. Нет, он не ошибся, до сих пор все – себе в этом можно признаться – безупречно. И гражданская гвардия – зримое, осязаемое воплощение власти, тупой и безжалостной. И выстроенная его воображением, населенная его мечтами цыганская столица Херес-де-ла-Фронтера, ничего общего, кроме имени, не имеющая с реальным Хересом – сонным и пыльным городом, где и цыган-то не осталось. И дева Мария с Иосифом – не величественные небожители, а герои крестьянских легенд, действующие лица знакомой каждому с детства евангельской трагедии.
Трагедии? А разве то, что разыграется здесь, не трагедия, и сам он не участник ее? Ведь гибель вольного цыганского города – это смерть и его поэзии, его сказки! Не потому ли романс так упрямо не хочет двигаться к намеченному финалу, что финал этот, с превращениями гвардейцев в римских центурионов, с заключительной картиной их торжества, недостаточно строг и скорбен?
Так освобождается замысел от всего лишнего. Остается боль. Остается ненависть. Тогда приходят единственные, необходимые строки:
Они въезжают попарно, а город поет и пляшет. Бессмертников мертвый шорох врывается в патронташи. Они въезжают попарно, спеша, как черные вести, и связками шпор звенящих мерещатся им созвездья. А город, чуждый тревогам, тасует двери предместий... Верхами сорок жандармов въезжают в гомон и песни. Застыли стрелки часов под зорким оком жандармским. Столетний коньяк в бутылках прикинулся льдом январским. Застигнутый криком флюгер забился, слетая с петель. Зарубленный свистом сабель, упалпод копыта ветер. Снуют старухи цыганки в ущельях мрака и света, мелькают сонные пряди, мерцают медью монеты. А крылья плащей зловещих вдогонку летят тенями, и ножницы черных вихрей смыкаются за конями. У белых врат Вифлеемских цыгане ищут защиты. В слезах и ранах Иосиф поник у тела убитой. Всю ночь напролет винтовки поют высоко и грозно. Всю ночь цыганят Мария врачует слюною звездной. И снова скачут жандармы, кострами ночь засевая, и бьется в пламени сказка, прекрасная и нагая. И стонет Роса Камборьо, а рядом, стоя на блюде, дымятся медные чаши ее отрубленных грудей. За косы ловят жандармы плясуний легкую стаю, и черный порох во мраке огнями роз расцветает. Когда же пластами пашни легла черепица кровель, заря обняла безмолвно холодный каменный профиль...Нет больше звонкого цыганского города. И только над сердцем поэта не властна черная сила. Выход – в творчестве. Иного выхода Федерико не знает.
О мой цыганский город! Прочь жандармерия скачет черным туннелем молчанья, а ты – пожаром охвачен. Забыть ли тебя, мой город! В глазах у меня отныне пусть ищут далекий отсвет. Игру луны и пустыни.12
На этот раз Федерико застал в Резиденции новое увлечение – анаглифы. Неизвестно кем занесенная игра распространилась с быстротой эпидемии. Анаглифы сочиняли на лекциях и семинарах; ежедневно устраивались конкурсы на лучший анаглиф, и дон Альберто, увидев далеко за полночь светящиеся окна в студенческом корпусе, сокрушенно покачивал головой: опять эти проклятые анаглифы!
Чтобы составить анаглиф, требовалось подобрать и расположить в виде стихотворной строфы три слова – существительных либо имен собственных. Первое повторялось дважды, второе было постоянное – «курица», а третье – в этом-то и заключалась вся штука! – никоим образом не должно было находиться в логической связи ни с первым, ни со вторым.
Выполнить это условие оказывалось непросто. Так, анаглиф:
лестница,
лестница,
курица
и бродяга —
браковался, как чересчур содержательный, чуть ли не сюжетный. Ведь «бродягу» легко было связать с «лестницей», по которой, преследуя свою преступную цель, мог взобраться за «курицей» третий член анаглифа. И столь же сурово был отвергнут анаглиф:
выстрел,
выстрел,
курица
и майор,
ибо каждому ясно, что стрельба – в том числе и по курице – самое подходящее занятие для военного. Удовлетворительным признавался лишь анаглиф, свободный от всякого подобия смысла. Например:
солнце,
солнце,
курица
и преамбула.
Игра понравилась Федерико. Он быстро освоил ее секреты, одержал несколько побед и вскоре выступил в роли реформатора, предложив анаглиф в стиле барокко – такой, где вместо третьего слова ставилась целая фраза:
Гильермо де ла Toppe,
Гильермо де ла Toppe,
курица,
и неподалеку отсюда сейчас пронесется
пчелиный рой.
Забава эта на первый взгляд ничем, кроме повального своего характера, не выделялась из ряда других развлечений, заслуживших обитателям Рези шумную репутацию. Куда скандальнее были, скажем, сборища «Ордена толедских братьев»: члены ордена во главе с великим магистром Луисом Бунюэлем отправлялись в Толедо и там поздней ночью, завернувшись в простыни, захваченные из гостиницы, блуждали по улицам, наводя ужас на случайных прохожих и порождая легенды о привидениях. Или разнообразные розыгрыши, жертвами которых нередко становились весьма почтенные лица, одолевавшие потом дона Альберто своими жалобами!
И все же ни одна выходка не огорчала сеньора Хименеса так, как анаглифы. Самые отчаянные проказы можно было объяснить молодостью, избытком сил, перехлестывающих через край. Но что заставляло неглупых, одаренных, молодых и не таких уже молодых людей самозабвенно отдаваться нагромождению нарочитой бессмыслицы, как будто без того ее мало на свете? Это выглядело уже не шуткой, не игрой, в этом виделось, если угодно, некое знамение, едва ли не символ настроений, охвативших в последнее время большую часть интеллигенции, особенно гуманитарного склада.
Казалось бы, дела обстояли неплохо. Нападки на Резиденцию ослабли – возможно, и потому, что питомцы ее почти не были замешаны в студенческих волнениях. В министерстве дону Альберто дали понять, что сам Примо де Ривера не прочь побывать на Тополином холме, – если он останется доволен, можно будет подумать и о том, чтобы передать Резиденции прилегающую к ней территорию.
Да и вообще политический климат в стране, по мнению дона Альберто, неуклонно смягчался. Как бы то ни было, диктатор оказался-таки вынужден заменить Военную директорию гражданским правительством (во главе которого, правда, стоит по-прежнему он со своими сподвижниками, а все же...). Рост общественного недовольства заставил генерала пойти и на ликвидацию ненавистного института правительственных делегатов на местах, а теперь вот он обещает созвать Национальную ассамблею вместо распущенных кортесов. Участие же в Ассамблее может открыть оппозиции дорогу к легальной деятельности – так по крайней мере считает старый друг сеньора Хименеса, Фернандо де лос Риос.
При этом дон Альберто искренне восхищался и теми из своих друзей, которые, как Унамуно и Бласко Ибаньес, атаковали Примо де Риверу из-за рубежа или, оставаясь в Испании, как Антонио Мачадо, Валье-Инклан, Хосе Ортега-и-Гассет, мужественно выступали против диктатора. Восхищался, но не завидовал. Каждому свое. Кто-то ведь должен был делать то, что делал он, – наперекор всему воспитывать вверенную ему молодежь в традициях свободомыслия и терпимости, удерживать ее от поспешных и опрометчивых действий, сохранять ее и готовить для лучших времен, когда страна возвратится, наконец, на путь нормального конституционного развития.
Так надо же! Снова, как без малого десять лет назад, незаметно подкравшаяся опасность угрожала свести на нет его труд. Это был рецидив той же самой болезни духа, которую занесло в Испанию из Парижа в первые послевоенные годы. В условиях диктатуры дурное семя дало богатые всходы на испанской земле; европейское поветрие превратилось в целую систему взглядов, своего рода программу – отказ от логического познания, недоверие, если не презрение, к разуму, культ интуиции, – завоевывавшую все больше сторонников и в его Резиденции. Увлечение анаглифами, конечно, было лишь одним из симптомов этой болезни. А сколько подобных симптомов глядело на него с полотен, писавшихся на Тополином холме, со страниц сочинявшихся здесь книг, сколько их встречалось ему в студенческих спорах и даже в лекциях уважаемых профессоров!
Разумеется, сеньор Хименес был далек от того, чтобы приписывать происходящее в Резиденции разлагающему влиянию одного человека. Но, предаваясь тревожным мыслям, он все-таки не мог не думать об этом человеке – о Сальвадоре Дали, о толпе приверженцев, сопровождающих молодого, надменного каталонца и восторженно подхватывающих его слова, в которых таится отрава. С горечью замечал он, что даже его любимец, Федерико Гарсиа Лорка, приехав из Гранады, не удосужился до сих пор зайти... ну, пусть не к нему, но хотя бы к Хуану Рамону, своему, можно сказать, поэтическому наставнику! – зато с Сальвадором Дали не разлучается ни на минуту.
Дон Альберто расстроился бы еще более, если б узнал, какие речи ведет с его любимцем Сальвадор, недавно исключенный из Академии изящных искусств за то, что отказался сдавать экзамен трем маститым живописцам, громогласно обвинив их в невежестве и бездарности. Да, он так и сказал им: довольно ползать на коленях перед натурой! Что касается его, Сальвадора, то он не намерен больше подавлять и насиловать свое воображение в угоду так называемой действительности. Он охотно уступает эту действительность эпигонам импрессионизма – пусть копируют ее, отражают, воспроизводят. Пусть кубисты потрошат предметы в детской надежде постигнуть тайну их бытия – ему надоело. Сальвадор Дали отныне станет использовать формы реального мира, но для того, чтобы пересоздавать этот мир, творить его заново, повинуясь только своим необузданным желаниям, всецело доверяясь своим инстинктам.
Он продемонстрировал Федерико картину, выполненную в новой манере: знакомый пустынный пляж Кадакеса, голубоватые горы вдали, а на переднем плане – концертный рояль, слегка зарывшийся ножками в песок. Из песка поднимается отвратительный полип, врастающий в клавиатуру. Каждая деталь была выписана с академической тщательностью, все же вместе походило на скверный сон.
Этого-то художник и добивался – открыть доступ в живопись снам, бреду, подсознательным импульсам, в которых, как он утверждал, заявляет о себе подлинная, не стесненная никакими запретами сущность человека. Теперь разговор шел уже не о нем одном, а о судьбах всего современного искусства. То целыми страницами цитируя Фрейда на память, то насмехаясь над нынешними просветителями с их старомодным благоразумием (доставалось тут и либеральному дону Альберто и прекраснодушному сеньору де лос Риосу), Сальвадор красноречиво доказывал, что искусство в его прежнем виде окончательно исчерпало себя, зашло в тупик. Выход один – прорваться к стихийным силам, таящимся под оболочкой цивилизации. И прежде всего – высвободить эти силы в себе самом, впустить их в свое творчество, выучиться видеть вещи в их сверхреальном значении!
Не в первый раз слышал Федерико подобные вещи, но никогда еще он не слушал их так внимательно. Не все в речах друга было ему понятно, а из понятого – не все нравилось, но какие-то мысли Сальвадора перекликались с его собственными мыслями, в каких-то словах чудился ответ на неотвязные собственные вопросы.
Дело было не в Сальвадоре Дали. В мире действительно что-то менялось, для поэзии на земле не оставалось места. У него еще была его Андалусия, но надолго ли? Источник, поивший его столько лет – с начала работы над стихами о канте хондо, – начинал иссякать: Федерико чувствовал это, заканчивая «Цыганский романсеро». Что же дальше? Перепевать самого себя?
Испанскому безвременью не видно было конца: то новый цензурный запрет, то очередная выходка Мигелито, то известие о чьем-нибудь аресте или высылке... Федерико все чаще казалось, что и сам он и все его друзья живут под огромным стеклянным колпаком, откуда постепенно выкачивается воздух. Опять он просыпался ночами от удушья, от черной тоски, только теперь и воображение не помогало – листок на стуле возле кровати оставался нетронутым.
Но если поэзии на земле нет места, то можно ведь оторваться от земли, взлететь над нею? Выпустить на свободу все сны, дать волю самой безудержной фантазии, распрощаться с законами логики и унылому организованному абсурду окружающей жизни противопоставить свою бессмыслицу – дерзкую, озорную!
По-видимому, эти идеи носились в воздухе: почти то же твердили друзья-поэты – Рафаэль Альберти, Херардо Диего. Как откровение читали они выпущенный еще два года назад манифест французских сюрреалистов, находя в нем знакомые тревоги и поиски. Федерико одним из первых попробовал писать в новой манере. Бурным успехом в Резиденции пользовалась его короткая пьеска «Прогулка Бестера Китона», алогизм которой оставил далеко позади все анаглифы. Начиналась она с того, что Бестер Китон – популярнейший герой американских кинокомедий – деревянным кинжалом обезглавливал своих четырех детей и уезжал па мотоцикле в поисках приключений.
В Гранаду, где Федерико встречал новый, 1927 год, пришел из Малаги свежий номер журнала «Литораль». Развернув его, Федерико увидел несколько своих романсов, обрадовался... и почти сразу же пришел в неописуемое отчаяние.
«Ты видел, что за ужас – мои романсы? – писал он несколько дней спустя Хорхе Гильену. – Они содержат более десяти – десяти! – чудовищных опечаток и совершенно испорчены... Как больно мне было, дорогой Хорхе, видеть их изуродованными, изгаженными, лишенными той кремневой твердостии кремневой тонкости,какими, казалось, они обладают! Эмилио обещал прислать корректуру, но не сделал этого. В то утро, когда был получен журнал, я плакал, буквально плакал сдосады!»
Дело едва не дошло до полного разрыва с Прадосом. Но Федерико был отходчив. Эмилио удалось оправдаться, а там и получить окончательное разрешение на публикацию «Песен». Отправив ему телеграмму, где стояло одно только слово: «Да», Федерико повеселел. В следующем письме Гильену он уже просил передать маленькой Тересите, что собирается сочинить для нее сказку о курице, носившей платье со шлейфом и огромную шляпу в дождливые дни. Он пообещал ей также сказку о жабе, которая играла на пианино и пела всякий раз, как ей давали пирожное.
А еще через несколько дней Сальвадор Дали известил Федерико о том, что известная каталонская актриса Маргарита Ксиргу прочла пьесу «Мариана Пинеда» и собирается поставить ее – разумеется, если автор согласен.
Согласен ли автор? ДА! ДА! ДА!
13
Красавица Барселона, как ты нарядна весной, когда, осажденная с трех сторон бурной зеленью, врывающейся в предместья, ты отступаешь к синему морю, над которым полощутся флаги всех наций! Какой залихватской кистью раскрашена, как благоухает, свистит и щебечет твоя знаменитая Рамбла – наверное, единственный в мире бульвар, где по правую и по левую руку тянутся чуть не на километр столы, заваленные ворохами цветов, уставленные птичьими клетками!
Утверждают, что ни один барселонец не заснет спокойно, если хоть раз в день не пройдется по Рамбле, не перекинется словом с разбитными цветочницами. Что же говорить о приезжем, да еще о таком, который явился в этот город затем, чтобы покорить его своей пьесой! Федерико дня не хватало – он разгуливал по Рамбле и поздно ночью, когда пусты мокрые оцинкованные прилавки и только гвоздичный запах все еще стоит в воздухе.
Пока что Барселона покорила его – и не только своей красотой. Люди здесь чувствовали себя свободнее, обо всем на свете судили, не понижая голоса, и честили правительство, как хотели. Мадрид казался отсюда усталым и старомодным; близость Франции ощущалась во всем. Сальвадор – в Барселоне он чувствовал себя как дома – свел Федерико с компанией художников, писателей, критиков, с гордостью называвших себя авангардистами. Все они были отчаянно молоды и в вопросах искусства, как и в остальных, придерживались самых крайних взглядов. Поэта из какой-то там захолустной Гранады они встретили покровительственно. Впрочем, потребовался один лишь вечер, чтобы отношение к нему резко переменилось.
«Вот человек, всем своим существом излучающий юг,– записал у себя в дневнике начинающий критик Себастьян Гаш. – Выглядит он так: смуглая кожа, блестящие, полные жизни глаза, густые черные волосы и гвоздика в петлице серого пиджака. Юношески горячий, порывистый, разговорчивый и лаконичный в одно и то же время, он наделен молниеносным воображением: каждая фраза – замысел, каждое слово – стих».
Маргарита Ксиргу, о которой Федерико столько слышал, оказалась не очень молодой женщиной весьма ординарной внешности – повстречаешь такую на улице и не оглянешься. Держалась она как-то буднично, разговаривала деловито, избегая тех слишком уж выразительных интонаций, которые отличают речь большинства артистов и в частной жизни. Только в глазах ее – черных, немигающих, – то разгорались, то затухали крохотные угольки. Тяжелый, цепкий, изучающий взгляд этих глаз собеседник ощущал на себе непрестанно. Даже в те моменты, когда Маргарита склонялась над рукописью пьесы или смотрела в сторону, Федерико не оставляла уверенность, что ни одно его движение не укрывается от нее.
После громких похвал, расточавшихся «Мариане Пинеде» теми, кто – о, разумеется, по не зависящим от них причинам! – отказывался ее поставить, Федерико был несколько обескуражен трезвостью, с какой эта женщина судила о собственно театральных качествах его пьесы, уязвлен ее замечаниями по поводу недостаточной сценичности отдельных мест. Он заспорил было. Актриса возражала – вежливо, доказательно, твердо. Угольки в ее глазах разгорелись. Стало видно, что и вправду она справляется с целой труппой. Стало ясно и то, что она умна, образованна и в законах сцены разбирается лучше, чем Федерико.
Несколько дней просидел он с Маргаритой Ксиргу над окончательным текстом пьесы. Это были хорошие дни. Федерико узнал немало такого, что следует знать человеку, желающему писать для театра. А Маргарита с его помощью погрузилась в атмосферу старой Гранады, наслушалась андалусских песен, которые Федерико пел ей часами, усевшись за пианино и запрокинув голову.
Как-то, придя к Маргарите Ксиргу, Федерико не нашел ее в кабинете, где они обычно работали. Служанка передала, что сеньора просит его немного подождать. Время шло, Федерико начал уж недоумевать, когда, наконец, актриса появилась из боковой двери. Она вошла легко и стремительно, чем-то встревоженная, неумело пытаясь скрыть свою тревогу. Ни слова еще не было произнесено, но он видел перед собой Мариану Пинеду. Она выглядела не совсем так, как он думал – старше, с печатью обреченности на лице, – однако именно эта Мариана была настоящей, иную он теперь не мог бы себе представить.
Федерико не удивился, когда она обратилась к нему со словами роли. Он подхватил игру, стал подавать реплики за остальных действующих лиц. С каждой минутой Маргарита – Мариана все больше казалась ему знакомой – Федерико мог бы поклясться, что уже видел где-то такое же сумрачное выражение обращенных внутрь, как бы прислушивающихся, глаз. И вдруг, когда эта женщина, услышав, что какой-то узник бежал из тюрьмы, задохнулась на миг и положила руку на горло, он узнал, словно в зеркале, свой собственный жест, унаследованный от матери, – характерный лоркинский жест, свидетельствующий о крайнем волнении. Так вот что значил тот пристальный, цепкий взгляд!
Он возмутился: как она смела?! Потом подумал: но ведь, сочиняя пьесу, он и в самом деле был Марианой Пинедой. Потом ему стало смешно: передразнивал других, а вот и его передразнили! Мысли эти мелькнули одна за другой, репетиция между тем продолжалась, они прошли весь первый эстамп. В конце концов он так ничего и не сказал Маргарите –играла она превосходно, победителей же, как известно, не судят.
Декорации к спектаклю должен был написать Дали, но он никогда не бывал в Гранаде, поэтому Федерико сделал наброски – гостиную в доме Марианы, дворик монастыря святой Марии Египетской, куда заточили Мариану перед казнью. Увидев у Сальвадора эти эскизы, Себастиан Гаш заинтересовался: может, у Федерико есть и другие рисунки? Было бы любопытно взглянуть!
Других рисунков оказалось немало. С некоторых пор Федерико стал прибегать к ним в тех случаях, когда чувства, бродившие в нем, не укладывались в слова. Одними беглыми линиями он чертил фигуры разбойников не свирепых, а грустных, цыганок с распущенными волосами, моряков, за плечами которых вились ленточки, изображал странных рыб с человеческими глазами, поникшие, будто раненые, цветы в кувшине... Контуры людей и предметов совмещались, пересекались, рождая причудливые графические метафоры. Наброски были по-детски наивны и по-детски же выразительны, а впечатление производили трагическое. Контраст этот особенно поразил Себастиана, тут же предложившего устроить выставку рисунков Федерико, приурочив ее к премьере «Марианы Пинеды».
Предложение застало Федерико врасплох – рисовал он для собственного удовольствия, ни о чем подобном не думая. А что скажет Сальвадор? Сальвадор поддержал идею Гаша с горячностью – у него были на это свои причины. В глубине души ему давно уже стало ясно, что лишь полностью подчинив Федерико своей воле, он избавится от приступов унизительной, тайной ненависти к другу. И в последнее время это, казалось бы, начало ему удаваться – Федерико был почти во всем с ним согласен, восхищался его работами, написал даже «Оду Сальвадору Дали», опубликованную в мадридском журнале «Ревиста де Оксиденте». И все-таки Сальвадор не чувствовал себя победителем. Он-то знал – быть может, лучше, чем кто-либо, – с каким упорством, скрытым под внешней мягкостью и уступчивостью, отстаивает Федерико свою крестьянскую цельность, свою стихийную, нерассуждающую веру в добро. Он догадывался, что и теперь Федерико повинуется не ему, а внутреннему своему голосу, бредет собственной неисповедимой тропой, которая только на миг совпала с его, Сальвадора, расчисленным путем. В любую минуту тропа эта может свернуть в сторону и Федерико вырвется из-под его влияния... Нет, на территории поэзии с этим андалусцем не совладать!
Вот рисунки – иное дело. Здесь на стороне Сальвадора был и талант и опыт, здесь Федерико действительно был не более чем ученик и, кстати, – чей ученик? Беспомощность набросков, восхитивших Гаша, очевидна, но очевидно и то, что их автор неплохо знаком с графикой Сальвадора Дали, внимательно прислушивался к его советам. Барселона – свидетельница уже нескольких триумфов Дали... Что ж, устроим Федерико выставку в Барселоне!
14
А пока в театре Гойя идут репетиции, Федерико гостит у Дали в Кадакесе. Снова море будит его по утрам, снова Анна Мария – как она выросла и похорошела за эти два года! – хозяйничает в столовой, мимо окон которой ходят то и дело заплаканные женщины в трауре – вдовы рыбаков, пришедшие посоветоваться с нотариусом.
Сальвадор яростно трудится целыми днями, запершись наверху; Федерико тоже пробует работать. Беседы с Маргаритой Ксиргу не прошли даром – ему хочется писать для театра, и здесь, в Кадакесе, память подсказывает ему сюжет, древний, как эти берега. За несколько дней он набрасывает план трагедии «Самопожертвование Ифигении».
Стоит, однако, появиться в дверях Анне Марии, как Федерико кладет перо и они отправляются на прогулку – в оливковую рощу, к скалам либо просто вдоль песчаного берега. Ему по душе эта девушка, живая и наблюдательная, он готов без конца слушать ее рассказы о жителях поселка – здесь она знает каждого встречного, – о невыдуманных драмах, разыгрывающихся под крышами рыбацких хижин. Присутствие Анны Марии помогает ему преодолеть свой страх перед морем. Вдвоем они совершают поездки на лодке, и однажды не замеченная вовремя волна едва не выбрасывает их на скалы мыса де Креус. После этого к сценкам, которыми Федерико потешает по вечерам семью Дали, прибавляется новая: «Бедный андалусец, потерпевший кораблекрушение».
Ни с одним человеком не чувствует себя Анна Мария так легко и свободно, как с Федерико. Теперь ей все в нем нравится – даже мнительность и изнеженность, даже то, что Федерико в те минуты, когда он не поет, не читает стихи, не показывает свои сценки, бывает и неловок и неуклюж. Про себя она сравнивает его с лебедем, который тоже ведь изящен и легок только в родной стихии, а поглядите-ка на него, когда он шагает, переваливаясь по земле!
Не нравится Анне Марии лишь то, что, постоянно бывая наедине с Федерико, она тем не менее ни на миг не бывает по-настоящему наедине с ним. Ревнивым женским чутьем угадывает она целый рой невидимых существ, которые рождаются в фантазии Федерико и повсюду сопровождают его. Он болтает, смеется, слушает ее истории, а тени этих существ все время пробегают по его лицу, их отражения возникают в глубине его глаз. Любая фраза, западающая в его память, может пустить там корни, обрасти подробностями, положить начало целому характеру... и вот уже Анна Мария не знает, кто перед нею – Федерико или кто-то другой, завладевший его воображением.
Ну, а в жизни – не в воображении – удастся кому-нибудь завладеть этим неуловимым человеком, который, словно не довольствуясь земной оболочкой, продолжается и множится в своих бесконечных вымыслах? Быть может, той, кого он полюбит? Едва ли! Да и какая девушка захочет связать с ним свою судьбу? Это все равно что выйти замуж за ветер!
В сердцах она так и говорит ему. За ветер? Федерико растерянно улыбается; Анна Мария готова уже пожалеть о своих словах, но знакомое, отсутствующее и вместе с тем азартное выражение, мелькнувшее на его лице, останавливает ее.
Вечером сидят на террасе, не зажигая света. Успокоившееся море, полное звезд, сливается с небом, так что не разберешь – то ли небо подкатывается к ногам, то ли море нависло над головой. Федерико предлагает прочесть новое стихотворение – собственно говоря, это еще одна сценка, только в стихах. Называется – «Школа».
Сперва он молча показывает действующих лиц -строгого, торжественного учителя, мальчика, вытянувшегося у доски. Это и в самом деле школа, только странный идет в ней урок.
Учитель
Кто замуж выходит
за ветер?
Ребенок
Госпожа всех желаний на свете
Учитель
Что дарит ей к свадьбе ветер?
Ребенок
Из золота вихри и карты всех стран на свете.
Учитель
А что она ему дарит?
Ребенок
Она в сердце впускает ветер.
Учитель
Скажи ее имя.
Так и видишь его руку, занесенную над классным журналом, чтобы поставить, наконец, заслуженную отметку. Сердце Анны Марии колотится учащенно – разумеется, она не ждет ничего особенного, а все же...
Ребенок
Ее имя держат в секрете.
Он говорит это важно и таинственно – ученик с учителем словно поменялись ролями. «За окном школы – звездный полог», – понизив голос до шепота, произносит Федерико последнюю строку. Хорошо, что Анна Мария уже не та девчонка, которая могла когда-то выбежать, разрыдавшись. Да и с чего бы ей разрыдаться? И все же она довольна, что в темноте никто не видит ее лица.
В середине июня друзья возвращаются в Барселону. Последние дни перед премьерой проходят в лихорадочной спешке. В день спектакля Маргарита Ксиргу мимоходом спрашивает у Федерико, где он будет сидеть. В директорской ложе? Напрасно! Она посоветовала бы ему усесться где-нибудь в зале, а то и на галерке, среди людей, не подозревающих, что он автор. И еще одно, – тут Маргарита кладет ему руки на плечи. – Не следует ожидать большого успеха. «Мариана Пинеда» – хорошая пьеса, но избалованную барселонскую публику ею не удивишь. Вот в Мадриде – а Маргарита непременно покажет ее в Мадриде – спектакль прозвучит по-другому. И все-таки пусть Федерико помнит, что лучшая его пьеса еще впереди!
Так оно и выходит. Спектакль принят зрителями тепло, но и только. Если к тому же принять во внимание, что Ксиргу – любимая актриса Барселоны и что декорации Сальвадора Дали действительно хороши, то на долю автора остается совсем немного.
Но Федерико думает не об этом. Чем полнее оживает перед ним Мариана Пинеда, тем очевидней становится несовершенство пьесы. Маргарита Ксиргу, конечно, права, законы сцены необходимо знать – только не затем, чтобы рабски им покоряться, а затем, чтобы взламывать их основательней, чем это сделал он, остановившийся на полдороге.
Да, он вывел свою поэзию на подмостки. Не из «поэзии вообще», а именно из его поэзии вырос характер Марианы, возникли слова, звучащие теперь со сцены, возникла вся атмосфера спектакля. Но поэзия не была здесь той главной силой, которая движет театральное действие, не стала еще полноправной хозяйкой. Словно боясь поверить в свое могущество, она прибегала порой к помощи приемов романтического театра, к эффектам почти мелодраматическим... Ну что ж! Зато теперь Федерико понимает, что ему нужно. Его лучшая пьеса впереди, Маргарита и тут права.
Не пользуется особым успехом и его выставка, открывшаяся 25 июня в галерее Дальмау. Энтузиазма приятелей хватает на первый день, а назавтра помещение уже пустует. Только Сальвадор Дали, верный друг, все бродит вдоль стен, все вглядывается в развешанные рисунки.
Он вглядывается в эти дилетантские наброски, и постепенно их откровенная детскость, пронзительный их трагизм помимо воли захватывают его. Какие цыганские колдуньи ворожили этому андалусцу? На всем, к чему бы он ни прикоснулся, так и оттискивается печать его личности! И с внезапной ясностью Сальвадор отдает себе отчет в том, что уже не надеется подчинить себе Федерико, что хочет лишь одного – не видеть его, не слышать, навсегда позабыть о нем.
15
Нужно быть Маргаритой Ксиргу, чтобы отважиться показать «Мариану Пинеду» в столице именно в те дни, когда там идет совсем другой спектакль, поставленный самим Примо де Риверой! Официальное название этого спектакля – первая сессия Национальной ассамблеи, его цель – создать видимость возврата к представительному правлению, его судьба – провалиться еще до начала. Ибо из всех кто, по мысли диктатора, должен был сообщить правдоподобие и убедительность предпринятой им инсценировке, никто почти не согласился в ней участвовать. Республиканцы заявили, что будут бойкотировать эту ублюдочную Ассамблею, обладающую лишь совещательными правами... Но что говорить о республиканцах, когда даже престарелый лидер монархистов Сан-чес Герра демонстративно покинул страну, призвав поднять знамя сопротивления! А социалисты, которым Примо де Ривера, полагаясь на их лояльность, выделил несколько мест в своем псевдопарламенте, отплатили черной неблагодарностью – специально созванный Чрезвычайный съезд социалистической партии большинством голосов не только постановил воздержаться от участия в Ассамблее, но и выразил категорический протест против режима диктатуры.
Пожалуй, впервые генерал встречает подобный афронт. Напрасно раздает он роли наспех натаскиваемым статистам, напрасно заявляет в речах, что лишь теперь, впервые в веках, Испания управляется народом и для народа, – в глубине души он сам понимает, что представление не удалось и что одурачить испанцев еще труднее, чем запугать. Впрочем, и запугать их уже не удается: интеллигенция окончательно вышла из повиновения, молодежь волнуется, демонстрации вспыхивают по любому поводу.
Мудрено ли, что в такой обстановке премьера пьесы, посвященной героине и мученице борьбы за свободу, оказывается в центре всеобщего внимания? Имя автора к тому же популярно в артистических и литературных кругах Мадрида – его новая книга «Песни» у всех на устах. Вечером 12 октября 1927 года зал театра Фонтальба переполнен.
...Сеньора Пиляр, привратница одного из пансионов, где живут по преимуществу молодые художники, литераторы, студенты, навряд ли попала бы на эту премьеру, если бы не бесплатный пропуск, преподнесенный ей кем-то из тех, кого она частенько впускает в дом под утро, а то и ссужает мелочью на трамвай. В лучшем своем платье сидит она на галерке, сложив на коленях руки, стараясь не подать виду, что редко бывает в театре. Но вскоре она осваивается – публика вокруг почти та же самая, что и у нее в пансионе. Взять хоть ее соседа, примостившегося на откидном стуле, – вроде бы и не так уж молод, а ведет себя, как мальчишка, смотрит больше по сторонам, чем на сцену, то начинает гримасничать, то будто сам с собой разговаривает.
Все же этот парень – смуглый, широколобый, с черными, гладко зачесанными назад волосами – чем-то располагает к себе сеньору Пиляр, и она благосклонно откликается на его простодушную попытку завязать с ней разговор в антракте. У нее есть собственное мнение о героине пьесы. Ей, конечно, жаль Мариану, но зачем, спрашивается, нужно было этой вдове впутываться в политику? Пусть мужчины занимаются такими делами, место женщины – на кухне!
Однако глубокий, грудной голос Маргариты Ксиргу, музыка стихов, несущаяся со сцены, мало-помалу оказывают свое действие на сеньору Пиляр. Когда занавес опускается во второй раз, она утирает слезу. Бедняжка Мариана, вот теперь она пойдет в тюрьму из-за этого сеньора, который даже не остался с нею в минуту опасности! Поведение Педро Сотомайора возмущает сеньору Пиляр до глубины души. Ее Николас – между нами, он старый республиканец – никогда бы не поступил подобным образом. У него есть свои слабости, но если б ему сказали, что жену его собираются казнить за то, что она вышила знамя... да он бы из этого негодяя судьи лепешку сделал!
Последний акт. Мариана в монастыре. Садовник Алегрито рассказывает ей, что дона Педро нет в Испании, – по слухам, он отплыл в Англию. Она не верит. Появляется Педроса, чтобы объявить ей смертный приговор. Еще не поздно вымолить помилование – пусть назовет лишь имена заговорщиков, ведь они же сами бросили ее в беде; в Гранаде не найдется никого, кто решится выглянуть в окно, когда ее поведут на казнь! Мариана непреклонна. Пусть все друзья оставили ее – есть один, кто примчится, чтобы спасти ее или умереть вместе с ней. Вот он идет... его шаги!.. Но нет, это только Фернандо, безответно влюбленный в Мариану. И его словам, отнимающим у нее последнюю надежду, Мариана вынуждена, наконец, поверить: дон Педро не придет.
И тогда отчаяние, дойдя до предела, обертывается решимостью. Педро любит Свободу сильнее, чем ее, свою Марианиту? Ну, так она и станет той самой Свободой, которой он поклоняется! Она умрет на эшафоте, но в памяти людей имя Марианы Пинеды навсегда сольется с именем Свободы.
Слезы мешают сеньоре Пиляр видеть, как сцена окрашивается в яркие, необычные цвета, свойственные гранадским сумеркам – розовый, зеленый, оранжевый, – как уходит на казнь Мариана под перезвон колоколов и хор детей вдалеке. Но слезы не приносят облегчения – переполняющие ее чувства так властно требуют чего-то иного, что она невольно привстает с места, оглядывается по сторонам... И в эту секунду откуда-то сзади раздается молодой, срывающийся голос:
– Да здравствует свобода! Да здравствует республика!
Вот оно! То самое! Грохот рукоплесканий показывает сеньоре Пиляр, что не одна она нуждалась в этих словах. Она не замечает, какими расширенными глазами глядит на нее сосед, положив себе руку на горло. Забыв обо всем, потрясая сжатыми кулаками, кричит она вместе с другими:
– Вива ла либертад! Вива ла република!
16
Думал ли когда-нибудь дон Луис де Гонгора-и-Арготе, великий поэт и великий путаник, скончавшийся в 1627 году, что через триста лет после его смерти и поэзия его и сам он еще раз станут полем битвы?
Все началось с того, что кто-то из молодых поэтов, собравшихся однажды вечером в мадридском кафе «Прадо», вспомнил о приближающемся юбилее. Кто-то заинтересовался: а будет ли эта годовщина торжественно отмечаться? Кто-то вызвался выяснить, каково на сей счет мнение официальных кругов.
Выяснилось, что мнение официальных кругов -отрицательное. Университетская наука не жаловала беспокойного классика, который дерзко нарушал языковые нормы, коверкал синтаксис, нагромождал необычные сочетания слов и выдумывал экстравагантные образы. Стихи его, туманные и загадочные, странным образом перекликались со многим из того, что возмущало почтенных профессоров в современной поэзии. Кроме того, Гонгора считался поэтом для избранного меньшинства, а нынче это отнюдь не поощрялось. Генерал, присвоивший себе право говорить от имени всей Испании, гордился своей простотой, речи его были доступны каждому, любимым словом было «народность». Ценя поэзию за возвышенность, благозвучие, красоту слога, он с подозрением относился ко всяким там иносказаниям и выкрутасам, за которыми наверняка скрывается разрушительный смысл.
Всего этого было достаточно, чтобы симпатией к Гонгоре воспылали и те молодые поэты, которые раньше с безразличием относились к его творчеству. Официального юбилея не будет? Тем лучше! Мы сами отпразднуем юбилей Гонгоры! Инициативная группа обратилась с письмом к виднейшим писателям, ученым, деятелям искусств, предлагая ознаменовать трехсотлетие со дня смерти поэта комментированным изданием его произведений и целой серией торжественных заседаний, лекций, концертов и выставок. Письмо подписали: Рафаэль Альберти, Херардо Диего, Педро Салинас, Хосе Бергамин, Федерико Гарсиа Лорка и некоторые другие.
Как и следовало ожидать, официозная критика в союзе с Королевской академией обрушилась на новоявленных «гонгористов». Неожиданным было другое: что идея торжеств в честь Гонгоры не вызвала никакого сочувствия и в уважаемых – без кавычек! – представителях старшего поколения. Многие из них вообще не откликнулись на письмо, а трое – Мигель де Унамуно, Рамон дель Валье-Инклан и Хуан Рамон Хименес – ответили отказом принять участие в юбилее.
Правда, язвительное послание Хуана Рамона свидетельствовало прежде всего о дурном характере его автора. Большой поэт и признанный учитель молодого поколения в последнее время все ревнивей относился к возрастающей самостоятельности своих учеников, к их стремлению ускользнуть из-под его деспотической опеки. Известие о том, что Федерико стал писать для театра, Хименес воспринял почти как личное оскорбление. «Бедный Лорка! – повторял он всем приходящим. – Теперь он погиб!»
Зато письмо Унамуно заслуживало внимания. Знаменитый изгнанник объяснял свой отказ решительным несогласием с эстетикой Гонгоры, ставя в особую вину автору «Поэм одиночества» недостаток человечности, холодную вычурность и ученый педантизм многих его стихов. Всего же сильней стоило бы, наверно, задуматься над последней частью письма, где, переходя от Гонгоры непосредственно к Примо де Ривере, «этому похотливому верблюду», Унамуно давал понять, что сегодня в Испании есть и более достойные объекты приложения молодых сил, чем проведение юбилеев.
Но они не задумались – напротив, всеобщее осуждение лишь раззадорило их. Довольно с них поучений! Окончательно закусив удила, молодые поэты поклялись не только осуществить собственными силами всю намеченную программу, но и дополнить еенекоторыми актами в стиле самых свирепых забав Резиденции. Так, например, устроено было публичное сожжение разнообразных памфлетов и пасквилей, сочиненных хулителями Гонгоры за три с половиной века. Критик Астрада Марин, ежедневно нападавший в газетах на организаторов юбилея, получил по почте подарок – венок, сплетенный из бурьяна, с приложением куплетов оскорбительного содержания. А как-то утром прохожие узрели на белоснежной стене здания Королевской академии лимонно-желтые разводы, вглядываясь в которые можно было прочесть имена нескольких академиков, известных враждебным отношением к чествуемому поэту.
За всем этим мальчишеством крылось и нечто иное, существенное. Так уж вышло, что юбилей Гонгоры оказался первым делом, которое сплотило их – испанских поэтов, выступивших в двадцатые годы, которое позволило им осознать какую-то свою общность, помогло им, попросту говоря, сдружиться.
Они сами затруднились бы сказать, что притягивало их друг к другу. Уроженцы различных областей Испании, они сильно разнились между собой по возрасту, да и в поэзии шли разными путями. Почти фольклорная простота первых сборников Рафаэля Альберти ничего общего не имела с прозрачностью годами шлифовавшихся строф Хорхе Гильена, раскованность свободно льющихся стихов Педро Салинаса не походила на дерзкое экспериментаторство Херардо Диего. Объединяли их не столько литературные вкусы, сколько общее отношение к жизни, общая, возраставшая неудовлетворенность.
Все они чувствовали, что в смятении, овладевавшем ими, повинно время, в которое им выпало жить, повинен режим, установленный в их стране болтливым и самовлюбленным генералом. Писатели старшего поколения, бросившие вызов диктатору, – Валье-Инклан, Антонио Мачадо, Унамуно – вызывали у них уважение, смешанное с завистью. Старики оказались моложе, чем они, старики сохранили веру в благотворность борьбы. А у них этой веры не было. Они верили только в искусство, которому самозабвенно служили, да еще в свой народ, который любили застенчивой, виноватой любовью.
Участие Федерико в проведении юбилея выразилось в том, что он подготовил и прочел лекцию «Поэтический образ у дона Луиса де Гонгоры» – сперва в Резиденции, а потом и в Гранаде. В родоначальнике «темного стиля» он увидел и показал поэта, во многом обязанного народу своей образотворческой смелостью. Он привел несколько примеров удивительной образности, изначально присущей народной речи. Скажем, называть выступающую часть крыши крылом или говорить, что «ивняк растет у реки на языке», – не превосходит ли это иные метафоры, смелости которых до сих пор не могут простить Гонгоре высокочтимые профессора? И не в обращении ли к истокам народной речи состоит один из важнейших уроков Гонгоры, воспринятый современной испанской поэзией?
Или другой урок: поэт должен не только быть знатоком пяти основных чувств – зрения, осязания, обоняния, слуха и вкуса, – но и открывать между ними связи. Ибо самые прекрасные образы часто рождаются от встречи различных чувств, когда разнородные впечатления как бы накладываются друг на друга, приобретая новые качества. «Немой полет рыбы» или «зеленые голоса» у Гонгоры – это предвосхищение новой выразительности, которая в наше время широко раздвинула поэтические горизонты.
А в заключение он рассказал о последних днях Гонгоры:
«Наступает год 1627-й. Гонгора, больной, весь в долгах, с израненной душой возвращается в свой старый дом в Кордове. Он возвращается один – без друзей и без покровителей. Его дом – это домище с двумя зарешеченными окнами и огромным флюгером на крыше, напротив монастыря Босоногих братьев.
Кордова, самый меланхолический город Андалусии, живет своей жизнью, в которой нет тайн. И у Гонгоры, приехавшего сюда, нет больше тайн. Он уже развалина. Его можно сравнить со старым, пересохшим источником. Со своего балкона поэт может видеть, как гарцуют смуглые всадники на длиннохвостых жеребцах, как цыганки, увешанные кораллами, спускаются стирать к полусонному Гвадалквивиру; он видит рыцарей, монахов и бедняков, вышедших прогуляться, пока солнце скрыто горами. И уж не знаю, по какой странной ассоциации мыслей, но кажется мне, что и три мориски из романса, Акса, Фатима и Марьей, легконогие, в выцветших платьях, проходят перед ним, ударяя в свои бубны... Что слышно в Мадриде? Ничего. Мадрид, легкомысленный и галантный, аплодирует комедиям Лопе и забавляется игрой в жмурки на Прадо. Но кто вспоминает о нем? Гонгора совершенно один... Где-нибудь в другом месте можно утешиться чем-то и в одиночестве, но что может быть более драматичным, чем остаться одиноким в Кордове!..
Утром 27 мая поэт то и дело спрашивает, который час. Он выглядывает в балконную дверь и ничего не видит, кроме огромного голубого пятна. Перекрестившись, дон Луис вытягивается на своем ложе, пахнущем айвой и сухими цветами апельсинового дерева... Когда старые друзья входят в дом, руки дона Луиса медленно холодеют – прекрасные, строгие руки без единого перстня, довольные тем, что создали несравненный, затейливо изукрашенный алтарь «Поэм одиночества». Друзья решают, что не должно плакать по такому человеку, как Гонгора, и философски садятся на балконе созерцать медлительную жизнь города».
Юбилейная кампания приближалась уже к завершению, когда вмешательство нового лица ее оживило. Лицом этим был знаменитый матадор Игнашо Санчес Мехиас, познакомившийся как-то с Рафаэлем Альберти, а через него и с другими молодыми поэтами. Знакомство быстро переросло в дружбу: поэтам льстило внимание человека, имя которого с восхищением повторяла вся страна, а дон Игнасио в их обществе отдыхал от привычной среды, от утомительных и навязчивых поклонников.
Он тянулся к ним еще по одной причине – литература была его давней, тайной страстью. Приближаясь к возрасту, критическому для матадора, Сан-чес Мехиас все чаще подумывал о том, чтобы оставить арену и отдаться своему второму призванию. Сидя в кругу новых друзей, слушая их стихи, ввязываясь в их споры, он чувствовал себя почти так же, как много лет назад, когда сам Хоселито посвящал его, сына Севильского врача, в секреты тавромахии.
С энтузиазмом ринулся он в сражение, затеянное во славу Гонгоры молодыми поэтами, предоставив в их распоряжение свой кошелек, что оказалось весьма кстати, и свою энергию, настолько неуемную, что временами ее требовалось сдерживать. По противникам была произведена целая серия залпов – устных и печатных, – после чего те отступили, бормоча что-то о недопустимости внесения грубых нравов корриды в литературную полемику.
Федерико занимал этот человек, сдержанный и суровый на вид, похожий не на цыгана, как большинство уроженцев Севильи, а скорее на древнего римлянина. О своем прославленном искусстве он не любил распространяться, утверждая полушутя-полусерьезно, что все оно сводится к геометрии: бык движется по одной орбите, тореро по другой; на пересечении двух орбит лежит искомая точка, требуется найти ее – вот и все! По мере знакомства в нем обнаруживались неожиданно детские черты – безудержность в увлечениях, склонность к шумным забавам и неожиданным поступкам. Никогда нельзя было угадать, что он сделает в следующую минуту – потребует, чтобы все отправились с ним в собор на богослужение, или, вытащив из кармана трубочку, примется обстреливать горошинами людей за соседним столиком.
Он не только любил поэзию, по порою и сам мыслил истинно-поэтически – Федерико убедился в этом, спросив как-то дона Игнасио, не испытывает ли он чувства злобы, выходя на быка. «Злобы? – переспросил тот удивленно. – Нет! Скорее – жалости, ведь бык-то все равно обречен. Бой быков сходен с человеческой жизнью, только роль человека играет в нем бык, а судьба – это матадор. Впрочем, – добавил он, усмехаясь, – случается и быку выступить в роли судьбы».
Дон Игнасио тоже приглядывался к Федерико – внимательно и настороженно. Знакомясь с новыми людьми, он по профессиональной привычке мысленно помещал их в ту обстановку, в которой провел большую часть своей жизни, и они становились понятны. Понятен был Хорхе Гильен – зритель, тонкий знаток, но отнюдь не болельщик – афисионадо; такому никогда не придет в голову сумасшедшая мысль перескочить через барьер. Понятен был порывистый Рафаэль Альберти, готовый хоть сейчас пойти в ученики к дону Игнасио, вступить в его квадрилью. А вот гранадец ускользал от определения. Когда он дурачился, пел, изображал кого-нибудь, то казался беспечней всех остальных – ни дать ни взять мальчишка с картины Мурильо! И вдруг его лицо застывало, взгляд останавливался. Подобное выражение глаз Санчес Мехиас замечал у тех из своих коллег, которые начинали задумываться о смерти, а это не предвещало ничего хорошего. Иногда он даже подозревал в Федерико отвращение ко всякому насилию, что было бы совсем уж недостойно мужчины.
Тем не менее, организуя поездку молодых поэтов в Севилью – этой поездкой, по его плану, должны были триумфально закончиться торжества в честь Гонгоры, – дон Игнасио, не колеблясь, открыл список участников именем Федерико. В список вошли также Хорхе Гильен, Рафаэль Альберти, Херардо Диего, Хосе Бергамин, поэт и филолог Дамасо Алонсо и совсем еще неизвестный Хуан Чабас. Сообщил он им об этом, как всегда, неожиданно, но никто и не подумал отнекиваться – потому, что сопротивляться дону Игнасио было бесполезно, и потому также, что поездка с Санчесом Мехиасом к нему на родину (все расходы он, естественно, брал на себя) сулила немало приятного.
И все же они не предполагали, каким праздником станут дни, проведенные в Севилье. Едва ли сам дон Луис де Гонгора удостоился бы тех почестей, что были оказаны здесь им, как поэтам и как друзьям славного матадора. Не доискиваясь, которому из двух этих званий они более обязаны любовью севильцев, гости делили время между вечерами, где они прославляли Гонгору, поносили его хулителей, читали свои стихи, и бесчисленными пирушками, прогулками, развлечениями, занимавшими все остальные часы. Все двери распахивались перед ними, любые желания исполнялись, как в сказке. Кажется, попроси они на память Хиральду – гордость Севильи, башню, построенную еще маврами, стометровой иглой вонзающуюся в небо, – и ее бы им подарили!
Но изо всего, что было, друзьям особенно запомнилась одна ночь, когда, следуя в загородное поместье дона Игнасио, они переправлялись на пароме через Гвадалквивир. Река упрямым волом тянула паром в сторону моря, ветхий канат выгнулся дугой – вот-вот лопнет. Черное декабрьское небо вверху, черная, изредка взблескивающая вода внизу, и в темноте, обступившей их со всех сторон, молодые поэты с необыкновенной силой ощутили себя крохотной людской горсточкой, затерявшейся в неведомом пространстве. Только друг в друге чувствовали они опору, только тепло братской привязанности согревало их в эти минуты.
За все время существования Севильского Атенея там не собиралось столь пестрой и разношерстной публики, какая переполнила зал на их заключительном вечере. Завсегдатаи коррид – афисионадо, исполнители канте хондо и просто цыгане из Трианы сидели вперемежку со студентами, адвокатами, учителями. В первом ряду торжественно восседали тореро с Игнасио Санчесом Мехиасом во главе. Поэтому ли, по какой ли другой причине, но с самого начала в зале царило то редкое, счастливое настроение, когда каждое слово, произнесенное со сцены, доходит до сердца слушателей. Тепло был принят толстенький Дамасо Алонсо, декламировавший наизусть сотни строк из «Поэм одиночества», десимы Хорхе Гильена привели аудиторию в энтузиазм, а когда Рафаэль Альберти выступил со стихами о бое быков, общее воодушевление, казалось, достигло предела. Тогда он прочел еще строфы, посвященные памяти Хоселито, и все увидели, как уронил голову Игнасио Санчес Мехиас, словно заново переживая смерть своего учителя, шурина, друга.
Дай, Хиральда, волю слезам, мавританка, склонись величаво: видишь, крылья раскрыла слава и тореро несет к небесам. Огнекрасной корриды сын, как рыдает твоя квадрилья, как скорбит безутешно Севилья в эти горестные часы! Омрачилась твоя река и, зеленую косу откинув, обрывает цветы апельсинов и роняет на гладь песка. «Ты взмахни, тореро, рукой, попрощайся с моими судами, и с матросами, и с рыбаками: без тебя мне не быть рекой».Федерико выступает последним. Он читает романс о том, как схватили Антоньито эль Камборьо на севильской дороге:
Антоньо Торрес Эредья, Камборьо сын горделивый, в Севилью смотреть корриду шагает с веткою ивы. Зеленой луны смуглее, шагает, высок и тонок. Блестят над глазами кольца его кудрей вороненых. Лимонов на полдороге нарезал он близ канала и долго бросал их в воду, пока золотой не стала. И там же, на полдороге, в тени тополиных листьев его повели жандармы, скрутив за спиною кисти. Медленно день уходит поступью матадора и алым плащом заката обводит море и горы. Тревожно следят оливы вечерний путь Козерога, а конный ветер несется в туман свинцовых отрогов. Антоньо Торрес Эредья, Камборьо сын горделивый, среди пяти треуголок шагает без ветки ивы...Как похожи сейчас друг на друга лица слушателей, лица товарищей Федерико, сидящих на сцене! Только дон Игнасио хмурится: романс превосходный, но опять это постоянное пристрастие к страдающим, униженным, беззащитным! Как будто нет уж людей, способных постоять за себя! И вдруг он вздрагивает – Федерико словно подслушал его мысли.
Антоньо! И это ты? Да будь ты цыган на деле, здесь пять бы ручьев багряных, стекая с ножа, запели! И ты еще сын Камборьо? Сменили тебя в колыбели! Один на один со смертью, бывало, в горах сходились. Да вывелись те цыгане! И прахом ножи покрылись...Да, он бы мог так сказать... Почему же теперь дону Игнасио кажется, что упрек обращен и к нему? К нему, прославленному матадору, более семисот раз бросавшему вызов смерти?! А все-таки этот окаянный гранадец заставил и его почувствовать себя заодно с несчастным цыганом. И для него последние строки романса звучат, будто погребальный звон по утраченной воле.
Открылся засов тюремный, едва только девять било... А пять полевых жандармов вином подкрепили силы. Закрылся засов тюремный, едва только девять било... А небо в ночи сверкало, как круп вороной кобылы!Еще все вслушиваются в отзвук последнего слова, когда в первом ряду встает Игнасио Санчес Мехиас. Как заправский афисионадо, он срывает с себя галстук, воротничок, стаскивает пиджак и швыряет все это на сцену, под ноги Федерико. Так чествуют победившего матадора.
17
Слава обрушилась на Федерико.
Давно уж ни одна книга стихов не пользовалась в Испании таким решительным и повсеместным успехом, как «Цыганский романсеро», вышедший из печати в апреле 1928 года. Критики различных направлений с редкостным единодушием восхищаются этой книгой, заявляя, что ее автор – вслед за Антонио Мачадо, но на свой лад – возродил великую народную традицию испанской поэзии, оплодотворив ее достижениями новейших поэтических школ, что он открыл для читателей целую страну, о существовании которой те и не подозревали. На студенческих сходках читают «Романс о гражданской гвардии». Филологи принимаются за исследование поэтического языка Гарсиа Лорки, изучают особенности построения его образов, спорят о том, кто же он – неоромантик, традиционалист, популист, фольклорист? «Скорее уж – фолькЛОРКИСТ!» – каламбурит Гильермо де ла Toppe.
Но что поистине неслыханно, так это популярность, которую завоевывает «Цыганский романсеро» у самой широкой аудитории. Люди, обычно не читающие стихотворных сборников и не имеющие денег на их приобретение, в складчину покупают эту книжку, переписывают изнее наиболее понравившиеся романсы, заучивают наизусть. Антоньито Камборьо и Соледад Монтойя начинают соперничать с любимыми героями народных песен, а их создатель становится знаменит, как тореро. В театре, в кафе и просто на улице он постоянно чувствует на себе любопытные взгляды. Однажды на Пуэрта дель Соль чистильщик ботинок, подняв к нему лицо, расплывается в улыбке и спрашивает: «Дон Федерико, ну, как там у вас было дело с той неверной женой?»
Все это и радует Федерико и беспокоит. Да, его хвалят, но некоторым похвалам он предпочел бы брань. С возрастающей тревогой убеждается он, что до многих его почитателей доходит лишь внешняя сторона «Романсеро» – бубны и навахи, цыганские страсти, что под пером иных критиков открытая им страна превращается в ту самую, стилизованную и пошлую Андалусию для туристов, которую он с отрочества ненавидит.
Раздражают его и непременные спутники известности – слухи. Кто-то утверждает, что Гарсиа Лорка лишь собиратель подлинных цыганских романсов – он их записал, обработал, конечно, и выдает теперь за свое сочинение! Кто-то возражает: да нет, хорошо известно, что сам он цыган – вернее, цыгане украли его еще ребенком, он вырос среди них, бродяжил, разбойничал, но потом раскаялся, вернулся к добродетельной жизни и написал этот свой «Романсеро».
Приятели хохочут, а Федерико не смешно. Все сильнее охватывает его странное чувство – как будто с опубликованием «Песен» и особенно «Романсеро» он лишился какой-то важной части своего существа. Большой кусок его жизни отныне ему не принадлежал, разошелся по рукам; всякий мог теперь распоряжаться теми словами, из которых каждое было частицей его «я». Позволив разлучить себя со своими стихами, он словно отказался от собственной личности.
Не того же ли опасался он перед выходом первого сборника семь лет назад? Впрочем, в ту пору опасения не сбылись – Федерико и не вспомнил о них, с головой уйдя в работу над стихами, о канте хондо. Целый пласт жизни отвалился тогда незаметно и безболезненно, потому что новый вырос ему на смену. Так не в том ли теперешняя беда Федерико, что он расстался со своим трудом в такое время, когда прежние источники иссякли, а новых нет?
Он едет в Гранаду, бродит по улицам, где каждый камень знаком, разгуливает по Веге, уходит в горы на целые дни. Кругом все такое же, как и прежде, да и сам он тот же, а что-то непоправимо переменилось. Невидимая стена стоит между Федерико и его Андалусией, она глушит голоса, убивает краски, сквозь нее не просачивается музыка.
Но может быть, так и надо? Порвана пуповина, ученичество кончилось, он должен надеяться на одного себя. Отказаться от помощи традиции, дать волю своей фантазии, полностью освободив ее от контроля логики, – не к этому ли звали его и Дали и барселонские друзья-авангардисты?
Никогда еще Федерико не работал так интенсивно – и в то же время так лихорадочно, судорожно, отчаянно, – как в этом году. Он пишет стихи в новой манере, близкой к сюрреалистической, сочиняет рассказы и сценки, еще более алогичные, чем «Прогулка Бестера Китона», пытается снова устроить выставку своих рисунков, выступает с лекцией «Воображение, вдохновение, бегство», заканчивая ее словами о том, что высшая ступень поэтического творчества – это бегство от действительности, разрыв всех связей с нею. Вместе с братом Франсиско и целой компанией юных гранадцев – начинающих поэтов, писателей, художников он затевает издание литературно-художественного журнала «Гальо» – «Петух», которому предстоит пробудить Гранаду от ее векового сна и поднять в Андалусии знамя авангардистского искусства.
Первый номер журнала – Федерико открывает его шуточной сказкой «История этого петуха» – расхватан за два дня. Студенты Гранадского университета разделяются на две партии – гальистов и антигальистов; дискуссия заканчивается потасовкой. Ободренные издатели устраивают банкет и приступают к подготовке второго номера, гвоздем которого является «Каталонский антихудожественный манифест», составленный в самых эпатирующих выражениях и подписанный Сальвадором Дали и Себастианом Гашем. Однако на этот раз «Петух» не имеет успеха – скандал улегся, студенты отвлечены политикой, что же до почтенных землевладельцев и коммерсантов, то они, по-видимому, и не расслышали вызывающего «кукареку!». Журнал прекращает свое существование.
Писать для театра? Но трагедия об Ифигении не продвигается, античному сюжету чего-то недостает, чтобы ожить заново. Совсем другой сюжет брезжит в воображении Федерико. Лет двадцать тому назад забрел в Аскеросу старик с алелуйями – лубочными картинками; водя палочкой по картинкам, он рассказывал собравшимся про Фьерабраса из Александрии, про горестную жизнь дона Дьего Корриентеса, про похождения отважного Франсиско Эстевана. От одного героя в памяти Федерико осталось только имя – дон Перлимплин, но и этого имени, шутовского и в то же время грустного, оказывается теперь достаточным, чтобы разбудить фантазию. Дон Перлимплин был, конечно, смешным пожилым уродцем, однако с детской душой и сердцем поэта. Предположим, что такой человек захочет жениться на юной красавице – бессердечной, белолицей Белисе... Что из этого выйдет?
Сальвадор увидел бы здесь, пожалуй, превосходный материал для очередной абсурдной пьесы, однако на сей раз Федерико не испытывает ни малейшего желания нагромождать бессмыслицу. Самые парадоксальные ситуации, естественно, вытекают из характера главного героя, ухитрившегося превратить водевиль в высокую трагедию. Выясняется, между прочим, что дон Перлимплин с детских лет боялся моря... да и другие, хорошо знакомые черты неожиданно проглядывают в неловком старом мечтателе. Быть может, и в историю самоотверженной любви дона Перлимплина Федерико вкладывает что-то личное, выстраданное?
Никому не известно, что произошло этим летом в Гранаде. Ни с одним из друзей Федерико не поделился своей болью. Ее след промелькнул только в письмах Федерико молодому колумбийскому поэту Хорхе Саламеа, с которым он незадолго перед тем познакомился в Мадриде.
«Будь радостным! – пишет он колумбийцу. – Во что бы то ни стало нужно быть радостным. Это говорю тебе я, переживающий одну из самых печальных и горьких минут моей жизни».
И в другом письме:
«Я только что выбрался усилием воли из такого мучительного состояния, каких в моей жизни было немного. Ты не можешь себе представить, что значит проводить целые ночи на балконе, глядя на ночную Гранаду, опустевшуюдля меня, и не находя ни в чем ни малейшего утешения».
Что ж, однако, друзья? Он ли от них отдалился, они ли от него, только связь между ними слабеет, возникшее было братство оказалось непрочным. Созерцательная мудрость Гильена не успокаивает более Федерико, а с Альберти творится, по-видимому, то же, что и с ним, – Рафаэль ни с кем не видится, стихи его, изредка появляющиеся в журналах, становятся все трагичнее и запутаннее. Непонятнее всех ведет себя Сальвадор Дали – уехав в Париж, он словно забыл о существовании Федерико.
Уже в начале 1929 года из Парижа приезжает ненадолго Луис Бунюэль, чтобы показать мадридцам поставленный им совместно с Сальвадором Дали фильм «Андалусский пес». Собравшиеся на просмотр – кто с возмущением, кто с недоумением, кто с восторгом – глядят на экран, где луна, рассеченная облаком надвое, превращается в человеческий глаз, перерезаемый бритвенным лезвием. Какой-то зритель, не выдержав, требует объяснить, что все это значит, и тогда из ложи, где сидит Бунюэль, раздается спокойный голос: «Это просто-напросто отчаянный, неистовый призыв к преступлению».
Федерико вздрагивает. Преступление, насилие, расправа – со всех сторон только и слышишь эти слова, ими, кажется, напоен самый воздух Испании. Как зарвавшийся игрок, не желающий признать, что проиграл партию, Примо де Ривера пытается любыми мерами спасти свое положение. Массовыми арестами отвечает он на январское антидиктаторское выступление армии, в котором приняли участие и гражданские деятели. В феврале издается указ о строжайшей ответственности «за разговоры, дискредитирующие правительство». В марте, после того как столица на целый день оказалась во власти бастующих студентов, диктатор отдает распоряжение о закрытии Мадридского университета. Атмосфера сгустилась до предела – то ли это духота перед грозой, то ли последнее, предсмертное удушье...
Знакомые дивятся: что с Федерико? Или это слава так странно подействовала на него? Былой весельчак и всеобщий любимец не появляется больше в Резиденции, не музицирует, как бывало, не читает стихов, не делится ни с кем своими планами. Он – он, Федерико! – избегает всякого общества и, говорят, целыми днями в одиночестве бродит по улицам...
Повстречав его как-то весной, Фернандо де лос Риос убеждается в справедливости этих слухов. Вид у Федерико такой потерянный, что дон Фернандо позабывает о собственных огорчениях, а они велики – вместе с другими либеральными профессорами де лос Риос изгнан из университета, лишен возможности печататься. Когда б не приглашение прочесть курс лекций в Соединенных Штатах Америки, он остался бы попросту без средств к существованию!
И вдруг его осеняет. А что, если и Федерико поехать с ним? Колумбийский университет в Нью-Йорке предоставляет стипендию испанцам, желающим изучить язык и литературу Америки, – устроить ему такую стипендию дон Фернандо при его связях может без всякого труда. Увидеть новый мир, переменить обстановку...
Федерико бледнеет. Уехать из Испании? Это невозможно.
...А почему, собственно говоря, невозможно? Ведь не насовсем же! «На год, не более!» – подхватывает дон Фернандо. Быть может, именно это и нужно ему сейчас – круто переменить жизнь, взглянуть как бы со стороны на свою родину, на самого себя? И отец, пожалуй, будет доволен – сын поедет готовиться в профессора. Решено, он согласен!
Станет ли ему лучше там, в незнакомом мире? Едва ли! Ну и пусть. Пусть даже хуже, только бы – иначе!
Глава пятая
...Но я пришел не смотреть на небо,
Я пришел, чтобы видеть кровь.
Федерико Гарсиа Лорка1
Нет, до сих пор он не знал одиночества.
Он убедился в этом теперь, просиживая до рассвета перед поднятой оконной рамой в своей каморке на шестнадцатом этаже студенческого корпуса, вдыхая бензиновый перегар раскаленной нью-йоркской ночи, вздрагивая всем телом от лязга и скрежета проносящихся неподалеку поездов надземной дороги, машинально отсчитывая, как по ту сторону Гудзона вспыхивает в три приема, гаснет – и раз, два, три – зажигается вновь реклама резиновой жвачки: «WRIGLEYS HERE – WRIGLEYS THERE – WRIGLEYS EVERYWHERE».
Глубоко внизу, в освещенном провале, катятся в несколько рядов игрушечные автомобили. Кругом, куда только достает глаз, проступают сквозь утренний туман, толпясь в беспорядке, исполинские кубы и параллелепипеды из кирпича, стали, стекла, увенчанные куполами и шпилями.
С чем сравнить это зрелище? С каменным лесом? С увеличенным в миллион раз скоплением кристаллов горного хрусталя?.. В том-то и штука, что не с чем, – любое сравнение прозвучит здесь искусственно. Те, кто называет каньонами – ущельями – узкие нью-йоркские улицы, сплющенные между громадными зданиями, не бывали, должно быть, в настоящем ущелье, где от воздуха ломит зубы, как от ключевой воды, а вверху – живое небо, не эта белесая пустота.
Он ехал в другую страну, а попал словно на другую планету. Все здесь ошеломляло и подавляло, все казалось нечеловеческим. Но сильнее всего – сильнее, чем небоскребы Манхэттена и Бруклина, чем лавины автомобилей и пляска бродвейских огней, – Федерико поражала жизнь обитателей Нью-Йорка. Он всматривался в эту жизнь со странным чувством, близким к тому, с каким когда-то в детстве следил за беззвучным кипением муравейника.
Вот сейчас, в половине шестого утра, изо всех ворот и подъездов, одинаковые, как дождевые капли, посыплются крохотные фигурки, соединятся в потоки, наводнят улицы, хлынут в воронки метрополитена, переполнят вагоны надземной дороги, трамваи, двухэтажные автобусы, а потом растекутся по конторам и магазинам, займут места у конвейеров, вольются в гигантский механизм и станут вращать его колеса... Во всем мире люди поутру принимаются за работу, но нигде, наверное, люди не выглядят с такой очевидностью частицами чудовищной машины – безличными, серийными, взаимозаменяемыми винтиками.
Целый день перед глазами Федерико будут мелькать неотличимые друг от друга физиономии, костюмы, прически. В шарканье ног, в отрывистой, лающей речи, в мерных движениях безостановочно жующих челюстей ему будет чудиться некий общий для всех механический ритм, источник которого не в самих людях, а где-то вне их, в недрах нью-йоркского муравейника. И даже там, где они отдыхают и развлекаются, в стрекотании кинематографического аппарата, в кваканье саксофонов, в завываниях публики на матче бокса, во взвизгиваниях, оглашающих увеселительные заведения Кони-Айленда, ему будет слышаться все тот же однообразный, настойчивый, неживой ритм.
Определить источник этого ритма не так уж трудно. Даже скудных познаний Федерико в английском языке (не увеличившихся с тех пор, как он поступил на курсы при Колумбийском университете), хватает, чтобы из множества слов, раздающихся вокруг, выделить одно, произносимое чаще других и с особой, значительной интонацией. Точного эквивалента этому слову – business – в испанском языке нет; такие понятия, как «дело», «занятие», «коммерция», лишь отчасти ухватывают его суть и не дают полного представления о том смысле, который вкладывает в него средний американец. Бизнес – это Дело с большой буквы, это главное содержание жизни, генератор энергии, приводящей в движение всю страну, первоэлемент общества, основа основ. Это, если угодно, религия – не случайно любимым чтением тысяч и тысяч семей в Соединенных Штатах стала книга мистера Брюс-Бартона «Человек, которого никто не знает», доказывающая, что Иисус Христос был основателем современного бизнеса: «Он выбрал двенадцать человек из рядовых практических работников и создал организацию, сумевшую покорить весь мир».
Они кажутся себе в высшей степени практичными, эти люди, – ну, еще бы, ведь они дело делают! Бедняги не подозревают о том, что давно уже Дело делает их – приспосабливает к своим потребностям, формирует в согласии с собственными интересами. Равнодушно и неумолимо вытравляя в своих слугах естественные склонности, черты человеческой личности, Дело вкладывает в их мозги стандартный набор вкусов и убеждений – от гигиенических рецептов (ИЗ ПЯТИ ЧЕЛОВЕК, ОТКАЗАВШИХСЯ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЗУБНОЙ ПАСТОЙ ФОРХЭНА, ЧЕТВЕРО ПАЛИ ЖЕРТВОЙ ПИОРЕИ) и до генеральной программы существования, возвещенной все тем же огненным языком цифр: ВЫ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ 10000 ДОЛЛАРОВ В 30 ЛЕТ. 25 000 ДОЛЛАРОВ В 40 ЛЕТ И 50000 ДОЛЛАРОВ В 50 ЛЕТ.
Они кажутся себе практичными, а Федерико удивляет их легковерие: реклама, газеты, радио почти целиком заменяют им собственный опыт! Пресловутая американская деловитость обертывается вдруг потрясающей безответственностью по отношению ко всему, что выходит за рамки повседневного быта. Самый отчаянный из Севильских картежников подивился бы сумасшедшему оптимизму, с каким эти люди бросаются очертя голову в водоворот биржевых спекуляций, охвативших нынешним летом всю Америку.
Нью-йоркские друзья так и не сумели растолковать Федерико механику этих спекуляций. Он понял только, что в них принимают участие не одни биржевики, что великое множество людей – торговцы и клерки, портнихи и официанты, вагоновожатые и мойщики окон – ставят на карту свои сбережения, что все они играют на повышение и не имеют ни малейшего понятия о характере тех компаний, с которыми связывают свою судьбу. Рассказывали об одном лакее – акции Вестингауза принесли ему сто тысяч долларов, о сестре милосердия, заработавшей тридцать тысяч благодаря советам опытных в биржевых делах пациентов, о некоем удачливом скотоводе из Вайоминга, который жил в сорока милях от железной дороги и тем не менее ухитрялся покупать и продавать по тысяче акций в день, слушая бюллетени по радио и сообщая свои распоряжения по телефону в ближайший город, откуда они по телеграфу передавались в Нью-Йорк. Состояния росли, как грибы после дождя, – росли, разумеется, на бумаге, ибо никто не трогал мнимых своих прибылей, предоставляя им удваиваться, утраиваться, удесятеряться.
В биржевой лихорадке было что-то зловещее. Бешеная погоня за иллюзорной наживой казалась символом общества, где люди загипнотизированы и порабощены ими же созданными мнимостями. Чудовищный механизм работал сам на себя; крутились бесчисленные жернова, перемалывая, превращая в ничто человеческую жизнь – единственную, невозместимую... И в мерном этом кружении, в машинном, мертвенном ритме Федерико все явственней узнавал ту безыменную стихию уничтожения, которая преследовала его в ночных кошмарах.
Не женщиной в траурном платье, не всадником на черном коне предстала перед ним на этот раз смерть. Здесь она прикидывалась самою жизнью. И все-таки он распознал ее.
2
Против смерти было одно средство, испытанное, – писать. Но он не мог писать без людей – пусть невидимых, только бы чувствовать их за плечами, только бы знать, что, заблудившись в каменных лабиринтах Нью-Йорка, они делят с ним боль, отчаянье, гнев.
Напрасно пытался он восстановить таких людей в памяти, вызвать из прошлого. Воспоминания детства, образы канте хондо здесь были бессильны. Андалусия даже в воображении не совмещалась с Америкой, испанской мерой невозможно казалось измерить мир, в котором он очутился.
Между тем, вслушиваясь в упорядоченный грохот города, Федерико порою улавливал какой-то иной, своевольный ритм. Сознание его исподволь отмечало все те секунды, когда словно свежее дуновение проносилось в нью-йоркском пробензиненном воздухе.
Это случалось в лифте, где негр-лифтер, выкрикивавший свои «Ап!» и «Даун!», улыбался во весь рот Федерико, встретившись с ним глазами. Или в театрике, на сцене которого залихватски выбивал чечетку черный парень, длинноногий и длиннорукий. Или просто на улице, если в толпе деловито марширующих горожан Федерико попадалась вдруг темнокожая девушка, идущая легкой, танцующей походкой. В воспоминаниях о подобных секундах чаще всего присутствовали темные лица разных оттенков, от черного до коричневого, курчавые волосы, сверкающие белые зубы.
И вскоре Федерико уже сам стал выискивать в городской сутолоке людей, отличавшихся от окружающих не столько цветом кожи, сколько тем, что, работая споро и тщательно, они все-таки никогда не отдавались делу целиком, не растворялись в нем до конца. Как бы стремительно ни крутились кругом колеса, эти люди урывали любую возможность перекинуться словом, посмеяться, поглазеть – с детским, восторженным, любопытством – на уличное происшествие, ухитрялись даже помечтать минутку о чем-то своем, подставив щеку случайному солнечному лучу. А когда начинался ежевечерний отлив от центра, когда негры и мулаты, отработав еще день на хозяев, возвращались в свои жилища, Федерико шел за ними, завороженно следя, как по мере приближения к Гарлему меняется их походка, звонче становятся голоса.
После Бродвея, после Парковой авеню Гарлем выглядит убого. Скудное освещение, обшарпанные кирпичные стены в зигзагах пожарных лестниц. Колышется белье, развешанное для просушки, дети роются в мусорных кучах. И не только смех, не только музыка – хотя все тут словно пропитано ею, но и всхлипыванья чьи-то, и пьяная ругань, и шум драки. Но черные и коричневые люди здесь у себя дома. Никто не закроет перед ними двери ресторана или кинематографа, не вывесит таблички «Только для белых», не крикнет: «Эй ты, ниггер!», а если кто крикнет, тому, пожалуй, не поздоровится – вон ведь как грозно посверкивают белками из темных углов плечистые парни. И Федерико, никогда в жизни не задумывавшийся, кто он – белый, цветной? – чувствует: здесь он среди своих. Кажется, заверни за угол – и очутишься в «нижних кварталах» Мадрида, в Триане, либо в кривых переулках Альбайсина.
В Гарлеме у Федерико завелись приятели-музыканты. Объяснялся он с ними главным образом жестами, а что еще нужно, чтобы выразить свое восхищение грустными и лукавыми блюзами, чтобы, взобравшись в перерыве на эстраду, подобрать на пианино полюбившуюся мелодию, а там сыграть да и спеть лихую гранадскую тонадилью, которую, перемигнувшись, подхватит за ним весь джаз-банд?..
А в баре на 137-й стрит каждый вечер поджидал его полусумасшедший старик, потерявший сына на большой войне белых людей. Только это и можно было понять из несвязных речей старика, но Федерико не надоедало их слушать. Заражаясь безмерным отцовским отчаянием, ощущая, словно рушится в нем какая-то внутренняя преграда, он мысленно перекладывал на свой язык не слова, но интонации горестно дребезжавшего голоса, рыдания, вопли.
Погибший мог бы быть и испанцем, его бы звали Хуан...
У меня был сын, которого звали Хуан. У меня был сын. Я стучался во все могилы. Мой сын! Мой сын! Май сын!Сами собой возникали судорожные образы, мучительные, как бред, строки – лишь такие способны были выразить всю нелепость и непоправимость совершившегося, передать эту беснующуюся скорбь.
Я видел: прозрачный аист из пьяного сна расклевывая черные головы умиравших солдат, я видел брезентовые палатки, где ходили по кругу стаканы, наполненные слезами. Да, я знаю, мне подарят галстук или рукава от рубашки; но посреди мессы я сломаю руль, и тогда снизойдет на камень безумье пингвинов и чаек, и заставит оно говорить тех, кто спит, и тех, кто поет на углу: у него был сын Сын! Понимаете? Сын, который принадлежал лишь ему, ибо это был его сын! Его сын! Его сын! Его сын!Одиночество отступало. Гарлем дал ему опору, и королю Гарлема посвятил он одно из первых стихотворений, написанных в Нью-Йорке.
Короля этого Федерико измыслил, соединив в его лице разных людей:
мелькавшего в ресторанном окошечке великана повара, особенно черного в белоснежном, накрахмаленном своем колпаке,
барабанщика из джаз-банда, казавшегося по меньшей мере десятируким, – с таким непостижимым проворством поспевал он колотить по всем инструментам, которыми был обставлен,
величественного швейцара в красной ливрее, расшитой золотыми галунами...
А за ними виделись ему тропические леса с обезьянами и крокодилами, вставал первобытный ликующий хаос.
В этот вечер король Гарлема размахивал ложкой, вырывая глаза крокодилам, и хлопал по заду мартышек большой ложкой. И плакали потрясенные негры среди зонтов и солнц, в золотом закате, и мулаты, махая руками, ловили девичьи плечи, а ветер в туман одевал зеркала и кидался под ноги танцорам.И все это Федерико собирал воедино, под свое знамя, выводил против бездушной, машинной, денежной цивилизации.
О Гарлем переодетый! О Гарлем, осажденный толпой манекенов! Ко мне доходит твой ропот, ко мне доходит твой ропот, пронизывая стволы и лифты, сквозь серые перекрытия, по которым снуют их зубастые автомобили, сквозь конские трупы и недовершенные преступленья, воплощаясь в великом и грустном твоем короле с бородою, впадающей в океан.Начиналась новая книга – он назовет ее «Поэт в Нью-Йорке».
3
Подходит к концу жаркое, суматошное, доверху набитое впечатлениями лето 1929 года. Федерико отправляется в штат Вермонт – погостить на ферме у молодого американца Филипа Кэммингса, с которым он свел знакомство еще в Мадриде, в Студенческой резиденции.
Позади осталось нью-йоркское столпотворение. Бежит навстречу, исчезая под колесами автомобиля, черная нескончаемая лента шоссе. На перекрестках вертятся, как заводные куклы, полисмены-регулировщики, закрытые со всех сторон разноцветными щитами: повернется такой синим боком – путь свободен, красную спину покажет – стоп. Леса густеют, подступают к самым обочинам; реже встречаются роскошные «паккарды» и «роллс-ройсы», чаще -облезлые «фордики», груженные бидонами с молоком, овощами, мелкой живностью. И только дорога все та же – черная, гладкая, разграфленная белыми линейками, с одинаковыми газолиновыми станциями через каждые несколько миль.
Чем дальше на север, тем явственней приближение осени. Неярко светит сонное солнце, воздух наполнен спокойным сиянием. Где-то в лесу шофер заглушает мотор и знаком предлагает Федерико прислушаться. Жужжание пчел доносится из придорожных кустов – мирный, домашний звук. Может быть, Нью-Йорк – всего лишь страшный сон?
Но за поворотом шофер подбирает попутчика -худого, скуластого парня, который, поглядев на Федерико внимательно, заговаривает с ним по-испански. Парень оказывается уроженцем Техаса, наполовину мексиканцем. Последнее время он работал неподалеку отсюда, в большом молочном хозяйстве, и вот лишился работы. Почему? Машины! И чистят и кормят теперь машины, а скоро, говорят, и доить станут... Америка не нуждается в людях, земляк!..
Ферма Кэммингсов стоит на берегу озера Эден Миллс. В хорошую погоду Федерико часами сидит, грызя карандаш, на перевернутой лодке возле самой воды, в дурную – забирается на кухню, поближе к плите, на которой матушка Кэммингс жарит свои знаменитые пончики. Вдвоем с Филипом они бродят по окрестным лесам, раздвигая папоротниковые заросли, перелезая через поваленные стволы и нагромождения валунов, напоминающие Федерико развалины мавританских крепостей где-нибудь в Сьерра-Морене.
А вечерами, когда белый слоистый туман поднимается с озера и в доме зажигают керосиновую лампу, гостя охватывает странное чувство – будто все его детство заглядывает в окна вместе с этим туманом. Он делается рассеян, невпопад отвечает на вопросы и вскоре, торопливо простившись с хозяевами, скрывается в отведенную ему комнатку.
Воспоминания только того и ждут. В одиночестве, в тишине они беспрепятственно набрасываются на Федерико – сперва не дают заснуть, потом врываются в его сны и ворочаются до утра в сознании, словно ключ в заржавевшем замке. Кажется, еще усилие – и откроется какой-то важный секрет, блеснет внезапная связь между многими лицами, событиями, мыслями, разрозненно живущими в памяти...
С особой настойчивостью преследует Федерико одна картина. Ему лет пять или шесть, семья живет еще в Фуэнте Вакеросе, и как-то – помнится, это было осенью – мать строго-настрого запрещает ему в течение нескольких дней не только бегать на улицу, но и подходить к окнам. Разумеется, он потихоньку нарушает запрет, заслышав смешанный шум, несущийся с улицы, – цокот копыт, скрип колес, выкрики, смех.
Что ж видит он, выглянув? Во всю ширину мостовой, верхом на конях и осликах, в повозках, запряженных мулами, бесконечным караваном движутся незнакомые, нездешние люди. Одеты они, как на праздник, – у всадников расшитые седла, пистолеты за поясом, широкополые шляпы сдвинуты набок; женщины в атласных платках, в руках – веера и цветные зонты от солнца. А из окон, из подворотен, с обочин осыпают этих людей бранью и насмешками жители Фуэнте Вакероса. «Козлы! – кричат они всадникам. – Рогоносцы!» Всего удивительней, что едущие почти не отвечают на оскорбления – порой лишь кто-нибудь из мужчин замахнется плетью на мальчишек, приплясывающих у самых копыт, либо огрызнется угрюмо: «Сам ты козел!» Помалкивают женщины, кутаясь в свои платки, – есть, правда, и такие, что не прячут лиц, а усмехаются в глаза обидчикам.
Прогнав сына от окна, донья Висента сама еще долго стоит там, покусывая губы, и Федерико, посмотрев на мать, понимает, что лучше ни о чем ее не расспрашивать. Как всегда в таких случаях, разъяснения дает Долорес, няня Пакито. Те, кто едет по улице, сообщает она быстрым шепотом, это всё мужья и жены, которым бог не дал детей. Недалеко отсюда, в Моклине, есть чудотворный образ. Раз в году туда отправляются богомольцы со всей Андалусии и даже из других краев – просить бога, чтобы смилостивился, послал им сына или хотя бы дочь. «А за что же над ними насмехаются?» – «Злые люди любят посмеяться над чужим горем», – отвечает Долорес, чего-то явно не договаривая. «Ну и дает им бог детей?» – «Кому и дает», – улыбается няня, и больше от нее ничего не добиться.
Уже юношей Федерико попал в Моклин, как раз в дни традиционного богомолья. Церковь, где находился чудотворный образ, воздвигнута была на развалинах мавританского замка, на самой вершине горы. Спиральная дорога вела в эту церковь, и Федерико поднялся по ней вместе с толпой богомольцев. Ближе к вершине, по обе стороны пути теснились нищие – слепые, увечные, прокаженные, громко взывая к милосердию верующих. Еще выше шли палатки торговцев, лотки с колесом фортуны, балаганы, где показывали женщину-паука, двухголовую змею, сросшихся младенцев в спирту и прочие нехитрые чудеса. А чуть поодаль, в тени олив, виднелись прилавки, уставленные бочонками и бутылками, и на эстраде, сколоченной наспех, уже настраивал свои инструменты бродячий оркестр. Звон колокола едва пробивался через причитания нищих, крики торговцев и зазывал, хрипенье шарманок, но богомольцы упрямо шагали на этот звон сквозь строй искушений и жалоб, обратив кверху усталые, запыленные лица.
Зато ночью началась сущая вакханалия. Воздав богу богово, паломники разбредались по склонам. Мужчины усаживались за карты, бражничали, скандалили. Их жены плясали до изнеможения с холостыми парнями, в изобилии стекавшимися в Моклин в эти дни. На одну ночь рушились все запреты. Пары, обнявшись, уходили во тьму – чтобы там, на голой земле, под осенними звездами совершилось долгожданное чудо. Отовсюду неслись звуки поцелуев, прерывистые вздохи, хмельной, беззаботный смех. И захваченный языческой этой стихией, выплестнувшейся на миг из-под коры христианства, восхищенный могуществом жизни, которая опрокидывает все людские установления, Федерико проник до конца в смысл зрелища, поразившего его когда-то в детстве. Даже в тех непристойностях, которыми осыпали богомольцев жители Фуэнте Вакероса, расслышал он отголоски какого-то древнего ритуала.
...Но чего же хочет от него это воспоминание теперь? Почему оно не дает ему покоя за тысячи миль от Испании, в глухом углу бесконечно чужой страны? По закону контраста? А может быть, и потому, что именно здесь, в Америке, которая не нуждается в людях, – здесь впервые во всем своем трагическом величии встает перед Федерико извечное стремление человека во что бы то ни стало продолжить себя – в детях, в потомках, в плодах трудов своих.
Ничего еще не придумано. Только вдруг во рту пересохло. Только заныла опять старая ссадина, забродила давным-давно поселившаяся в сердце боль за женщин – нежных, страстных, жаждущих материнства и обреченных на бесплодное отцветание. Только придвинулась вплотную Андалусия... И – будто не было горьких месяцев, когда он уверял себя, что родник, поивший его, навсегда иссяк. Бьет фонтаном прорвавшаяся струя, размывает невидимую стену, и снова в глазах Федерико оживают краски его земли, и начинают звучать в нем, рваться на волю знакомые и незнакомые голоса.
Туман за окном посветлел. Федерико спит, глубоко, по-детски дыша. На табуретке у изголовья – листок с одним, впотьмах нацарапанным именем: Иерма.
4
Нью-Йорк выглядит неуловимо изменившимся за эти два месяца. Ускорился, что ли, ход невидимого конвейера, задающего темп всему городу? Еще быстрее мелькают ноги прохожих, чаще вспыхивают и гаснут рекламы, короче промежуток между воющими поездами надземки, и все стремительней, все круче лезут вверх биржевые курсы. И такое ощущение почти истерической взвинченности разлито в атмосфере, что сам собою приходит в голову образ стрелки манометра, дрожащей на красной черте.
Да и Федерико переменился. Раздумья последних недель не прошли даром – он чувствует себя увереннее и зорче. В муравейнике Нью-Йорка ему все явственней видится прообраз той угрожающей всему человечеству системы, с разрозненными звеньями которой он встречался и раньше, на родине. По отдельности эти звенья казались куда безобидней, и стоило побывать в Америке для одного того, чтобы убедиться воочию, в какую дьявольскую, всеохватывающую цепь сомкнутся они, если только люди не спохватятся вовремя!
Он не пленник здесь, а лазутчик во вражеском стане – не лазутчик даже, а воин. Любимый герой детских игр вспоминается ему, рыцарь Пульгар – тот, что, ворвавшись в мусульманскую Гранаду, приколотил к дверям мечети свой щит. Пожалуй, впервые в жизни Федерико испытывает страстное желание бросить открытый вызов злу, пригвоздить и свой щит к стене небоскреба. Увиденное и понятое облекается в слова, отвлеченные понятия начинают обрастать плотью. Возникают стихи, каких он еще никогда не писал.
Я обвиняю всех, кто забыл о другой половине мира, неискупимой и неискупленной, воздвигающей цементные громады мышцами своих сердец... ...Я плюю вам в лицо И та половина мира слышит меня...А между тем и поток воспоминаний все ширится, превращаясь в творчество и устремляясь по нескольким руслам сразу. Одновременно с книгой «Поэт в Нью-Йорке» Федерико пишет лирическую драму «Когда пройдет пять лет», вкладывая в нее многое из пережитого за последние годы, В этой драме на равных правах с людьми действуют создания их фантазии и реальность перепутывается с вымыслом почти так же, как в жизни самого автора.
И тогда же приходит ему охота воспользоваться еще раз сюжетом жестокого фарса о доне Перлимплине – только чтобы теперь дело происходило не в сказочном мире, а в обыкновенной деревне, и чтобы вместо мечтателя в пудреном парике там действовал просто пожилой Башмачник, а вместо Белисы – молодая Башмачница, прелестная и сварливая. И соседки-сплетницы. И величественный Алькальд, и тонконогий сморчок – дон Дроздильо, и просто Парень, безнадежно влюбленный в Башмачницу.
...А где-то совсем глубоко зреет замысел трагедии о женщине, по имени Иерма, что значит «бесплодная».
Вокруг же все идет, вернее несется, по-прежнему. Газеты заняты визитом Макдональда в Соединенные Штаты, продвижением Берда во льдах Антарктики, недавней женитьбой знаменитого летчика Линдберга на мисс Энн Морроу. Обсуждают новый правительственный кризис во Франции и ухудшающееся положение испанского диктатора. Модницы воюют за право ходить без чулок, великий бейсболист Бэхей Рут пожинает свои последние лавры, и тысячи американцев, отдавая очередной приказ о покупке акций, повторяют, как заклинание, магическую формулу: МАССОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО+ РЕКЛАМА+ПОКУПКА В КРЕДИТ= ПРОЦВЕТАНИЕ НЫНЕ И НАВСЕГДА.
23 октября «Нью-Йорк таймс» помещает заявление президента «Нейшнл сити банк»: «Положение в Соединенных Штатах является фундаментально прочным». Вечером этого же дня цены на акции начинают стремительно падать.
24 октября биржу охватывает паника. Маклеры не успевают продавать акции. Обезумевшая толпа наводняет Уолл-стрит. В сотнях контор по всей стране люди, оцепенев, глядят на бесстрастно тикающий аппарат, из которого выползает лента с цифрами, несущими им разорение.
Мойщик окон, сестра милосердия, вагоновожатый, скотовод и множество таких же, как они, потеряли все свои сбережения. Те, кто вчера еще считал себя богачами, сегодня – несостоятельные должники. Газеты публикуют сообщения о самоубийствах. Потрясенная Америка смотрит в бездну, внезапно разверзшуюся у ее ног.
Как и прежде, течет под окном автомобильная река, как и прежде, скачут и крутятся огни на Бродвее, но прежний ритм непоправимо нарушен. И острая жалость к несчастным жертвам переплетается в Федерико с неудержимой, мстительной радостью. Так, значит, она не всесильна, эта дьявольская машина!
Обоим этим чувствам дает он волю в стихах. Над кладбищенским порядком бесповоротно мертвой цивилизации торжествует в его стихах иная, языческая, чреватая обновлением Смерть. В карнавальной маске, расплатой за миллионы загубленных жизней несется она с берегов Африки и возникает посреди Нью-Йорка, на Уолл-стрите.
Нег, уверяю вас, смерть выбрала хорошее место для своей пляски. Призрак будет плясать среди потоков крови, в ураганах золота, между колоннами цифр, под стон безработных, что воют безлунной ночью. О Америка, дикая, бесстыдная, злая, распростертая на границе снегов!Стихотворение «Пляска смерти» Федерико заканчивает – такого с ним тоже еще не бывало – пророчеством и проклятьем:
Пусть же кобры зашипят на верхних этажах небоскребов, пусть крапивою зарастут дворы и балконы, пусть превратится биржа в замшелую пирамиду, пусть лианы придут по следам винтовок и поскорей, поскорей, поскорей. Горе тебе, Уолл-стрит!5
Февральский ветер свистит в каменных щелях Нью-Йорка, гонит вдоль улиц бумажный мусор. А в одной из гостиных Дома студентов при Колумбийском университете – испанское знойное лето. Повсюду разбросаны золотистые апельсины, и кажется, что они, словно маленькие солнца, излучают свет и тепло.
Апельсины привезены только что прибывшими в Нью-Йорк экс-матадором Игнасио Санчесом Мехиасом и танцовщицей Энкарнасьон Лопес – Аргентинитой, давнишней приятельницей Федерико. Чуть ли не вся испанская колония собралась сегодня – повидаться с земляками, расспросить их, что же в конце концов произошло на родине, каким образом совершилось падение Примо де Риверы. Здесь и профессора испанской литературы в американских колледжах и университетах – Анхель дель Рио, Федерико де Онис, Дамасо Алонсо, и старый знакомый, художник Гарсиа Марото, издавший в свое время «Книгу стихотворений», и поэт Леон Фелипе, с которым Федерико особенно подружился в Нью-Йорке. Сам Федерико сидит в своей излюбленной позе – у рояля, полуобернувшись к присутствующим.
Дон Игнасио, как всегда, сдержан, немногословен. Что песенка Мигелито спета – это стало ясно еще осенью, весь вопрос заключался в том, как уйти со сцены с достоинством. Накануне Нового года он в официальном заявлении сам признал, что от него отвернулись почти все – аристократия, церковь, промышленники, финансисты, государственные служащие, печать... И все же он медлил, пока снова не поднялись студенты, пока не стало известно, что генерал Годед, военный губернатор Кадиса, готовит новый заговор, в котором участвует великое множество политических деятелей.
Сам король, опасаясь за судьбу трона, видел единственное спасение в уходе окончательно скомпрометированного диктатора. Но Примо де Ривера и тут не смог обойтись без эффектного жеста – он разослал телеграммы десяти капитан-генералам Испании, главнокомандующему вооруженных сил, начальникам гражданской гвардии и пограничных войск, требуя ответить, продолжают ли армия и флот оказывать ему поддержку. Мигелито еще на что-то надеялся. Однако уклончивые ответы, которые он получил, показали, что диктатор лишился и этой последней опоры. 28 января 1930 года Примо де Ривера попросил, наконец, короля об отставке, и тот, со вздохом облегчения приняв ее, поручил генералу Беренгеру сформировать новое правительство. Развенчанный диктатор отправился в изгнание, а те, кто был изгнан по его милости, начинают возвращаться на родину.
Собравшиеся довольны. Отрадные вести! Теперь, глядишь, и цензуру отменят. Только старый бунтарь Леон Фелипе настроен скептически: пока существует монархия, свободы ждать нечего. Уважаемые друзья запамятовали, должно быть, что за фрукт этот Беренгер – солдафон, как и Мигелито, да к тому же один из главных виновников аннуальской авантюры!
Ему возражают. Что ни говорите, а новое правительство принесло-таки присягу конституции, упраздненной Примо де Риверой, – значит, с режимом диктатуры покончено! Завязывается спор, и через несколько минут все уже кричат, перебивая друг друга и досадливо морщась всякий раз, как из угла, где сидит Федерико, раздаются звуки рояля.
Музыка, однако, не унимается, она врывается в спор все настойчивей. Облокотилась на рояль Аргентинита, стал прислушиваться дон Игнасио, а там и Леон Фелипе, оставив без возражения очередной довод сторонников умеренного прогресса, оборачивается к Федерико и спрашивает вдогонку отзвучавшей мелодии:
– Что это?
– Колыбельная песня, – усмехается Федерико, – ее поют цыганки в Севилье. – Едва прикасаясь к клавишам, он хрипловатым голосом напевает на тот же самый, бесконечно печальный мотив:
У этого лягушонка совсем нет мамы: он был рожден цыганкой и брошен в яму. Да, у него нет мамы; нет, у него нет мамы; совсем нет мамы; он брошен в яму.– Какая страшная колыбельная! – вздрагивает Аргентинита. – Такою не убаюкаешь ребенка, а наоборот – растревожишь...
Федерико кивает: вот именно. Этим-то испанские колыбельные и отличаются от всех других. Взять, например, французскую – он наигрывает – или немецкую. Напевы нежные, монотонные, единственная их цель – усыпить ребенка. Русская песня полна смутной тоски, но тоска эта еще не ранит ребенка, как не ранит его пасмурный день за окном. Иное дело – испанская песня с ее беспощадной ясностью, с ее патетической простотой. Она подобна природе, среди которой рождается, – те же резкие очертания, тот же суровый драматизм. В Испании колыбельная – первое, что знакомит ребенка с жестокостью жизни.
Но есть ведь в Испании и веселые, задорные, шуточные песни. Почему же так горестны именно те, что поются над колыбелью? Наверное, потому, говорит Федерико, что сложены они бедными женщинами, для которых дети не только радость, но и обуза, а порою и тяжкий крест. Вот и смешивается в колыбельных любовь со скорбью, которую матери не умеют, да и не желают скрывать. А потом, становясь кормилицами и нянями в богатых домах, они приносят туда свои песни. Так получается, что в семьях, не знающих бедности, испанцы с младенчества приобщаются к печали родной земли.
Уже давно все столпились вокруг рояля. Федерико поет, рассказывает и снова поет. Откуда знает он все эти колыбельные? Вот ночная, а эта поется днем. А вот так поют в Саламанке: мать уговаривает ребенка заснуть на часок, развязать ей руки – нужно белье постирать да приготовить обед. Эта – кадисская: опасность близка, спрячемся поскорее, сыночек! А эта из Бургоса, и поет ее несчастная мать над ребенком, которому лучше бы не родиться – никогда он не узнает отца. Или вот еще астурийская, нестерпимо горькая, – женщина баюкает сына в ожидании пьяного мужа, который будет вымещать на ней побоями свои неудачи...
Аргентинита радуется: Америка пошла Федерико на пользу, он снова такой, каким привыкли видеть его друзья. Мальчишеского в нем теперь, пожалуй, чуть меньше, от крыльев носа вкось сбегают две складки, но и это ему к лицу. Забывшись, она смотрит на него так, что в другое время это вряд ли понравилось бы дону Игнасио, путешествующему вместе с нею. Однако сейчас дон Игнасио сам глядит на Федерико влюбленно. У прославленного матадора вообще-то нелегко на сердце: литературная карьера не удалась, быть импресарио Аргентиниты не по нему; придется, видимо, возвращаться на арену... Но сейчас все это неважно, только бы длилось колдовство, только бы звучал хрипловатый голос.
А Леону Фелипе, еще не остывшему от спора, чудится, будто сама Испания, трагическая и бессмертная Испания-мать, о которой забыли его почтенные оппоненты, вошла с этими песнями в нью-йоркскую гостиную, склонилась над колыбелью, где лежит ее будущее... Каким-то оно окажется?
Федерико меж тем затягивает еще одну колыбельную, никем из присутствующих не слыханную. Два голоса в его голосе, две женщины поют эту песню попеременно – мать и бабка,одержимые общей, мучительной, скрываемой друг от друга тревогой. Но предчувствие горя помимо их воли переливается из голоса в голос.
Начинает бабка, укачивая ребенка:
Баю, милый, баю, песню начинаю о коне высоком, что воды не хочет. Черной, черной, черной меж ветвей склоненных та вода казалась. Кто нам скажет, мальчик, что в воде той было?Тихо вступает мать:
Усни, мой цветочек! Конь воды не хочет. Старуха подхватывает: Усни, лепесточек! Конь взял и заплакал. Все избиты ноги, лед застыл на гриве, а в глазах сверкает серебро кинжала. На коне высоком беглецы спасались, кровь свою мешая с быстрою волною.Мать:
Усни, мой цветочек! Конь воды не хочет.Бабка:
Усни, лепесточек! Конь взял и заплакал. И снова мать: К берегу сырому он не потянулся вспененною мордой; жалобно заржал он, поглядев на горы — суровые горы. Ах, мой конь высокий, ты воды не хочешь! Скорбь горы под снегом, кровь зари на небе...В голосе старухи отчаяние:
Не входи, помедли, заслони окошко сонной этой ветвью, сном, упавшим в ветви.Но мать покорна:
Мальчик засыпает.И бабка покоряется:
Мальчик затихает... Баю, милый, баю, песню начинаю...Мать:
О коне высоком, что воды не хочет.И снова бабка:
Не входи, не надо! За долиной серой, за горою скорбной ждет тебя подруга.Мать глядит на ребенка:
Мальчик засыпает.Бабка соглашается:
Мальчик отдыхает.Мать – еле слышно:
Усни, мой цветочек! Конь воды не хочет.И еще тише – старуха:
Усни, лепесточек! Конь взял и заплакал.Несколько секунд все молчат. Наконец всезнающий Дамасо Алонсо спрашивает растерянно:
– Откуда ты взял эту песню?
И Федерико смеется:
– Сам сочинил!
6
Чернокожий мальчишка навел последний неописуемый глянец на чужие ботинки, полюбовался своей работой, прищелкнул языком, поймал монету и от полноты чувств лихо выстукал щетками по сундучку замысловатую дробь. Клиент не спешил уходить – белозубый, смуглый, широколобый, стоял он рядом, сосредоточенно вслушиваясь. Вдруг, присев на корточки, он выхватил щетки из рук негритенка и отстучал – точка в точку – тот же самый ритмический узор. Негритенок разинул рот. Федерико захохотал, хлопнул его по плечу, распрямился и зашагал, насвистывая, по Прадо.
Хоть эта улица Прадо находилась и не в Мадриде, а в Гаване, он, право же, чувствовал себя здесь словно на родине – в одном из портовых городов Андалусии. Дай бог здоровья дону Фернандо Ортису, президенту Испано-кубинского института культурных связей, пригласившему Федерико на Кубу выступить с лекциями и стихами! В обе стороны от широкой зеленой Прадо расходились улицы Старой Гаваны, напоминавшей Кадис своими белыми домами и решетчатыми балконами. Впереди, над набережной, носились чайки, и небо было как в Малаге – ярко-голубое, сверкающее, и все острей становился свежий, несравнимый ни с чем запах моря. А главное, что родная, испанская, по-южному громкая речь – слишком, пожалуй, громкая даже для его андалусского уха – раздавалась вокруг.
Но не только язык, не только вид города: жесты и манеры людей, смех и музыка, уличный шум, сама атмосфера Гаваны, страстная и ленивая одновременно, – все это было настолько знакомо, что порою в кафе Федерико, забывшись, хлопал в ладоши, подзывая официанта, – испанский, не принятый на Кубе обычай.
– Удивляться тут нечему, – объяснял ему элегантный и рассудительный Хуан Маринельо, поэт, эссеист, один из главарей бунтарского журнала «Ре-виста де авансе». Федерико подружился с ним с первых дней своего пребывания в Гаване. – Изо всех уроженцев Испании, колонизовавших Кубу, именно андалусцы оставили наиболее глубокий след в нравах нашей страны, в песнях ее, в языке. Больше того! Андалусия, как известно, обязана своеобразием удивительному сплаву двух начал, испанского и африканского – африканского, разумеется, в широком смысле этого слова. Но ведь этот же самый сплав, хотя и в иных пропорциях, лежит в основе кубинской нации, кубинской культуры! И еще одна черта сходства: в жизни Кубы, в ее искусстве негры играют почти ту же роль, что цыгане в Андалусии.
А откуда знает Хуан, какую роль играют в Андалусии цыгане? Тот отвечал, улыбаясь, что из стихов некоего Гарсиа Лорки.
В самом деле, здесь любили его поэзию. Новые друзья с гордостью показывали Федерико экземпляры «Песен» и «Цыганского романсеро», раньше автора попавшие за океан, – тронутый, он покрывал рисунками страницы этих зачитанных, бережно хранимых книжек. В стихах осаждавших его молодых поэтов он узнавал подчас собственные интонации. Выступления проходили при переполненном зале. В день лекции о канте хондо разразился тропический ливень. Из окошечка такси Федерико видел, что за вихри неслись вдоль улиц, вздымая женские юбки, катя по асфальту шляпы, вырывая зонтики из рук прохожих. Уверенный, что лекция не состоится, он попросил шофера обождать у подъезда. Каково же было его изумление, когда, приложившись к дырочке в занавесе, он увидел отчаянно вымокшую, но веселую, молодую и, как всегда, многочисленную аудиторию! В этот вечер, глядя в восторженные и требовательные глаза слушателей, Федерико ощутил непривычное чувство ответственности – за свои стихи, за поэзию вообще, за Испанию, которую он как-никак здесь представлял.
Просыпаясь в номере отеля «Ла Унион» – пристанища коммивояжеров и провинциалов, совершающих свадебное путешествие, он знал, что друзья уже дожидаются в вестибюле. Куда сегодня? В Сьенфуэгос, в Матансас, на пляж Варадеро, в долину Виньялес? Вся Куба звала его в гости.
Позавтракав, садились в машину и «отплывали», или шли на вокзал и опять-таки «отплывали» – Федерико приводило в восторг это кубинское выражение, оставшееся в языке с далеких времен, когда на острове не существовало сухопутных дорог и добраться куда-либо можно было лишь по морю. Они ехали сплошным зеленым тоннелем, меж двумя рядами деревьев, соединивших вверху свои кроны, – ветер гудел в стволах, словно в гигантской арфе. Проезжали через городки, сохранившие колониальный, староиспанский облик – одноэтажные каменные дома, внутренние дворики-патио, мощеная площадь с неизменно бездействующим фонтаном. Углублялись в бескрайние тростниковые поля, над которыми то там, то здесь вставали королевские пальмы, покачивая хвостатыми верхушками, да на горизонте виднелись, приводя на память равнину Веги, кирпичные трубы сахарных заводов. Федерико сидел у рыбацких костров на океанском, пустынном по-весеннему пляже, поднимался в горы, чтобы полюбоваться оттуда сказочным видом долины Юмури, походившей в сумерки на огромный аквариум, освещенный изнутри.
– Ну, да это еще что! – горделиво говорили спутники. – На восточном побережье, в Сантьяго, природа куда красивей!
Что ж, он не покинет острова, не побывав в Сантьяго-де-Куба! Тем более что и это название напомнило вдруг Федерико детские годы – оно было как-то связано с восхитительно пахнувшими коробками из-под кубинских сигар, которые отец отдавал ему. Ромео и Джульетта – розовые, синие, золотые – красовались на крышках тех коробок, и окруженный медалями профиль основателя фирмы – рыжекудрого, рыжебородого сеньора Фонсеки победительно взирал с ярлыков. Праздничное блистание красок, запах детства, предощущение неминуемого чуда впереди – все ожило, как только прозвучало слышанное когда-то сочетание слов. «Я поеду в Сантьяго-де-Куба, – повторял он про себя, точно заклинание. – Я поеду в Сантьяго».
Кубинские впечатления не мешали работе, которая шла в нем последнее время. Театральные замыслы занимали все больше места в этой работе; драматургия оказывалась лучшим способом высказать то, что хотелось. Но театр, о котором мечтал Федерико теперь, был особым театром – в нем само действие должно было вырастать из поэзии, ни на секунду не порывая с ней связи.
Возвращаясь в отель «Ла Унион», Федерико запирался на ключ и торопливо переносил на бумагу все, что накопилось за время поездки или за день, проведенный в Гаване. От причудливых, зашифрованных видений лирической драмы «Когда пройдет пять лет» он переходил к фарсу о Башмачнике и Башмачнице. Условный сюжет наливался соками андалусской земли. Расталкивая локтями прочих персонажей, вырывалась на первый план героиня, женственная дикарка, воюющая с целым светом – с действительностью, которая ее окружает, и со своими фантазиями, когда они становятся действительностью.
Да, она отравляла жизнь своему покладистому, безответному мужу – ведь ему было за пятьдесят а ей всего восемнадцать. Какие женихи к ней сватались! И все-таки ее выдали застарика, и теперь у нее, наверно, не будет детей, а она так их любит... Но стоило Башмачнику, доведенному до отчаяния, покинуть дом, как становилось ясно, что нет жены вернее. Что бы там ни сплетничали соседки, Башмачница не склонялась ни на чьи ухаживания. И дон Дроздильо, и сам сеньор Алькальд, и даже молодой Парень, подпоясанный кушаком, ничего от нее не добились. Больше того: брошенная Башмачница все сильней тосковала по доброму мужу, наделяла его в своем воображении всяческими достоинствами и в конце концов полюбила его так, как никогда не любила.
А воротись попробуй Башмачник, предстань он жене в своем подлинном, будничном виде – и все начнется сначала!
Работая над «Чудесной башмачницей», Федерико старался идти от «Стихов о канте хондо», «Песен», «Цыганского романсеро». Стихия народной поэзии должна была стать здесь не фоном, на котором действуют герои пьесы, но воздухом, которым они дышат, средой, определяющей их поступки. Раздумывая над этим, он незаметно для себя переходил к иному, заветному замыслу – о женщине, не знающей материнства.
В сущности, это была его давняя тема, но теперь за женщиной, привидевшейся ему, вставал целый мир – родной, извечный, истинный. Не аллегория, не символ – простая крестьянка, жаждущая ребенка и неповинная в своем бесплодии, Иерма была дочерью этого мира.
Да и тот, кто отказывал ей в материнстве, ее муж, был самым обыкновенным крестьянином-собственником, одним из тысяч, встречавшихся Федерико повсюду, от гранадской равнины до берегов озера Эден Милле. Но – собственник – он, сам того не подозревая, тоже представлял целый миропорядок, пришедший на смену древним, патриархальным законам.
Давно ли, кажется, этот миропорядок провозглашен был спасительным и справедливым для всего человечества? Давно ли его глашатаи обручились с народной стихией, суля ей свободу, счастье, бессмертие? И вот уж он одряхлел, и те, кто ратовал за него, опустошенные, духовно нищие, не способны больше смотреть вперед, не желают – потому что боятся – будущего. Для них существует лишь то, что они пока еще держат в своих руках, то, что видят собственными глазами. «Сегодня, сегодня, сегодня», – твердят эти люди, поедая свой хлеб у теплого очага. Бесплодные, они отказывают в бессмертии всем, кто – вольно или невольно – связал с ними свою судьбу.
История Иермы была обыденной, повседневной драмой многих испанских женщин, созданных для материнства и обреченных на бездетность. И в то же время угадывалось в ней нечто большее – трагедия обманутой народной души.
Но какая же требовалась поэзия, чтобы извлечь угаданное и воплотить его, чтобы поднять бытовую драму, не оторвав ее от земли, на трагедийную, отовсюду видимую высоту! У Федерико дух захватывало, когда он об этом думал; все написанное им до сих пор казалось незначительным в сравнении с тем, что предстояло. Отступать, однако, было уже поздно – впрочем, он и не хотел отступать.
7
Журналист Николас Гильен, коренастый двадцатисемилетний мулат, поглядывая на Федерико исподлобья, читал ему свои стихи – иронические сонеты, изящные, под Рубена Дарио, баллады, свободные строки, написанные в новейшей авангардистской манере. Все это было вполне профессионально, свидетельствовало о хорошем вкусе и обширной поэтической эрудиции. Не хватало одного – собственного голоса. Федерико молчал, опустив голову.
Тот, видимо, почувствовал – ноздри его раздулись, резче обозначились скулы. «Романс о бессоннице», – начал он, и с первых слов Федерико узнал интонацию «Цыганского романсеро», подхваченную уже многими подражателями. Но здесь она была нарочито подчеркнута, заострена до пародийности... Ах, вот оно что! Этот парень, оказывается, ступал в чужой след не бездумно; он не отгораживался от влияний, а впускал их в себя – так впускают вражеский отряд в осажденную крепость, чтобы справиться с ним внутри, обезоружить, вызнать секреты, а там, глядишь, и перейти в наступление. Рискованный способ, требующий абсолютной уверенности в собственных силах! Вскинув голову, Федерико синтересом посмотрел в сумрачные глаза Николаса. «Ты понял?» – требовали эти глаза, и он закивал, улыбаясь: понял, понял.
Говорить о стихах не стали. Исполнившись доверия к Федерико, Гильен охотно отвечал на его расспросы. Он родился в Камагуэе, где отец его был одним из вождей либеральной партии. В семье любили говорить о двух предках – об отцовском, конквистадоре, и о том черном, привезенном из Африки, к которому восходил материнский род. Первое воспоминание детства: всадники в широкополых шляпах скачут по улице – это девятьсот шестой год, гражданская война, новая американская оккупация. Николасу не исполнилось еще пятнадцати лет, когда отца расстреляли солдаты правительства. Бедность, отчаянные усилия матери вырастить шестерых детей, работа в типографии пополам с ученьем... И все унижения, выпадающие на долю человека смешанной крови.
Знает ли Федерико, что на Кубе судьба человека и теперь во многом зависит от цвета кожи? Что после двух революций, после принятия конституции, в которой торжественно провозглашено равенство всех граждан, до сих пор существуют места, где неграм и мулатам лучше не появляться? Попробуй-ка они в том же Камагуэе зайти в парк Аграмонте! И это на Кубе, которой негры дали лучшие ее ритмы, танцы, красочные обряды!
Голос Николаса вдруг потеплел. Он заговорил, все более увлекаясь, о легендарной негритянке Теодоре Хинес, по прозвищу «Ma Теодора», прославившейся своими плясками и куплетами еще в XVI веке, о том, как и поныне на улицах Гаваны устраивают карнавальное шествие, или скорее игру с гигантским изображением змеи, о состязаниях певцов-импровизаторов, старающихся перещеголять друг друга в остроумии и находчивости. А песенки городских окраин? Ведь это же целый эпос с постоянными героями – легкомысленной Аделой Кинь Грусть, прелестной мулаткой Марией де ла О, негром-губошлепом Перико Требехо!..
Федерико взмолился: он должен во что бы то ни стало услышать, увидеть своими глазами все это – ну, разве что кроме певицы XVI века! Упрашивать Гильена не пришлось. Очень довольный, он тут же повел Федерико в черные кварталы – в Гуанабакоа, в Реглу, распахнул перед ним двери Академии негритянского танца, куда вообще-то посторонних не допускали, а после потащил его по кабачкам, барам и прочим заповедным местам, где все знали Николаса и дружелюбно приветствовали его спутника, где Гавана плясала и пела не для туристов, а для себя самой.
Не один вечер просидели они вдвоем за бутылкой золотистого гаванского рома под колдовские звуки, извлекаемые из дерева, металла, обожженной глины и высушенных тыкв длинными черными пальцами музыкантов. Облокотившись на стол и держа рюмку перед глазами – он называл это: «видеть жизнь в ромовом свете», – Федерико внимательно слушал пояснения Гильена, великого знатока народных музыкальных форм – дансонов, румб, гуарачей.
Особое предпочтение Николас отдавал сону, танцу-песне, пришедшему из Сантьяго и полнее всего воплотившему кубинский характер. В соне, утверждал он, можно выразить любое чувство – так велико его ритмическое разнообразие и такую свободу предоставляет он для импровизации. А впрочем, что тут объяснять! Загоревшись, он переглядывался с музыкантами, обменивался несколькими словами с ближайшими соседями, и вот уже воцарялась тишина в кабачке, трехструнная гитара с барабаном-бонго начинали выплетать свои узоры, и какой-нибудь оборванец, выйдя на середину, затягивал сон о Папе Монтеро:
Сеньоры, сеньоры, мне родные покойника оказали доверье, чтобы прогнал я горе, которое мыкал всю жизнь Папа Монтеро.Раздавался яростный взрыв ударных инструментов. Затем вступал общий хор посетителей, то ли всерьез подражая заупокойной молитве, то ли кощунственно ее пародируя:
Пусть оплачет нашего друга – сумба! — знойная румба.«В землю уже закопали», – жаловался солист. И хор весело подтверждал:
– сумба! — румберо-каналью.Все более легкомысленным тоном запевала принимался перечислять земные блага, которых безвременно лишился каналья румберо:
Никогда уже не наденет сомбреро.– Сумба! – подхватывал хор еще веселей. – Папа Монтеро!
Постепенно ритм учащался. Его отбивали ладонями по столикам, по коленям, выскакивали в проход и, повинуясь подмывающей музыке, начинали двигать плечами и бедрами. Плясали все посетители, плясали музыканты, не выпуская из рук инструментов, плясал Николас в сбившемся набок галстуке, плясал Федерико, азартно перенимая коленца у откаблучивавшей перед ним грудастой мулатки. Над заботами и горестями, над всяческими запретами и, кажется, над самою смертью торжествовал бесшабашный кубинский сон.
Расходились под утро. Всю дорогу до отеля Федерико продолжал донимать Николаса расспросами; и, посвящая его в тайны сона, где счастливо встретились два потока – негритянский и креольский, Гильен почему-то испытывал такое чувство, как будто не спутнику, а себе самому открывает он глаза, как будто многие мелочи, порознь жившие в памяти, соединяются вдруг, становятся необыкновенно значительными от одного лишь присутствия этого человека.
Уже простившись, Федерико порывался еще что-то спросить или сказать, но каждый раз останавливался и только бросал на приятеля взгляд, который показался бы тому укоризненным, если бы он знал за собою хоть какую-нибудь вину. Однако взгляд этот преследовал Николаса до самого дома, странным образом смешиваясь в его сознании с собственными растревоженными мыслями, с неотвязно звучащими ритмами...
То, что исподволь созревало в нем, конечно, вышло бы наружу и без знакомства с Федерико. И все-таки именно в одну из этих апрельских ночей 1930 года Николас Гильен впервые ощутил, что ритм, пронизывающий его, начинает превращаться в слова, расслышал четыре слога, которые нашептывал ему на ухо незнакомый голос: «негр-губошлеп, негро-бембон». Он так и не уснул до утра. Негро-бембон, негро-бембон, негро-бембон... Едва рассвело, он принялся за работу и, словно припоминая позабытый мотив, в один присест записал стихотворение, не похожее ни на одно из тех, какие сочинял раньше. Стихотворение называлось «Негро-бембон»; два эти слова прошивали его насквозь, как припев. А следом пришли другие стихи – о девчонке, что верна своему негру, и о другой, продающей себя за деньги, о любви на пустой желудок и просто об уличной встрече:
Иди, иди, прохожий, шагай, иди без остановки, шагай! Зайдешь к ней в дом – что видел меня, не выдавай. Иди, иди, прохожий, шагай!Только к вечеру положил он перо, еще раз перечитал восемь лежащих перед ним стихотворений, глубоко вздохнул, поставил общий заголовок: «Мотивы сона». Теперь он знал, что за голос не давал ему покоя всю ночь – наконец-то собственный его голос!
Успех «Мотивов сона» был оглушительным – их тут же положили на музыку, их распевали на улицах люди, отродясь не читавшие стихов, не знавшие даже имени автора. Критики заявляли, что Гильен отыскал секрет по-настоящему кубинской поэзии, в поисках которой уже давно блуждают лучшие таланты. Раздавались, правда, и другие голоса, обвинявшие поэта в потворстве низменным вкусам толпы.
Как-то на очередном банкете в честь Федерико Гарсиа Лорки – число этих банкетов по мере его пребывания на Кубе возрастало в геометрической прогрессии – встал с бокалом в руке некий сеньор, один из тех, кто, не написав ни строчки, ухитряется занимать пожизненное место в отечественной литературе. Федерико терпеливо слушал речь, переливавшуюся всеми красками тропического красноречия. Вдруг он насторожился – оратор превозносил Гарсиа Лорку за достойную восхищения осторожность, которую тот проявляет в использовании народного творчества, облагораживая его и возвышая до уровня настоящей поэзии. Какой пример, восклицал сеньор, расплескивая в возбуждении вино на скатерть, для некоторых из молодых поэтов Кубы, впогоне за дешевой популярностью протягивающих руку уличной музе и не останавливающихся перед тем, чтобы ввести в литературу столь вульгарный, он бы даже сказал, площадной, жанр, как сон!
Гости переглянулись – одни со злорадством, другие с возмущением: все понимали, о ком идет речь. Момент был выбран хитро, оратор мог быть уверен, что не встретит отпора, – кто же станет превращать чествование Гарсиа Лорки в дискуссию о Гильене! – a между тем его выпад назавтра же облетел бы всю Гавану и Федерико невольно оказался бы причастным к этому.
С безмятежным лицом поднялся Федерико для ответного слова. Те, кто еще надеялся, что он по крайней мере возразит наглецу, опустили глаза: поэт в изысканных выражениях благодарил своего прославленного собрата, украшение обеих Америк, гордость испанской расы, за незаслуженно высокую оценку, которой тот удостоил его стихи, – разумеется, по своей безграничной благожелательности, так выразительно здесь сегодня продемонстрированной.
Кто-то, не выдержав, прыснул в салфетку. Прославленный собрат медленно наливался кровью. Федерико невозмутимо продолжал. Лишь исчерпав запас общих мест и несусветных комплиментов, засевших в памяти еще с лекций дона Рамона в Гранадском университете, он попросил позволения заключить речь новыми стихами, написанными на Кубе. Все захлопали. Украшение обеих Америк впервые перевело дух – и тут же снова втянуло голову в плечи.
– Стихотворение, которое я прочту, – сказал Федерико, – называется «Сон».
Сейчас он был серьезен по-настоящему.
Когда выглянет месяц полный, я поеду в Сантьяго-де-Куба, поеду в Сантьяго. Оседлаю черные волны и поеду в Сантьяго. Когда пальма захочет стать птицей, поеду в Сантьяго, и в медузу платан превратится — поеду в Сантьяго.В притихшем банкетном зале плыл, покачиваясь, кубинский народный сон с испанской поэзией на борту – уплывал, не трогаясь с места, в неведомый край детской мечты.
С рыжеголовым Фонсекой поеду в Сантьяго, с Ромео и розовою Джульеттой поеду в Сантьяго. ...О Куба! О ритм шелестящий, острый! Поеду в Сантьяго. О канувший каплей в тропики остров! Поеду в Сантьяго. Арфа тугих стволов, цветок, кайман безмолвный! Поеду в Сантьяго. Я всегда говорил, что поеду в Сантьяго — оседлаю черные волны и поеду в Сантьяго.Переждав аплодисменты, Федерико поднял руку.
– Я написал эти стихи, – сказал он, обводя пристальным взглядом гостей, – в подражание моему другу, поэту Николасу Гильену.
8
Жизнь без забот и тревог, слава, дружба, влюбленные глаза женщин – вот это, наверное, и называется счастьем? Все новые пейзажи развертывает перед Федерико неисчерпаемая Куба, все новых знакомых дарит ему: сегодня – русского композитора Сергея Прокофьева, концертирующего в Гаване, завтра – генерала Лойнаса дель Кастилье, сражавшегося вместе с Хосе Марти за освобождение острова...
У старика генерала, вернее у супруги его, – настоящий дворец, сказочный и нелепый, выстроенный жившим когда-то на Кубе Луи Филиппом, герцогом Орлеанским, который стал потом королем Франции. Ныне дворец обветшал, хозяйничают в нем генеральские дети – Энрике и Дульсе Мария, оба поэты, талантливые и сумасбродные. По вечерам к ним собирается молодежь – читают стихи, спорят о поэзии, а председательствует на этих сборищах старый слуга-негр, без его разрешения никто не смеет произнести ни слова. Федерико возвращается оттуда, изнемогая от смеха, провожаемый толпой почитателей.
Все прекрасно. В Испанию он не торопится – там, судя по газетам и письмам, ничего пока не изменялось. Тоска по дому не донимает его – только вот стала сниться под утро бурая, морщинистая равнина, дряхлая башня, аист на ней...
Можно жить и без этого.
Без этого?..
Первым же пароходом он отплывает на родину.
Глава шестая
Если умру я —
не закрывайте балкона.
Сорвет апельсин ребенок —
и я увижу с балкона.
Пройдут косари покосом—
а я услышу с балкона.
Если умру я —
не закрывайте балкона.
Федерико Гарсиа Лорка1
Смуглая гранадская луна смотрит в окно. Давно разошлись гости, собравшиеся послушать рассказы Федерико о заморских краях и заодно отпраздновать, хоть с опозданием, его тридцатидвухлетие. Тишина такая, что слышно, как внизу в столовой ходит маятник старинных часов, напоминая вкрадчиво: еще секунда прошла, еще секундой меньше...
Что ж, половина жизни, пожалуй, прожита; впереди – каких-нибудь три, от силы четыре десятка лет. Успеть бы! Ведь настоящий Гарсиа Лорка только еще начинается. Ведь главные замыслы едва лишь проклевываются в нем.
Правда, стоило ему вновь ступить на испанскую землю, как эти замыслы стали разрастаться. Замечал ли он раньше, каким царственным жестом принимает подаяние нищий на привокзальной площади?
А с каким врожденным артистизмом официант в кафе «Алькала», вмешавшись в спор посетителей – знатоков корриды, показал с помощью своего фартука, что именно должен был сделать Бельмонте, не оплошай он в последнем бою!
И как самозабвенно отплясывала хоту девчонка-подросток в одном из «нижних кварталов» перед единственной хлопавшей в такт подругой – словно перед полным зрительным залом!
Нет, не зря побывал он в Америке. Обостренному зрению открывалась теперь внутренняя связь многих, примелькавшихся с детства явлений. В уличных сценках и застольных беседах жил тот же дух, что в процессиях на страстной неделе, в состязаниях кантаоров, в площадных кукольных фарсах. В сущности, тот же самый дух породил фантазию Лопе де Вега, видения Гойи, смехотворное и трагическое повествование о мудром безумце Дон-Кихоте Ламанчском. Игровая, зрелищная, карнавальная стихия пронизывала и поныне всю жизнь народа, питала неистощимое испанское воображение.
Была ли она, эта стихия, пережитком древности, обреченным на исчезновение, или, наоборот, залогом счастливого будущего – Федерико не знал. Но чем пристальней он в нее вглядывался, тем лучше понимал самого себя. Изначальное зрелище, не расчлененное на поэзию, драму, танец, вырастающее прямо из жизни, чтобы вернуться в жизнь, – вот прообраз того искусства, для которого он рожден! И страсть его к лицедейству, и приверженность не к печатному, а к произносимому слову, и ненасытная потребность населять мир своими вымыслами, и музыка его, и его рисунки – все могло, все должно было соединиться в этом искусстве.
Итак, театр? Не случайно, однако, он медлил произнести это слово. Быть может, ни одному из искусств Испании не оказался так чужд гений народа, как современному испанскому театру – поверхностному, банальному, растерявшему великие завоевания своего золотого века и превратившемуся за редкими исключениями в заведение, где убивают время.
Не о таком театре мечтал Федерико. Ему вспоминались представления в балаганах, наспех раскинутых под серыми от пыли ветвями оливковых деревьев, кукольные спектакли в теплой полутьме пустого хлева. Вырастали в воображении подмостки на площадях, окруженные толпами, для которых творили Лопе и Кальдерон. Воскресала античность: под синим небом, без занавеса, кулис, рампы, разыгрывалось трагическое действо, продолжаясь в сердцах зрителей, доверху заполняющих каменный амфитеатр.
...Этой ночью, наедине с собой, он снова возводит здание своего Театра, расписывает декорации, сочиняет музыку, по очереди становится каждым из действующих лиц. Трагедия рождается не от встречи пера с бумагой – она возникает из столкновения этих людей, нужно лишь слышать их в себе. Вот Иерма, ей только что снился все тот же сон: колыбельная, Пастух, ведущий за руку ребенка... О чем заговорит она с мужем – озабоченным, поглощенным делами?
Уж конечно, не о том, что ее терзает. Усиленной заботой о муже попытается Иерма заглушить недоброе чувство к нему. И только когда Хуан, не желающий знать, что творится в ее душе, выдаст тайную свою радость: «Дела идут хорошо, детей у нас нет, не на кого тратить», – лишь тогда, повторив про себя – не ослышалась ли? – «Детей у нас нет...» – вскрикнет она, как раненая:
– Хуан!
– Что?
– Разве я тебя не люблю?
– Любишь.
– Я знаю девушек, которые дрожат и плачут перед тем, как лечь в брачную постель. А я разве плакала, когда в первый раз легла с тобой? Разве я не пела, откидывая полог? Разве я тебе не сказала: как пахнет яблоками от белья!
Разбуженный голосом, доносящимся откуда-то сверху, дон Федерико поворачивается к супруге и убеждается, что она тоже не спит. Ну, это уж слишком! Он решительно садится в постели, отбрасывает одеяло и вдруг останавливается. Ему ли не знать голос сына? И все-таки он готов поклясться, что это две женщины разговаривают там, наверху. К первой из них – бесплодной, как видно, – забежала подруга поделиться радостью: она ждет ребенка, и та расспрашивает ее завистливо и восхищенно: что она чувствует?
– Не спрашивай, – с изумлением отвечает подруга. – Ты никогда не держала в руках живого птенчика?
– Держала.
– Ну, так это то же самое... только – в крови. Всхлипнула донья Висента, или ему показалось?
С необыкновенной яркостью встает перед ним тот далекий весенний день, когда он вернулся с поля и жена – молодая, испуганная, счастливая – осторожно взяла его руку и положила на свой живот. Словно волна какая-то подхватывает дона Федерико, приподымает над будничными заботами... Ощупью находит он худые пальцы жены, отвечающие ему слабым пожатием.
2
И угораздило же Федерико, когда он вернулся в Мадрид, прочесть Маргарите Ксиргу несколько сцен из набросанной вчерне «Чудесной башмачницы»! Тоном, заранее отметающим возражения, актриса заявила: фарс о Башмачнице будет представлен ее труппой в театре «Эспаньоль» еще до Нового года. Она и слышать не хочет о том, что это далеко не окончательный вариант, что Федерико занят другими планами. Доработать пьесу можно и в ходе репетиций, а другие планы потерпят – не откажет же Федерико ей, своему другу! Да и не ей одной. Неужели он сам не понимает, как нужна сейчас зрителям именно такая пьеса – дерзкая, красочная, народная? Или он не видит, что творится в Испании?
Как не видеть! Страна бурлила; самые закоренелые скептики были полны надежд. Пытаясь ублаготворить недовольных, правительство Беренгера делало уступку за уступкой – оно отменило цензуру, восстановило свободу собраний и организаций, выпустило арестованных. Вернувшись из изгнания, Мигель де Унамуно поднялся на кафедру Саламанкского университета и как ни в чем не бывало начал: «В прошлый раз мы остановились на...» Но уступки были уже бессильны остановить нараставшее возмущение – интеллигенты открыто выступали с речами и статьями против монархии, бастовали рабочие и студенты, и все чаще на улицах можно было услышать старую – еще времен первой республики – песенку:
Республиканцем стало солнце, республиканкою – луна, и воздух сам – республиканец, а если воздух, то и я.Воздух и впрямь переменился, легче стало дышать. Пожалуй, Маргарита права? И Федерико с головой погрузился в подготовку спектакля. То ли желая окончательно отрезать ему путь к отступлению, то ли догадавшись о тайных его мечтах, Ксиргу потребовала от него не только авторского участия. Она поручила ему сделать эскизы декораций (эскизы костюмов заказаны были самому Пикассо), а увидев, с какой жадностью следит Федерико за репетициями, как на лице его непроизвольно отражается все происходящее на сцене, предложила: что, если ему сочинить специальный пролог к пьесе и самому же его исполнять?
Идея пришлась Федерико по вкусу. В прологе, который он принес на следующий день, Автор защищал право поэзии на самый головокружительный вымысел. И тут же это право осуществлялось – своенравная героиня, рожденная воображением Автора, вмешивалась в его речь. «Пустите! Иду!» – кричала она из-за занавеса. Он пытался урезонить ее: «Запасись терпением. Ведь не в платье же с длинным шлейфом и невероятными перьями выйдешь ты на сцену, а в тряпье, слышишь? В костюме Башмачницы».
Но Башмачница не унималась. Тогда Автор заканчивал наскоро свой разговор со зрителями, раскланивался, снимал цилиндр, который начинал светиться изнутри зеленым светом, затем переворачивал его и оттуда выливалась струя воды. Несколько озадаченный всеми этими чудесами, он улыбался – смущенно и в то же время насмешливо – и пятился за кулисы.
Репетируя пролог с Федерико, Маргарита – Башмачница ловила себя на том, что и впрямь готова почувствовать себя созданьем его фантазии. Даже ее заставлял он поверить на миг, что сам не знает, откуда взялась вода в цилиндре. Гордость, почти материнская, смешивалась в ней с легкой ревностью: мало этому андалусцу стихов и пьес – того и гляди станет с нами, актерами, состязаться!
Поглощенный «Чудесной башмачницей», Федерико не замечал, как осень сменилась промозглой мадридской зимой; не замечал, правду сказать, и того, как все более накалялась политическая атмосфера. Встретился ему однажды Рафаэль Альберти – оживленный, веселый, как в лучшие времена. «Ну, что, Федерико, – воскликнул он, хлопая приятеля по спине, – костер разгорается?! Скоро мы с тобой увидим хорошую революцию!» В другой раз профессор де лос Риос, тоже какой-то весь помолодевший, расспросив Федерико, как идут репетиции, и узнав, что премьера назначена на 24 декабря сего, 1930 года, прищурился многозначительно: «В добрый час, сынок. Быть может, именно этим спектаклем откроется история театра свободной Испании!»
До премьеры остается десять дней, когда Федерико, направляясь по своему обычному маршруту, с удивлением замечает, что на всех перекрестках стоят вооруженные солдаты, угрюмо поглядывая на прохожих. Добравшись до театра, он узнает, что правительство объявило страну на военном положении: накануне в горах Верхнего Арагона восстал гарнизон Хаки, и к нему присоединились рабочие и крестьяне. Восставшие провозгласили республику и под командованием капитана Фермина Галана двинулись на Уэску.
Началось?! А что же Мадрид? День проходит в спорах и слухах. Поздно вечером разносится весть о том, что повстанцы встретились с войсками правительства и были наголову разбиты. Сам Галан схвачен, и военно-полевой суд уже приговорил его к расстрелу вместе с его сподвижником Гарсиа Эрнандесом.
Мало кто спит в эту ночь. Неужели приговор будет приведен в исполнение? Быть того не может! Со всех концов страны несутся прошения о помиловании. Но не проходит и суток, как все узнают: свершилось, мученики Хаки расстреляны.
Самолеты гудят над столицей. Это военные летчики с воздушной базы в Куатро Вьентосе – они сбрасывают листовки, извещающие о том, что воздушный флот восстал против монархии. Они ждут поддержки, ждут всеобщей забастовки, обещанной профсоюзами. Однако забастовка кем-то сорвана; Мадрид работает, как обычно, и, покружившись над городом, летчики направляются в сторону португальской границы. А вечером того же дня становится известно, что арестованы члены Революционного комитета, возглавлявшего борьбу за республику. Среди арестованных – Фернандо де лос Риос.
Маргарита Ксиргу рассказывает, рыдая, что Галан мог бы скрыться, он был уже рядом с французской границей. Но, стремясь облегчить участь попавших в плен товарищей, он принял на себя всю ответственность за восстание и добровольно сдался гражданским властям. А знаете, что заявил король, когда даже Беренгер, говорят, склонялся к помилованию? «Чернь надо обуздать. Черни надо пустить кровь!»
До репетиций ли тут? Да и вообще – о какой премьере может теперь идти речь? Кто-то из актеров решается, наконец, высказать то, что остальные думают про себя. Республиканские симпатии Маргариты Ксиргу хорошо известны – значит, партер и ложи будут устраивать обструкцию на каждом спектакле. И еще одно: достоинства комедии сеньора Гарсиа Лорки очевидны, но пусть он сам скажет, время ли сейчас для комедий?
Лица поворачиваются к Федерико, который низко склоняет голову: разумеется, его товарищи правы... И вдруг звон стекла заставляет всех вздрогнуть. Это Маргарита хватила стаканом об пол.
– Отменить спектакль? – вскрикивает она тонким, неузнаваемым голосом. – Спрятаться, отсидеться? Пусть радуются аристократы – мы стонем, мы хнычем, мы их боимся!
– Но что же можем поделать мы, актеры? – рассудительно спрашивает Башмачник.
– Что можем делать мы, актеры? – повторяет Маргарита тихо и страстно. – Свое актерское дело! Не сдаваясь. Не отступая. Не показывая слез. Играть, когда плохо. Играть, когда горько. Но работать наперекор всему. Работать, вы меня слышите? Первая сцена, первое явление – ну?
И такая неукротимость в ее тяжелом взгляде, в сжатых, поднятых кулачках, что актеры беспрекословно расходятся по местам, аМаргарита Ксиргу, толкнув картонную дверь, разъяренной Башмачницей вылетает на сцену и, обернувшись, восклицает обычным, низким голосом, в котором дрожат еще злые слезы:
– Попридержи свой длинный язык, старая сплетница! Если я так поступила... если я так поступила, то по своей доброй воле!
3
Не теплым ветром, не алыми маками возвестила на этот раз о себе испанская весна. Ее первое дуновение пронеслось по столице еще в феврале вместе с вестью об отставке Беренгера и о том, что Санчес Герра, приняв предложение короля сформировать новое правительство, отправился... в тюрьму Модело, чтобы предложить заключенным там членам Революционного комитета министерские посты. Но те отказались: не из рук короля, а лишь по воле народа согласятся они принять власть!
Мадрид снова заволновался. В кафе, в тавернах открыто заговорили о том, что дни монархии все равно сочтены – долго ли еще будут гальванизировать этот труп? Членам королевской семьи небезопасно стало показываться в театрах; галерка их попросту освистывала. У тюрьмы Модело стояли длинные очереди желающих повидаться с арестованными и засвидетельствовать им свое сочувствие. Начавшийся в марте суд над членами Революционного комитета превратился в политический митинг; переполненный зал покрывал овациями речи защитников и обвиняемых. Оправдательный приговор был встречен ликованием, но без удивления.
Как песок, текущий между пальцами, уходила власть из рук короля Альфонса. Уже докладывали ему, что сам папский нунций в Мадриде тайно виделся с главой Революционного комитета Алькала Саморой, выяснял, чего может ждать церковь от будущей республики. А король все не хотел мириться с очевидностью, все тешил себя надеждой, что беспорядки – дело рук оголтелой интеллигенции, студентов, городской голытьбы; настоящая же Испания, как и встарь, не мыслит себя без монарха, и муниципальные выборы, назначенные на 12 апреля, еще покажут это. Он распорядился, чтобы традиционная церемония «омовения ног» была в этом году проведена с особой торжественностью.
Среди присутствовавших на церемонии находился и советник чилийского посольства Карлос Морла Линч. По возвращении из дворца, высвобождаясь из парадного мундира, он восторженно описывал своему приятелю, поэту Гарсиа Лорке, белоколонный зал, по сторонам которого на специальных, обтянутых красным бархатом возвышениях разместились члены королевской семьи, дипломатический корпус, гранды, придворные дамы в положенных для такого случая белых мантильях, с высокими черепаховыми гребнями в прическах. А посредине, на поставленных друг против друга скамьях, сидели, свесив босые ноги, двенадцать нищих слепцов и двенадцать таких же старух. В назначенный час его величество поднялся с места, направился к одной из скамей в сопровождении герцога Альбы, несшего за ним золотой умывальный таз, нагнулся и, демонстрируя всю глубину христианского смирения, всю беспредельность любви к самым последним своим подданным, по очереди омыл ноги – конечно, заранее вымытые – каждому нищему, в то время, как августейшая его супруга Виктория Евгения, окруженная фрейлинами, совершила тот же обряд над трепещущими старухами, мертвенно-бледными в черных своих одеждах.
Довольный тем, что рассказ его явно произвел впечатление на Федерико – у того округлились глаза, рот приоткрылся, – Карлос долго еще говорил о символическом смысле старинного ритуала, о величии, в котором испанскому монарху не откажешь, что бы там ни было... Но Федерико не слушал больше. «Театр! – повторял он про себя с восхищением – Какой театр!»
И все же муниципальные выборы принесли королю жестокое разочарование. Республиканцы побеждали по всей стране. 13 апреля глава правительства адмирал Аснар явился в Восточный дворец с заявлением об отставке. При выходе из дворца его обступили журналисты, требуя новостей. «Каких вам еще новостей? – отмахнулся адмирал. – Испания легла спать монархической, проснулась республиканской!»
Этой ночью весь Мадрид хлынул на улицы и площади. Замелькали трехцветные флажки, зазвучала запретная «Марсельеза» вперемежку с насмешливыми куплетами, советующими Альфонсу убираться подобру-поздорову. Ораторы потрясали кулаками, женщины плакали, вспоминая Галана и Гарсиа Эрнандеса, – всего четырех месяцев не дожили! Гражданские гвардейцы кое-где пытались еще разгонять сборища, но полицейские уже братались с демонстрантами. А наутро разнеслась весть о том, что в Эйбаре – небольшом баскском городке – провозгласили республику. И в Эрмуа. И в Барселоне республика! Чего же мы медлим?
Если король тотчас же не покинет страну, предупредил Алькала Самора, то Революционный комитет не ручается за его жизнь. У Альфонса не оставалось надежд на армию, но что скажет начальник гражданской гвардии, генерал Санхурхо? Тот ответил уклончиво: гражданская гвардия не может вмешиваться в вопрос о политическом строе, ее дело – порядок и только порядок. Выслушав эти слова, король торопливо втиснулся в автомобиль, задернул занавески и понесся в Картахену, где уже разводил пары ожидавший его крейсер.
И вот на глазах ликующих толп сползают по флагштокам правительственных зданий ненавистные флаги испанской монархии, а на их место взвиваются новые, республиканские. Людские волны катятся из предместий, из «нижних кварталов», в центр столицы. Гремит музыка, хлопают шутихи, хороводы пляшут вокруг костров, на которых пылают с веселым треском портреты короля, его родственников и предков. В трамваях отдирают намозолившее глаза объявление: «Согласно королевскому приказу и в интересах гигиены плевать строго воспрещается», – плевать на короля и на все его приказы! С грохотом падают вывески – «Ресторан Трех Королей», «Отель Альфонс XIII» и прочие в том же роде. У находчивых торговцев рвут из рук портреты Фермина Галана и фригийские шапочки. Такие же шапочки напяливают, хохоча, на головы мраморным королям и королевам, окружающим Пласа Ориенте. А одну из этих королев – Изабеллу II, недоброй памяти бабку сбежавшего Альфонса, сбрасывают с пьедестала и, захлестнув ей петлю на шее, волокут по улицам. Впрочем, ныне здравствующие члены семьи Альфонса последнего, впопыхах оставленные им в Мадриде, могут не трястись от страха в своих покоях – их пальцем не тронут.
Где-то в толпе Федерико потерял Карлоса Морлу Линча, вместе с которым бродил по городу. Откровенно говоря, он не сожалеет об этом – сейчас ему не нужен никто из приятелей. Единственная жажда владеет им – раствориться в праздничном человеческом море, стать безыменной каплей, слиться с тысячами незнакомых людей, ближе которых в этих минуты у него нет никого на свете.
Будто рухнули все перегородки, все стены и стала явью – хоть на миг! – мечта о грядущем братстве. Будто все униженные и гонимые, перекликавшиеся с Федерико в его бессонные ночи, справляют сегодня свою победу на залитых весенним солнцем мадридских улицах. Вместе с ними скандирует он до хрипоты: «Мы e-го вы-гна-ли! Мы e-го вы-гна-ли!», машет платком, приветствуя въезжающих на Пуэрта дель Соль министров только что образованного республиканского правительства – а вот и Фернандо де лос Риос среди них! – жмет чьи-то руки, хлопает кого-то по спине, кружится в хороводе. Никогда еще не испытанная радость переполняет его.
4
Три дня длится народное ликование, потом жизнь мало-помалу входит в свое русло. Возвращаются к очагам женщины из «нижних кварталов», поднимаются на леса строительные рабочие, а завсегдатаи кафе с воодушевлением отдаются разговорам о политике. Некоторые уже осуждают новое правительство: почти все чиновники свергнутого режима остались на своих местах, гражданская гвардия – и та не разогнана. Но большинство одобряет государственную мудрость Алькала Саморы и его министров, исполненных благородной решимости избавить страну от братоубийственной борьбы.
Интеллигенция торжествует: цензура отменена, теперь увидят свет книги и пьесы, годами находившиеся под запретом! Маргарита Ксиргу приступает к репетициям героической драмы «Фермин Галан», которую написал для ее труппы Рафаэль Альберти. Карлос Морла Линч не согласен с Рафаэлем. Сейчас не время, считает он, напоминать о слишком недавних трагических событиях и развязывать мстительные чувства.
Федерико не вмешивается в их спор. Для приятелей он все тот же, каким вернулся из Америки, -беспечный мечтатель, весельчак, готовый ночи напролет забавлять собирающихся у Карлоса поэтов, артистов, музыкантов. И только сам он чувствует: счастливое апрельское опьянение выветрилось, оставив в душе томительную пустоту, не заполнимую ни дружескими беседами, ни развлечениями, ни даже поэзией. А тут еще выходят, наконец, из печати «Стихи о канте хондо» и, оторвав их с усилием от себя, Федерико, быть может, впервые по-настоящему осознает, какой незримой опорой служила ему целых десять лет эта книга.
Работа над «Иермой» приостановилась. На время отложено и намерение зачерпнуть поглубже из мавританских источников, не пересохших и поныне в Андалусии, – написать цикл стихотворений, назвав их газеллами и касидами. Необходимо осмотреться, разобраться в себе. Тогда-то и вспоминается ему замысел начатой еще в Америке пьесы «Когда пройдет пять лет». В июне, приехав в Гранаду, Федерико перечитывает первый акт, который он набросал на Кубе.
В сущности, это была лирическая исповедь, но для своего воплощения она требовала драматической формы. Ибо исповедующийся обладал беспокойным даром: он сообщал образам своей фантазии такую жизненность и достоверность, что их бытие делалось почти материальным – по крайней мере для него самого! Не бесплотными тенями, а полноправными действующими лицами вступали эти образы на подмостки, где разыгрывалась драма его жизни. Он становился не властен над собственными созданиями, повинующимися отныне лишь внутренней логике своих характеров, своей поэтической природе. А там, глядишь, начинали они вторгаться и в жизнь своего создателя, распоряжаться его судьбой.
Атмосфера первого акта – пыль, предгрозовое удушье, запах смерти, разлитый в воздухе, – воскрешает в воспоминаниях Федерико ту Испанию, от которой бежал он два года назад. Он узнает себя в главном герое, мечтательном Юноше, живущем одновременно в двух мирах – в действительном и в том, который рождают ежеминутно его память и воображение. Юноше ничего не стоит вести беседы с самим собой, каким он станет когда-нибудь – с умудренным стариком в золотых очках, и с самим же собою, каким он когда-то был – с подростком, упрямо не желающим взрослеть. Ему ничего не стоит столкнуть в споре различные воплощения своего «я» – теперешнее, былое, будущее. Достаточно подумать о смерти (а мысль о ней с младенчества бередит его душу) – и выйдут на сцену мертвый Мальчик и Кошка, которую убили злые дети, и словами, страшными в своей простоте, заговорят о том, что станется с их телами в земле.
Невеста Юноши отправляется в далекое, долгое путешествие, но он не боится разлуки – ведь не ее он любит, а свою мечту о ней. А настоящая любовь между тем проходит мимо неузнанная.
Федерико вглядывается: что же дальше? Он видит возмездие, которое наступит во втором акте. Вернувшись из путешествия, Невеста порвет со своим женихом – ей наскучил мечтатель, у нее теперь новый возлюбленный. Это Игрок в регби, олицетворение здоровья и деловитости, поистине американской. Он не произносит ни слова – к чему? – только обнимает Невесту, насвистывает и курит, пуская ей дым в лицо. И отвергнутый Юноша, готовый проклясть видения, заслонившие от него жизнь, устремляется на поиски единственной, не узнанной им любви.
Не замечая, как лето проходит, работает Федерико над этой странной пьесой. Иногда своеволие персонажей приводит его в отчаяние. Иногда же ему начинает казаться, что он мастерит волшебное зеркало, в котором увидит свое прошлое, настоящее и будущее.
И будущее?!
Да! Поэтов недаром сравнивают с пророками – уж свою-то судьбу они умеют предсказывать. В этом нет особых чудес: то, что будет, растет из того, что есть и что было. Разобравшись в собственной жизни, вычертив поэтическую траекторию пройденного пути, нельзя разве продолжить мысленно эту траекторию, предугадать и тот путь, который еще предстоит проделать?
И вот Юноша, разыскивающий свою дорогу, попадает туда, где правит древняя, карнавальная стихия, где звучат отголоски народных песен и площадные шутки, а балаганная клоунада граничит с высокой поэзией. В лесу, у наспех сбитых подмостков, встречают его традиционные маски бродячего театра – Арлекин в черно-зеленом наряде и Паяц с лицом, вымазанным мукой. То, что ищет Юноша, оказывается рядом – стоит лишь обернуться. Все мечты и горести его жизни приобретают смысл, преображаясь в искусство – загадочное и пленительное, как та музыка, о которой говорят, усевшись на табуреты, Арлекин и Паяц.
Паяц
Слышишь музыку?
Арлекин
Это годы.
Паяц
Неведомые луны неведомых морей.
Арлекин
А что позади?
Паяц
Облака, небосводы.
И песня печальная скрипки твоей.
А потом? Юноша возвратится домой. Настанет время расплаты за его беспокойный дар, время расчета со всеми образами, которыми населил он мир. Смерть, столько раз послушно встававшая перед Юношей, выйдет из повиновения и явится к нему в облике трех Игроков. Они сядут играть с ним в карты и выиграют его сердце. Он умрет в одиночестве – на том и закончится пьеса под названием «Когда пройдет пять лет».
Когда пройдет пять лет?.. Сейчас август 1931 года, значит... Что за ерунда! Разве он в одном Юноше? Он – в любом из героев этой легенды, а всего более – в бродячем театре, в лицедеях, веселых и грустных, которые, усевшись на край подмостков, вечно будут вести свой разговор:
– Слышишь музыку? – Это годы. – Неведомые луны неведомых морей. – Л что позади? – Облака, небосводы. И песня печальная скрипки твоей.5
– Бродячий театр!
Федерико так привык твердить про себя эти два слова, что, услышав их из уст знакомого литератора Эдуарде Угарте, даже не удивился в первый момент, но тут же вздрогнул, насторожился. Был осенний мадридский вечер. Они сидели вдвоем вресторанчике «Ла Гранха дель Хенар» и Эдуардо – сдержанный, деловитый – рассказывал о Педагогических миссиях, организацией которых он теперь занимался.
Создание этих миссий – своего рода культурных бригад – было частью обширных планов республиканского правительства в области народного просвещения. Такие бригады составлялись из студентов и энтузиастов-учителей и должны были разъезжать по самым глухим районам Испании с лекциями передвижными выставками и библиотеками, распространяя начатки образования, пробуждая деревню от векового сна. Особенно любопытной находил Эдуардо затею молодого педагога Алехандро Родригеса – ну, того, что выступает и в качестве драматурга под псевдонимом «Касона». В дополнение к программе Педагогических миссий Касона решил организовать передвижную труппу, а попросту говоря – бродячий театр. Ему уже доводилось устраивать нечто подобное года три назад, когда он учительствовал близ Овьедо, и, говорят, надо было видеть, с каким восторгом принимали крестьяне спектакли, поставленные Касоной и его учениками!
Федерико молчал, покусывая губы и глядя прямо перед собой. Черт возьми, как же это до сих пор не пришло ему в голову? Быть может, никому так не обязан великий испанский театр своим расцветом, своим золотым веком, как странствующим труппам, буквально наводнявшим Испанию три с половиной столетия назад! Словно красные шарики по кровеносным сосудам, сновали тогда бродячие актеры по дорогам страны, беспрерывно поддерживая живую связь Театра с Народом, Народа – с Театром, принося в любое селение драматическое искусство, обновлявшееся в каждой встрече со зрителями.
Исчезли странствующие труппы – и нарушилось кровообращение. Высокое искусство, отнятое у народа, уходящее постепенно с городских площадей в дворцовые залы, стало хиреть, задыхаться... Может быть, в восстановлении этой прерванной традиции – ключ к возрождению испанского театра? Вот дело, которому стоит посвятить жизнь!
Последнюю фразу он, по-видимому, произнес уже вслух, потому что Эдуардо переспросил удивленно: «Дело, которому стоит посвятить жизнь?» – и, в свою очередь, замолчал, уставившись на Федерико. Потом осторожно осведомился: следует ли понимать Федерико в том смысле, что он и сам взялся бы за это дело, а говоря конкретно – за создание еще одного передвижного театра?
Ах, охотно взялся бы? Интересно с чего бы он в таком случае начал? Каких пригласил бы актеров, какие пьесы стал бы ставить?
Казалось, Федерико специально готовился к этим вопросам – он отвечал не задумываясь. Прежде всего он не стал бы приглашать профессиональных актеров, в большинстве своем безнадежно отравленных театральной рутиной. Он обратился бы к учащейся молодежи, к студентам – от желающих отбоя не будет. Понадобилось бы отобрать самых талантливых, а из самых талантливых – самых стойких, заранее предупредив их, что потребуется немало самоотвержения. В такой труппе каждому придется делать все – не только играть, но и ставить декорации, перешивать костюмы, проверять входные билеты... нет, какие там билеты, вход должен быть бесплатным!..
Никаких премьеров и примадонн! Сегодня ты – дон Хуан де Тенорио или Лауренсия, а завтра стоишь на занавесе либо изображаешь шум сраженья за сценой. Эгоистам, завистникам, обидчивым не место в странствующем театре – осуществить подобное предприятие под силу лишь братскому содружеству людей, беззаветно преданных общему делу.
Репертуар? Конечно, классика, для такого театра она и создана. Нужно извлечь творения великих драматургов из пыльных книгохранилищ, вырвать их из рук ученых комментаторов, возвратить им солнечный свет и живительное дыханье толпы! А народу вернуть интермедии Лопе де Руэда и Сервантеса, комедии и «аутос» Лопе, Кальдерона, Тирсо... С современными же пьесами лучше на первых порах обождать.
Эскизы костюмов и декораций художники сделают даром – и еще какие художники! Автобус – вот что необходимо! В автобусе можно добраться куда угодно. Хорошо бы, прибывая в центр какой-либо провинции, разделяться на две группы – одна во главе с Федерико сразу же направляется в намеченное селение, договаривается с алькальдом, подготавливает все для спектакля, между тем как оставшаяся в городе, не теряя времени, репетирует под руководством Эдуардо...
– Лучше, пожалуй, чтобы я возглавлял первую группу, – возразил Эдуардо, мимоходом подумав: «А откуда, собственно, Федерико взял, что я согласен участвовать?» Впрочем, какое это теперь имело значение? Куда важнее было другое: где достать деньги на автобус и прочие многочисленные расходы?
За то время, пока все «если бы» в их разговоре сменились на «если», а «если» – на «когда», ночь перешла в рассвет. Официант, скрестив руки, скорбно взирал на мраморный столик, покрывшийся схемами и выкладками, которые они чертили, вырывая друг у друга огрызок карандаша. Наконец все было решено. Эдуардо брал на себя переговоры со студенческими организациями, Федерико отправлялся за помощью и советом к министру юстиции де лос Риосу. Оставалось последнее: как окрестить еще не родившийся театр?
– Есть название! – вскочил Федерико. Перегнувшись к собеседнику, он положил ему руки на плечи и торжествующе выговорил: – «Ла Баррака»!
– «Ла Баррака»? – Угарте поднял брови. – Барак, хижина? Балаган – в точном смысле слова! Не слишком ли... несолидно? Касона, например, называет свой театр Народным, мы могли бы – Студенческим или Университетским.
Федерико сиял. Студенческим? Университетским? Пожалуйста – как подзаголовок. А заглавие – вот оно. Именно – балаган. С балагана все и пошло! Обняв за талию оторопевшего официанта, он закружился с ним между столиками, с наслаждением полоща горло этими «рр»:
– «Ла Баррака»! «Ла Баррака»! «Ла Баррака»!
6
Название и впрямь оказалось счастливым.
В ноябре 1931 года съезд Федерации испанских студентов принял решение: создать Университетский театр, назвав его «Ла Баррака». А 15 декабря Фернандо де лос Риос занял пост министра просвещения в кабинете Асаньи. По ходатайству нового министра правительство предоставило Университетскому театру субсидию – 50 тысяч песет.
Пока Эдуардо Угарте творил чудеса изобретательности, добывая автобус, подыскивая помещение для занятий и решая десятки других вопросов, возникавших на каждом шагу, Федерико занялся набором труппы. Взыскательность директора «Ла Барраки» приводила в смятение толпы осаждавших его студентов и студенток. Даже родной его сестре – Исабель, даже Лауре де лос Риос, дочери дона Фернандо, ставшей к этому времени невестой Франсиско, брата Федерико, пришлось приложить немало усилий, чтобы попасть в число счастливцев.
Начались репетиции – впрочем, сперва это были только шумные, затягивавшиеся далеко за полночь сборища, на которых обсуждали будущий репертуар, рассуждали и спорили о театре, узнавали друг друга, мечтали вслух и просто дурачились. Федерико дурачился едва ли не больше всех – он показывал фокусы, ставил шарады, пародировал известных актеров. Никто и не замечал, как зорко присматривался он к своим новым товарищам, изучал их склонности, прикидывал мысленно, кто на что годен. Зато распределение ролей в пьесах, намеченных к постановке, обошлось без обычных в подобных случаях обид и неудовольствий.
Потом пошли уже настоящие репетиции, и тут Федерико обнаружил упорство и въедливость, каких и сам в себе не подозревал. Он заставлял по многу раз повторять каждую сцену, добиваясь от ее участников полнейшей естественности и в то же время максимальной самоотдачи.
– Погоди, дружок, – останавливал он юного галисийца Рамона, заставлявшего в роли Солдата покатываться со смеху партнеров по интермедии Сервантеса «Бдительный страж». – Ты прав как будто... разве он и впрямь не смешон, этот потрепанный влюбленный Солдат, с утра до ночи торчащий под окном у молодой судомойки, которая в награду обливает его мыльной водой и помоями? Разве не жалок он со своим хвастовством, напыщенными словесами и несбыточными надеждами?.. Однако вспомним: он стар и беден, он, по всей вероятности, храбро сражался; в сумасбродной его любви все-таки больше поэзии, чем в житейской мудрости пролазы пономаря. Если ты будешь иметь это в виду, зрители будут смеяться не меньше... но не только смеяться!
Рамон хлопал себя по лбу, превращался опять в Солдата, восклицал с жаром и с гордостью:
– Из каждой нитки этого худого колета ты можешь намотать целый клубок моего благородства!
Федерико стучал карандашиком по столу, говорил мягко и непреклонно:
– Еще раз. Отчаянней. Con duende!
– Как это в конце концов понимать: con duende? – взмолился однажды Рамон, вытирая лоб.
Федерико усмехнулся.
– А вот послушай. Послушайте! – возвысил он голос, но актеры и так уже окружили его, предвкушая очередной рассказ. – Как-то раз андалусская кантаора Пастора Павон, по прозвищу «Девушка с гребнями», – сумрачная испанская душа, не уступающая по силе воображения самому Гойе, – пела в одной из крохотных таверн Кадиса. Голос ее был подобен расплавленному олову, и в то же время казалось, будто он порос мохом. Она играла своим голосом так, что он то запутывался в ее волосах, то нырял в бокал мансанильи, то терялся в дальних зарослях кустарника. Но напрасно: все было бесполезно. Слушатели оставались спокойными.
Был среди них великолепный босяк Игнасио Эспелета, – и Федерико, чуть втянув голову в плечи, стал похож на старую, мудрую черепаху, – тот, которого спросили однажды: «Почему ты не работаешь?», и он, презрительно усмехнувшись, ответил. «Зачем мне работать, ведь я из Кадиса!»
Была там Элоиса, проститутка из Севильи, – Федерико надменно выпрямился, – прямая наследница легендарной Соледад Варгас, которая когда-то не согласилась выйти замуж за Ротшильда, посчитав его недостойным себя. Были там и братья Флоридас – люди называют их мясниками, на самом же деле они скорее древние жрецы, приносящие и поныне тельцов в жертву языческим богам. А в углу, с лицом, напоминающим критскую маску, сидел величественный скотовод дон Пабло Мурубе.
Пастора Павон кончила петь посреди молчания. Один только человечек – знаете, вроде тех крошечных плясунов, что выскакивают порой из водочных бутылок, – саркастически промолвил вполголоса «Ура, Париж!», как бы желая сказать: «Для нас тут не имеют значения ни способности, ни техника, ни мастерство. Нам важно другое».
Тогда «Девушка с гребнями» взвилась как безумная. Растерзанная, словно средневековая плакальщица, она осушила единым духом большой стакан огненного ликера и, усевшись, запела снова – без голоса, без дыхания, без нюансов, опаленным горлом, но... con duende. И как запела! Ее пение было уже не игрой, ее песня лилась кровавым ручьем...
Ну, отдохнули? Тогда еще разок – выход Солдата и пономаря!
Так проходили вечера, ночи. Не успев как следует отоспаться, студенты спешили на лекции, а Федерико мчался то договариваться насчет декораций, то получать рабочую одежду для труппы, то заказывать афишные щиты с эмблемой «Ла Барраки». Казалось бы, ни для чего иного времени не оставалось, но он ухитрялся еще выступать с лекциями, бывать на всех мадридских премьерах и шумно веселиться в компании приятелей. Именно в эти месяцы он выполнил, наконец, обещание, данное Аргентините в Нью-Йорке, – помог ей подготовить концертную программу из тринадцати народных песен, которые сам же выбрал, обработал и гармонизовал.
Первый вечер Аргентиниты, состоявшийся в марте 1932 года, публика встретила настороженно: выступление популярной балерины в роли певицы – не причуда ли? Но с каждой песней ледок таял. Голос Аргентиниты – грудной, не очень сильный, вздрагивавший от волнения, – как нельзя лучше подходил к этим песням, которые давно уже покоились в антологиях и музыкальных сборниках под именем «памятников народного творчества», а тут вдруг ожили и оказались свежими, трепетными. Нравилось и то, как сдержанно пользовалась исполнительница своим пластическим даром, не пытаясь изобразить содержание песни, а лишь намекая на него – жестом, костюмом, деталью реквизита, предоставляя фантазии зрителя дорисовать историю хвастливого Пакиро или маленьких пилигримов, которых поженил сам римский папа.
Не все, правда, были довольны. Знаток испанского фольклора дон Хесус де Салаверра, завидев Федерико в антракте, еще издали погрозил ему пальцем.
– Друг мой, – с искренним сокрушением сказал он, ухватив Федерико за пуговицу, – ну, что вы сделали из прекрасной песни пятнадцатого века о трех морисках из Хаэна! Я оставляю на вашей совести элегическое вальсообразное вступление – оно, пожалуй, даже удачно оттеняет дикую печаль старинной мелодии. Но текст! Вы позволили себе не только сократить его, оставив пять из семи строф, но и переменить их местами, так что вторая стала у вас последней. В оригинальном тексте – законченный сюжет. Путник, встретив трех морисок – Аксу, Фатиму, Марьен, – объясняется в любви всем трем и получает заслуженный отказ: кто влюблен в трех разом, не найдет взаимности ни у одной. А что осталось у вас? Объяснение в любви, описание трех морисок – значительно расширенное по сравнению с оригиналом, хотя и выдержанное в истинно народном духе, признаю; а затем девушки называют свои имена, и песня обрывается, оставляя слушателей в неведении – что же дальше?
Осторожно высвободив пуговицу, Федерико ответил неожиданной просьбой. Не будет ли дон Хесус так любезен напомнить ему фабулу старинного романса о графе Арнальдосе?
– О графе Арнальдосе? – несколько опешил тот. – Охотно, хотя – не обижайтесь на старика! – поэту следовало бы знать наизусть этот романс, который многие исследователи ставят выше лучших стихотворений Гейне. Ну-с, утром Иванова дня граф Арнальдос, отправившись на охоту, подскакал к берегу моря и увидел чудесную галеру, – следует описание галеры, – на борту которой стоял моряк и пел песню, настолько прекрасную, что волны кругом успокаивались, рыбы всплывали наверх из глубин, а птицы из поднебесья опускались на мачты, лишь бы услышать ее. «Моряк, молю тебя богом, – воскликнул Арнальдос, – спой мне еще раз эту песню!» И ответил моряк: «Я спою эту песню только тому, кто отплывет со мною».
Федерико учтиво поблагодарил. А не скажет ли дон Хесус: классическая, так превосходно изложенная им версия знаменитого романса – является ли она самой ранней?
Собеседник подозрительно покосился. Его молодой друг, вероятно, слыхал о работе Менендеса Пидаля? Ах, он заглядывает в «Журнал испанской филологии»? – кто бы подумал! Ну да, дон Рамон блестяще доказал, что версия, сохранившаяся в памяти марокканских евреев, – та, что вдвое длиннее, – является более древней, скорее всего – первичной. Однако какое, собственно, это имеет значение?
– Дело в том, – отвечал Федерико еще учтивее, – что древняя-то версия как раз обладает законченным сюжетом. Слушатели не остаются в неведении – что же дальше? Граф Арнальдос – или инфант Арнальдос, как называют его по-старинному в этой версии, – послушавшись моряка, всходит на корабль, который оказывается пиратским судном. Сонного, его заковывают в цепи; проснувшись, инфант молит не причинять ему зла: он сын короля французского и внук португальского, потерявшийся семь лет назад.
Теперь уже он держал за пуговицу дона Хесуса, читая наизусть:
Сказал тут моряк инфанту: – Если правда, что ты сказал, ты – наш инфант Арнальдос, тебя нам пришлось искать. — Плывут в родной его город, поднял корабль паруса. Турниры, еще турниры – ведь граф нашелся опять.– Как видите, никаких загадок. Обычный романс с приключениями и узнаваниями. Почему же народ признал и полюбил не эту версию, а позднейшую, с усеченной концовкой и, в сущности, необъяснимую?
– Ну, раз вы такой знаток, – пожал фольклорист плечами, – то вам должен быть известен традиционный обычай петь только начало романсов, не доводя их до конца...
– Вот именно! – перебил его Федерико. – А разве не выразилась в этом драгоценная черта нашей народной поэзии, – стремление к недосказанности, открывающее простор воображению? И не этим ли стремлением руководствуется народ, когда он сокращает песню и переделывает ее по своему вкусу?
– Так то народ... – начал было дон Хесус, но, встретив насмешливый взгляд Федерико, вдруг осекся, сам не зная почему.
Во втором отделении наибольший успех имела андалусская песня «Соронго» – Аргентинита исполняла ее в наряде танцовщицы. На низких нотах вступил оркестр; чуть отстав, защелкали кастаньеты, и вдруг музыка оборвалась на полутакте, и в тишине раздался воинственный стук каблуков – его Федерико специально вписал в партитуру. Опять зазвучала музыка, и лишь тогда, вплотную приблизившись к рампе, Аргентинита запела:
Когда женихом моим был ты, тогда по весне из-за леса подковы коня звенели — четыре серебряных всплеска. Луна – небольшой колодец, цветы – какая цена им! А дороги руки твои, когда меня обнимают. А дороги руки твои, когда по ночам обнимают.Еще грохотали аплодисменты, но Федерико встал в своей ложе, и по этому условному знаку в разных концах зала поднялись юноши и девушки и начали пробираться к выходу – предстояла очередная репетиция «Ла Барраки».
Заявившийся на одну из таких репетиций репортер газеты «ABC» поморщился, увидев Федерико, одетого, как и все остальные, в голубой комбинезон – «мо-но» с эмблемой «Ла Барраки» на груди.
– Какова, однако, лояльность! – вздохнул он. – Стоило провозгласить Испанию республикой трудящихся, и... Право же, вашим пролетарским моно недостает лишь серпа и молота. Вы позволите, дорогой Лорка, сообщить читателям – и читательницам! – что их андалусский поэт, рыцарь мечты и прочее, выглядит ныне, как обыкновенный мастеровой?
– Валяйте, – прищурился Федерико. – Кстати, я и есть мастеровой. Мастеровой мечты! Устраивает вас такой заголовок? Не стесняйтесь, записывайте!
7
Но июльским вечером в кастильском селении Бурго де Осма, где «Ла Баррака» дает свой первый по выезде из Мадрида спектакль, уверенность покидает Федерико.
Видимых оснований для этого нет – напротив: их ждали, их встретили, как желанных гостей; охотников сколачивать подмостки и расставлять скамьи вызвалось больше, чем требуется. Удачной оказалась идея захватить с собой граммофон и набор пластинок с народными песнями. Заунывные, страстные мелодии разносятся над маленькой пыльной площадью. С разных сторон – парами, поодиночке, с целыми выводками ребятишек, с грудными младенцами на руках – торжественно сходятся крестьяне, принарядившись, словно в церковь.
И вместе со смутным чувством вины перед этими людьми, в жизни которых так мало радости, поднимаются тягостные сомнения. А так ли уж нужно крестьянам все то, с чем прибыла к ним «Ла Баррака»? Классическое искусство – не слишком ли поздно является оно на эту новую встречу с народом? Несколько веков назад оно было хлебом насущным, а сегодня, быть может, покажется пустой забавой?
О конечно, крестьяне будут благодарны за любое развлечение. Они от души похлопают молодым грамотеям, которые специально приехали из столицы, чтобы повеселить их, да еще не берут ни сентаво за вход. Не провала следует опасаться, а вот такого обидного, дарового успеха.
Срывающимся голосом Федерико дает последние наставления актерам: не комиковать, оставаться предельно естественными в самых неправдоподобных ситуациях. Те встревоженно переглядываются – никогда еще они не видали своего директора в подобном смятении. Наконец Эдуардо Угарте оттаскивает Федерико в сторону и злым шепотом требует, чтобы он взял себя в руки, тем более что пора начинать.
Кое-как успокоившись, Федерико появляется перед занавесом. Произнося вступительное слово, он одновременно выискивает среди многих лиц, обращенных к нему, то, которое может стать для него зеркалом спектакля и барометром настроения публики. Он по опыту знает: для этой цели наиболее подходят непосредственные, живо реагирующие люди – хотя бы вон та девушка, которая, пока еще закрываясь платком, косится на него одним огромным, заранее восхищенным глазом. Можно биться об заклад, что она забудет о платке, как только раздвинется занавес. Но сегодня Федерико, точно назло себе, старается выбрать изо всех зрителей самого неподатливого. Заканчивая краткую речь уведомлением о том, что первой представлена будет интермедия Сервантеса «Саламанкская пещера», он уже знает, кто этот зритель. Угрюмый костистый старик сидит в третьем ряду, чуждый всеобщему оживлению. Поставив между ногами палку, он сцепил руки на набалдашнике, уперся в них подбородком и застыл, глядя перед собой немигающими недоверчивыми глазами.
Начинается действие. «Осушите слезы, сеньора, и прервите вздохи!» – взывает крестьянин Панкрасио, собираясь в отъезд на малый срок и прощаясь с Леонардой, своей супругой, но та безутешна. Муж за порог – и слез как не бывало: входят милые дружки – пономарь и цирюльник, только и дожидавшиеся этой минуты, появляется великолепный ужин, веселье растет... Неожиданно возвращается муж. Худо бы пришлось Леонарде, и служанке ее, Кристине, и гостям их, если б не бродяга студент, вовремя заявившийся в дом Панкрасио! Студент этот ранее обучался магическим наукам в прославленной саламанкской пещере и постиг там тайны астрологии, геомантии, гидромантии, пиромантии, аэромантии, хиромантии и некромантии...
За кулисами Эдуардо, ликуя, толкает в бок Федерико, да тот и сам слышит, как чистосердечно принимают спектакль жители Бурго де Осма, как жадно ловят они каждое слово, залпами хохота откликаясь на смешные реплики и немедленно замирая, едва лишь актер на сцене снова открывает рот. И все же Федерико заставляет себя следить за лицом старика из третьего ряда, а оно по-прежнему остается каменным. Уж не глух ли он? Нет, глухие смотрят не так.
Интермедия между тем подходит к кульминационному пункту. Чтобы вызволить злополучных гостей, наспех спрятанных Леонардой вместе с едва початыми блюдами, а заодно попользоваться их ужином, студент объявляет: знания, приобретенные в саламанкской пещере, позволяют ему пировать задаром во всякое время. «Будет ли довольна ваша милость, – предлагает он Панкрасио, который преисполнен уважения к его учености, – если я прикажу двум дьяволам в человеческом виде принести сюда корзину с холодными кушаньями и прочей снедью?» Разумеется, хозяин согласен. Но в чьем же именно виде появятся дьяволы? Да хоть в виде здешнего пономаря и его приятеля брадобрея.
Дьяволы вылезают из чулана, публика умирает от смеха. И вдруг – тишина. Федерико нет надобности смотреть на сцену, он знает, что сейчас Панкрасио – молодец Панкрасио, не зря он столько с ним возился! – повернулся лицом к зрителям, молча подошел к самому краю подмостков. Это не дурачок, не простак – это обыкновенный человек, не столько даже обманутый, сколько припертый к стене своими убеждениями, которые он имел неосторожность поставить выше опыта. Никогда бы он не принял за нечистую силу двух прохвостов, подозрительным образом оказавшихся у него в доме! Но, с другой стороны, он же убежден в существовании нечистой силы? – убежден, Он верит в могущество тайных наук? – да, верит, Коли так, почему же не допустить, что дьяволы, явившиеся по воле ученого чародея, могли и вправду принять облик пономаря и цирюльника? А если собственные глаза свидетельствуют обратное – что ж, тем хуже для глаз!
Вот что примерно играет в эту минуту актер, и, по-видимому, играет неплохо: напряженное молчание зрителей звучит для Федерико сладчайшей музыкой. А что старик? Глядите-ка, он привстал, опираясь на палку! Грубые морщины потонули в целой сети морщинок, разбегающихся от глаз, и улыбка – улыбка понимания! – словно редкий цветок, распускается на лице. Федерико утирает мокрый лоб краем занавеса. Нет, пожалуй, сам Мигель Сервантес не испытывал такого облегчения, закончив свою интермедию!
И снова в бродячем студенческом театре нет человека жизнерадостнее и веселее, чем директор Федерико. Мелькают дни, сменяются виды – кустарники Куэнки, вылинявшая земля Ла Манчи, пшеничные поля и бескрайние пастбища Альбасете... Трясется по дорогам Испании крытый грузовичок, обдавая встречных брызгами песен, несущихся изнутри, распеваемых целым хором неутомимых молодых голосов. И почти каждый вечер на какой-нибудь площади, окруженной домами и с непременной церковью в глубине, раздвигается занавес, украшенный эмблемой «Ла Барраки».
Они дают представление в деревне Тобосо – да, да, в той самой, прославленной автором «Дон-Кихота»! – и десятки новых Альдонс-Дульсиней награждают их нежными взглядами и звонкими рукоплесканиями. А в другой деревне, где они ставят «ауто» Кальдерона «Жизнь есть сон», – посредине действия начинает вдруг накрапывать дождь. Федерико с тоской и надеждой посматривает на небо -может, пронесет? – однако дождь усиливается. Но зрители, по лицам которых, как и по лицам актеров, бегут холодные капли, лишь теснее прижимаются друг к другу и даже при раскатах грома не сводят глаз со сцены. Представление продолжается...
Где-то возле Мурсии после спектакля к Федерико подходит загорелый парень в крестьянской пеньковой обуви, в поношенных грубых штанах. Он в восторге от «Ла Барраки». Воодушевленный примером бродячего театра, он собирается в ближайшее время – как только выйдет из печати его книга – тоже отправиться по деревням, по сельским ярмаркам и читать крестьянам стихи.
Как, у него уже выходит книга? Парень, вспыхнув, достает из кармана тщательно завернутую пачку листков. Это и в самом деле типографские гранки. На верхнем листке заглавие: «Знаток Луны» – и имя автора: «Мигель Эрнандес». Стихи юношеские, наивные, хотя попадаются и по-настоящему поэтические строки – например, о лимоне:
О лимон желтоватый, если в воздух тебя я подкину, ты в ответ мне подаришь молнию!Не смущаясь, отвечает Мигель на расспросы Федерико. Ему двадцать один год, он из Ориуэлы, недалеко отсюда. Сын пастуха и сам пастух – не такое плохое занятие! – вскидывает он голову. Небо, ветер, горные луга... Если приложить ухо к козьему вымени, услышишь, как булькает и журчит молоко.
Вот теперь Федерико знает, что перед ним поэт. Со жгучим любопытством разглядывает он круглое лицо, вздернутый нос, выпуклые упрямые глаза. Вот и новое поколение на пороге... Он оставляет Эрнандесу свой мадридский адрес, просит писать.
Уже простившись, Мигель возвращается. Он хотел бы только узнать, неужто правду пишут газеты, будто отныне Гарсиа Лорка займется исключительно театральной деятельностью? А как же стихи и пьесы?
Искренняя тревога, различимая в его голосе, приятней любых похвал. Федерико улыбается: не надо верить газетам! Бродячий театр не мешает, а помогает ему сочинять.
Так оно и было. Видя и слыша, как встает из книг, облекаясь плотью, поэзия Лопе, Сервантеса, Кальдерона, как становится она достоянием людей, не слыхавших о ней, но безошибочно признающих ее своей, – мог ли он не думать о собственной поэзии, не обращаться к ней поминутно? Руководитель труппы, он на каждом представлении превращался в прилежного ученика. Учителем была публика – эта публика. Ее восприятие бросало свет на самые запутанные загадки высокого ремесла, которому он посвятил себя.
Тут проходили проверку законы смешного и трагического, испытывались хитроумные сценические приемы, доказывалась, между прочим, необходимость чередования прозаической речи со стихами и выяснялось, в каких случаях предпочтительнее стихи. Никогда еще Федерико не убеждался так наглядно, что наилучшая пьеса мертва, покуда она состоит из одних слов, пусть даже звучащих, – пьеса оживает лишь в действии, в музыкальном ритме движений и жестов, в отточенной мимической игре.
А ночами – где-нибудь в доме алькальда или сельского учителя, в дешевой гостинице либо просто на сеновале – его сознанием безраздельно завладевала неотступная тайная работа. Зрители, за которыми следил он из-за кулис несколько часов тому назад, подымались на сцену, вступали в его трагедию как античный хор. Они окружали людей, рождавшихся в его воображении, спорили с ними, выносили им приговор.
Сперва Федерико был уверен, что замысел, не дающий ему покоя, – все тот же давний замысел, который он обозначал для себя именем Иермы. К своему удивлению, он стал обнаруживать, что раздумья уводят его куда-то в сторону. Впрочем, в сторону ли? Трагедия испанской женщины начиналась не замужеством – она имела свою предысторию, и в этой-то предыстории требовалось разобраться.
Разлука с любимым? Деспотическая власть родителей? Обручение против воли? Перебирая в уме различные варианты, Федерико вспоминает однажды столбец из хроники происшествий в газете «Эль Дефенсор де Гранада», попавшейся ему на глаза еще до поездки в Америку, – вспоминает так явственно, что видит перед собой и желтоватую бумагу с древесными волоконцами и сбитый, неразборчивый шрифт. Там сообщалось о двойном убийстве, совершившемся в какой-то деревне близ Альмерии. Виновницей была девушка – накануне своей свадьбы с хорошим парнем она повстречала прежнего возлюбленного, который после размолвки с нею женился на другой. Прямо из-под венца невеста бежала с чужим мужем – «на крупе его коня», как говорилось в газете. Опозоренный жених бросился в погоню, настиг их, и в кровавой схватке погибли оба соперника.
Вот оно!
И сразу же все, что до этой минуты беспорядочно роилось в воображении – лица, характеры, обрывки диалогов и песен, – начинает сцепляться, выстраиваться, располагаться в неясном еще, но все более и более отчетливом порядке. Так выстраиваются железные опилки на бумажном листке, если поднести к нему снизу подкову магнита. Так обрастает кристаллами ветка, опущенная в крепкий раствор. И так припомнившаяся кстати история из хроники происшествий стягивает к себе нестройную толпу образов, превращаясь в стремительно зреющую трагедию.
Осталось дать всего несколько представлений перед тем, как труппа разъедется на каникулы. Но Федерико не в силах ждать. Какое счастье, что Эдуарде может его заменить, что товарищи по «Ла Барраке» отпускают его, поняв с полуслова! Торопливо обняв всех, испытывая одновременно жестокие угрызения совести и громадное облегчение, Федерико вскакивает в поезд.
Назавтра он уже в Гранаде – переполненный до краев, кипящий, едва сдерживающий себя. Радость домашних, расспросы, даже мать – сейчас все это, словно во сне. Поскорей бы остаться одному... И вот, наконец, он взлетает наверх, к себе, поворачивает ключ в двери и принимается лихорадочно, почти без помарок, переносить на бумагу трагедию «Кровавая свадьба», полностью сложившуюся в голове.
8
Место действия: Андалусия – Верхняя, что в горах, и приморская, Нижняя. В речах действующих лиц, в скупых ремарках разбросано немало точных, взятых из жизни подробностей. Сыну соседки отрезало обе руки машиной. Убитому ставят на грудь миску с солью, чтобы тело не вздулось. Разговор о пшенице: хорошую ли цену дают за нее приемщики? Жилище Невесты выстроено в пещере – это, наверное, воспоминание о цыганских пещерах на Сакро-Монте.
Но ошибется тот, кто примет «Кровавую свадьбу» за бытовую деревенскую драму. Ибо не в будничную Андалусию переносит нас ее действие, но в ту, что живет в поэтическом сознании народа, в Андалусию романсов и песен, поверий и заклятий. Языком народной поэзии – образным и лаконичным – говорят ее герои друг с другом, со слушателями и зрителями. И зовут их не собственными именами, а как в сказке: Мать, Жених, Невеста, Отец Невесты...
Здесь господствуют заповеди старой крестьянской морали. Подниматься с зарей. Трудиться в поте лица. Выбрать себе женщину – одну на всю жизнь – и быть для нее единственным. У мужа – виноградник, поле, конь. У жены – муж, дети и стена толщиной в два локтя. Верность этим заповедям, верность себе, верность людям, среди которых живешь, удерживает мир в равновесии; измена ведет к катастрофе.
Источник трагедии в том, что еще до ее начала суровая гармония этого мира нарушена. Преступили древний закон крестьяне из рода Феликсов – от их рук пали отец и брат Жениха, и пролитая кровь взывает к отмщению. Самой себе изменила Невеста, отказавшись от любимого – Леонардо – из-за его бедности («Вспомни, кем я был для тебя! – упрекнет он ее. – Но пара быков и худая лачуга – это почти ничего. Вот в чем причина»). И трижды повинен в измене сам Леонардо, женившийся на двоюродной сестре Невесты, – в измене себе, своей первой возлюбленной и, наконец, той женщине, которая стала матерью его детей. Потому что он не любит жену, подавленная любовь тлеет в нем до сих пор, как уголь под пеплом.
(Случайно ли, что из всех действующих лиц «Кровавой свадьбы» один только Леонардо назван по имени? По-видимому, не случайно, как не случайно и то, что он из рода Феликсов, сродни убийцам. Имя здесь – знак развитой индивидуальности, отделяющейся от патриархальной среды и восстающей против ее законов ради своей личной свободы. Если для Матери, для Жениха законы эти являются частью собственного существа, то для Леонардо они стали уже чем-то внешним, чуждым, стесняющим, и он готов порвать с ними, не останавливаясь перед тем, чтобы причинить горе людям, оказавшимся у него на пути.)
Поэтический мир трагедии раскрывается постепенно. Первая картина целиком написана прозой, ее действие течет еще в традиционном русле. Сумрачная поэзия чуть просвечивает сквозь слова, которыми обмениваются Жених и Мать, Мать и Соседка, – так река просвечивает сквозь лед.
Но уже во второй картине поэтическая стихия взламывает лед обыденности и выходит из берегов. Звучит колыбельная, которую пел Федерико друзьям в Нью-Йорке, – о коне высоком, что воды не хочет. Здесь ею баюкает ребенка Теща Леонардо, ее подхватывает Жена Леонардо, сидящая за вязаньем. Песня не иллюстрирует действие: сама она – действие. Вот сейчас войдет Леонардо, и конь перелетит из песни в диалог. Куда это скачет на нем каждый день хозяин, да так, что приходится то и дело подковы менять? Цокот подков послышится в следующей картине под окном у Невесты, только что окончательно давшей согласие на замужество. И на том же коне умчит Леонардо Невесту прямо со свадьбы, и будет все как в песне:
На коне высоком беглецы спасались...И еще что-то есть в этой песне, не поддающееся никаким определениям, но, быть может, самое важное: пронзительная, ударяющая по сердцу скорбь, которую не передашь иначе, как такими словами:
Конь взял и заплакал.Наступает день свадьбы. Барабаны, гитары, бубны, обрядовые песни, языческие непристойности Служанки, бесхитростное счастье Жениха, смутная тревога Матери, тоска Жены Леонардо... А за всем этим – безмолвная борьба двоих: Невесты и Леонардо, глухая, нарастающая мелодия их страсти, требующей утоления любой ценой.
Но не в этой всепожирающей страсти заключается трагическая вина Леонардо и Невесты. Мир, в котором они живут, превыше всего ставит именно такое чувство – могучее, не связанное никакими расчетами веление крови. Он требует одного: верности чувству. Мать – плоть от плоти этого мира – во имя счастья двух любящих готова смирить в себе голос кровной вражды; она не противится браку сына, даже узнав, что его избранница была когда-то невестой Леонардо.
Напротив, отказ от единственной своей любви, измена, которую совершили Леонардо, женившийся на другой, и Невеста, согласившаяся стать женою другого, – вот истинная их вина. Любовь, которую они думали обмануть, вновь охватывает их неудержимым пламенем, но теперь это мстительное, мрачное пламя, сеющее смерть и вражду. И когда вбегает Жена Леонардо с отчаянным криком: «Они бежали! Она и Леонардо. На коне. Обнялись и полетели вихрем!» – в Матери вместе с оскорбленной гордостью, вместе с болью за сына вскипает старая, ничем уже не сдерживаемая ненависть. «Здесь теперь два стана, – бросает она Отцу Невесты и всей родне Леонардо. – Снова настал час крови. Два стана. Ты со своим, я с моим. В погоню! В погоню!»
Безраздельно господствует поэзия в третьем действии. Ночной лес, через который пробираются беглецы и преследователи. Разговор трех дровосеков, незаметно переходящий в стихи. И так же естественно облекаются плотью и вступают в действие образы этих стихов – Луна в виде молодого дровосека с бледным лицом, Смерть, одетая Нищенкой. Нищенка направляет руку Жениха; Луна освещает дорогу ножам.
Последний диалог Леонардо и Невесты исполнен горечи и чистоты. Сама любовь исповедует их в преддверии смерти и отпускает им все грехи. Торжествующая любовь заставляет их говорить словами бесстыдными и прекрасными. Они уходят обнявшись.
«Очень медленно выплывает Луна. Сцену заливает яркий голубой свет. Дуэт скрипок. Вдруг один за другим раздаются два раздирающих вопля, и музыка обрывается. При втором вопле появляется Нищенка, останавливается на середине сцены, спиной к зрителям, и распахивает платок. Сейчас она похожа на птицу с огромными крыльями. Останавливается и Луна. Медленно, в полной тишине опускается занавес».
Картина последняя. Селение Жениха, куда Нищенка приносит весть о свершившемся. Плачущие соседки окружают Мать, а она спокойна – тем страшным спокойствием, которое ничто уж, кажется, не сможет нарушить. И вдруг появляется Невеста – в черном платке, без венка... Она посмела прийти в этот дом?!
Да, посмела! Пришла затем, чтобы принять смерть от руки Матери. Пришла потому, что только Мать -да, та самая Мать, сын которой погиб по вине Невесты, способна понять ее: «Да, я бежала с другим, бежала! (С тоской.)Ты бы тоже бежала. ... Я стремилась к твоему сыну, и я его не обманывала, но рука того подхватила меня, как волна. И она подхватила бы меня рано или поздно, даже если б я состарилась и все дети твоего сына вцепились мне в волосы!»
И рука, занесенная для удара, повисает в воздухе. Отступает слепая ярость. Суровые, просветленные слова возникают из глубин материнской скорби: «Благословенна пшеница, ибо под ней мои сыновья. Благословен дождь, ибо он омывает мертвых».
«Позволь мне плакать вместе с тобой», – просит Невеста. «Плачь, – разрешает Мать. – Но у дверей». Траурное шествие приближается. Четверо юношей несут на плечах тела Жениха и Леонардо. Ценою их гибели, ценой очистительной грозы, разразившейся посреди свадьбы и превратившей ее в похороны, искуплена трагическая вина, торжествует древний закон, восстановлено равновесие в мире. По обоим павшим рыдают Мать и Невеста, окруженные хором соседок. В общем поминальном плаче сливаются их голоса.
Так заканчивается трагедия «Кровавая свадьба», представленная впервые труппой Хосефины Диас де Артигас в мадридском театре «Беатрис» 8 марта 1933 года.
9
«Мигелю Эрнандесу. Ориуэла, провинция Аликанте.
Дорогой мой поэт, я не забыл тебя. Но жизнь захлестывает меня, и перо, которым я пишу письма, выскальзывает из пальцев»...
«Жизнь захлестывает меня...» Не зачеркнуть ли? Мигель, читая, представит себе, наверное, премьеры, литературные сражения, застольные беседы с друзьями-поэтами – все то, о чем он тоскует в своей глуши.
Что ж, так оно и есть. «Кровавая свадьба» идет с неослабевающим успехом. В апреле состоялась еще одна премьера: Клуб друзей театральной культуры показал «Любовь дона Перлимплина – историю про счастье, и беду, и любовь в саду» в постановке самого автора. Клуб этот – новая затея Федерико, всерьез вознамерившегося вырвать театральное дело из рук невежественных и корыстных антрепренеров. Но «Ла Баррака» остается его любимым детищем. Еще зимой он объездил с ней Андалусию, а сейчас репетирует «Фуэнте Овехуну», которая должна быть поставлена так, чтобы крестьяне любой деревни узнавали себя в мятежниках, воспетых великим Лопе. Чудесные декорации для этого спектакля делает скульптор Альберто Санчес – долговязый, угрюмый с виду, а улыбнется, и даже стены вокруг светлеют! Рассмотрев очередные эскизы, Федерико всякий раз хватает гитару и вознаграждает автора любимейшими своими песнями, которые Альберто тут же перенимает.
А выступления с лекциями и стихами! И концерты Аргентиниты, на которых Федерико иной раз приходится по старой дружбе присаживаться за пианино. И участие в постановке балета де Фальи «Любовь-колдунья» – разве может он отказать в чем-нибудь дону Мануэлю? И само собой – пирушки до рассвета... А теперь вот опять предстоит путешествие за океан – Лола Мембривес, показавшая «Кровавую свадьбу» в Буэнос-Айресе, пишет, что аргентинская публика требует его присутствия.
Да, жизнь его – та, которую делит он с окружающими, и впрямь сплошной праздник. Другую свою жизнь Федерико ни с кем не делит. Встречая ее следы в стихах и пьесах, приятели пожимают плечами: откуда такая мрачность?
В самом деле откуда? Веселое солнце разгуливает по всем комнатам его новой квартиры на улице Алькала, городской шум едва доносится снизу. Никогда еще не дышалось ему так свободно, никогда не ощущал он в себе столько сил. Откуда же берется невидимая, словно растворенная в воздухе тревога, что сгущается в сердце?
Когда он снова почувствовал эту тревогу? Не в январе ли, когда в газетах замелькали два слова: «Касас Вьехас»? Так звалась деревушка недалеко от Кадиса. Жители ее, батраки, отчаявшись дождаться земли от республики, решили своими силами осуществить на деле всеобщее равенство. Они захватили лавку и распределили продукты между голодными, затем повалили столбы с колючей проволокой и пошли распахивать пустующую целину, на которой выращивались быки для коррид. Отряд штурмовой гвардии, прибывший, чтобы восстановить порядок, открыл огонь. Крестьяне пытались сопротивляться. Произошло настоящее сражение, с убитыми и ранеными. А потом победители расстреляли четырнадцать зачинщиков. «Ужасно, ужасно!» – твердил Фернандо де лос Риос, к которому Федерико прибежал за разъяснениями. Министр был глубоко подавлен и все же добавил: «Все наладится, когда у нас будет достаточно школ».
В другой раз Федерико, может быть, и удовлетворился бы этим – ведь политикой он по-прежнему не интересовался, – но Касас Вьехас для него была не просто географическим наименованием. Он заезжал туда несколько лет назад и на всю жизнь запомнил конусообразные лачуги, жмущиеся друг к другу на западном склоне холма, защищавшего их от восточного ветра – леванта, которому ничего бы не стоило их повалить. Их строили так: в земле рыли яму, окружали ее плетнем из сухих ветвей, соединяли ветви наверху. Землею же, замешав ее на воде, обмазывали плетень снаружи – и дом готов. За газетными столбцами все мерещились Федерико такие дома, охваченные пламенем, превратившиеся в костры.
Костры... или это уж другая история? Совсем недавно у Карлоса Морлы Линча он встретил беглеца из Германии. Почтенный профессор-медик, директор столичной клиники, лишился родины, семьи, работы из-за того, что имел несчастье родиться евреем. Понизив голос и непроизвольно оглядываясь, он рассказывал невероятные вещи – о том, как фашисты подожгли рейхстаг, чтобы обвинить во всем коммунистов, о переполненных концлагерях, о гигантском костре из книг перед зданием Берлинского университета. Слушатели ахали, переглядывались, старались как могли утешить беднягу – подобное безумие не может быть продолжительным, он вернется домой, надо думать, еще до конца года!
Старались отвлечь гостя от горестных мыслей. Конечно же, именно с этой целью Луис Сернуда стал рассказывать о морских купаньях в Малаге. Но Федерико навряд ли забудет беглый взгляд, которым эмигрант окинул присутствующих, не без облегчения повернувшихся к Луису. Ни укоризны, ни отчужденности не было в том взгляде, напротив – понимание, сочувствие, тайная жалость. Так, должно быть, смотрел он украдкой у себя в клинике на больных, приговоренных к смерти и не подозревающих ни о чем.
А может быть, тревога поселилась в сердце еще с прошлого лета? Тот же Карлос, падкий до знаменитостей, принимал у себя другого иностранца – всемирно известного биолога, кандидата на Нобелевскую премию, подписавшего некогда вместе с Эйнштейном и Генрихом Манном манифест против мировой войны. Прославленный ученый – седой, румяный, с младенчески-голубыми глазами – охотно развивал перед собравшимися профанами свои идеи об улучшении рода человеческого. В будущем, пояснял он терпеливо, родители сами станут отказываться от неудачных детей, как только удостоверятся в их неполноценности. Систематическое – м-м... – устранение каждого существа, признанного неспособным внести по причинам как физического, так и морального порядка эффективный вклад в деятельность общества, будет признано необходимой мерой и приобретет силу закона.
– А материнская любовь? – спросил Федерико тоскливо. – Ведь слабенького, болезненного ребенка, недоразвитого даже, мать всегда любит больше, чем остальных детей!
Биолог развел руками.
– Такая любовь неразумна, – сказал он мягко, искренне сожалея, что не может ответить иначе, – она не что иное, как недостаток культуры, самовнушение, одержимость. Общество не должно с нею считаться.
Карлос зря беспокоился – Федерико не вышел из себя, не обидел гостя ни словом. Он согласился почитать стихи после чая и без протеста, скорее с любопытством выслушал замечание ученого по поводу строки «Хочу дышать на Луне» – да не прогневается поэт, но это же нонсенс: на Луне, как известно, нет атмосферы!.. Только в речах Иермы потом прибавилась фраза: «Если б даже мне сказали, что мой сын будет терзать меня, что он возненавидит свою мать и станет таскать ее за волосы по улице, я и тогда с радостью встретила бы его появление!»
Ибо и тоска, и горечь, и чувство катастрофы, охватывающее Федерико по временам, рождают в нем неистовую волю к сопротивлению. Работа подчиняет себе все эти чувства, переплавляет в слова, заряженные упорством и гневом. Трагедия о Иерме – После «Кровавой свадьбы» он принялся за нее снова – вот его поле сражения за человека, теснимого отовсюду.
«Иермой» он отвечает на костры и расстрелы, на тупое варварство и научное изуверство, на произвол и ложь, откуда бы ни исходили они. Ни перед людьми, ни перед судьбой не склоняется его неукротимая героиня. Наперекор всем враждебным силам, наперекор всем соблазнам отстаивает она священное материнское право рождать жизнь, связывать прошлое с будущим, не поступаясь ни честью своей, ни человечностью, не изменяя самой себе. Не понимаемая никем, одинокая, она борется не за себя одну – за всех.
Не пора ли, однако, вернуться к письму?
«...Я вспоминаю о тебе постоянно, потому что знаю, сколько ты терпишь от грубых людей, окружающих тебя, и мне больно видеть, как твоя жизнерадостная, светлая юность, запертая в загоне, мечется, натыкаясь на стены.
Но именно так ты выучишься. В этой жестокой школе, которую дает тебе жизнь, ты выучишься превозмогать себя. Твоя книга встречена молчанием, как все первые книги, как и моя первая книга, в которой тоже были и прелесть и сила. Пиши, читай, занимайся. БОРИСЬ! Не тщеславься своим творчеством. Твоя книга сильна, в ней много интересного, и доброжелательный взгляд откроет в ней человеческую страсть,но, как почти всем первым поэтическим сборникам, ей недостает напора...
Успокойся. Сегодня в Испании создается прекраснейшая поэзия Европы. И в то же время люди несправедливы. «Знаток Луны» не заслуживает этого дурацкого молчания, нет. Книга заслуживает внимания, поощрения и любви со стороны чистых сердцем. Этого у тебя никто не отнимет, потому что ты рожден поэтом, и даже когда ты ругаешься в своем письме, я чувствую за всеми твоими грубостями (которые мне нравятся) нежность твоего светлого и взволнованного сердца.
Мне хотелось бы, чтобы ты сумел преодолеть свое настроение – настроение непонятого поэта – и посвятил бы себя другой, более благородной страсти, политической и поэтической. Пиши мне. Я намерен поговорить кое с кем из друзей, не займутся ли они «Знатоком Луны».
Книги стихов, дорогой Мигель, расходятся очень медленно.
Полностью понимаю тебя. Обнимаю тебя по-братски, с чувством нежности и товарищества.
Федерико».
10
Трудно вообразить что-нибудь более беспорядочное и сумбурное, чем разговор давно не видавшихся друзей, которые, и ежедневно видясь, не успевали наговориться досыта. А представьте-ка еще, что в их беседе участвует целая компания, шумная и бесцеремонная! Логика такой беседы – чисто ассоциативная; важные признания роняются мимоходом, зато пустячная сплетня может вдруг стать предметом страстного обсуждения; собеседники засыпают друг друга вопросами и в то же время не дают друг другу слова сказать...
Именно это и происходит одним из августовских вечеров 1934 года на окраине города Сантандера, в кафе, лишь неширокой полосой песка отделенном от Бискайского залива – недвижного, остекленевшего до самого горизонта. Сдвинуты чуть ли не все столики; за столиками – труппа «Ла Барраки», только что прибывшая в Сантандер, Хорхе Гильен, оказавшийся здесь проездом вместе с Педро Салинасом, да еще несколько местных поэтов и театралов. Галдеж стоит такой, что мальчишки, заглядывающие в окна с улицы, сгорают от нетерпения – когда же, наконец, дело дойдет до поножовщины?
Вот уж кто-то размахивает руками перед носом соседа, заступившегося за нынешнее правительство, которое забирает вправо все круче. Ах, сосед считает, что правительство радикалов пришло к власти законным путем – в результате прошлогодних выборов, на которых потерпели поражение левые партии? Он делает вид, что не знает, с помощью каких подлогов, какого террора досталась правым победа на выборах? А ну-ка, сантандерцы, расскажите хоть вы ему о том, как запугивали женщин священники, как помещичьи сынки безнаказанно разгоняли митинги, созванные социалистами!
Сантандерцы, однако, хотели бы знать, почему так послушно приняли все это социалисты и чего они ждут теперь. Ждут, пока Хиль Роблес – испанский Муссолини – окончательно приберет страну к рукам?
– А социалисты не верят в угрозу фашизма! – восклицает не без ехидства Эдуарде Угарте. – Заявил ведь Бестейро не так давно, что фашизм опасен не более, чем мышиная возня в заброшенном доме...
– Ну, нет! – кричат с другого конца. – Социалисты не пошли за Бестейро, они заставили его уйти в отставку с поста председателя Всеобщего союза трудящихся. А Ларго Кабальеро, избранный на этот пост, публично объявил, что, если отъявленные реакционеры посмеют войти в правительство, социалистическая партия поднимет рабочих на вооруженное восстание!..
– А что говорит Фернандо де лос Риос, ведь он же поддерживает Ларго Кабальеро? Пусть Федерико расскажет!
– Нет, пусть Федерико лучше расскажет о своем путешествии в Аргентину – пятый месяц обещает!
– Нет, пусть скажет сначала, кто будет ставить «Иерму»!
Хорхе Гильен с присущей ему рассудительностью пытается внести хоть какой-то порядок в это столпотворение. В самом деле, Федерико должен прежде всего рассказать о полугодовом своем пребывании в Южной Америке – при всей триумфальности газетных отчетов друзья имеют основания не удовлетворяться ими. Вот Игнасио, например, так хотел послушать Федерико, что обязательно задержался бы в Сантандере, если б его не ждали в Ла-Корунье и в Мансанаресе...
Тут же он понимает, какую сделал ошибку. Имя Игнасио Санчеса Мехиаса, всего несколько дней назад выступавшего в этом городе, вызывает непредвиденный взрыв эмоций и тотчас уводит беседу в сторону от того русла, по которому она готова была устремиться. Каждому есть что сказать о прославленном матадоре, возвратившемся на арену. Как он работает с плащом! Как медленно пропускает быка мимо себя, почти вплотную, и как (это уже женщины) великолепен его костюм, голубой с золотом! Кое-кто, правда, считает, что присуждать ему хвост быка, как в последний раз, было излишне – хватило бы и ушей, но сантандерцы кричат, распалившись, что и этого мало – видано ли где в наши дни подобное искусство?
– Видано! – хлопает вдруг Федерико ладонью по столику, покосившись на обескураженного Хорхе. – Видано!
– Где? – поворачиваются все к нему.
– В Буэнос-Айресе!
Общее удивление. В Аргентине? Где и коррид-то не бывает? Кто ж там отважился?..
– Не отважился, а отважились, – поправляет Федерико спокойно. – Выступали двое – аль алимон.
Удивление возрастает. «Topeo аль алимон» – довольно редкая разновидность боя: на быка выходят два матадора под одним плащом. Откуда знать ее аргентинцам?
– Почему аргентинцам? Первый матадор был чилийским поэтом. А второй, – Федерико приподнимается, театрально раскланивается, – ваш покорный слуга.
– А... бык? – еще допытывается какой-то тугодум под общий хохот. – Хорош ли был бык?
– Превосходен! – убежденно отвечает Федерико. – Самое избранное общество Буэнос-Айреса!
И, не давая прервать себя, принимается рассказывать, как вдвоем с чилийцем Пабло Нерудой – вы еще не слыхали о нем? Погодите, скоро услышите! – они по всем правилам тавромахии подчинили фешенебельную публику своей воле, заставив ее вместо ожидаемых стихов выслушать кое-что другое. Импровизируя поочередно, да так, что порою один начинал фразу, а второй заканчивал, они произнесли целую речь о великом поэте Америки и Испании, посвятившем столько прекрасных стихов Аргентине и незаслуженно ею забытом. Имя этого поэта – Рубен...
– ...Дарио, – продолжает Федерико незнакомым голосом, звучащим протяжно и жалобно, и лицо его делается печальным, сонным, лукавым. – Ибо, дамы...
...и господа, – становится он на миг самим собою, чтобы тут же опять уступить место Пабло Неруде:
– ...где у вас, в Буэнос-Айресе, площадь Рубена Дарио?
– Где памятник Рубену Дарио?
– Он любил парки, – жалуется Неруда. – А где же парк Рубена Дарио?
– Где хотя бы цветочная лавка имени Рубена Дарио? – усмехается Федерико.
Теперь уже все глядят на него, не отрываясь, готовые растерзать любого, кто откроет рот. Не закрывает рта один Федерико – изображая в лицах свое путешествие, он рассказывает об успехе «Кровавой свадьбы», выдержавшей более ста представлений в Буэнос-Айресе, и о том, как Лола Мембривес, решив ковать железо, пока горячо, поставила также «Чудесную башмачницу» и «Мариану Пинеду», и как в «Башмачнице» ему снова пришлось каждый вечер снимать перед публикой зеленый цилиндр, из которого вылетала голубка;
и о поездке в Монтевидео, где он увиделся с проживающим там старым другом – закоулочником Пепе Морой;
и о том, как в аргентинском Национальном театре была показана «Дурочка» Лопе де Вега в обработке Федерико Гарсиа Лорки;
и о коллекции тропических бабочек, которую привез он из Рио-де-Жанейро, куда заходил пароход на обратном пути;
и о том, как получив – впервые в жизни – солидный гонорар за свои выступления, он прямо из Буэнос-Айреса отправил почти всю эту сумму в Гранаду, отцу: пусть, наконец, убедится, что и поэзией можно зарабатывать деньги!
Изображение предполагаемой реакции дона Федерико – отец, на секунду остолбенев, немедленно приходит в себя и восклицает с апломбом, что никогда не сомневался в мальчике! – вызывает новый взрыв смеха, прерываемый появлением посыльного из гостиницы. Срочная телеграмма из Мансанареса для Хорхе Гильена.
Вскрыв телеграмму и пробежав ее глазами, Хорхе сообщает лишенным выражения голосом, что сегодня, в пятом часу пополудни, Игнасио Санчес Мехиас был ранен быком, рог разорвал бедренную артерию и повредил внутренние органы, положение безнадежно.
Последнего он мог бы не говорить – все знают, что значит такое ранение. Оглушительно тикают часы – ручные, карманные, всякие. Огромная пустота наваливается на Федерико. «В пятом часу пополудни, – повторяет он про себя, вцепившись руками в край стола, – в пятом часу пополудни...»
11
Телеграмма о смерти Игнасио приходит на следующее утро. «В пятом часу пополудни, – похоронным звоном отдается в мозгу Федерико, – в пятом часу пополудни». В беспощадной точности этих слов пытается он найти точку опоры посреди владеющего им отчаяния. Вокруг них начинают собираться его разрозненные, разлетающиеся мысли.
Внешне жизнь идет, как обычно. «Ла Баррака» продолжает путь, пожиная успех повсеместно. Сам Мигель де Унамуно, посмотрев «Севильского озорника», приходит в такой восторг, что просит еще раз показать ему пьесу Тирсо, а затем посвящает Федерико одно из своих стихотворений. Директор бродячего театра по-прежнему неутомим и находчив. Никто не знает, что смерть Игнасио Санчеса Мехиаса неотступно с ним повсюду, что будничные подробности этой смерти и рожденные ею мучительные видения накапливаются в его памяти, изнизываясь все на ту же строку:
...Принес простыню крахмальную мальчик в пятом часу пополудни. И корзину с известью негашеной — в пятом часу пополудни. А над всем этим – смерть, одна только смерть в пятом часу пополудни. Когда заморозились капли пота впятом часу пополудни, и стала арена желтее йода в пятом часу пополудни, то смерть положила личинки в рану в пятом часу пополудни Било пять часов пополудни, было точно пять часов пополудни.Не в первый раз силится он совладать со смертной тоской, превращая ее в стихи, но, пожалуй, впервые с такой остротой чувствует, что и стихи тут беспомощны. Он превратит в стихи и это чувство, и все-таки Игнасио не воскреснет, смерть будет торжествовать, а жизнь – единственная, неповторимая – так и останется мгновенной вспышкой, хрупким мостиком из небытия в небытие.
Ты чужд быку, смоковнице, и коням, и муравьям у твоего порога. Тебя не знает вечер и ребенок, — ушел ты навсегда, навеки умер. Ты чужд хребту иссеченному камня, атласу черному, в котором тлеешь. Ты чужд своим немым воспоминаньям, — ушел ты навсегда, навеки умер. ...Да, потому, что ты навеки умер, как мертвые, оставившие землю, как мертвые, которых забывают средь кучи мусора и псов издохших.«Один живешь и один умрешь», – вспоминается Федерико старинная кастильская поговорка.
Но разве человек приговорен к одиночеству? Разве не во власти его – продолжить и пережить себя в других людях, в народе, из века в век побеждающем смерть?
И снова мысль его обращается к театральным подмосткам – туда, где поэзия, поднимаясь из книг, становится общим людским достоянием, где слово превращается в действие. От «Плача по Игнасио Санчесу Мехиасу» он переходит к почти законченной «Иерме», к трагедии, говорящей не о смерти, но о бессмертии.
Последние сцены трагедии Федерико набрасывает уже осенью, в Мадриде, запершись у себя в комнате, куда имеет доступ только его сестра Исабель, взявшая на себя попечение о брате. Он выключил телефон, не заглядывает в газеты, и когда хмурым октябрьским утром небо за окном словно лопается с оглушительным треском, Федерико только досадливо морщится: опять эти учебные стрельбы в гвардейских казармах по соседству! Но вдруг соображает, что он не на Тополином холме, а на улице Алькала, где нет никаких казарм... и тут же слышит, как что-то звякнуло, как негромко ахнула Исабель... Выбежав на кухню, он видит аккуратную дырочку в оконном стекле, видит сестру, прижавшуюся к стене, и еще одну черную дырочку в штукатурке, в нескольких сантиметрах от ее головы.
Час спустя в мастерской архитектора Луиса Лакаса друзья наперебой рассказывают Федерико о событиях последних дней. 4 октября правительство вышло в отставку, и радикал Лерус сформировал новый кабинет, куда вошли три откровенных реакционера, три заклятых врага республики. Социалисты в ответ на это призвали рабочих ко всеобщей стачке и к вооруженному восстанию. По всей Испании начались забастовки. Однако новое правительство приняло свои меры. В Мадриде все стратегические пункты заблаговременно заняты войсками. Самые меткие стрелки из гражданских гвардейцев размещены на балконах и крышах домов с правом стрелять без предупреждения – вот откуда шальная пуля, залетевшая в квартиру Федерико.
Следующие дни приносят еще худшие вести. Стачка рабочих столицы задушена. Идут аресты. Схвачены вожди социалистической партии – Ларго Кабальеро, Прието, Негрин и другие, скрывавшиеся в студии художника Луиса Кинтанильи. Подавлены вооруженные выступления в Басконии, в Леоне. Капитулировала Барселона. Не сдаются только астурийские горняки.
О том, что происходит в Астурии, судить можно лишь с трудом – по слухам, по рассказам людей, приехавших из Овьедо, по яростной брани правых газет. Но ясно, что там рабочие – социалисты, анархисты, коммунисты – действуют сообща. Они создали Красную гвардию, захватили арсеналы и военные заводы, провозгласили рабоче-крестьянскую власть и подняли над Овьедо красный флаг. Армия ничего не может с ними поделать, поговаривают, что даже солдаты открыто сочувствуют восставшим.
И тут в разговорах всплывает имя, которое Федерико уже слышал когда-то. Кто он такой, этот генерал Франко? Всего-навсего советник военного министерства, однако его называют невидимым диктатором Испании. Именно он предложил бросить на расправу с Астурией Иностранный легион и марокканские войска, а также использовать против рабочих танки и авиацию. Даже в военном министерстве кое-кто был шокирован: прибегнуть к помощи марокканцев против своего народа – такое только в древних хрониках встретишь! Но Лерус принимает предложение с благодарностью. Иностранный легион и два марокканских батальона, спешно доставленных из Африки, с ходу вступают в бой; самолеты бомбят беззащитные шахтерские поселки.
Проходит неделя, другая... Все победней становится тон официальных реляций; газета «ABC» открывает сбор пожертвований в пользу гражданских гвардейцев. В газетах не пишут о зверствах карателей, о сотнях расстрелянных без суда, о женщинах, которых замучили до смерти, требуя выдать, где скрываются их мужья. Но знают об этом все, только одни молчат, а другие говорят – с ужасом, с яростью, с горьким стыдом.
До пьес ли теперь? «Зачем я пишу?» – спрашивает себя Федерико и все-таки пишет, дописывает свою трагедию. Дописывает, потому что не может иначе, как не может женщина не разрешиться от бремени, когда настает ее час, хотя бы земля разверзлась у нее под ногами. Дописывает, потому что в глубине души знает: это тоже борьба, его борьба, и не за себя одного – за всех. «Работать, наперекор всему работать!» – чьи это слова, чей тонкий, срывающийся голос звучит у него в ушах?
Поздно ночью телефонный звонок поднимает с постели Маргариту Ксиргу. Узнав Федерико, актриса ледяным тоном осведомляется, что случилось, – она до сих пор не может забыть обиду, которую он ей нанес, отдав «Кровавую свадьбу» Хосефине Диас де Артигас. Но Федерико ничего не замечает: он хотел бы прочитать ей только что законченную пьесу. Ну что ж, Маргарита будет рада видеть его у себя завтра утром. Утром? Нет, это невозможно! До утра еще несколько часов, а он должен с ней поделиться немедля, сейчас.
И вот уже он, проглотив чуть не залпом чашечку крепчайшего кофе, который во всем Мадриде никто так не приготовит, как Маргарита Ксиргу, усаживается перед хозяйкой и расправляет на коленях пачку листков. Комната наполняется людьми:
Иерма.
Хуан.
Молодой пастух Виктор – будь Иерма его женою, все было б иначе!
Но она замужем за Хуаном, и только в нем ее спасение. Ибо честь, не позволяющая ей уступить тайному влечению к Виктору, честь для Иермы – совсем не то, что для ее мужа, не «тяжесть, которую несут все», не закон, навязанный извне и соблюдаемый из страха перед людским осуждением. Ее честь – это ее собственная жажда цельности, чистоты, правды, потребность жить, не изменяя себе и людям. Эта жажда не находится в противоречии с жаждой материнства, сжигающей Иерму, – напротив, у обеих общий источник: вера в добро, в смысл жизни, в то, что нами не все кончается. Трагический конфликт развертывается не в душе героини, но между Иермой и духовно измельчавшими людьми, изверившимися во всем, кроме своей сегодняшней собственности, сиюминутного наслаждения. Среди этих людишек она как Гулливер среди лилипутов. Дочь древнего, патриархального мира, она все-таки неизмеримо ближе будущему, чем они, потому хотя бы, что верит в будущее, живет им, тянется к нему через их головы.
Окружает Иерму не старый патриархальный мир и не песенный мир «Кровавой свадьбы», а современная испанская деревня, увиденная без бытовых подробностей – крупно, обобщенно. Древняя, язычески-чувственная поэзия существует и здесь, ею пронизана жизнь крестьян, сочувствующих тоске Иермы по ребенку, презирающих ее бесплодного мужа. Даже те из соседок, которые с наивной жестокостью потешаются над ее бездетностью, роднее Иерме, чем сестры мужа – старые девы, святоши, приставленные к ней Хуаном.
Однако власть новых, проникших и в эту жизнь отношений сказывается в том, что здесь уже нет гармонии плоти и духа, что дух здесь как бы унижен плотью, а любовь исчерпывается чувственностью. Приходя в столкновение с господствующими нормами, такая любовь без колебаний пускается на обман. В конце концов тело получает свое, но победа обесценена ложью.
Если бы Иерма вступила на этот путь (право, можно подумать, что даже Хуан посмотрел бы сквозь пальцы на нарушение супружеской верности, лишь бы никто не узнал) или если б она примирилась со своей бездетностью – ее бы поняли. Но она бунтует, не желая ни поступиться своей честью, ни отказаться от материнства, – вот что вызывает у окружающих недоумение, недоверие, глухую враждебность.
Маргарита слушает молча, утонув в кресле, не поднимая глаз даже тогда, когда Федерико на пять голосов читает сцену, где соседки судачат, сплетничают и распевают, стирая в ручье белье и колотя его о камни. Только в конце второго действия она останавливает его. Не хочет ли Федерико еще раз – вместе с ней – пройти этот диалог? Не задумываясь, он протягивает ей листки, но Маргарита отводит его руку – она помнит и так.
– Почему ты уходишь отсюда? – голосом Иермы спрашивает она Виктора, пришедшего прощаться навсегда, и в голосе том – тоска человека, за которым захлопываются двери тюрьмы. – Здесь все тебя любят...
– Я жил честно, – уклончиво отвечает Федерико за Виктора.
Пауза. Маргарита молчит в своем кресле, но Федерико слышит ее беззвучный вопль.
– Ты жил честно, – повторяет она наконец. – Однажды, когда ты был еще подпаском, ты взял меня на руки, помнишь? Никто не знает, что ждет его в будущем.
– Все на свете меняется, – вздыхает Виктор.
– Нет, не все. – Маргарита резко встает, словно подброшенная пружиной. – То, что живет за стенами, не может меняться, потому что его никто не слышит.
– Это верно.
Снова молчание. Приблизившись почти вплотную к нему – глаза в глаза, – женщина произносит негромко, с невыразимой силой:
– Но если б ему вырваться на свободу, оно заполнило бы своим криком весь мир.
И без перехода добавляет обычным, слегка насмешливым тоном:
– Что ж, посмотрим, как это получится у Хосефины Диас де Артигас!
Но с досадой чувствует, что краснеет, как девчонка, когда Федерико отвечает просто:
– Я написал это для тебя, Маргарита.
Ноябрь проходит в репетициях. Федерико принимает участие в постановке, и Маргарита вынуждена признать, что он многому научился в своем бродячем театре. Актеров подчас приводит в отчаяние настойчивость, с которой он добивается, чтобы спектакль с начала до конца был выдержан в едином, ничем не нарушаемом ритме. Кто бы подумал, что Федерико при всем благодушии способен выйти из себя, если кто-нибудь на секунду запоздает с выходом или вступит хоть долей секунды раньше, чем предусмотрено! Одной Иерме не делает он никаких замечаний, только смотрит – с восхищением, с благодарностью.
Уже в середине декабря Карлос Морла Линч входит к Федерико с развернутой газетой в руках. Он раздражен и, как всегда в таких случаях, говорит с особенной мягкостью. Ему ли поучать Федерико? Но все же долг дружбы не позволяет ему умолчать о том, как неблагоразумно было накануне премьеры ставить себя под удар, публикуя подобное интервью в «Эль Соль».
– Какое интервью? – друг глядит так невинно, что Карлос смущается – может, и вправду недоразумение? – но тут же спохватывается: опять эти штуки Федерико! Нет, он не даст ему отвертеться – пусть скажет, говорил или не говорил, например, такое:
«Я надеюсь, что свет в театр снизойдет сверху, с галерки. Как только сидящие наверху спустятся в партер, все будет решено... Те, кто наверху, бедняки, не видели ни „Отелло“, ни „Гамлета“, ничего. Есть миллионы людей, которые вообще не видали театра. Но как же они умеют смотреть, когда видят его!»
Вскинув глаза на Федерико, застывшего в уморительной позе провинившегося школьника, Карлос с трудом удерживается от смеха. Ну, хорошо, пусть в конце концов партер и позлится – знаменитый драматург имеет право на чудачества. Но вот что уже не имеет никакого отношения к драматургии! И он тычет пальцем в отчеркнутый абзац:
«...В этом мире я всегда был и буду на стороне бедняков. Я всегда буду на стороне тех, кто не имеет ничего и кому отказывают даже в покое небытия. Мы – я имею в виду людей интеллигентных и образованных, принадлежащих к классам, которые можно назвать обеспеченными, – призваны принести жертвы. Решимся на них. Ныне в мире сражаются силы уже не человеческие, а вселенские. Эта борьба ставит меня перед выбором: вот здесь – твои страдания и твои жертвы, а здесь – справедливость для всех. И как ни тревожен переход к будущему, которое предчувствуется, но еще не известно, я кладу свой кулак со всей силой на эту последнюю чашу весов».
Федерико молчит, и Карлос сбавляет тон. Он понимает, конечно, какими благородными, истинно христианскими побуждениями руководствовался его друг... Ах, он и сам на стороне тех, кто страдает, да, именно так: тех, кто страдает и ничего больше... есть ведь и счастливые бедняки и несчастные богачи! И все же, подумал ли Федерико, как могут быть перетолкованы его слова? Стоило ли давать злопыхателям повод к тому, чтобы ставить себя на одну доску с нашим другом Рафаэлем Альберти, который, с тех пор как стал коммунистом, поет все песни на мотив «Интернационала»!
Шутка не поддержана – Федерико даже не улыбается.
– Альберти – большой поэт, – говорит он так сухо, словно делает официальное заявление, а не с приятелем беседует. – Я не сомневаюсь в искренности стихов, которые он сейчас пишет. Я всегда восхищался им как поэтом, а теперь он внушает мне и громадное уважение.
Как будто Карлос отрицал талант Рафаэля или ставил под сомнение его искренность! И ему же приходится чуть ли не прощения просить, чтобы Федерико перестал хмуриться. Вот и давай после этого советы друзьям!
День премьеры – 29 декабря – Федерико встречает с нелегким сердцем. Мало того, что респектабельная публика, как и предсказывал Карлос, ополчилась на него за интервью в «Эль Соль», – Маргарита Ксиргу со своей стороны привела эту публику в ярость, демонстративно предложив левому республиканцу, бывшему премьер-министру Асанье, только что выпущенному из тюрьмы, поселиться у нее в доме. Впрочем, слухи о готовящемся скандале в немалой степени способствуют тому, что задолго до начала в кассе театра «Эспаньоль» не остается ни одного билета.
Действительно, едва поднимается занавес и произносит первые слова проснувшаяся Иерма, как из разных концов зала, и даже сверху, слышится невнятное шипение и бормотание. Соседи пытаются унять шикающих, разгораются перебранки, шум растет, актеры на сцене в смущении замолкают. Вдруг с галерки доносится пронзительный крик, и вспыхивает свет в зале.
Наверху, притиснутый к барьеру толпой студентов, запрокинулся над партером один из зачинщиков обструкции – молодчик со сверкающей прической, сохраняющей безупречную форму и в этой критической позиции. Он полетел бы вниз, если бы не какой-то здоровенный парень, который, взяв его за грудь и держа на весу, трясет его, как матрац, над перепуганными зрителями. Федерико видит, как вокруг втягивают головы в плечи такие же набриолиненные молодчики. А галерка ревет, галерка неистовствует; галерка готова, кажется, и впрямь низринуться в партер...
Аплодисменты! Это захлопала Маргарита, за ней другие артисты; рукоплескания перекинулись в зал. Несколько молодчиков, не оглядываясь, спешат к выходу, незадачливый их коллега, по-видимому, тоже предпочел этот путь воздушному; парень на галерке – и ручищи же у него! – широко улыбаясь, раскланивается во все стороны... Гаснет свет, представление продолжается.
И постепенно всеми завладевает трагедия Иермы, всех захватывает ее сосредоточенная, исступленная страсть. Напряжение возрастает с каждой картиной, вплоть до заключительной, где Иерма, решившись прибегнуть к крайнему средству, является вместе с мужем на богомолье. Буйная вакхическая стихия врывается на сцену с песней и пляской ряженых – Самца и Самки. Громом аплодисментов провожают их зрители и сразу же затихают, следя за диалогом Иермы с Бойкой старухой – последним ее искушением.
Старуха открывает Иерме беспощадную правду: в ее горе повинен один Хуан. И молитвы здесь не помогут – женщины приходят на богомолье, чтобы узнать любовь с другим мужчиной, только тогда святой творит чудеса. Но не этот выход, не путь обмана предлагает Иерме старуха. «Мой сын сидит за часовней и ждет меня, – говорит она. – В моем доме не хватает женщины. Иди к нему: будем жить втроем. В жилах у моего сына течет хорошая кровь. Как и у меня. Войдешь ко мне в дом и сразу почувствуешь, что еще сохранился запах колыбели... Идем! До людей тебе дела нет. А что до твоего мужа, так есть в моем доме кладовые, а в них ножи, и они научат обходить нашу улицу».
Однако Иерме есть дело до людей, и никогда она не склонится перед другим мужчиной, не станет просить у него, как милостыни, того, что принадлежит ей по праву. «Я – как сухое поле, на котором может сразу пахать тысяча пар волов, а ты предлагаешь мне крошечный стакан колодезной воды, – отвечает она старухе и в последний раз пытается объяснить ей – а может быть, и себе самой – сокровенный смысл своего исступленного единоборства с судьбой: – Не о теле одном моя скорбь».
«Ну, так оставайся колючим чертополохом в засохшем поле, отцветай!» – бросает ей на прощанье старуха. А перед Иермой, которой не на что больше надеяться, возникает Хуан. Он слышал весь разговор, он требует решительного объяснения. «Пора, наконец, прекратить твои постоянные вздохи о чем-то непонятном, чему не сбыться... Что мне совсем не нужно. Мне важно только то, что я держу в руках. То, что вижу своими глазами».
Ему это не нужно! Он сам признался! Так вот в ком воплощен казнящий ее рок – в самодовольном человечке, равнодушно растаптывающем ее мечты, отнимающем у нее материнство, будущее, бессмертие!
Меж тем Хуан, распаленный вином, требует ласк Иермы, тянется к ее губам похотливым слюнявым ртом...
И тогда все отчаяние Иермы, вся ее безмерная боль и неутолимая жажда отмщения, вся неукротимость ее – все сосредоточивается в ее руках, которыми она с нечеловеческой силой хватает мужа за горло и душит до тех пор, пока тело его не застывает. Полуобезумев от содеянного, обращается она к сбежавшимся богомольцам: «Отныне я могу спать спокойно и не вскакивать по ночам в надежде, что кровь моя возвестит мне иную, новую кровь... Не подходите: я убила свое дитя, убила своими руками!»
Занавес падает. Тишина. Потом – грохот, обвал, землетрясение. Маргарита прячет лицо в ладони, пошатывается. Выбежав из-за кулис, Федерико обнимает ее за плечи. Словно весь зрительный зал полез на сцену – друзья, знакомые и какие-то вовсе незнакомые люди теснятся вокруг, стараются хотя бы прикоснуться, что-то кричат...
Внезапно толпа расступается. По образовавшемуся проходу, заложив руки за спину и бодливо наклонив вперед голову, почти бежит Мигель де Унамуно. Подойдя к Маргарите Ксиргу он выбрасывает руки вперед, берет ее за обе щеки – осторожно, как фарфоровую вазу, и, привстав на цыпочки, целует в голову. Затем, насупившись, поворачивается к Федерико.
– Жаль, – говорит он сердито. – Жаль, что не я написал эту пьесу.
12
– Ну, а что же теперь, сеньор Гарсиа Лорка?
– Теперь надо закончить трилогию, начало которой – «Кровавая свадьба», продолжение – «Иерма», а последняя трагедия будет называться «Разрушение Содома».
– Больше ничего не пишете?
–То есть как это «больше ничего»?! – Федерико с комическим негодованием измеряет репортера взглядом. – У меня есть на примете еще одна пьеса, на которую я возлагаю большие надежды: «Донья Росита, девица, или Язык цветов» – семейная драма в трех действиях или, может быть, в трех... садах! Речь пойдет в ней о трагической судьбе испанок, остающихся старыми девами. Драма начинается в девяностых годах, продолжается в девятисотых и заканчивается в девятьсот десятом. Я хочу показать обыкновеннейшую, пошлую даже, трагедию жизни одинокого существа в испанской провинции – жизни, которая внушает смех молодым поколениям и в то же время исполнена глубокого драматизма...
Отметив в блокноте, что лицо у многообещающего драматурга на редкость изменчивое – только что было задорное, торжествующее и вдруг потускнело, стало рассеянным, собеседник задает последний вопрос:
– В связи с неслыханным успехом «Иермы» многие писатели и театральные деятели хотели устроить банкет в вашу честь. Почему же вы столь решительно воспротивились этому?
– Во-первых, – деловито загибает палец Федерико, – потому что каждое чествование – лишний камень в нашем литературном надгробии. Во-вторых, потому, что нет ничего безотраднее, чем хладнокровно сочиненная речь в нашу честь, нет момента тоскливей, чем тот, когда раздаются заранее запланированные, пусть даже искренние, аплодисменты. А еще, – он доверительно наклоняется к самому уху репортера, – мне кажется, что банкеты и адресы приносят несчастье тому, кому предназначены. Друзья, утомленные своей кипучей деятельностью, начинают думать: «Мы уже все сделали для него».
Он вновь оживляется.
– Знаете, что я устроил бы для поэтов и драматургов вместо чествований? Турниры, на которых мы бы состязались в храбрости, отбивая яростные атаки и отвечая на вызовы – скажем, такие: «А ну-ка, хватит у тебя мужества на то-то и то-то?», «А сможешь ли ты воплотить всю скорбь моря в одном действующем лице?», «А осмелишься ли ты поведать об отчаянии солдат, которые против войны?»
– Против войны? – скептически усмехается репортер, закрывая блокнот. – Хотел бы я знать, кто решится публично хотя бы только задать подобный вопрос сейчас, когда генералы снова командуют страной!
Кто решится? Решается сам Федерико – выступая перед ночным представлением «Иермы», устроенным специально по просьбе мадридской театральной братии, актрис и актеров других театров, которые не могут посмотреть спектакль в обычное время. Узнав об этой просьбе, он обрадовался и взволновался необычайно. Во все ли театры посланы приглашения? Не позабыли пригласить ветеранов, давно покинувших сцену?
Нет, не позабыли. Вот они восседают в ложе – молодцеватые старики изо всех сил стараются держаться прямо; женщины, возраст которых уже не способен скрыть самый искусный грим, в старинных платьях, с высокими гребнями в пышных прическах, величественно обмахиваются огромными веерами, вспоминая былые триумфы.
Вид этих женщин почему-то особенно трогает Федерико. К ним обращает он первые свои слова, почтительно благодарит их за все, что они сделали для испанского театра, и за то, добавляет он с галантным полупоклоном, что они и сегодня остаются прекрасными. И старухи, похожие на каких-то диковинных птиц, достают, словно по команде, платочки из сумок и с величайшими предосторожностями прикладывают их к глазам.
А Федерико уже благодарит всех присутствующих за внимание и интерес к спектаклю, стоившему стольких трудов театру, и полушутя излагает свой проект замены чествований турнирами поэтов и драматургов. Переждав легкий гул, вызванный предложенными темами для состязаний – особенно последней – он делает шаг к рампе.
– Я выступаю здесь этой ночью, – говорит он негромко, но так, что каждому в зале кажется, будто именно к нему обращается Федерико, – не как автор пьесы, и не как поэт, и не как прилежный студент, изучающий богатую панораму жизни человека, но как страстный приверженец театра социального действия.
Снова гул. Социальное действие? – это слова из лексикона политиков, а не служителей искусства. Куда он клонит? Да подождите, дайте послушать!
– Театр – одно из самых действенных и полезных орудий в строительстве страны, – продолжает Федерико упрямо, – это барометр, показывающий ее величие или ее упадок. Чуткий театр, идущий верным путем, может за несколько лет возродить душу народа, а театр, расточивший свое достояние, театр, где вместо крыльев – свиные копыта, способен оболванить и усыпить целую нацию.
Театр – это школа слез и смеха, это трибуна, с которой люди могут свободно вскрывать пороки отжившей или ложной морали и разъяснять на живых примерах вечные законы человеческого сердца.
Народ, который не помогает своему театру, не содействует его развитию, – такой народ умирает, если уже не умер. А театр, в котором не бьется пульс общественной жизни, пульс истории, театр, не вобравший в себя драматические судьбы людей родной страны, неповторимость ее природы и ее духа, радость ее и горе, не имеет права именоваться театром: это игорный дом или место, где предаются омерзительному занятию – «убивают время». Я ни на кого не намекаю, никого не хочу обидеть, – тянется Федерико всем телом вперед, – я лишь говорю о задаче, которая ждет решения.
Почему так внимательно слушают они этого широкоплечего андалусца, лицо которого, освещенное снизу, выглядит совсем мальчишеским? Все, что он говорит в конце концов не бог весть какое откровение, да и форма не блещет оригинальностью: знаменитый поэт мог бы и поискуснее построить речь, подыскать более отточенные выражения. Но как раз то, что он не выбирает слов, торопясь поделиться нахлынувшими мыслями, и та неподдельная, заразительная убежденность, что звучит в его голосе, возвращая первозданную силу даже примелькавшимся словам, – это и покоряет аудиторию, достаточно искушенную, чтобы распознать малейший наигрыш.
Одобрительными кивками встретив гневные выпады Федерико по адресу антрепренеров-коммерсантов, губящих театр, слушатели настораживаются, когда он заговаривает о необходимости обновления театрального искусства. Опять новаторство? Прекрасная вещь, конечно, только испанский зритель ее не принимает – ему подавай традиционное зрелище! Но Федерико не уступает: да, потребуется пойти на жертвы, придется и поспорить с публикой и даже повоевать с ней, чтобы приручить ее и воспитать. Придется жизнь положить на то, чтобы добиться полного доверия зрителей.
– Ведь зрители в театре – что дети в школе, – говорит он, усмехаясь мелькнувшему воспоминанию, – они уважают сурового, строгого учителя, который взыскателен и справедлив, а робким, заискивающим перед ними учителям, которые не умеют и все-таки не бросают преподавать, они втыкают иголки в стулья.
Искусство прежде всего, – повышает он голос. -Благороднейшее искусство; и вы, дорогие друзья, -артисты прежде всего. Артисты с ног до головы, потому что любовь и призвание возвели вас на подмостки, в мир страдания и притворства. На всех театрах, от самого скромного до самого прославленного, на стенах зрительных залов и актерских уборных необходимо написать слово «Искусство», иначе нас заставят написать слово «Коммерция» или какое-нибудь такое, которое я не решаюсь произнести.
И, спохватившись, не впал ли в проповеднический тон, Федерико смущенно улыбается.
– Не собираюсь учить вас – я сам нуждаюсь в уроках. Слова мои продиктованы энтузиазмом и уверенностью. Я не пустой мечтатель. Я размышлял обо всем этом немало и хладнокровно: ведь, как подобает доброму андалусцу, в жилах которого течет кровь древних, я владею секретом хладнокровия.
Он обводит глазами зал сверху донизу, протягивает руку, дожидается, пока тишина становится абсолютной, звенящей, и лишь тогда произносит, быть может, самое главное:
– Я думаю, что правда не за теми, кто повторяет «сегодня, сегодня, сегодня», довольствуясь своим куском хлеба у теплого очага, а за теми, кто уверенно различает вдали первый луч рассвета над полем.
Я знаю, что прав не тот, кто говорит: «Сейчас же, сейчас, сейчас», уставившись на жадную глотку кассы, а тот, кто говорит: «Завтра, завтра, завтра», – и чувствует приближение новой жизни, встающей над миром.
13
Толки об этой речи расходятся по Мадриду, хотя и без того все повторяют имя Гарсиа Лорки. Сезон 1934/35 года для него поистине триумфальный: не успевает «Иерма», выдержав больше ста представлений, сойти со сцены, как прибывшая из Аргентины Лола Мембривес ставит в театре «Колизеум» «Кровавую свадьбу», а 18 марта ее же труппа показывает новый, расширенный вариант «Чудесной башмачницы» в постановке самого Федерико. А ему все мало – выкраивая неизвестно откуда время для работы над «Доньей Роситой», он еще ухитряется одновременно готовить для кукольного театрика «Ла Тарумба» забористый фарс о том, как старый плут дон Кристобаль женился на весьма легкомысленной, чтобы не сказать сильнее, девице.
Маргарита Ксиргу трагически восклицает, что никогда она не дождется следующей, обещанной ей пьесы – Федерико променял живых актеров на кукол. Тут же, умирая от смеха, она рассказывает, как недавно – и, разумеется, под утро – неверный автор разбудил ее очередным телефонным звонком. «Вы думаете, для того, чтобы прочитать мне хотя бы первый акт „Доньи Роситы“? Я тоже так думала! Как бы не так: чтобы ср-р-рочно посоветоваться со мной, не попросить ли скульптора придать дону Кристобалю сходство с министром просвещения, сеньором Роча, который окончательно отказал „Ла Барраке“ в субсидии!»
Конечно, 11 мая она присутствует на премьере театрика «Ла Тарумба», а вместе с ней и другие друзья Федерико – Хорхе Гильен, Мигель Эрнандес, который с год уж как перебрался в столицу, Пабло Неруда – ныне консул Чили в Мадриде. С не меньшим восторгом, чем дети, составляющие половину публики, следят они за скандальными похождениями дона Кристобаля, поталкивая друг друга локтями, когда одна из кукол пискливым голосом прохаживается между делом по адресу Хиля Роблеса или еще какого-нибудь министра.
Наконец долготерпение Маргариты вознаграждено: Федерико заканчивает «Донью Роситу». Задуманная больше десяти лет назад, пьеса вылилась на бумагу за несколько недель.
Как ни трагична судьба доньи Роситы, пьеса о ней не трагедия. То драмой называет ее Федерико, то даже комедией, пока не останавливается на таком подзаголовке: «Гранадская поэма с песнями и танцами». Разные люди действуют рядом с героиней в этой поэме: Дядя доньи Роситы, ученый садовод, и Тетя, вырастившая ее, и двоюродный брат Роситы, он же – ее возлюбленный, и преданная, старая Няня, и подруги, и просто знакомые. Однако едва ли не главное действующее лицо, постоянно напоминающее о своем присутствии, – сама Гранада, город Альамбры и Хенералифе, но также и город обывательских сплетен и пересудов, Гранада поэтическая и пошлая, любимая и ненавистная. Воссозданию этой Гранады, ее меняющегося, а в чем-то и неизменного облика, ее атмосферы, – сонной и томительной – Федерико отдал немало сил. Не доверяя памяти, он обложился старыми альманахами и открытками, замучил донью Висенту расспросами: как одевались, о чем разговаривали во времена ее молодости.
Первый акт – накрахмаленные платья с турнюрами, замысловатые прически, цветные зонтики... Донье Росите двадцать лет, она влюблена, любима, полна надежд. Ее возлюбленный должен уехать за океан, но ведь он вернется! Поэзия – пусть несколько сентиментальная – еще господствует в этом акте; она звучит в клятвах, которыми обменивается Росита со своим женихом, в стихотворении об изменчивой розе, отысканном Дядей в старинной книге, в песенке о трех подружках, неотличимой от настоящей гранадины:
В Гранаде, в квартале Эльвиры, живут три мадридских красотки, одни по ночам в Альамбру идут они легкой походкой. Одна в зеленом уборе, другая, как мальва, блещет, а третья – в пестрой шотландке, и ленты до полу плещут. Те, что впереди, – две цапли, а третья голубки милее. Таинственные вуали снимают в темной аллее. Ах, как же темно в Альамбре! Куда подружки шагают, покамест в тени и прохладе фонтан и розы вздыхают?Между первым и вторым актами проходит пятнадцать лет. Иные времена: Парижская выставка, разговоры о дирижаблях, автомобили развивают фантастическую скорость – тридцать километров в час... Иные моды – осиные талии, широкие юбки... Стихия пошлости мало-помалу теснит робкую, отступающую мечту; сказка гибнет не только на кострах, зажженных жандармами, – она умирает и здесь, за кружевными занавесками гостиных, медленно задыхаясь от недостатка воздуха. А возлюбленный все не возвращается, и уже не три молодые подружки приходят навещать Роситу, а три старые девы, несчастные и смешные. Неужели и она станет такою же? Нет! Жених присылает письмо, он по-прежнему любит ее, и, поскольку дела не позволяют ему пока отлучиться, то он поручает своему представителю обвенчаться с ней вместо себя. Что там кричит возмущенная Няня? «Пусть сам едет! И пусть сам ведет тебя под ручку, и пусть сам размешивает сахар у тебя в кофе, и сам пробует, чтобы ты не обожглась!..» Ах, Росита готова верить и ждать – что ей еще остается?
Акт последний: до войны всего несколько лет. Старенький дон Мартин, учитель и неудавшийся поэт, стараясь идти в ногу с жизнью, пишет об аэропланах. Дядя умер, семья разорена, дом придется покинуть... Росите – пятьдесят; она и теперь одета по моде, в светло-розовом платье, стесняющем движения, ее волосы уложены крупными локонами, но надеяться больше не на что. Тот, кого она ждала, уже восемь лег, как женился на богатой.
В последний раз звучат слова стихотворения о розе, цветущей один только день, – их произносит увядшая Росита, поддерживаемая под руки Няней и Тетей.
Когда же ночь наступает, тогда опадает она.«Они уходят, и сцена пуста. Хлопает дверь. Открывается балкон в глубине сцены, белые занавески колышет ветер».
– Сколько женщин увидят себя в донье Росите! – поднимает актриса глаза на Федерико. – Сколько прольется слез на спектакле!
Слез – и только? Федерико недоволен. Чего же ему еще?.. Смеха! Он хотел бы, чтобы зрители не только плакали, но и смеялись, точнее – чтобы плакали и смеялись одновременно. Есть ведь еще один, невидимый персонаж в его пьесе – время, и роль у него двоякая. Не случайно последнее действие развертывается в канун такого всемирного потрясения, когда все на свете переворотилось и стало меняться – будем надеяться, что в конечном счете к лучшему. Если время, вступив в заговор с одиночеством Роситы, с ее самоубийственной верностью призраку, приносит ей крушение всех надежд, то скольким миллионам Росит оно же принесет в будущем избавление от всех призраков, управляющих и поныне жизнью испанской женщины!
Свет будущего должен падать на сцену, чтобы зрители ощутили банкротство жизненного уклада, погубившего донью Роситу, чтобы уклад этот выглядел не грозным и всесильным, а отжившим и смехотворным. А живым залогом будущего пусть станет Няня с ее крестьянским здравым смыслом, с неистребимой народной поэзией, которой дышит каждое ее слово.
Казалось бы, все ясно, можно приступать к репетициям. Не тут-то было! У Федерико новый проект. Маргарита помнит, конечно, что в августе исполняется триста лет со дня смерти Лопе де Вега. Право, великий Лосе заслуживает чего-то получше официальных церемоний, юбилейных изданий и академических спектаклей! А что, если поставить «Фуэнте Овехуну»... в самом Фуэнте Овехуне, в том селении, чуть в стороне от дороги между Севильей и Кордовой, где произошло когда-то восстание, воспетое в гениальной драме Лопе? Федерико хорошо знает эти места – сказать по правде, он мечтал осуществить свою идею силами «Ла Барраки», но сеньор Роча и коллеги его, министры, будь они прокляты, полиостью парализовали деятельность студенческого театра. Так что теперь вся надежда на Маргариту Ксиргу с ее труппой. Да и то сказать – ну, кто, кроме нее, способен сегодня по-настоящему сыграть Лауренсию?
Много ли нужно Маргарите, чтобы зажечься самой и воспламенить свою труппу! Заставив Федерико поклясться в том, что сразу же по возвращении из Андалусии он приступит вместе с ней к постановке «Доньи Роситы», актриса с энтузиазмом принимается за подготовку «Фуэнте Овехуны» для Фуэнте Овехуны.
На время мадридские друзья теряют Федерико из виду. До них доходят слухи о каких-то народных волнениях, будто бы сопровождавших постановку драмы Лопе де Вега в селении, именем которого она названа, и о том, что «Донью Роситу» – не в связи с этим ли? – решено ставить не в Мадриде, а в Барселоне, где обстановка благоприятней. Действительно, с осени барселонские газеты начинают публиковать интервью с автором пьесы, сообщения о ходе репетиций в «Принсипаль Палас» и отчеты о выступлениях Федерико с лекциями и стихами. Отмечают также – одни с радостью, другие с ехидством, – что сеньор Гарсиа Лорка не делает секрета из своих общественных симпатий: то он выступает в рабочей культурной ассоциации, то читает стихи в пользу политических заключенных.
Но тут всеобщее внимание приковывает грандиозный скандал, разыгрывающийся в правительственных сферах. Голландский авантюрист Штраус, вопреки закону открывший игорный дом в Сан-Себастьяне и под давлением общественности высланный за это из Испании, потребовал громогласно, чтобы высокопоставленные лица вернули ему те деньги, которые он им дал в виде взятки. Среди этих лиц Саласар Алонсо, гражданский губернатор Каталонии. Затем выясняется, что дон Саласар и его коллеги были в доле с еще более высокопоставленными фигурами. Кто же они? Сам премьер-министр сеньор Лерус и министр просвещения сеньор Роча!
Это уж слишком! Глухое, месяцами копившееся возмущение подступает к горлу, превращается в слова, вырывается наружу. Снова развязываются языки; многотысячные толпы стекаются на митинги, созываемые левыми партиями, жадно слушают ораторов, подхватывают лозунги. Долой проворовавшихся министров! Преградим дорогу фашизму! Свободу тридцати тысячам заключенных, жертвам террора! И все настойчивее, все громче звучат слова: хотим единства!ХО-ТИМ Е-ДИН-СТВА!
Движение ширится, развертывается по стране, оно близко к тому, чтобы перерасти в новую революцию... В январе 1936 года президент республики Алькала Самора распускает кортесы и назначает на февраль новые выборы. Для победы на выборах собирает все силы реакция: профашистская коалиция правых – СЭДА, «партия проворовавшихся» – радикалы, «Испанская фаланга», созданная сыном Примо де Риверы по образцу гитлеровской партии. И тогда, наконец, единство трудящихся, которого требует народ, которого давно уже добиваются коммунисты, начинает становиться фактом. Антифашистские партии и союзы – левые республиканцы, социалисты, синдикалисты, коммунисты, социалистическая и коммунистическая молодежь – объединяются в Народный фронт.
Январским вечером в «Дом цветов» – так прозвали дом Пабло Неруды собирающиеся там чуть не ежедневно поэты, художники, музыканты – заявляется Федерико – сияющий, битком набитый рассказами и проектами. Его встречают ликующим ревом и градом упреков: сколько можно было торчать в Барселоне? А он уже не из Каталонии, он – из Эстремадуры.
Из Эстремадуры? Зачем его туда понесло? Дело в том, объясняет Федерико, что теперь, когда Роча, этот взяточник, отказавший «Ла Барраке» в деньгах, более не министр, субсидия будет вырвана во что бы то ни стало. Ах, друзья мои, какой есть замысел постановки «Периваньеса» в подлинных костюмах эпохи Лопе!
То есть как «при чем тут Эстремадура»? Только там, по глухим деревням, в сундуках у крестьян еще сохранились эти костюмы!
И удалось их выпросить? Федерико победоносно улыбается. Приходите посмотреть на его трофеи – удивительной красоты ткани, голубые и золотистые, на причудливые туфли и ожерелья, на платья, которые впервые за три века увидели свет! Владельцы уступили все это довольно легко – ну, он, конечно, порассказал им кое-что, даже спел... И они ему пели – кстати, какую песню он привез! И Федерико присаживается к пианино, но его, как водится, прерывают: пусть прежде всего расскажет, что там вышло с «Фуэнте Овехуной».
А, это же лучший его рассказ! Тогда, в августе, жители исторического селения встретили труппу прекрасно: на старинной площади была уже воздвигнута сцена. Но за несколько часов до спектакля Маргарита, выглянув из окна отведенной ей комнаты, вдруг увидала внизу запертый наглухо дворик. Всклокоченный человек метался в нем от стены к стене, точно тигр в клетке. Служанка объяснила, что это здешний анархист. Алькальд Фуэнте Овехуны, принимая во внимание и без того мятежный характер драмы Лопе, распорядился на всякий случай засадить его до конца представления.
Всякий, кто знает Маргариту Ксиргу, легко представит себе, в какую ярость она пришла. Она вскричала, что спектакль отменяется, что артисты немедленно покинут селение, жители которого способны снести подобное надругательство над личностью. Пришлось Федерико вмешаться. Он отправился к алькальду и, пересыпая свою речь именами высших чиновников государства – не столько даже именами, сколько фамильярными прозвищами, какие употребляются между близкими друзьями, – добился освобождения узника. Спектакль прошел с громадным успехом, но, когда занавес опустился в последний раз, аплодисменты сменились нарастающим гулом, треском досок и криками: «Фуэнте Овехуна – все за одного!»
Оказалось, что еще до начала зрители узнали о том, как гневалась Маргарита и что предпринял Федерико. Воспламененные этим, а еще более драмой Лопе – в самом деле мятежной, прав алькальд! – одни из них по окончании спектакля ринулись на сцену – благодарить актеров за преподанный урок, а другие, окружив алькальда и его помощников, стали надвигаться на них со вполне определенными намерениями. Тем едва удалось ноги унести. Вот вам пример непосредственного воздействия искусства!
Под дружный смех Федерико добавляет, что происшествие это навело его на занятную мысль. Что, если написать пьесу, действие которой начиналось бы на театральных подмостках, во время представления, а затем события, происходящие за стенами театра, -демонстрация, а может быть, и революция – ворвались бы в зал, вовлекая в себя зрителей и актеров!
О многом еще рассказывает он в этот вечер – о том, как восторженно приняла «Донью Роситу» барселонская публика, и как пригласил он на один из спектаклей всех цветочниц с Рамблы, и о своих планах поставить музыкальный фильм с андалусскими песнями и танцами... А далеко за полночь, оставшись наедине с хозяином, он слушает, полузакрыв глаза, стихи Пабло, которые тот читает своим монотонным, плачущим голосом:
Эти дни, что с небес ниспадают, как пепел, этот пепел, который должны разнести по земле голубки, эти нити, сплетенные забытьем и слезами, это время, дремавшее долгие годы под колоколами, эти ветхие платья, эти женщины, видящие, как падают снежные хлопья, эти черные маки, взглянув на которые люди прощаются с жизнью, — все мне падает в руки, которые я подымаю к дождливому небу.И уже совсем под утро, перед тем как уйти, рассказывает Федерико еще одну историю, не дающую ему покоя. Как-то в одной эстремадурской деревне, проведя ночь без сна, он на рассвете вышел прогуляться. Все тонуло в холодном тумане. Присев, чтобы дождаться восхода солнца, Федерико различил очертания статуй, валяющихся на земле, и понял, что находится у ворот какого-то заброшенного имения. Крошечный ягненок, должно быть отбившись от стада, щипал безмятежно траву поблизости.
Вдруг несколько черных свиней, вынырнув из тумана, бросились на ягненка и принялись рвать его. Это произошло так внезапно, что Федерико не мог двинуться с места – невыразимый ужас сковал его. А кругом лежали поверженные изваяния, и солнце вставало медленно, медленно...
Было это на самом деле или не было? Пабло не спрашивает, он лишь молча сжимает руку друга. Быль или вымысел, теперь это существует.
14
Еще виднеются кое-где на стенах плакаты: «Голосуйте за Хиля Роблеса – он спасет вас от революции!», а революция – она началась пять лет назад, приостановилась в тридцать третьем году, рванулась вперед в тридцать четвертом и потерпела временное поражение в астурийских боях, – революция снова неудержимо разливается по улицам испанских городов и селений. Не помогли правым ни нанятые бандиты, ни агенты, скупавшие избирательные удостоверения. На выборах 16 февраля одержал победу Народный фронт.
Аристократы в смятении; железнодорожные билеты за границу раскуплены на много дней вперед. Испания митингует, требуя свободы, земли, коренного улучшения условий труда. Не дожидаясь, пока новое правительство – его возглавил Асанья – проведет закон об амнистии, народ освобождает политических заключенных. Так поступили в Овьедо, где коммунистический депутат от Астурии – Пасионария – сама открыла двери тюрьмы.
Не дожидаясь, пока правительство выработает аграрную реформу, крестьяне начинают распахивать пустующие поместья. Вести об этом идут из Толедо, из Эстремадуры, из Андалусии... Просматривая газеты, Федерико ищет в них название деревушки Касас Вьехас: добились ли, наконец, земли хотя бы дети тех батраков – расстрелянных, сожженных заживо?
Как похожа эта весна на головокружительную весну 1931 года! И оживленные, счастливые лица, и стихийные демонстрации, и ораторы на каждом перекрестке, и слепящее солнце, отражающееся в зеркальных витринах. Даже ливни – короткие, яростные – словно те же самые, что тогда.
А вот он, Федерико, не тот. Разделяя всем сердцем радость праздничных толп, он уже не может всецело отдаться их ликованию. Ему хочется – кто бы подумал! – разобраться поглубже в происходящем, узнать, что же дальше, понять, где, собственно, его место во всем этом. Бродя по мадридским улицам, он ловит себя на том, что размышляет о таких вещах, которыми, как сам всегда утверждал, не интересовался раньше. Вот когда особенно необходимы друзья!..
Не зайти ли к Карлосу? – он ведь всегда в курсе последних новостей. Федерико там встретят с распростертыми объятиями, не попрекнут, что последнее время совсем перестал бывать. Теперь, пожалуй, Карлос не станет выговаривать ему и за то, что еще до выборов, когда исход их был сомнителен, Федерико столь неосторожно продемонстрировал свою близость к левым, приняв участие в вечере, устроенном в честь возвращения Рафаэля Альберти на родину... Или все-таки станет?
«Положим, – начинает непроизвольно звучать у него в ушах ласковый голос приятеля, – Рафаэль Альберти – твой друг, и в желании публично приветствовать его па родине, куда ему был закрыт путь много месяцев, нет ничего предосудительного. Но ты не ограничился речью, посвященной Рафаэлю, ты прочел еще манифест испанских писателей против фашизма и призвал присутствующих подписать его!
Или возьмем, – продолжает воображаемый Карлос, несколько раздосадованный упрямым молчанием Федерико, – твое выступление 14 февраля, на вечере памяти Валье-Инклана. Опять-таки, кто бы мог возразить против желания сказать теплое слово о только что скончавшемся великом писателе, которому ты многим обязан, – если б весь этот вечер не имел вполне определенной политической окраски, чего организаторы – Рафаэль Альберти и Мария Тереса Леон – и не собирались скрывать!»
Нет, скорее всего Карлос выразит свое неодобрительное отношение к его легкомысленным поступкам тем, что, вообще ни словом не упомянув о них, примется с подчеркнутым интересом расспрашивать Федерико о делах творческих. Как подвигается трагедия? И когда, наконец, увидит свет сборник стихов в мавританском стиле?
Интересно, какое выражение примет лицо приятеля, если рассказать ему про замысел, не дающий Федерико покоя последнее время, – замысел комедии о бедности и богатстве, об имущественном неравенстве, о голоде, который лишает людей способности думать и чувствовать. В этой комедии не написано пока ни строчки, только разрозненные сцены всплывают в воображении. Такая, например: берегом реки идут два человека: один – богатый, другой – бедный. У одного полное брюхо, а другой оскверняет воздух голодными зевками. И богач говорит: «О, что за прелестная лодка виднеется на волнах! Глядите, глядите, какая лилия цветет у берега!» А бедняк бормочет: «Я голоден, ничего не вижу. Я голоден, очень голоден».
Когда голод исчезнет, в мире произойдет такой взрыв духовной энергии, какого человечество еще не знало. Невозможно даже представить себе то счастье, которое охватит людей тогда – в дни воистину Великой Революции!..
Нет, не хочется ему идти к Карлосу. Хорхе Гильен, мудрый Хорхе – вот кто нужен сейчас Федерико!
Найти Хорхе нетрудно – в это время дня он неизменно прогуливается вблизи своего дома, насвистывая песенку. Завидев Федерико, он не удивляется, не выражает шумной радости, только лицо его освещается изнутри, и, словно продолжая прерванную беседу, он, как всегда, заговаривает о том, чему отданы все его помыслы, – о поэзии. Пожалуй, Федерико прав, решив опять обратиться к сонетам. Возвращение к строгой строфической форме становится в наши дни насущной потребностью.
Федерико проводит с ним несколько чудесных часов, позабыв обо всем на свете. Но, распрощавшись, он снова чувствует сосущее беспокойство, от которого не избавило его и общение с другом.
И только в квартале Аргуэльес – в «Доме цветов», либо в архитектурной мастерской Луиса Лакаса, где собирается та же компания, что и у Пабло Неруды, Федерико освобождается от этого чувства. Не то чтобы он находил здесь ответы на занимающие его вопросы – да и есть ли они, ответы? – но думают здесь о том же, что он, хоть и каждый по-своему.
Вот скульптор Альберто, смеясь, рассказывает о гражданских гвардейцах, посланных из Барселоны в Астурию в конце тридцать четвертого года. Теперь, перед отправкой на родину, они явились в местное отделение Межрабпома с просьбой: «Выдайте нам свидетельство, что мы не обижали рабочих. Без этого нам в Барселону лучше не показываться».
Кто-то замечает, что Рафаэль Альберти мог бы написать об этом новые политические стихи для выступлений на митингах. Замечание звучит как будто невинно, однако аргентинский поэт Рауль Гонсалес Туньон, вспыхнув, спешит подтвердить свою солидарность с Альберти.
– Я убежден, – восклицает он, обводя всех вызывающим взглядом, – что каждый поэт сегодня должен прийти к политике!
Федерико поднимает глаза от листа бумаги, на котором чертит странные свои рисунки – отрубленные руки, юноша, пронзенный множеством стрел, цыганка за решеткой...
– А вот я никогда не смогу стать политиком, – говорит он негромко, ни к кому не обращаясь, словно думая вслух. – Я революционер, потому что настоящий поэт не может не быть революционером. Но политиком я не буду никогда... никогда!
А можно ли быть революционером, не занимаясь политикой? Разгорается спор. Побледнев от волнения, Мигель Эрнандес горячо поддерживает Рауля, а добрый католик Хосе Бергамин с сокрушением покачивает головой: положительно, от былой простодушной веры Мигеля ничего уже не осталось! Пабло Неруда опустил веки и кажется дремлющим, но все знают, что он не пропускает ни одного слова, что любая непоследовательность, любая банальность будет настигнута его ленивой, уничтожающей репликой.
Наговорившись до хрипоты, они хохочущей гурьбой вываливаются на улицу, взбираются на самый верх огромного двухэтажного автобуса, прозванного «бамбардой», и едут в зоологический сад – навестить тапира, в котором Пабло находит такое сходство с собой, что называет его своим дальним родственником. Или отправляются попросту бродить по предместьям, переходя из улицы в улицу, из таверны в таверну, пока не добираются до окраин, до тех мест, где город без предупреждения сменяется бурой кастильской равниной.
Потом провожают друг друга, и все время что-нибудь не дает им расстаться. То это необыкновенный запах, доносящийся из-за дверей запертой булочной: «Так цветы закрываются на ночь», – бормочет Пабло Неруда. То Мигель Эрнандес, заспорив с Пабло о соловьином пении – «Ну, что ты в этом понимаешь? У вас в Чили и соловьев-то нет!», – белкой взлетает на дерево и принимается свистать и щелкать оттуда. А то вдруг Рафаэль Альберти, хлопнув себя по лбу, вспоминает, что совсем забыл рассказать: в Советском Союзе он познакомился с молодым поэтом, который – Федерико, ты слышишь? – написал стихи под названием «Гранада»!
– Гранада? – улыбается Федерико. – Представляю себе! Мавры, тореадоры, гитары – так?
– А вот и не так, – торжествует Рафаэль. – Это стихи о крестьянском парне-украинце – помните украинцев у Гоголя? Он узнал из книги, что есть в Испании Гранадская область, оставил свой дом и пошел в революцию, чтобы отдать землю крестьянам в Гранаде.
Открыв записную книжку, он читает, с трудом выговаривая незнакомые слова:
Vа jatu poquinul, Poschol voyevat, Chtob ziemiu v Grenade Crestianam otdat.Федерико прикладывает руку к горлу.
– Как ты сказал? – переспрашивает он. – Чтоб землю в Гранаде крестьянам отдать?
15
Как-то в апреле Федерико вышел под вечер прогуляться, впервые за несколько дней – работа опять захватила его. Он и сам не смог бы сказать, каким образом задуманная трагедия на библейский сюжет превратилась в драму о судьбе женщин в испанских селениях.
Все решило, как случалось уже не раз, воспоминание, пришедшее из детства. Давным-давно в Аскеросе по соседству с их домом жила старуха, с нею несколько дочерей, старшая из которых тоже была уже старухой. Никто из них не показывался на улице, и заглядывать к ним Федерико было строго запрещено.
Но позади дома, в кустах, он отыскал неглубокий пересохший колодец, надвое разделенный стеною, так что другая его половина выходила в соседний, старухин двор. Забравшись в этот колодец, можно было подсматривать за чужой, непонятной жизнью.
Он так и не мог вспомнить теперь, удалось ли ему заметить что-нибудь, кроме безмолвного мелькания черных теней. Зато испытанное тогда ощущение -смесь жгучего любопытства, сознания своей преступности и страха быть обнаруженным, – ощущение это ожило в нем с такой остротой и стало преследовать его с такой неотвязностью, что в конце концов под его влиянием разрозненные сцены и образы, копившиеся в памяти, начали собираться воедино, прирастать друг к другу.
Ощущение это потом исчезло или, может быть, растворилось в атмосфере созревающей пьесы. Исчез и колодец. Андалусское селенье заменилось кастильским. Загадочная старуха получила имя, характер, судьбу. Бернарда Альба – так звали ее теперь. Бернарда Альба и пять ее дочерей.
Пожалуй, впервые в его творчестве женщина становилась олицетворением злых начал – человеконенавистничества, деспотизма, ханжества. Худшее из того, что оставили Испании века помещичьего и церковного господства, худшее из того, что принесли ей собственнические порядки, соединилось в Бернарде Альбе, зажиточной вдове, превратившей свой дом в тюрьму для тех, кто в нем живет. И прежде всего для дочерей, исступленно мечтающих о замужестве, но обрекаемых матерью на безбрачие: здешние мужчины слишком бедны, чтобы Бернарда сочла их достойными породниться с нею.
Правда, есть один, двадцатипятилетний Пепе Романо, самый красивый парень в округе... Он не прочь жениться на старшей, Ангустиас, верней – на ее деньгах, ведь Ангустиас уже под сорок, зато у нее самое большое приданое. Что ж, в глазах Бернарды это вполне законная сделка. Тираня старшую дочь не меньше, чем остальных, она все же дает согласие на ее брак.
Какую же зависть, какую ярость вызовет известие об этом у других дочерей, особенно у младшей, Аделы, на которую Пепе еще недавно заглядывался! До предела сгустится воздух дома Бернарды Альбы, и без того отравленный взаимной слежкой, насыщенный скрытой враждой. В изуродованных, рабских душах загорятся первые искры мятежа.
Да, действие не должно выходить за порог этого дома. Тяжело прокладывая себе дорогу сквозь вязкий, непролазный быт, будет оно развиваться в среде, где умерщвлена, кажется, всякая человечность, куда поэзия может залететь лишь на секунду – с донесшейся издали песней жнецов...
И еще одно. Драма дочерей Бернарды Альбы, как она ни мучительна, должна быть сопоставлена, соотнесена, что ли, с трагедией неимущих, во много раз более мучительной, с безмерным горем униженных и голодных. Напоминанием о том горе пусть прозвучат в первой же сцене слова Служанки, полные глухой злобы:
«Полы тут маслом натерты... стенные шкафы, подставки для цветов, стальные кровати – а мы вот должны копошиться в земляных норах; одна тарелка, одна ложка на всех. Хоть бы сгинуть нам всем, чтобы и рассказать было некому!»
...Поглощенный мыслями, Федерико не заметил, как отдалился от центра и зашагал по незнакомым кварталам. Вдруг он спохватился. Что за улица? Пустынная и слепая какая-то – потому, наверное, что все окна закрыты ставнями.
Впереди послышался цокот копыт. Из-за угла показалось несколько гражданских гвардейцев. Будто сошедшие со страниц «Цыганского романсеро», в черных плащах, с карабинами за спиной, ехали они не спеша, поблескивая клеенчатыми треуголками. Шагов за двадцать до встречи один из гвардейцев – без возраста, со спокойными, пустыми глазами – молча снял с плеча карабин, перебросил его с руки на руку и, приложившись, прицелился в Федерико.
Усмехнись он или выругайся хотя бы – не было бы так страшно. Но это равнодушие, эта щеголеватая четкость отработанных движений... Оледенев, Федерико стоял неподвижно и после того, как гвардеец, поравнявшись с ним, все так же молча закинул карабин за спину и поехал дальше, не оглядываясь.
Лишь через несколько минут Федерико припомнил, что сегодня должны были состояться похороны лейтенанта гражданской гвардии, убитого 14 апреля, когда фашистские молодчики атаковали рабочую демонстрацию. Фалангисты собирались превратить эти похороны в свою вооруженную манифестацию – с нее-то, видимо, и возвращались гвардейцы.
Напряжение росло со дня на день. Оправившись от февральского шока и пользуясь нерешительностью правительства, готовились взять реванш те, кто потерпел поражение на выборах. Предприниматели закрывали фабрики, выбрасывая рабочих на улицы, – пусть помитингуют! Помещики отказывались платить батракам и грозили, что с осени вообще сократят посевы. Взялись за работу наемные убийцы – пистолерос: по ночам раздавались выстрелы, а утром на улицах находили трупы профсоюзных руководителей, газетчиков, продававших издания Народного фронта.
Те, кто направлял руку убийц, надеялись не только на собственные силы. «Европа не сможет равнодушно взирать на торжество большевизма, которое подготовляет революция, начавшаяся в 1931 году, – угрожающе заявляла газета „ABC“. – Европа вмешается, как она однажды вмешалась в дела России. Европа никогда не согласится жить в большевистских клещах».
Революция не отступала. На выстрелы и провокации рабочие отвечали всеобщими забастовками, на локауты – захватом предприятий, закрытых владельцами. На землях, отобранных у помещиков, батраки создавали артели. «Смерть фашистам!» – кричали с трибун, и десятки тысяч людей подхватывали этот призыв, взметнув сжатые кулаки.
К июню ни для кого уже не секрет, что против республики готовится заговор. Повсюду только и разговоров, что о тайных складах оружия, о фалангистах и монархистах, открыто занимающихся военной подготовкой, о том, что армия ненадежна, и тем не менее реакционные генералы не уволены в отставку, а, наоборот, переведены в стратегически важные округа – Франко на Канарские острова, Мола в Наварру. Да правые и не скрывают намерения выступить в самое ближайшее время, руководствуясь пословицей: «Кто ударяет первым, тот ударяет дважды!»
– В высшей степени сложное положение! – говорит за ужином у Карлоса Морлы Линча профессор де лос Риос, покачивая своей красивой апостольской головой. – С одной стороны – явная угроза фашизма. С другой – анархисты с их ненавистью к правительству и Народному фронту, против которых они готовы бороться чуть ли не вместе с фалангистами. И хоть бы по крайней мере Народный фронт сохранял единство, а то...
Сняв очки, он принимается протирать их. Что уж толковать о единстве Народного фронта, если даже в его партии, у социалистов нет единства! Если Ларго Кабальеро, возглавляющий левое крыло, призывает ни больше, ни меньше, как к немедленному свержению буржуазного строя, причем без поддержки крестьянства и средних слоев, силами одного пролетариата!
– Вот она, логика политической борьбы! – восклицает хозяин не без злорадства. – Правые спешат опередить левых, левые – правых. «Кто ударяет первым, тот ударяет дважды!» – не так ли?
– Нет, не так! – дон Фернандо глядит с непривычной суровостью. Он считал бы нужным напомнить, что политика не кулачный бой. Вот коммунисты это понимают. Едва ли кто-нибудь заподозрит профессора де лос Риоса в приверженности к их доктрине, и все же он должен сказать, что в сложившихся ныне условиях коммунисты занимают трезвую позицию. Утверждая – и не без основания, – что главной опасностью сегодня является фашизм, они добиваются единства рабочего класса, призывают к расширению и укреплению Народного фронта. Критикуя правительство, требуя от него провести чистку армии и демократические реформы, они в то же время поддерживают правительство во всем, что касается защиты республики. Достойно сожаления, что далеко не все социалисты, не говоря уже об анархистах, способны с такой же решительностью действовать в интересах народа. Не удивительно, что авторитет коммунистов растет.
– Ну, а ты что думаешь обо всем этом? – поворачивается Карлос к Федерико.
– О чем? – вздрагивает тот, возвращаясь откуда-то издалека.
– О партиях! – Карлос несколько раздражен. – Вот ты, например, какой ты партии?
– Ты же знаешь, – улыбается Федерико, – партии бедняков.
Но приятель не унимается: ответ слишком расплывчат – так называют себя разные партии и люди в них разные.
С детской серьезностью смотрит ему в лицо Федерико.
– Люди, конечно, разные, – отвечает он еле слышно, словно себе самому, – есть злые, есть добрые. Я – с добрыми.
– С добрыми? – повторяет дон Фернандо задумчиво и отчего-то вспоминает вдруг, что Маргарита Ксиргу, отправившаяся со своей труппой в Америку, звала, как он слышал, и Федерико с собой – почему же тот не поехал?
– А я их еще догоню! – оживляется Федерико. – Вот только поставлю «Периваньеса» в «Ла Барраке» да наведаюсь в Гранаду...
В Гранаду? Профессор не скрывает беспокойства. Разумно ли в такое тревожное время, когда в любую минуту возможны серьезные беспорядки, уезжать из столицы в провинцию, да еще в нашу милую, сонную, косную Гранаду, где реакционеры весьма сильны?
– И у меня смутно на сердце, – признается Федерико. – Но ведь я ненадолго. Восемнадцатое июля – день святого Федерико, наш с отцом день, семейный праздник – ну, как не приехать? И что может случиться со мною дурного в моей Гранаде? Как-никак, – торжественно поднимает он палец, – там я маленькая местная достопримечательность!
Но еще до отъезда он заканчивает «Дом Бернарды Альбы». Собрав друзей, он читает им эту драму, все более воодушевляясь скаждой сценой. Вызов Бернарде, вызов всему ее миру бросает младшая дочь, Адела, вступающая в борьбу за свою любовь. Она не желает больше лицемерить и лгать, не желает терпеливо дожидаться смерти старшей сестры – она берет свое счастье, перешагнув через запреты, одолев страхи, победив самое себя. Могучая сила свободного человека просыпается в маленькой запуганной девушке. Отныне тюрьма не властна над нею.
Ее можно обманом толкнуть на самоубийство, можно приказать домашним хранить молчание об истинных причинах смерти. Но с рабством покончено – Адела уходит из жизни непобежденной.
Жадно и в то же время нетерпеливо выслушивает Федерико поздравления друзей. Пьеса удалась – ему самому это ясно. Но если б они только знали, какой замысел возник у него на днях, едва не помешав дописать «Дом Бернарды Альбы»! Все сочиненное до сих пор было лишь подготовкой к новой трагедии, зашевелившейся в глубине сознания. Однако – ни слова о ней пока, ни одному человеку!
Время еще не позднее – а хоть бы и позднее, кто же в Мадриде спит в июльскую ночь! Тем более что Федерико через несколько дней покидает столицу – достаточный повод, чтобы немедленно отправиться всем в кофейню к Манко.
У знакомой, настежь раскрытой двери они останавливаются в нерешительности. Крики, несущиеся изнутри, настолько громче обычных, что сомнений не остается: там назревает крупная драка. К тому же, как явствует из характера перебранки, в дело замешаны политические страсти. Благоразумнее всего повернуть назад, но хозяин уже увидал Федерико, машет ему рукой, указывая подбородком на единственный незанятый столик, оставленный для почетных гостей.
Их появление несколько разряжает атмосферу – впрочем, разряжает ли? Спорящие – одни из них в комбинезонах, другие в полувоенных рубашках, третьи просто в рванье – чуть умеряют свои голоса, зато с нескрываемым общим недружелюбием приглядываются к компании хорошо одетых интеллигентов, усевшихся в стороне. Хорхе Гильен всей спиной ощущает эти враждебные взгляды – удивительно, как Федерико ничего не замечает!
А тот в ударе – болтает без умолку, дурачится, передразнивает приятелей. Вот и они позабыли об окружающих – Федерико представляет в лицах свою недавнюю беседу с художником Луисом Багариа, который сам себя именует: «карикатурист-дикарь». Замолчали за ближними столиками. Тишина расползается по кофейне. Все лица повернуты к Федерико. Остановившись на полуслове, он слышит только шепот хозяина, с гордостью поясняющего: «...тот самый, что сочинил „Неверную жену“!»
Ну, кто не знает «Неверную жену»! От недавней враждебности и следа не осталось, со всех сторон – улыбки, приветственно поднятые стаканы... В конце концов хозяин передает Федерико общую просьбу: почитать, если можно, стихи.
Федерико согласен. Только не «Неверную жену»: ему, правду сказать, очень надоел этот романс. Он прочтет другое стихотворение из того же сборника – романс о Сан-Габриеле, покровителе Севильи.
«Сан-Габриель»? Стоит ли? – читает он на лицах друзей. – Слишком сложная поэзия для подобной аудитории. Да еще эти библейские мотивы – одних они разозлят, другим покажутся кощунством!»
Федерико победно улыбается. Сегодня он все может.
И действительно, еще ни один знаток не слушал его так самозабвенно и благодарно, как слушают буйные завсегдатаи Манко разговор между юной нищенкой из Трианы и цыганским архангелом, явившимся возвестить ей чудо из чудес – рождение сына.
– Святой Габриель! Я стала, пронзенная трижды счастьем, и блеск твой зацвел жасмином над жарким моим запястьем. – Храни тебя бог, Мария, о смуглое чудо света! Дитя у тебя родится прекрасней ночного ветра. – Ай, жизнь моя, Габриелильо! Ай, Сан-Габриель пресветлый! Заткала б я твое ложе гвоздикой и горицветом. – Храни тебя бог, Мария, звезда под бедным нарядом! Найдешь ты в груди сыновней три раны с родинкой рядом.Ответная жаркая волна поднимается в груди Федерико. Чего бы сейчас ни сделал он для этих людей, доверчиво отдающихся доброй силе, доброй власти его поэзии!
У матери изумленной во чреве дитя запело. Дрожат три миндальных дольки в его голоске несмелом. Архангел уходит в небо ступенями сонных улиц... А звезды на небосклоне в бессмертники обернулись!Хорхе Гильен оглядывается, видит задумчивые светлые лица. И, наклонившись к соседу, шепчет ему на ухо:
– Может быть, и в самом деле начнется мятеж и все мы погибнем... но только не Федерико!
16
Дня этого Мануэль де Фалья ожидает со скрытым нетерпением замкнутого человека, жизнь которого не слишком богата событиями. Только покончив со всей работой, назначенной на 17 июля, он разрешает себе подумать о том, как назавтра, облачившись в парадный костюм, отправится принести поздравления давним друзьям.
Постукивая палочкой по каменным плитам, зашагает он улицами, еще хранящими ночную свежесть, на окраину Гранады, в усадьбу Сан-Висенте – в сущности, это вовсе не усадьба, просто небольшой дом с садом, где семья сеньора Гарсиа вот уже который год проводит летние месяцы... Он поглядит на маисовые поля, начинающиеся сразу же за садом, прислушается к бульканью воды в канавках, стукнет в знакомую калитку. Детишки Кончиты с радостным визгом кинутся отворять, толкая друг друга; сияющая донья Висента – руки в муке по локоть – покажется из кухни, за нею дон Федерико – седой, загорелый, молодцеватый, с бутылкой старого хереса: уж сегодня-то дон Мануэль не откажется выпить за здоровье обоих именинников! А со второго этажа скатится кубарем по лестнице смеющийся Федерико, который, как всегда, приехал в самую последнюю минуту. А там начнут собираться друзья и родные – из города, из Фуэнте Вакероса, из Аскеросы, и в праздничном веселье растворится хотя бы на время томительная тревога, владеющая в это лето всеми.
Однако поутру дон Мануэль не успевает открыть глаза, а сестра уже будит его взволнованным голосом. Только что передавали по радио: в Марокко и на Канарских островах армия поднялась против правительства.
Поджав губы – испортили-таки праздник! – дон Мануэль начинает одеваться. Но донья Мария дель Кармен решительно вешает в шкаф его костюм, приготовленный с вечера. Она заявляет, что выходить сейчас из дому было бы сущим безумием.
Что за чушь! Марокко не Андалусия. И вообще – какое отношение это все имеет к нему, Мануэлю де Фалье? Он добрый католик и скромный музыкант, остальное его не касается.
Сестра не уступает. Андалусия не так уж далека от Марокко, да и от Канарских островов, откуда генерал Франко призвал к восстанию население всей страны. Что же до брата, то пусть он лучше припомнит молодых фалангистов, приходивших к нему не так давно.
С неприятным, сосущим чувством композитор вспоминает: действительно, несколько недель назад они заявились, эти молодчики, с предложением написать музыку для их гимна. Разумеется, он отказался, объяснив терпеливо, что религиозное чувство не позволяет ему участвовать в сочинении песни, призывающей к насилию и братоубийственной войне. Если теперь фалангисты выйдут на улицу, то... может быть, Мария права?
Презирая себя, он остается дома. Весь день он проводит у радиоприемника, прислушиваясь в то же время к каждому звуку, доносящемуся снаружи, нервно оборачиваясь, как только входит сестра с очередным: «Соседки говорят, что...» В Гранаде пока тихо. Мадридское радио повторяет: «В некоторых районах Африки возникло повстанческое движение. Правительство считает свои силы достаточными для его подавления». По слухам же, Марокко целиком под властью мятежников, называют и захваченные ими испанские города...
Ночь проходит без сна. А на следующий день – как удар грома: Севилья в руках мятежников! Овладевший ею генерал Кейпо де Льяно объявляет, что в ближайшие дни распространит новый порядок на всю Андалусию. Вот теперь и снаружи слышится шум. Рабочие из Альбайсина идут через город на улицу Дукеса, где находится губернаторство. Идут коммунисты и социалисты, члены профсоюзов, мужчины и женщины – требовать оружия, требовать немедленного ареста фалангистов.
Но губернатор не соглашается: начальник гарнизона дал ему честное слово, что войска сохранят верность правительству, а раздача оружия народу может, по его мнению, спровоцировать взрыв. Напрасно алькальд Гранады, социалист Мануэль Фернандес Монтесинос – муж Кончиты Гарсиа Лорки и зять Федерико – от имени двадцати тысяч семей настаивает на том, чтобы предупредить события, обезвредить заговорщиков, пока еще не поздно, – губернатору эта толпа, грозно гудящая у него под окнами, внушает не меньший, если не больший, страх, чем мятежники.
Снова ночь, еще более напряженная, чем предыдущая. Рабочие патрули – на несколько человек одно охотничье ружье или старый револьвер – ходят по городу. И какие-то тени осторожно пробираются вдоль древних, источенных временем стен.
День 20 июля начинается собнадеживающих вестей. Столичное радио сообщает, что попытки мятежников взять власть в Мадриде, в Толедо, в Барселоне окончательно потерпели крах, что в Бильбао и Барселоне формируются рабочие полки, что не вся армия и далеко не весь флот идут за предателями-генералами. В Гранаде спокойно, и Мануэль де Фалья решает, как только спадет дневная жара, навестить, наконец, семью Гарсиа Лорки.
Но послеобеденную тишину разрывают выстрелы. Это двое полковников, сместив своего колебавшегося начальника, подняли гарнизон и повели в центр города. Солдаты врываются в здания гражданских властей, беспрепятственно занимают вокзал, почту, телеграф. Следом за ними штурмовая гвардия и гражданские гвардейцы. А фалангисты и незаметные личности из охранки уже рыщут по квартирам в поисках первых жертв.
Беззащитная Гранада падает в руки мятежников как спелый плод. И только в Альбайсине натыкаются они на сопротивление. Только там, на холме, не умолкает стрельба. Ясно, что рабочие будут драться до последнего.
Однако захват власти, как инструктирует своих подчиненных майор Вальдес, которого сам Кейпо де Льяно назначил губернатором Гранады, – это лишь первый этап. Полностью обеспечить торжество нового порядка призван следующий этап – «чистка». Город должен быть очищен от коммунистов и социалистов, от анархистов и республиканцев, от тех, кто состоял в профсоюзе или хотя бы голосовал за Народный фронт, – от всех, кто не с мятежниками и, следовательно, против них. Приступают к составлению списков: первая очередь, вторая очередь, третья... Вооруженные люди входят в дома, проверяют наличие жителей, одних уводят с собой, других пока берут на заметку.
Начинаются страшные дни Гранады – аресты и допросы, разгул человеческого отребья, вылезшего из всех щелей, сухой треск, доносящийся на рассвете со старого кладбища Ceppo дель Соль, где идут расстрелы... Но страшнее всего сам страх, придавивший гордого и независимого гранадца, заставляющий его не выходить из дому без крайней надобности, беспрекословно выполнять распоряжения новых властей и не спать до утра, замирая, как только в конце улицы взвоет автомобиль, одолевая подъем. За мной? Приближается, затормозил... Нет, к соседям. Тишина, потом полузадушенный женский вопль, плач детей. Машина, взревев, удаляется. И – тайное, от самого себя скрываемое облегчение: на этот раз не меня!
А время идет, и ужас постепенно становится частью быта – с ним свыкаются, о нем говорят, как о самой обычной вещи, прибегая к безобидно звучащим выражениям вроде словечка «взяли». «Вы слышали? – сегодня взяли врача Рафаэля Гарсиа Дуарте». – «Уж его-то за что»? – «Как за что: во-первых, лечил рабочих бесплатно, а во-вторых, достаточно и того, что врач, – интеллигенция теперь на особом подозрении...» – «И куда же его»? – «Да куда и других – на прогулку!..» «Прогулка» тоже новое словцо, им заменяют слишком откровенное слово «расстрел».
Композитор Мануэль де Фалья не принимает участия в разговорах, не работает, не читает, не подходит к радиоприемнику. Он живет, погрузившись в какое-то оцепенение. Только весть о том, что вместе с последними защитниками Альбайсина схвачен и расстрелян Монтесинос, алькальд Гранады, заставляет его содрогнуться от боли за этого доброго, смелого человека и от страха за Федерико. Волнение дона Мануэля так велико, что сестра его, мобилизовав все свои знакомства, добывает утешительное известие: семья Гарсиа Лорки находится по-прежнему в усадьбе Сан-Висенте, но Федерико там нет, он где-то скрывается. А может быть, ему удалось даже пробраться в республиканскую зону – ведь линия фронта проходит почти рядом с Гранадой!
Со дня святого Федерико исполняется ровно месяц, когда в дом композитора, задыхаясь, входит женщина, в которой дон Мануэль и его сестра с трудом узнают хохотушку Кончиту. Вдова расстрелянного алькальда, забыв об опасности, прибежала к ним, чтобы сказать: сегодня, в пятом часу пополудни, они арестовали Федерико!
Кончите ни о чем не приходится просить. Пока донья Мария дель Кармен отпаивает ее водой, плача с нею вместе, дон Мануэль, к которому в эти минуты словно вернулась былая энергия, надевает в соседней комнате свой парадный костюм и одновременно расспрашивает, как все случилось. И сестра Федерико, всхлипывая, рассказывает о том, как через несколько дней после переворота брату принесли анонимное письмо, полное грубых угроз, а еще день спустя в усадьбу заявились вооруженные люди и стали проверять у всех документы. Когда очередь дошла до Федерико, один из этих людей ударил его по лицу и сказал: «Можешь не предъявлять, мы и так хорошо тебя знаем, Федерико Гарсиа Лорка!»
Как только они ушли, решено было, что Федерико необходимо скрыться. Но где? В Фуэнте Вакеросе, в Аскеросе? – невозможно, там каждый человек на виду. Кто-то предложил: у сеньора де Фальи. Но Федерико замахал руками – ни за что на свете не станет он подвергать риску дона Мануэля. Вот тут и вспомнили о Росалесах...
– О Росалесах? – ахает донья Мария. – Да ведь братья Росалесы – Мигель, Антонио, Хосе – фалангисты, и не какие-нибудь рядовые, а чуть ли не главари!
– Но четвертый из братьев, Луис, – молодой поэт, – опускает голову Конча, – он всегда так восхищался нашим Федерико, он клялся, что жизнь за него отдаст. И мы подумали: если он сумеет уговорить своих братьев, кто же станет искать Федерико у них в доме! И Луис согласился...
Еле слышным голосом досказывает она остальное. Больше двух недель семья ничего не знала о Федерико, кроме того, что он жив, здоров и находится в безопасности. А сегодня люди видели, как у подъезда Росалесов на улице Ангуло остановилась машина. Говорят, что никого из братьев в это время не было дома. Несколько гражданских гвардейцев и человек в штатском вошли в подъезд. Вскоре они показались снова, но теперь между ними шел Федерико в полосатой пижаме – даже переодеться ему не дали!
Мария дель Кармен слишком хорошо знает своего брата, чтобы сейчас взывать к его благоразумию. Она только гладит его по плечу дрожащей сухонькой ручкой, шепча: «Будь осторожен, Маноло!», и композитор, впервые за весь этот месяц, перешагивает порог.
Дрожа от ярости, идет он по знакомым, обезлюдевшим улицам, направляясь к штабу фаланги, или как она там называется, мерзкая псарня, откуда прибегали к нему эти кровавые щенки, уговаривали, чтобы полаял по их заказу! Он добьется приема у главного их начальника, он скажет: «Да понимаете ли вы, что делаете, на кого заносите руку?..»
– Здравствуйте, дон Мануэль! – весело восклицает дежурный, к которому его проводят. Ба, да это один из тех самых щенков!.. – Я так и знал, что в конце концов вы к нам придете!
Гневный румянец выступает на щеках композитора, но он вспоминает: «Федерико!», и как можно сдержанней объясняет, что пришел говорить не о себе, а о своем ученике и друге...
Не дослушав, дежурный останавливает его. Дон Мануэль обратился не по адресу, репрессированными занимаются в губернаторстве – да, там же, на улице Дукеса. В брезгливой небрежности, с которой подписывает он пропуск на выход, есть что-то такое, что отнимает у композитора часть надежды. Тем упрямей шагает дон Мануэль в губернаторство.
На улице Дукеса, вдоволь настоявшись у входа, он, наконец, попадает во внутреннее помещение, совершенно пустое, если не считать двух вокзальных скамей, стоящих посередине спинками друг к другу. Тайный трепет, с каким вступает сюда композитор -не донесутся ли из-за стены стоны допрашиваемых, не протащат ли их, избитых и окровавленных, через зал? – оказывается напрасным. Канцелярский запах, казарменная скука. Люди в военной форме проходят, пробегают, проносятся, то исчезая в одних дверях, то показываясь в других. И в безостановочном движении всех этих людей, снующих по разным направлениям, дон Мануэль непроизвольно начинает улавливать некий единый ритм.
Лишь несколько человек выпадают из общего ритма. Это женщины и старики – одни из них топчутся у окошечек, прорубленных в стенах, умоляя о чем-то неслышными голосами, другие пытаются остановить проходящих по залу военных, но, бессильные замедлить ход безотказно функционирующего механизма, усаживаются в отчаянии на скамьи и погружаются в безнадежную дремоту. И композитор тоже становится одной из этих фигур. Он переходит от окошечка к окошечку, не получая нигде ответа на свой вопрос. Он обращается к военным всех рангов, но его даже не слышат. Тщетно, забыв о гордости, называет он свое имя, говорит о своих заслугах перед Испанией – от него отмахиваются на ходу, как от назойливой мухи.
Раз только, когда поблизости останавливается на минуту краснолицый толстяк, отдавая распоряжение относительно какого-то сеньора Фулано1 – «...и чтобы заправил свой „мерседес“ как следует, а то опять не хватит бензина!», – дону Мануэлю удается привлечь его внимание.
– Де Фалья, Мануэль? – переспрашивает толстяк, отирая лоб. – Помню: улица Верхняя Антекеруэла, как раз мой район. Да нет, это просто напутали – никто вас не вызывал сегодня, идите спокойно домой. А может, и вовсе не вызовут, – добавляет он добродушно и убегает, прежде чем старику удается выговорить хотя бы слово.
На непослушных ногах добирается дон Мануэль до скамьи. Он не знает, сколько времени проводит в странном полузабытьи. А услышав вдруг свое имя, произнесенное с той почтительностью, к которой привык он в другой жизни, он едва приподнимает голову – не померещилось ли?
Незнакомый человек, стоящий перед ним, выглядит вполне интеллигентно. Лицо его было бы даже приятным, если бы кожа не обтягивала так череп, навевая нехорошие ассоциации. Он в штатском, но в здешнем мире явно свой человек. Больше того: проносящиеся мимо военные, завидев его, щелкают каблуками и замирают, пока он легким кивком не разрешает им следовать дальше. И тем не менее он усаживается рядом с композитором, который, прижав руку к безумно заколотившемуся сердцу, начинает излагать свое дело.
Как только старик произносит имя Федерико, незнакомец на момент прикрывает глаза. Нет, ему не надо рассказывать, кто такой Гарсиа Лорка, не следует думать, что они здесь ничего не смыслят в поэзии.
– Еще бы: Гарсиа Лорка! – повторяет он, покачивая головой. – Как это там:
Открылся засов тюремный, едва только девять било. А пять полевых жандармов вином подкрепили силы. Закрылся засов тюремный, едва только девять било...Внезапная тревога гасит радость дона Мануэля. Он замечает осторожно, что есть ведь у Федерико и другие стихотворения...
– О разумеется, – отвечает собеседник учтиво. – «Романс о гражданской гвардии», например. Есть и пьесы – скажем, «Иерма». А интервью какие! Вы, возможно, еще не читали самого последнего – того, где ваш друг заявляет, что ему ненавистны испанцы, приносящие себя в жертву абстрактной идее национализма?..
– Но нельзя же сводить его творчество только к этому! – умоляюще возражает композитор.
– В самом деле? – усмехается собеседник. – Тогда, быть может, вы укажете мне такие произведения Гарсиа Лорки, которые помогают воспитывать людей в нашем духе?.. Или, – продолжает он, насладившись растерянным молчанием старика, – хотя бы поручитесь за то, что теперь наши идеи найдут выражение в его стихах? Впрочем, что я! – как бы спохватывается он, прищурившись. – Вы и сами не пожелали с нами сотрудничать... Счастье ваше, что музыка не поэзия; композитору все-таки легче скрыть свои мысли. Вот почему мы с вами так мирно беседуем. И вот почему, – заключает незнакомец, вставая, – я решительно ничего не могу сделать для облегчения участи вашего ученика и друга.
– Но Федерико – великий поэт! – в отчаянии хватает его за рукав дон Мануэль.
– Великий поэт! – отзывается, словно эхо, незнакомец, без труда высвобождая рукав из бессильных стариковских пальцев. – Один крупный деятель нашего движения сказал как-то, разумеется, в узком кругу: «К поэтам нельзя относиться серьезно. Иначе их пришлось бы расстреливать».
– Вот видите! – пытается Мануэль де Фалья сложить в улыбку трясущиеся губы. И, задохнувшись, слышит:
– В идеале это, конечно, так. Но пока борьба не окончена, мы вынуждены относиться к поэтам серьезно. Вполне серьезно.
17
Где-то за окном, за прикрывающим окно уродливым деревянным ящиком – плеск магнолиевых листьев в университетском саду по соседству, и безлунная августовская ночь, и Гранада, и воля... А здесь – голые стены, свет пыльной лампочки под потолком, вздохи и стоны товарищей по заключению.
Ничего этого не видит, не слышит совсем еще молодой человек в полосатой пижаме. Внезапный, как обморок, сон, сваливший его, приоткрыл ему рот, разгладил морщины, вернул лицу мальчишеское выражение.
Человек не знает, что уходят последние часы его жизни, что еще несколько дней – и немыслимая боль полоснет по сердцам всех, кто знал, кто любил его; не знает – а как удивился бы, если б узнал! – что имя его станет знаменем революционной поэзии; что под это знамя, рядом с Рафаэлем Альберти, встанут Мигель Эрнандес, Пабло Неруда и много иных, известных ему и неизвестных;
что через год в Париже писатели разных стран перед портретом Гарсиа Лорки принесут клятву на верность свободе;
что другим, огромным его портретом республиканская Испания украсит свой павильон на Всемирной выставке
и что бывший друг его, Сальвадор Дали, предложит выставить в том павильоне свои картины с одним условием: пусть снимут портрет Федерико, занимающий, по мнению Сальвадора, слишком много места...
Он не знает, какой крестный путь предстоит пройти его родине;
не знает, что старый поэт Антонио Мачадо, который оплачет его смерть в скорбных стихах, умрет в изгнании, не захотев остаться под властью фашистов, не пережив и месяца разлуки с Испанией;
что в изгнании умрут учителя его и друзья – Фернандо де лос Риос, Мануэль де Фалья, Хуан Рамон Хименес, Хосе Морено Вилья, Эдуарде Угарте, Альберто Санчес, и столько других...
что скончается, находясь под домашним арестом, Мигель де Унамуно, бросив перед смертью слова презрения в лицо фашистскому изуверу;
что поверенный в делах Чили в Мадриде, Карлос Морла Линч, откажет в убежище другу его Мигелю Эрнандесу и Мигель Эрнандес умрет во франкистской тюрьме...
Он не знает, что его поэзия пойдет по свету, завоевывая сердца;
что испанский народ не даст своим тюремщикам отнять у себя эту поэзию;
что через двадцать пять лет мадридская молодежь будет кричать на представлении «Иермы»: «Да здравствует Федерико Гарсиа Лорка! Долой фашизм!»;
что речью о нем Николас Гильен откроет первый съезд писателей, художников и артистов социалистической Кубы;
и что в мире нашем чуть прибавится счастья оттого, что жил на свете такой поэт – Федерико Гарсиа Лорка...
Ни о чем этом не знает и никогда уже не узнает человек в нелепой пижаме, лежащий навзничь в грязной камере. Он спит, и лицо его спокойно.
Попросив часового доложить, что машина подана, сеньор Фулано вновь уселся за руль в самом дурном расположении духа. Право же, если б знать заранее, что его гордость – темно-вишневый «мерседес» – навлечет на своего владельца все эти обязанности, не стоило б, может, и покупать его. Но кто мог полгода назад предвидеть, что теперешняя гранадская власть, ссылаясь на затруднения с транспортом, заставит владельцев автомобилей возить по ночам арестованных с конвоирами за город и возвращаться оттуда уже с одними конвоирами...
Сеньор Фулано терпеть не мог слова «прогулка» – он вообще не говорил ни с кем о ночных поездках и старался не думать о них. Какое ему в конце концов дело до политики; он человек лояльный, исполняет, что приказано! Кончат же они когда-нибудь наводить свой порядок, и все забудется.
Этой ночью у сеньора Фулано были особые причины для недовольства. Его Лола собралась наконец-то подарить ему сына – нужно надеяться, что теперь-то уж сына! – и не годилось бы оставлять ее в такое время. Правда, Лола считает, что это случится не раньше, чем завтра, а ну, как раньше?
Вид двух мужчин, которых на сей раз втолкнули гвардейцы к нему в машину, не улучшил его настроения. Один из них был хромой старик, весь растерзанный – били его, что ли? – а другой, помоложе, в одной пижаме. У хромого в глазах стоял смертельный ужас, молодой же, наоборот, держал себя так, будто его везли на прогулку, – улыбался, вертелся, без умолку говорил о каком-то лагере, каком-то театре...
Сеньор Фулано был не злой человек, просто он считал, что каждый должен вести себя в соответствии с обстоятельствами Вот он, например, делал то, что ему положено, – молча включил зажигание, тронулся по знакомому маршруту. Знали свое дело и трое гвардейцев – не рукоприкладствовали попусту, не ругались, да и хромой старик ничем, в сущности, не нарушал порядка, словно участвуя в общем негласном сговоре: чтобы то, чего все равно не миновать, прошло пристойно и гладко. Только молодой... ну, хоть бы кричал, бился – неприятно, но естественно, а он точно знать ничего не желал, и чудилось в этом что-то оскорбительное для остальных.
И еще одно было непонятно. Сеньор Фулано мог бы поклясться, что никогда раньше не видел этого человека и понятия не имеет, кто он такой, а между тем, встречаясь с ним взглядом в зеркальце, то и дело удивлялся странно знакомому выражению на незнакомом, заросшем щетиной лице. Только этого ему еще не хватало!
А тот арестант, что помоложе, и в самом деле испытывал радостное возбуждение. Разве не сказали ему накануне, что он будет отправлен в концлагерь? Услыхав это, он почувствовал такое невыразимое облегчение, что даже смог заснуть, а когда проснулся, то понял: темный ужас, заполнявший все его существо, наконец-то отхлынул. Ну конечно, с ним не могло случиться самого плохого – ведь он поэт, а поэтов не убивают.
И сразу же подступила давняя, привычная забота. Мысль, которая не приходила ему на ум весь этот месяц, мысль о трагедии, задуманной еще в Мадриде, вдруг снова в нем возникла. И поворот действия -единственный, необходимый, над которым он столько мучился тогда, – внезапно очертился весь, будто с неба упал.
Это было хорошим предзнаменованием, так что, когда его вызвали, повели и посадили в роскошный лимузин, он поверил: везут в концлагерь. Все предвещало доброе – и чудесная ночь и заспанные, ленивые физиономии конвоиров. А разглядев лицо шофера, он окончательно успокоился – человек с таким заурядным лицом не мог быть причастен к злодейству.
Лагерь казался совсем нестрашен по сравнению с тем, чего он боялся... Больше того: лагерь освобождал его от смутного чувства вины – перед зятем Мануэлем, перед теми, кто долго еще отстреливался в Альбайсине. Нет, бойца из него все равно не вышло бы! Но раз уж он очутился по эту сторону фронта, то где же и место ему, как не в концлагере, среди побежденных? Быть может, ему удалось бы даже организовать театр из заключенных – кажется, в Германии разрешались подобные вещи. И кончится же когда-нибудь весь этот кошмар!
Он попытался тихонько подбодрить старика, но тот не откликался; попробовал заговорить с шофером, с гвардейцами – они прицыкнули на него. Тогда он целиком отдался тому, что звучало и вырастало внутри. Про себя он называл это просто «оно» – так повелось с детских лет, с уроков Антонио Сегуры.
Бежали мимо стены, изгороди, деревья – он не глядел по сторонам. До свиданья, Гранада! На этот раз ты была не очень гостеприимна – что ж, увидимся в лучшие времена! И снова вслушивался: тут оно? – да, тут...
Ночная работа, по-видимому, расшатала нервы сеньору Фулано. Чем иным еще можно объяснить, что в какой-то момент, взглянув в зеркальце, он вдруг подумал: а не у своей ли Лолы замечал он последнее время такой же неподвижный, словно бы внутрь обращенный взгляд? Пораженный нелепостью этой мысли, он едва не проехал поворот на Виснар.
В Виснаре – небольшом селении километрах в двенадцати от Гранады – сделали остановку, чтобы дождаться рассвета. Вылезли из автомобиля на маленькой, совершенно пустой в этот час площади; хромому подали руку, а после помогли влезть обратно, но тот все молчал и только дрожал мелкой дрожью. Когда же небо на востоке стало бледно-фиолетовым, поехали дальше – меж кустов и в гору, до того места, где сеньор Фулано затормозил, не дожидаясь приказа.
Двое из гвардейцев опять помогли старику вылезти из машины и повели за кусты. Его товарищу и тут, верно, пришло в голову что-нибудь неуместное – он слабо, одними глазами, улыбнулся шоферу. Но совсем рядом резко треснули выстрелы – будто небо разодралось сверху донизу, – и глаза стали шириться, заполняя зеркальце.
Снова темный ужас поднялся в Федерико, но теперь этот ужас не мог целиком завладеть им, не мог вытеснить того, что так стремительно распускалось внутри, торопясь превратиться в слова, в людей, в огромные неведомые миры. И когда гвардейцы, выйдя из-за кустов, подошли к нему, когда стали отрывать его пальцы от автомобильного крыла, когда потащили по тропинке, толкая прикладами в спину, – сила, проснувшаяся много лет назад под пыльными тополями Фуэнте Вакероса, все еще пела и клокотала в нем и рвалась наружу, не уступая смерти. В него сажали пулю за пулей, а он все вставал, все приподымался, пытаясь что-то выговорить, пока не замолчал, не затих, наконец, вцепившись руками в красноватую землю...
Основные даты жизни и деятельности Гарсиа Лорки
1898, 5 июня —Вселении Фуэнте Вакеросе вблизи Гранады родился Федерико Гарсиа Лорка, сын Федерико Гарсиа Родригеса и Висенты Лорки.
1902–1903 – Семья переезжает в соседнее селение Аскеросу (ныне Вальдеррубио), где Федерико поступает в школу.
1909, сентябрь– Семья переезжает в Гранаду.
1909–1913– Федерико учится в школе, одновременно занимаясь музыкой.
1914– Гарсиа Лорка поступает в Гранадский университет (на факультет литературы и философии и факультет права).
1915– Первые сохранившиеся стихи.
1917, февраль– Первое выступление в печати – статья «Символическая фантазия» к столетию со дня рождения поэта Хосе Сорильи в «Бюллетене гранадского Литературно-художественного центра».
Лето– Поездка по Испании вместе с группой студентов под руководством профессора М. Домингеса Берруэты.
1918– Первая книга Гарсиа Лорки – сборник набросков в прозе и путевых очерков «Впечатления и картины»2.
1919– Гарсиа Лорка перебирается в Мадрид и поселяется в Студенческой резиденции, где живет до 1929 года, ежегодно наезжая в Гранаду.
1920, 22 марта– Премьера пьесы «Злые чары бабочки» в мадридском театре «Эслава».
1921– Первый поэтический сборник Гарсиа Лорки – «Книга стихов».
1922, 13–14 июля– Фестиваль народной андалусской песни -канте хондо, организованный в Гранаде Мануэлем де Фальей и Федерико Гарсиа Лоркой.
1923– Гарсиа Лорка сдает экзамен на степень лиценциата права в Гранадском университете.
13 сентября– Государственный переворот и установление диктатуры Примо де Риверы в Испании.
1925, весна– Гарсиа Лорка гостит у Сальвадора Дали в приморском местечке Кадакес (Каталония).
1926, 8апреля – На вечере в городе Вальядолиде Гарсиа Лорка читает стихи из готовящихся к опубликованию книг – «Песни», «Стихи о канте хондо», «Цыганский романсеро».
1927, апрель– В журнале «Стихи и проза» (Мурсия) опубликован цикл стихотворений Гарсиа Лорки под общим названием «Андалусские виньетки».
В Малаге выходит поэтический сборник «Песни».
Май– Гарсиа Лорка вторично гостит в Кадакесе.
24 июня– Труппа Маргариты Ксиргу показывает в Барселоне пьесу Гарсиа Лорки «Мариана Пинеда».
25 июня– 2 июля– Выставка рисунков Гарсиа Лорки в Барселоне.
12 октября– Труппа Маргариты Ксиргу показывает «Мариану Пинеду» в Мадриде.
Декабрь– Гарсиа Лорка с группой поэтов совершает поездку в Севилью по приглашению знаменитого матадора Игнасио Санчеса Мехиаса.
1928, февраль– апрель– Вместе с компанией молодых литераторов Гарсиа Лорка издает в Гранаде литературно-художественный журнал «Гальо» (вышло два номера), в котором публикует несколько своих рассказов.
Апрель– Выходит в свет «Цыганский романсеро» Гарсиа Лорки.
1929, май– Вместе с Фернандо де лос Риосом Гарсиа Лорка едет в Америку, посетив по пути Париж и Лондон.
Июнь– Гарсиа Лорка поступает на курсы английского языка при Колумбийском университете в Нью-Йорке.
Август– Гостит на ферме у знакомых в штате Вермонт.
Сентябрь– Возвращается в Нью-Йорк.
1930, 28 января– Падение диктатуры Примо де Риверы в Испании.
Весна– По приглашению Испано-кубинского института культурных связей Гарсиа Лорка приезжает на Кубу.
Лето– Гарсиа Лорка возвращается в Испанию.
24 декабря– Труппа Маргариты Ксиргу показывает пьесу Гарсиа Лорки «Чудесная башмачница» в театре «Эспаньоль».
1931, январь– март– Гарсиа Лорка публикует в журналах стихи из книги «Поэт в Нью-Йорке», написанной в Америке, и выступает с их чтением.
14 апреля– Падение монархии в Испании.
23 мая– Выходит книга Гарсиа Лорки «Стихи о канте хондо», созданная в основном в 1921—1923 годах.
Лето– Гарсиа.Лорка работает над пьесой «Когда пройдет пять лет».
Ноябрь– Съезд Федерации испанских студентов принимает решение: создать передвижной университетский театр – «Ла Баррака». Гарсиа Лорка возглавляет этот театр.
1932, июль– «Ла Баррака» начинает давать спектакли, разъезжая по стране.
1933, 8 марта– Премьера пьесы Гарсиа Лорки «Кровавая свадьба» в мадридском театре «Беатрис».
5 апреля– Премьера пьесы Гарсиа Лорки «Любовь дона Перлимплина», поставленной самим автором в Клубе друзей театральной культуры.
Сентябрь– Гарсиа Лорка едет в Южную Америку.
13 октября – 1934, 27 марта– Пребывание Гарсиа Лорки в Аргентине, где он присутствует на представлениях «Кровавой свадьбы» и «Марианы Пинеды», участвует в постановке «Чудесной башмачницы», руководит постановкой комедии Лопе де Вега «Дурочка», выступает с лекциями и стихами. Поездка в Уругвай.
1934, 11 августа– Смертельное ранение Игнасио Санчеса Мехиаса во время боя быков в Мансанаресе.
Гарсиа Лорка начинает писать поэму «Плач по Игнасио Санчесу Мехиасу».
Октябрь —Всеобщая забастовка в Испании. Народное восстание в Астурии.
29 декабря– Первое представление пьесы Гарсиа Лорки «Иерма», поставленной труппой Маргариты Ксиргу в театре «Эспаньоль».
1935, 11 мая– Кукольный театр «Ла Тарумба» показывает фарс Гарсиа Лорки «Балаганчик дона Кристобаля».
Июнь– выходит из печати «Плач по Игнасио Санчесу Мехиасу».
13 декабря– Труппа Маргариты Ксиргу показывает в Барселоне пьесу Гарсиа Лорки «Донья Росита, девица, или Язык цветов».
Декабрь– В «Литературном альманахе» публикуются стихотворения из готовящейся к печати книги стихов Гарсиа Лорки «Диван Тамарит».
1936, 16 февраля– Победа Народного фронта на выборах в Испании.
Апрель– май– Выходит в свет сборник ранних стихов Гарсиа Лорки «Первые песни».
Июнь– Гарсиа Лорка заканчивает пьесу «Дом Бернарды Альбы».
16 июля– Гарсиа Лорка выезжает из Мадрида в Гранаду.
18 июля– Начало фашистского мятежа.
18 августа– Гарсиа Лорка арестован фашистами и расстрелян на рассвете 19 августа неподалеку от Гранады.
Краткая библиография
Сочинения Гарсиа Лорки
Избранное (предисловие Ф. В. Кельина). М., ОГИЗ – Гослитиздат, 1944.
Театр (вступительная статья Ф. В. Кельина). М., изд-во «Искусство», 1957.
Избранная лирика (предисловие Э. Симорры). М., Гослитиздат, 1960.
О себе, о жизни, об искусстве (отрывки из бесед и интервью. Предисловие 3. И. Плавскина). Журнал «Иностранная литература», 1961, № 8.
Obras completas, v. 1—8. Buenos-Aires, 1948—1949.
Obras completas. Madrid, 4-a, ed., 1960.
Литература о Гарсиа Лорке
Б. А. Кржeвский, Федерико Гарсиа Лорка; в его книге: «Статьи о зарубежной литературе». М.—Л., Гослитиздат, 1960.
Guardia, A. de la, Garcнa Lorca. Persona y creacion. Buenos-Aires, 1944.
Laсasa, L., Recuerdo y trayectoria de Federico Garcнa Lorca. M., «Literatura sovietica», 1946, № 9.
Machado Вonet, O., Federico Garcia Lorca, su produccion dramбtica. Montevideo, 1951.
Diaz P1aja, G., Federico Garcia Lorca. Su obra e influencia en la poesia espanola. Buenos-Aires, 1954.
Babin, M. T., Garcнa Lorca. Vida y obras. N. Y., 1955.
Flys, Jaroslaw M., El lenguaje poetico de Federico Garcнa Lorca. Madrid. 1955.
Vazquez Ocana, F., Garcia Lorca. Vida, cantico y muerte. Mexico, 1957.
Correa, G., La poesia mitica de Federico Garcнa Lorca. Eugene (Oregon), 1957.
Вarea, A., Lorca, el poeta y su pueblo. Buenos-Aires, 1957.
Mora Guarnido, J., Federico Garcнa Lorca y su mundo. Buenos-Aires, 1958.
Cano, J. L., Garcia Lorca. Biografнa ilustrada. Barcelona, 1962.
Lorca, A collection of critical essays. Prentice – Holl, Inc., 1962.
Lima, R., The theatre of Garcнa Lorca. N. Y., 1963.
Couffon, C., A Grenade, sur le pas de Federico Garcнa Lorca. Paris, 1962.
Lorenz G., Federico Garcia Lorca. Karlsruhe, 1963.
Стихи Федерико Гарсиа Лорки, приведенные в этой книге, перевели:
М. Цветаева(стр. 118, 158—159, 177), В. Парнах(стр. 154– 155, 161, 170(1), 244), А. Гелескул(стр. 5, 170(2), 188, 224, 233– 234, 239, 240—241, 246—250, 278—280, 324, 408, 416—417), М. Зенкевич(стр. 370—371), Ф. Кельин(стр. 308—310, 358), М. Павлова(стр. 231), О. Савич(стр. 21, 76, 122, 202—203, 206, 210, 212—213, 264, 306, 349, 387—389), М. Самаев(стр. 178), И. Тынянова(стр. 115—116, 135, 179, 225, 232, 296(1), 301—302, 303, 339).
Народные песни и романсы, а также стихи А. Мачадо, Р. Альберти, Н. Гильена, М. Эрнандеса, П. Неруды цитируются в переводах А. Гелескула, П. Грушко, Э. Линецкой, Л. Мартынова, О. Савича, М. Самаева, И. Тыняновой.
Часть стихов переведена автором книги.
Примечания
1
Фулано – имярек по-испански.
(обратно)2
Книги Гарсиа Лорки датируются их выходом в свет, пьесы – первым представлением.
(обратно)

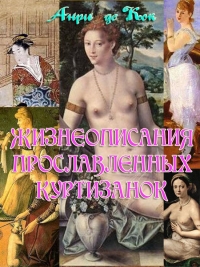
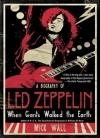
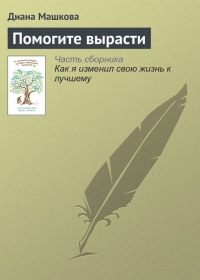

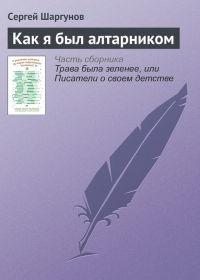
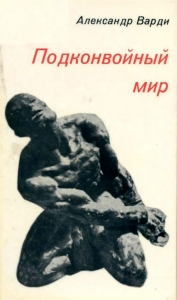
![Любимец Гитлера [Русская кампания глазами генерала СС]](https://www.4italka.su/images/articles/576019/primary-medium.jpg)
Комментарии к книге «Гарсиа Лорка», Лев Самойлович Осповат
Всего 0 комментариев