Галицкий Сергей Геннадьевич Из смерти в жизнь. От Кабула до Цхинвала
Предисловие
Эта книга — особенная. В ней поднимаются вопросы, которые редко кто обсуждает публично. На то есть, конечно, веская причина. Уж очень эти вопросы неудобные, а часто — просто страшные. Их кратко можно свести к одной фразе: как сделать правильный выбор в ситуации, когда выбора практически нет?..
Выйти на эту главную тему получилось почти случайно. Во время работы над предыдущей своей книгой «Из смерти в жизнь…» я очень долго беседовал с солдатами и офицерами о том, как они с Божьей помощью выжили в безнадёжной ситуации в бою. Захватывающие военные истории, благополучные финалы, спасение от верной смерти…
И вдруг в какой-то момент эти суровые люди начинали с болью говорить о том, о чём в принципе говорить не принято. Так обозначился круг неразрешимых вопросов, которые люди сами себе задают на войне. Вот только некоторые из них:
Как справиться с постоянным ожиданием смерти, которое неотступно преследует даже на отдыхе?
Как преодолеть липкий удушающий страх, который в бою тебя порой абсолютно парализует и не даёт даже просто пошевелиться?
Как преодолеть психологический барьер и в первый раз убить человека в контактном бою лицом к лицу?
Как удержаться от подкрадывающегося ощущения вседозволенности, от пьянящего чувства, что в твоих руках находятся жизни других людей?
Как самому не стать зверем, видя зверства врага и гибель своих товарищей?!.
Постепенно стало понятно, что почти все офицеры не раз оказывались в абсолютно неразрешимых ситуациях, когда им надо было делать выбор в условиях, когда хороших решений нет в принципе — решения есть только плохие и очень плохие…
Сколько раз и в Афганистане, и в Чечне повторялась одна и та же ситуация: разведгруппа захватила пленного, получила необходимую информацию. А что с пленным делать дальше? В Великую Отечественную войну этот вопрос был решён однозначно: для разведчиков нет пленных, а есть только языки, которые живут ровно столько, сколько говорят. Сегодня официальное решение ликвидировать пленного после допроса офицер не может принять даже в условиях жёсткой необходимости — юридические последствия для него неотвратимы. Поэтому есть такой вариант: пленного отпустить и… почти гарантировано обнаружение местоположение группы со всеми вытекающими последствиями. Теоретически можно ещё таскать пленного за собой и тем самым сковать действия нашей группы потенциально опасным человеком, которого надо охранять, чтобы он не сбежал. Что делать, как поступить?..
Многие разведчики мне рассказывали о ситуациях, когда в Афганистане или Чечне на группу внезапно выходил ребёнок. (Здесь надо учитывать, что ребёнок при этом почти всегда является разведчиком противника. Группа уже им обнаружена или вот-вот будет обнаружена, время для принятия решения — секунды…)
И есть ещё одна проблема, которая не то чтобы сознательно замалчивается, но говорить о ней не любит никто. Известно, что во времена не только Первой, но и Второй чеченской кампании иногда от командования поступали явно безумные приказы. Тот, кто реально воевал на Северном Кавказе, такие приказы получал, к сожалению, регулярно. Что делать командиру? Выполнить приказ и выполнить боевую задачу означает, что из-за нелепого распоряжения погибнут твои боевые товарищи. Не выполнить приказ — сорвать выполнение боевой задачи и получить принародное обвинение в трусости. Расстрелять, как в начале Великой Отечественной, конечно, не расстреляют. Но неизбежный позор и клеймо труса гарантированы. Как быть?..
В книге о таких ситуациях и ответах на сложнейшие вопросы, которые ставит перед совестью человека война, рассказывают офицеры, которым приходилось самим принимать очень трудные и часто совершенно неочевидные решения. Это Герои России Андрей Шевелёв, Алексей Махотин, Юрий Ставицкий, кавалер трёх орденов Мужества и ордена Красной Звезды Игорь Срибный и многие другие.
Всем нам, и особенно молодым людям, очень важно услышать рассказы этих офицеров о своих военных судьбах. И обязательно усвоить их уроки, которые в буквальном смысле написаны кровью.
Война в Афганистане
Войну в Афганистане советская страна вроде бы не проиграла, но и не выиграла. Одно бесспорно — наши солдаты и офицеры вошли в Афганистан, доблестно сражались и вышли, выполняя приказ. И поэтому многие из них считают, что в своей войне в Афганистане они победили.
Комбат Еремеев
Рассказывает полковник Владислав Васильевич Еремеев:
— Вспоминая войну в Афганистане, я понимаю, что офицеры, которые были наиболее преданы государству, рассматривали эти события не только с точки зрения интернационального долга, но и в плане получения боевого опыта. Многие офицеры сами стремились попасть на войну, и я был одним из таких добровольцев. После окончания Академии с отличием мне предлагали большие и высокие должности в Москве. А я от всего этого отказался и сказал: «Хочу быть командиром». Меня и назначили командиром отряда в одну из бригад армейского спецназа.
В Афганистане я командовал 6-м омсб СН (отдельный мотострелковый батальон специального назначения. — Ред.), он же 370-й отдельный отряд спецназа, дислоцированный в городе Лашкаргахе. Ввёл его в Афганистан в 1985 году Иван Михайлович Крот. Я как раз тогда заканчивал Академию. Незадолго до этого приезжает он из Чучково (место дислокации одной из бригад армейского спецназа. — Ред.) и говорит: «Я ввожу отряд в Афганистан, в Лашкаргах. Изучай, Влад, переброску частей и соединений на большие расстояния». Я его послушал, и огромный конспект для себя написал на эту тему. И точно — в мае 1987 года был назначен командиром именно в этот отряд, и эти материалы мне пригодились при выводе этого отряда из Афганистана в Союз.
Сразу после прибытия в бригаду я попросил комбрига — полковника Александра Завьялова — направить меня в Афганистан. Сначала вопрос никак не решался — дескать, ты нам и здесь нужен. Но потом приходит телеграмма, и начинаются собеседования: сначала — с начальником разведки, потом — с начальником штаба округа, с командующим округом. Всех их я внимательно слушал, а они мне все говорили одно и то же: «Смотри там! Если что, мы тебя снимем!» Я сижу, головой киваю, уши прижимаю: «Да, да, да, обязательно, конечно». И нас троих — однокашников по Академии из разных округов — направили на собеседование уже в Генеральный штаб. Там нам дали подготовку уже конкретно по Афганистану.
Когда я в Афганистан собрался, уже был женат, и в семье были маленькие сын и дочь — пяти и восьми лет. Жена на новость о моей отправке отреагировала очень плохо. Переживала, плакала, уговаривала не ехать. Говорила: «Не надо этого делать. Дурак ты, почему о нас не думаешь? Ты прославиться хочешь, своих личных целей добиться, хочешь удовлетворить свои командирские амбиции». По большому счёту, так оно и было. А все полтора года я так и провоевал без отпуска.
Если говорить прямо, то в Афганистане в основном воевал именно армейский спецназ, который и был главной «рабочей лошадкой». Все остальные обозначали мощь нашей армии — охраняли дороги, сопровождали грузы и иногда проводили крупные операции. Готовится колонна к отправке — это уже событие! Танки, пушки, самолёты, каски, бронежилеты!.. Масштабные операции проводились относительно редко, и, безусловно, впереди всех шли группы армейского спецназа.
Главной задачей самого спецназа в Афганистане была борьба с караванами с оружием, боеприпасами, наркотиками, а также уничтожение бандгрупп, проникающих с территории Пакистана. Задача эта была очень трудная — ведь как таковой оборудованной границы у Афганистана с Пакистаном не было.
Территориально зона ответственности у моего отряда была огромная: правый фланг — в междуречье озёр Хамун, провинция Фарах, а левый фланг — город Кандагар. В эту зону входили провинции Гильменд, Нимруз и часть провинции Кандагар, песчаная пустыня Регистан, каменистая пустыня Дашти-Марго и горы.
Когда я только принял отряд, в роте капитана Сергея Бреславского подорвались две бээмпэ (БМП, боевая машина пехоты. — Ред.). Я принял решение об эвакуации группы и приказал Саше Семинашу идти через второй канал у Марджи. А он мне доказывает, что надо идти через Систанай, что, на мой взгляд, не менее опасно! По молодости я ведь упёртый был, настоял-таки на своём. Так группа в засаду попала!.. Я им сразу на помощь помчался. Хотя расстояние было километров сорок, на помощь им мы примчались быстро. На подходе к месту боя нас обстреляли, мой бэтээр (БТР, бронетранспортёр. — Ред.) подорвался на мине.
Тут стало понятно, что без поддержки авиации нам не обойтись. Вызвали вертушки, огонь артиллерии. Вертушки на предельно малой высоте отстреляли «асошки» (АСО, тепловые ловушки для защиты от ракет с тепловой головкой наведения. — Ред.) и зажгли камыши, чтобы выдавить «духов» на открытое пространство. Не всем бандитам удалось уйти. В бою уничтожили безоткатное орудие, из которого «духи» стреляли по нашей броне. На этот раз всё закончилось благополучно, не считая нескольких легкораненных и контуженных бойцов и офицеров.
Самое неприятное для меня как для командира было то, что прошла-то всего неделя, как я принял отряд. Получилось «шашкомахательство» какое-то… В то же время пустить их по другому маршруту через Систанай было равносильно самоубийству. Вражеский кишлак Систанай прижимает дорогу к такому же кишлаку Марджи. И если бы наши втянулись между кишлаками, их бы там всех грохнули.
В пустыне стояла страшная жара. Броня и стволы горячим металлом обжигали руки. Как только после боя подошли к другому каналу с водой, бойцы словно рассудок потеряли, бросились в канал — и давай пить!.. Я кричу командирам: «Хоть охранение выставьте!» Какое там!.. Стреляю в воздух, снова кричу — ноль внимания! В такую страшную жару люди нередко полностью теряют контроль над собой и ничего не боятся, ничто не может их остановить — такое неудержимое желание напиться воды. Так я и охранял их, пока все не напились, не стали хоть чуточку соображать и не вспомнили, наконец, что жизнь их в опасности.
Через зону ответственности отряда проходили двадцать восемь караванных маршрутов, по которым шли поставки оружия, боеприпасов, перевозились наркотики. На моём участке караваны прорывались в центральные районы Афганистана со стороны Пакистана через перевал Шебиян по пустыням Регистан и Дашти-Марго. Бандгруппы передвигались в составе караванов с оружием, боеприпасами и наркотиками в основном ночью. Нередко бандгруппы вклинивались в состав мирных караванов с товаром.
Кроме борьбы с боевыми караванами и бандгруппами мы проводили и другие операции. Если становилось известно, что в том или ином кишлаке выявлен центр сопротивления местной власти, т. н. Исламский комитет, или, проще говоря, «духи», то мы производили налёт, ликвидировали такой центр и восстанавливали правительственную власть. Часто захватывали склады с оружием, печати, документы исламистских организаций ИПА, ДИРА, НИФА, знамёна, партийные кассы и всё такое прочее.
Если говорить о караванах, то они были или вьючные, или автомобильные. Вьючный караван обычно состоял из десяти-двадцати верблюдов. В типичном боевом караване третью часть груза составляли промышленные, продовольственные товары, ещё примерно треть — оружие и боеприпасы, а остальное — наркотики. Конечно, «духи» всеми способами маскировали оружие и боеприпасы под мирные грузы.
Обычно впереди боевого каравана пускали мирный караван из шести-восьми верблюдов. А через два-три часа уже шёл основной, боевой караван. Охраняла караван, как правило, банда из пятнадцати-двадцати человек. Кроме них были погонщики верблюдов, с каждым из которых были ещё два-три человека.
Непосредственно перед караваном шла группа из пяти-шести человек — головной дозор. В ядре каравана, где находился груз, обычно было человек пятнадцать-шестнадцать. Все вооружены автоматами и гранатомётами. Это были достаточно подготовленные «духи», но нельзя сказать, чтобы слишком хорошо. Однако на расстояние сто-двести метров стреляли они довольно точно. Плюс к этому они были знакомы с тактикой действия мелких подразделений. Если надо было сосредоточить огонь всей бандгруппы на одном нашем солдате, стрелявшем по ним, то с этим они вполне справлялись.
Тренировали их на территории Пакистана в учебных лагерях, в так называемых школах талибов. Оружие у душманов было в основном китайского, арабского и румынского производства. Иногда мы захватывали «стрелы» (переносной зенитно-ракетный комплекс «Стрела», эффективное средство борьбы с самолётами и вертолётами. — Ред.) польского производства, полученные из арабских стран.
Сам отряд спецназа у нас был большой — более пятисот человек по штату и двести человек на восполнение текущего некомплекта. Ведь люди болели, погибали… Мы стояли практически на самом юге, и добраться до нас было очень сложно. Каждые две недели я гонял колонну (порядка сорока машин) в Туругунди, на границу с Союзом, запастись провизией. Это примерно тысяча сто километров. Ведь холодильников у нас не было, кондиционеров — тоже. Поэтому всё время нас кормили одной тушёнкой. Тушёнка, тушёнка, тушёнка!.. Сколько я ни пытался добиться чего-то ещё, удавалось улучшить питание всего на неделю-две. А потом всё возвращалось на круги своя. Это же не Кабул, а самая окраина Афганистана. Тыловикам так было проще — никто не знает, никто не видит. А вообще полёт из Кабула до Лашкаргаха — это меньше часа — у штабных арбатско-кабульских деятелей считался чуть ли ни боевым выходом: они сразу требовали награды. Для них это было целое событие — якобы боевой вылет! Для создания боевой обстановки (чтобы комиссия побыстрее покинула расположение отряда) я иногда устраивал ночью боевые тревоги по отражению нападения со стрельбой, шумом, артиллерийской иллюминацией. Эффект был неотразимый — комиссия улетала в Кабул первым же бортом.
Гарнизону были приданы 305-я отдельная вертолётная эскадрилья, десантно-штурмовой батальон 70-й дшбр (десантно-штурмовая бригада. — Ред.). Они охраняли городок вместе с артиллерийской батареей «гиацинтов» («Гиацинт» — крупнокалиберная самоходная пушка. — Ред.), которая прикрывала городок. Были ещё взвод установок залпового огня «Град», батарея десантных 120-миллиметровых пушек Д-30, миномётная батарея и танковый взвод, который мы пару раз использовали для налётов.
«Духи» иногда обстреливали гарнизон из эрэсов (РС, реактивный снаряд. — Ред.). Из миномётов не достреливали, хотя и пытались.
Однажды случилась страшная трагедия. Сидят ребята из отряда спецрадиосвязи в курилке, и вдруг прямо в центр курилки прилетает эрэс. В итого трое убиты, восемь ранены… На такие обстрелы мы очень активно реагировали — поднимались все сразу (артиллерия, авиация, дежурная группа), находили, откуда стреляли, и уничтожали по максимуму. Так что местное население из ближайших кишлаков изо всех сил старалось держаться от злых «духов» подальше — себе дороже обходилось. Местное население по отношению к нам вообще-то вело себя довольно дружелюбно. Торговцы нас приветствовали и очень ждали, когда мы у них что-нибудь на рынке купим. За покупку давали «бакшиш» (подарок). Местные жители приходили к нам лечиться. К 1988 году «духовские» обстрелы прекратились.
Мы вели разведывательно-боевые действия в основном на автомобильной технике, на броне или пешком при поддержке авиации и артиллерии. На вертушках контролировали караванные маршруты в пустыне, выводили группы в засады. Часто использовали захваченную технику — машины «тойота» и мотоциклы. (В каждой роте было по три-пять таких «тойот», «нисанов», «доджей».)
Были у меня в отряде два замечательных старших лейтенанта Сергей Зверев и Сергей Дымов, командиры групп. Эти уникальные спецназовцы нередко захватывали по несколько машин с оружием, а в апреле 1987 года умудрились с боем захватить караван из двенадцати таких машин!
Утро начиналось в четыре часа. Я инструктировал и отправлял на караванные маршруты досмотровую группу на двух вертолётах по двенадцать человек в каждом. С ними поднимались две «вертушки» прикрытия — МИ-24. В пять утра уже улетали на воздушную разведку местности. Мы взлетали так рано потому, что уже к девяти утра температура воздуха поднималась настолько, что вертушкам сложно было летать. Караваны шли примерно в это же время. С десяти-одиннадцати часов они вставали на днёвку (дневная остановка на отдых во время марша. — Ред.), потому что днём в такую жару никому невозможно передвигаться по пустыне — ни людям, ни даже верблюдам.
Летаем мы над своей зоной и смотрим по сторонам. Видим — караван. Разворачиваемся. Караван тоже останавливается. Все поднимают руки и машут руками — мы, мол, мирные, летите дальше! Решаем — будем всё-таки досматривать. Снижаются МИ-8 с досмотровой группой. МИ-24 кружат в боевом охранении. Подсели, выпрыгиваем. И очень часто бывало так: мы начинаем приближаться к каравану, а тот, кто только что нам махал руками, достаёт ствол — и давай нас мочить! И тогда начинается бой.
Однажды в такой ситуации я пережил очень неприятные минуты. Из вертолёта тогда выпрыгнул первым, хотя положено первым идти заму, чтобы оценить обстановку. Вторым обычно идёт прикрывающий пулемётчик, затем — радист и основная группа. Но я двинулся первым. Думал, что караван мирный, и досмотреть его мы решили просто так, для профилактики.
Только выскочили, побежали — «дух» достаёт автомат и начинает стрелять. А сразу за ним ещё несколько человек огонь по нам открыли. Расстояние было всего метров семьдесят, а мы ещё и по песку бежим — трудно, падаем постоянно. Ну, думаю, конец наступил! Но пулемётчик нас выручил — прямо от пояса из ПКМ (пулемёт Калашникова модернизированный. — Ред.) очередь дал, и первого, самого шустрого, «духа» сразу уложил. Остальные кто побежал, кто давай руки поднимать. Но у нас так: если в группу начали стрелять, тут уже нет прощенья никому. Досмотрели. Всё у них было — оружие, боеприпасы, наркотики. Загрузили результат в вертолёт и улетели.
Кроме поиска с вертолётов мы проводили и засады. Ведь через нашу зону по пустыне Регистан проходила знаменитая Сарбанадирская тропа, ведущая в зелёную зону Гильменда. Тропа идёт через голую пустыню. Кругом сыпучие пески, настоящий лунный пейзаж. Жара страшная… Поэтому мы заранее пролетали вдоль тропы на вертушке и смотрели, где лучше посадить группу, чтобы колодец был или хотя бы какая-то растительность. Группу высаживаем, командир организует наблюдение по кругу на вероятных направлениях движения караванов. Часто бывало: сидим до пяти суток — никого нет. Ведь разведка у душманов тоже работает. Поэтому я обычно одновременно высаживал по три-пять групп, чтобы перекрыть сразу несколько маршрутов в полосе тридцать-сорок километров.
Конечно, просочиться через эту полосу было можно. Но нам везло, и на нашу долю приходилось самое большое количество перехваченных караванов. Думаю, дело было в том, что на этом направлении условия передвижения для «душков» были очень трудные, и так или иначе они всё-таки попадались в наши сети. Но при этом часто оказывали ожесточённое сопротивление.
Начальником штаба у меня был Саша Телейчук, очень грамотный офицер. И вот как-то приходит он и говорит, что пришли данные, что небольшой караван из двух машин в семнадцать часов будет следовать в направлении Марджи. Я ему: «Ну, давай, на вертушки — и вперёд!» Он сажает группу на вертолёты и полетел. Думали, что там всего две машины, мы их быстро захватим — и делу конец. А в караване кроме двух машин оказались ещё и мотоциклы, и тракторы. Наши хотели их, как зайцев, взять, а «духи» неожиданно оказали серьёзное сопротивление. После этого начали их бить вертушками — «духи» снова на мотоциклы прыгнули и начали уходить.
Воевали, воевали мы с ними, и в конце концов загнали их в камыши у канала. Они разбегаться не стали, а собрались вместе и опять оказали ожесточённое сопротивление. В камышах их же не видно: они из укрытия бьют, а наши на открытом песке лежат. Плюс ко всему рядом договорная зона (территория, обязанности по контролю за которой после «зачистки» от душманов передавались в руки местных старейшин. — Ред.) — кишлак, откуда они подкрепление подтянули. Огнём пулемётов их ещё и кишлак поддержал. Бой шёл порядка двух часов. Мы на базе все очень нервничали, чего только ни предпринимали. В конце концов вертушки уничтожили пулемёт. Сожгли и камыши и уничтожили уходящих в кишлак «духов».
В том бою, слава Богу, никого из наших не убили, но подранили одного сержанта и тяжело ранили майора Анатолия Воронина. Ему перебило ноги, да ещё и в живот попало. Майор родом из Ленинграда, сын начальника кафедры Академии тыла и транспорта.
Толю Воронина мы быстро отправили в Кандагар, оттуда — в Кабул, из Кабула — в Ташкент. К тому времени я на практике убедился, что тяжелораненного надо обязательно дотащить до Кандагара.
Хотя с кандагарским госпиталем тоже была особая проблема — им статистика хорошая нужна была. Командиру отряда важно доставить раненого до госпиталя живым, а госпиталю важно, в свою очередь, чтобы раненый не скончался после приёма. Иногда приходилось здорово ругаться с приёмным отделением и с начальником госпиталя.
К большому сожалению, за время моего командования отрядом у нас всё-таки погибло шесть человек. Среди них было четыре солдата и два офицера — Костя Колпащиков и Ян Альбицкий. Потери наши были меньше, чем у других. Особенно, если учитывать характер выполняемых задач. Я думаю, так получалось за счёт того, что мы в основном воевали на ровном месте, в пустыне. (В горах, конечно, сложнее было, там у противника больше возможностей для неожиданного манёвра.) Да ещё людей берегли. Я помню всех своих ребят, и свой командирский крест несу по жизни.
Младший лейтенант Костя Колпащиков — старший переводчик отряда — в январе 1988 года должен был поехать в отпуск. Я ему: «Поезжай», а он мне: «Холодно в Союзе, вот на последнюю операцию под Мусакалу схожу, тогда и полечу». Тут ещё начальник штаба отряда попросил: «Это мой первый помощник. Пусть сходит». В ходе этой операции надо было сломить сопротивление «духов» в базовом районе Мусакалы, Сангина, Каджаков. Мулла Насим со своей бандой не давал возможности местным властям организовать эксплуатацию электростанции в Каджаках. Нужно было провести зачистку этого района и ослабить местных вождей, которые и организовывали сопротивление властям. С этой целью проводилась крупная войсковая операция.
Одной из групп спецназа в этой операции командовал лейтенант Ильдар Ахмедшин. По дороге группе пришлось продефилировать неподалёку от кишлака Шабан. Здесь они и попали в засаду — огнём бандгруппы из кишлака сразу сожгли наших два бэтээра. В этом бою у нас погибли четыре человека. Костя Колпащиков в бою немного обгорел. Мог остаться в строю, но врач настоял на эвакуации. Обычно раненых и убитых эвакуируют на разных вертолётах, а в этот раз эти правила нарушили. К несчастью, вертолёт с ранеными и убитыми на борту разбился ночью при взлёте… Погибшие умерли дважды… Погиб Костя Колпащиков, Валера Польских, командир кандагарского вертолётного полка, правый лётчик и ещё несколько человек. Выжил «бортач» (бортинженер. — Ред.) и водитель бэтээра Леня Булыга.
Ильдар Ахмедшин в том бою получил жесточайшую контузию. Ночью, когда убитых и раненых привезли в отряд, в ходе опознания смотрю — среди трупов лежит Ахмедшин — не Ахмедшин, живой — не живой. Непонятно… Спрашиваю: «Это Ильдар?». Отвечают: «Да, он живой, но очень тяжело контуженный». Ильдар в госпитале лечился полгода и нагнал отряд, по-моему, уже в Шинданте, перед выводом. Я ему говорю: «Да ты лежи в госпитале, лечись!» А он: «Нет, я выйду вместе с отрядом».
Потом он командовал этим отрядом уже в Чучково, воевал в Чечне в Первую и Вторую кампании. А погиб случайно — возвращался с железнодорожной станции, и его машина сбила. И вот что странно — после вывода из Афганистана немало офицеров погибло в таких же бытовых ситуациях при нелепых обстоятельствах. У меня объяснения этому нет — ведь в Афганистане во время реальных боевых действий только двое офицеров погибли, все остальные живы остались…
В бою под Сангином ранили рядового Андрианова. При отправке в Кандагар он спрашивает: «Владислав Васильевич, что у меня с ногой?» Я посмотрел — нога белая, ничего такого особенного нет. Да и ранение вроде не очень серьёзное — продольно по ноге пуля прошла. Я ему: «Ты не переживай, сейчас мы тебя до Кандагара дотянем. Всё будет нормально». Проходит время — мне говорят, что ему ногу оттяпали. Я прилетаю в госпиталь, начинаю разбираться. Оказывается, он дольше положенного времени пролежал в приёмном отделении, его вовремя не осмотрели. А там же жара… Началась гангрена. На мой взгляд, ногу можно было сохранить. Так обидно и стыдно мне стало — ведь я ему обещал, что всё нормально будет…
Года за три до меня в десантно-штурмовом отряде, который нас обеспечивал, случилось ЧП — бежал солдат по фамилии Балабанов. Почему — история умалчивает. А дело было так: ехал, ехал, ехал, потом вдруг остановил машину и побежал в сторону гор. Так и остался жить у афганцев, принял ислам. Позже передавали ему письма от матери, но он сначала не отвечал, а потом стал вообще скрываться. Перед выводом войск мы всё же попытались его забрать, но он отказался и остался у местных. Мы думали, что он у них оружейным мастером работает. Но потом выяснилось, что это не совсем так — он работал простым механиком. А вообще-то мы людей своих не бросали. Сейчас говорят, что столько-то было брошено, что своих расстреливали и т. д. и т. п. Чушь это собачья. Все, кто остался в плену в Афганистане, по тем или иным причинам сами отказались возвращаться в Союз.
Ведь даже если после боя тело погибшего солдата оставалось у противника, мы стремились, часто ценой ещё больших потерь, вытащить его или выкупить. Слава Богу, у меня никто не попал в плен. Воевали мы достаточно умело и не давали «духам» никакой возможности кого-то захватить. А добровольцев испытать афганский плен, к счастью, не находилось.
Но бой — это страшное дело. О нём легко только рассказывать. А там — быстрей, быстрей, быстрей!.. Уже улетаем. Подсчитали — нет бойца! Начинаем искать — кто в тройке старший, где в последний раз видели бойца? Давай назад! А он сидит, бедный, на точке эвакуации: «А я не успел добежать!» Чаще всего такие случаи происходили из-за нерасторопности бойцов или командиров. Ведь связь с каждым бойцом была односторонняя — только на приём. На передачу станции связь была только у старших троек. Это только к 2004 году сделали так, что двухсторонняя связь появилась у каждого солдата. А у нас, у рабочих войны, такой двухсторонней связи, к сожалению, не было.
Я считаю, что нашему солдату цены нет. Воевали они все достойно, спина к спине, никогда не давали врагам зайти с тыла. Конечно, в то время большую роль играла идеология коллективизма и взаимопомощи. Нас ведь как учили — человек человеку друг, товарищ и брат. Сам погибай, товарища выручай. Плюс ко всему мужской коллектив. Каждый хочет себя проявить, дух соперничества присутствует. Говорят какому-нибудь бойцу: «Ты такой-сякой, плохо помылся, плохо побрился». А он в бою доказывает, что он лучше, чем о нём говорят.
А в бою мы все одной крови, причём красной, а не голубой. Конечно, потом, когда бой закончился, вступает в действие иерархия — начинаем разбираться, кто как воевал, кто воду принёс, кто выпил, кто не выпил, кто куда стрелял, кто попал, а кто не попал. Хотя, конечно, отношения между старшими и младшими у нас были жестковатые. Ведь менее опытные не знают, например, что всю воду в пустыне выпивать сразу нельзя. Поэтому старшие воспитывали их очень конкретно, так что понимание приходило быстро.
А с водой вообще была проблема. Во время выходов на боевой технике бывало, что и из радиаторов воду выпивали. Ведь обычно каждый с собой брал по две фляги с водой, каждая по полтора литра. А приходилось на этой воде неделю воевать, а то и больше… Допустим, высаживаем группу на вертушках на три дня. А тут то вертолёт завалили, то ещё что-то — и через три дня бойцов не получается снять. По связи запрашиваем: «Ребята, продержитесь ещё пару дней?» — «Продержимся». Проходит пять дней, они докладывают: «Командир, нам тяжело». А вертолёты всё не летают. Всё разбираются с подбитым вертолётом. Проходит семь, восемь, десять дней… Прилетаешь забирать ребят — у них уже начинается обезвоживание организма. А что такое обезвоживание? От людей остаётся только кожа да кости, да ещё при этом понос начинается. Забрасываем их в вертолёт, везём в отряд. Там они должны понемножку начинать пить. Да какое там понемножку — так воду хлещут, не остановить! Сажаем их в бассейн, чтобы они отмокали, а они прямо из этого бассейна пить принимаются! После этого желтуха их начинает долбить… Война есть война. Страшная и неприятная штука. Я не сгущаю краски. Так оно и было на самом деле.
Хочу несколько слов сказать про афганцев. С одними из них нам приходилось воевать, а с другими — сосуществовать. Афганцы — люди очень далёкие от европейской культуры. В общении они нормальные, но понимание, что такое хорошо и что такое плохо, у них другое. Я это понимание называю мусульманско-средневековым. Наши узбеки и таджики, которые в отряде служили, мне признавались: «Как хорошо, что мы оказались в Советском Союзе! Мы не хотим жить, как афганцы!».
Как-то случилась со мной характерная история. Был у меня один местный афганец, который сдавал мне информацию по караванам. Было ему лет сорок, хотя выглядел он на все шестьдесят. Однажды я в благодарность угостил его сгущёнкой: «Молодец, ты мне хороший караван подарил!». Через некоторое время он приходит на КПП (контрольно-пропускной пункт. — Ред.) с девочкой в парандже и говорит: «Дай мне ящик того, чем ты меня угощал, а я тебе свою четвёртую жену отдам. Ей тринадцать лет всего, очень хорошая!» Я вызывают зама по тылу, даю команду принести ему ящик сгущёнки, ящик тушёнки и говорю: «Забирай сгущёнку вместе с тушёнкой, с четвёртой женой сам живи, но только караваны мне дальше сдавай!».
Их мир совершенно другой, у них иное мировоззрение. Вот ещё пример — возвращается группа с задачи. Дорогу перед ними перебегал старик с мальчиком, и пацан попал под бэтээр — задавило его. Начинается шум-гам-тарарам. Толпа окружила — вот-вот разнесут наших. Я местные обычаи успел изучить. Прилетаю и сразу муллу зову и толмача. Говорю толмачу: «Нехорошо получилось, извинения приношу. Но давайте вспомним Коран и шариат: Аллах дал, Аллах взял». Соглашается, но говорит: «В Коране написано, что за жизнь нужно заплатить». Я отвечаю: «Хорошо, мы готовы заплатить. Сколько надо?» Толмач посоветовался с муллой и говорит: «Дай две бочки соляры, шесть мешков муки. Бочка соляры — мне, бочка — мулле. Мешок муки — мне, остальное — семье, чтобы она жила хорошо. Ты согласен?» — «Согласен». — «По рукам?» — «По рукам». Отправляю в отряд бэтээр. Привожу, что обещал. И всё!.. Вопрос исчерпан! Я и дальше им помогал — то муки, то гречки подброшу. И когда бы мы через этот кишлак ни проходили, никогда никаких проблем не было — никакой мести с их стороны.
Я не могу сказать, что афганцы — злые люди. Они просто другие. Внешне очень похожи на наших узбеков и таджиков. Мне помогло то, что я родился и вырос в Узбекистане. Я понимал азы поведения восточных народов, имел некоторые познания в шариате и исламе и мог чётко объяснить своим подчинённым, что можно, а что — нельзя. Отряд был многонациональным. В отряде у нас было очень много белорусов. Интересно, что в кандагарском отряде почему-то собралось много украинцев. Процентов тридцать у меня было узбеков, таджиков, казахов. Но в подразделениях обеспечения их было на все девяносто процентов!
Помню, после XVII партийной конференции приехали к нам политруки во главе с генерал-полковником Сергеем Кизюном. Все такие важные! А ребята наши только что из боя вышли — измождённые, оборванные, просолённые, пулемёт за ствол тащат. И тут началось: «Да ты что за командир!? Посмотри, как они у тебя ходят: рвань, в кроссовках, автоматы и пулемёты за стволы тащат! Да как ты позволяешь!». А выглядели бойцы так потому, что на боевые (боевой выход. — Ред.) мы старались ходить в КЗС (комплект защитный сетчатый. — Ред.) и в кроссовках. Это была очень удобная экипировка. Прикид весь в сеточку, в жару хорошо продувается, но предназначен только для одноразового использования при химическом и радиоактивном заражении местности. А кроссовки нам комсомольцы из ЦК ВЛКСМ подарили — 400 пар наших «адидасов». Весь отряд ходил на боевые в кроссовках. Очень удобная обувь. К сожалению, форма быстро превращалась в лохмотья в ходе боевых действий, а новое обмундирование поступало по установленным мирным нормам и не выдерживало экстремальной эксплуатации.
Я стою и понять не могу — что тут такого необычного? Ведь люди с войны вернулись. Меня это тогда здорово задело: «А вы что, хотите, чтобы после пятнадцати суток войны без воды они строевым шагом, с песней шли и подтянутыми были при этом? Не бывает такого». С боевых бойцы все возвращались в лохмотьях, изодранные. Живая, реальная жизнь сильно отличалась от киношной и телевизионной.
А оставаться людьми в таких нечеловеческих условиях помогало то, что нас в армии всегда учили преодолевать трудности. И я учил своих бойцов, что мы должны победить сами себя, что мы должны стать лучше и сильнее, чем природа и обстоятельства. Я им говорил, что они самые лучшие, что они могут выполнить самую трудную задачу, но обязательно должны остаться в живых. «Прежде чем залезть в какую-нибудь афёру, подумай, как ты из неё будешь вылезать. Если знаешь, как вылезать, — тогда давай! Если не знаешь, как выбраться, — не лезь туда, дорогой!». Мы ощущали причастность к великому делу, к великому государству, к той миссии, которую мы выполняли. Мы глубоко были убеждены, что несём прогресс и процветание в эту Богом забытую страну.
Мы ведь кадровые офицеры, и нас готовили к войне. Для офицера, для командира проявить свои навыки, умения в бою всегда считалось достойным уважения. Мы ощущали себя сыновьями фронтовиков Великой Отечественной. И то, что они в своё время сумели защитить страну и победить фашистов, для нас являлось образцом служения Отечеству. И именно это было основой настроя практически всех офицеров — девяносто девять и девять десятых процентов. И они вели за собой солдат.
Кроме того, мы ощущали себя причастными к огромному, мощнейшему государству! И искренне хотели помочь афганскому народу выйти из средневековья и создать своё государство, создать нормальные экономические и социальные условия для жизни. Мы же видели наглядно, как живут те же узбеки и таджики у нас, и как они живут в Афганистане! Это — небо и земля. Те, кто служил раньше в южных республиках Советского Союза, а потом попал в Афганистан, наглядно убеждались, что мы выполняем там благородную миссию. И если мы поможем афганцам хотя бы дотянуться до уровня наших среднеазиатских республик, то мы заслужили памятник при жизни.
Островки современной цивилизации были только в Кабуле. А основная территория Афганистана — дремучее средневековое царство. И большинство местного населения начало тянуться к изменениям — ведь они разговаривали с нашими узбеками и таджиками. Однако надо учесть и то, что это исламское государство, которое предполагает наличие авторитарных лидеров. И если там простые люди даже и не согласны с такими лидерами, они им подчиняются согласно вековым традициям. Хотя жили они и продолжают жить очень тяжело — ведь это горы и почти сплошная пустыня: белуджи в пустыне для соблюдения гигиены просто песком омываются.
Сам я на боевые летал раза два-три в неделю, а раз в два-три месяца выводил отряд на перехват караванов на десять-пятнадцать дней. Иногда наши группы переодевались в местную одежду, пристраивались к караванам, садились на трофейные машины и мотоциклы и собирали информацию в округе: где что есть, где что движется.
Однажды после выполнения боевой задачи возвращаемся в ППД (пункт постоянной дислокации. — Ред.). И вдруг в районе Дишу со стороны «зелёнки» (солдатское название зелёных зон вокруг кишлаков и городов. — Ред.) из кишлака нас плотно стали обстреливать из безоткаток (безоткатное орудие. — Ред.)! Я отряд в пустыню отвёл, пушки развернул (мы в этот раз выходили на броне, и даже с пушками Д-30). Артиллеристам нужно было обнаружить цель. Для этого мы с артиллерийским наводчиком на броне стали передвигаться на видном месте. И «духи» не выдержали, начали по нам стрелять! Артнаводчик засёк цели и передал координаты. В результате кишлаку, из которого по нам стреляли, здорово досталось. Вроде жестоко, но зачем они стреляли? Мы же их не трогали, шли себе мимо…
Я уже говорил, что основную часть караванов, что шли из Пакистана, наши группы брали на Сарбанадирской тропе. Но бывало и по-другому. Однажды мы очень жестоко бились с «духами» в горах, в районе перевала Шебиян. Лётчики были не в восторге от вылета на Шебиян — далеко, летать в горах сложно, жара, топлива не хватает. И мы вот что придумали — в районе каменистых озёр примерно на середине пути сделали площадку подскока. Там ровное-ровное место километров на десять-пятнадцать вокруг с поверхностью из твёрдой глины. Мы туда выгоняли броню, ставили охранение. Потом туда на броне подходил сам отряд, прилетали вертолёты. Они здесь дозаправлялись, загружали группу и летали вдоль гор вплоть до Рабати-Джали, докуда одним перелётом с группой на борту не долететь.
Однажды мы получили данные о караване и вылетели. С нами был комбриг — подполковник Юрий Александрович Сапалов — и ещё один ХАДовец (сотрудник афганских спецслужб. — Ред.). Летим, летим — вроде никого нет. Вдруг боковым зрением замечаю — стоит караван, разгружается. Не хотелось ввязываться в бой, имея командира бригады на борту. Я сделал вид, что не вижу каравана. Летим дальше. А начальник разведки, Лёша Панин, зараза такая, кричит и руками размахивает: «Караван, командир, караван! Ты что, не видишь, что ли?» Я ему: «Да вижу я, Лёша, вижу!» Крутанулись, подсаживаемся, и начинается долбёжка.
Лётчики, по-моему, плохо себя чувствовали. Я их попросил высадить нас поближе к горушкам, а они выбросили нас метрах в ста от этого места. Лезем мы на эти горушки, а «душки» по нам стреляют. Мы развернули АГС (автоматический станковый гранатомёт. — Ред.), обработали горушки. Вижу — «душок» бежит. Я кричу: «Лёша, смотри!». Он — дынь-дынь-дынь. Готов «дух»! А у них не окопы были вырыты, а кладки из камней сделаны — почти что крепость. Поднялись мы на одну горушку быстренько, на другую — и вышли к ущелью. Смотрим — такой караванище стоит! Палатки, эрэсы разгружены, костёр горит, оружие разбросано — и никого нет. Мы прикрытие наверху поставили, а сами вниз пошли посмотреть: что там такое. Трынь-трынь-трынь — спускаемся. Всё тихо. «Смотри, что мы здесь взяли!» Кругом — оружие, боеприпасы, «тойоты» стоят.
Лёха начал в первую очередь скручивать с машины магнитофон (в то время это был такой дефицит!). Я ему: «Давай стволы собирать!». А он: «Подожди, успеем, пока вертушки прилетят». И тут — такой залп сосредоточенным огнём из автоматов с горушки напротив по нам, метров с двухсот! Бросили мы все эти магнитофоны — и дунули в гору! Так быстро я даже сотку никогда не бегал! А Лёха ведь опытный офицер, старается изо всех сил отход наш прикрыть, настоящий герой! Я ему: «Ты в сторону от меня беги, труднее в нас будет попасть!». А он всё равно пытается меня прикрыть. Наше счастье — не попали: мы очень быстро бежали. Я петлял и ещё Лёху отталкивал, а он меня всё равно прикрывал. Короче — запутали мы «духов». Бежим, а язык на плече, в глазах красные круги — ведь стояла жуткая жара! До кладки добежали чуть живые, но целые.
Вызвали авиацию. Для моего отряда в Кандагаре всегда была дежурная пара «грачей» (штурмовики СУ-25. — Ред.). Их командира полка я хорошо знал, поэтому работали с ними мы с удовольствием. Но в этот раз прилетели МИГ-23. Пилот мне: «Восьмисотый, ты видишь меня?» — «Вижу». — «Обозначьте себя». Зажигаем дым. Себя обозначили. «Наблюдаешь?» — «Наблюдаю». Я ему даю азимут, дальность, цель — караван с оружием на перегрузке. А они где-то на семи тысячах метров барражируют. Я командиру: «Ты спустись хотя бы до трёх». Он: «Нет, запретили нам ниже семи работать». Им говорили, что на такой высоте якобы «стингеры» не достанут («Стингер», переносной зенитный ракетный комплекс производства США. — Ред.).
Начали они бомбить. А у нас с Лёхой такое впечатление, что они прямо на нас бомбы бросают. На самом деле они даже не по каравану, а куда-то за хребет отбомбились. Я им: «Ладно, ладно, хватит. Передайте командиру, что «Мираж» (это мой позывной был) в трудную ситуацию попал, пусть пару «грачей» пришлёт. Сами бьёмся с «духами», перестреливаемся, пытаемся их гранатомётом пошугать. А караван-то стоит. Минут через сорок приходят «грачи». «Восьмисотый, наблюдаем тебя. Азимут, дальность…». Пришли они тоже высоко — на семи тысячах. Но потом с боевого разворота с кабрированием (кабрирование — поворот летящего самолёта вокруг поперечной оси, при котором поднимается нос самолёта. — Ред.) как пошли вниз!.. Сначала один бросил две бомбы по двести пятьдесят килограммов, потом — другой… На месте каравана и рядом с ним — дым, огонь, взрывы! Метали они с высоты приблизительно тысяча метров, как вертушки наши примерно летают при десантировании. Поэтому они в караван точно попали. Разбомбили всё. После этого мы уже спокойно с группой спускаемся. Нормально идём, никто нас не обстреливает. Лёха всё-таки скрутил магнитофон с машины, которая пыталась удрать, поэтому в неё и не попали. Эрэсов куча валяется. Разбросано всё. Пока Лёха в сторону к машине пошёл, я с группой досмотра прямо иду. Вдруг боковым зрением вижу «духа», который выходит на костылях и показывает, что он сдаётся. И вдруг слышу — та-да-да! А это, оказалось, боец за камень падает и в падении этого «духа» бьёт. Досматриваем убитого. По документам: командир бандгруппы. Я стал бойца воспитывать: «Ты зачем стрелял, он же сдавался, его в плен надо было взять?». А он в ответ: «Командир, а если бы он успел первым в меня выстрелить?». Это всё в доли секунды произошло. В этом бою у нас обошлось без потерь, даже раненых не было. Это удивительно, потому что уничтожили мы крупный караван.
Я думаю, что духи просто одурели, когда нас увидели, — слишком далеко мы были от наших коммуникаций, километров двести пятьдесят или триста от Лашкаргаха. Они, скорее всего, понадеялись, что мы не будем в бой ввязываться и досматривать караван. А вот то, что по нам с Лёхой не попали сначала, — это просто повезло, могло закончиться всё очень плачевно. Но мы были настолько уверены, что «духи» бросят караван и убегут, что пошли так открыто. Оказалось, что мы начали спускаться только к небольшой части каравана. Там костёр догорал, оружие было разгружено. Но потом оказалось, что за поворотом ещё куча штабелей стояла…
Удовольствия, конечно, во всей этой истории мало. В горячке не чувствуешь, не замечаешь ничего. А потом, когда возвращаешься, начинаешь видеть, что у тебя сбитые колени, порваны локти, разбиты пальцы. И главное — идёт отдача в чисто психологическом плане.
Первыми из Афганистана вышли отряды армейского спецназа, которые дислоцировались в Джелалабаде и в Шахджое. А в августе 1988 года и я свой отряд вывел в Советский Союз в Чучково. Самым последним выходил 177-й отряд. По телевизору часто показывают генерала Бориса Громова, пересекающего мост 15 февраля 1989 года мост через реку Амударью, и ребят на бэтээре со знаменем. Так вот бэтээр этот был как раз 177-го отряда.
На выводе отряд шёл в составе бригады. Первый привал был в Шинданте. Там прошли таможню, изъяли всё лишнее, чтобы не попало в Союз. Там же состоялся митинг и парад выводимых частей. Весь путь от Лашкаргаха до Кушки со мной на броне ехали корреспонденты из наших и зарубежных газет, а также писатель Александр Проханов. Незадолго до вывода он прибыл в Лашкаргах, жил в отряде и знакомился с нашей боевой деятельностью. В Герате мой бэтээр с писателями на борту обстреляли из толпы. Радикалы хотели спровоцировать ответный огонь, но командир бригады подполковник Александр Тимофеевич Гордеев проявил завидную выдержку — и провокация сорвалась.
Отряд в составе бригады совершил 1200-километровый марш от Лашкаргаха до Иолотани. Первое, что я увидел на нашей стороне, переехав мост, — сарайчик с огромными буквами «БУФЕТ». В Иолотани мы несколько дней приводили себя в порядок в ожидании погрузки на эшелон до Чучково. В Иолотани генерал А. Колесников из Ставки популярно разъяснил нам, что афганская война в данное время не пользуется уважением в Союзе. К этому мы были не готовы… Находясь в Афганистане, мы не могли предполагать, что готовится развал Союза. Эшелон шёл до Чучково неделю. В пути от эшелона чуть было не отстал мой зам — Саша Белик, но это отдельная история.
А в Чучково в конце концов всё сложилось очень интересно. Пригоняем мы эшелон к месту постоянной дислокации отряда в Чучково. Я стою и обсуждаю с командирами порядок разгрузки. И вдруг видим — далеко от нас по рельсам женщина бежит. Командир бригады подполковник Анатолий Неделько, который рядом со мной стоял, говорит: «Слушай, так это твоя жена, наверное, бежит». Я отвечаю: «Не может быть, я её не приглашал, она и не знает, куда мы должны прибыть для разгрузки». Мне ведь некогда. Я эшелон разгружаю. Какая тут жена? Оказалась действительно жена. Никто не знал, когда мы сюда придём. Как она узнала время и место? До сих пор это остаётся тайной. А ведь приехала она из Эстонии в Рязанскую область 31 августа, а 1 сентября сын без мамы и папы пошёл в первый эстонский класс. Это было удивительное событие. Я до сих пор ей очень благодарен за это.
Пограничник
Главная задача вертолётчиков погранвойск СССР — огневая поддержка и обеспечение действий своих боевых групп на территории Афганистана. Бои для пограничников как начались в конце 1979 года, так и продолжались до конца девяностых. О практически никому не известных эпизодах той тайной войны, которую в течение почти двадцати лет вели на границе Таджикистана и Афганистана с душманами сначала советские, а потом уже и российские пограничники, рассказывает Герой России подполковник ФСБ Юрий Иванович Ставицкий:
— Общее количество боевых вылетов у меня более семисот. Но были у нас и такие лётчики, которые имели по тысяча двести вылетов. Втягивается человек в этот ритм и уже сам не хочет уезжать. А я, в общем-то, завидовал лётчикам армейской авиации: на год прилетели, отбомбились, отстрелялись — и домой!.. А мне пришлось провести на границе с Афганистаном с 1981 года по 1989 год. Психологически помогало то, что базировались мы всё-таки на территории Советского Союза.
Для меня лично Афганистан начался весной 1981 года. Прилетел на границу Афганистана и Таджикистана я на своём вертолёте из Владивостока 30 апреля 1981 года. Там расположен пограничный аэродром Мары. Летели мы с посадками целый месяц. По бортовому журналу только чистого лёта — пятьдесят часов. Во время перелёта лётчиком-штурманом у меня был Михаил Капустин. За время перегона мы с ним очень сдружились. И когда 6 августа 1986 года он погиб в районе Тулукана (его борт сбили из ручного гранатомёта), я дал себе слово: если у нас родится сын, то назовём его Михаилом. Так и произошло — сын родился через месяц в сентябре 1986 года. И назвали мы его Михаилом.
Раньше на аэродроме Мары были и самолёты, но потом их перебазировали в Душанбе. Остались только вертолёты МИ-8 и МИ-24. До сих пор помню позывной самого аэродрома — «Патрон».
То, что погранвойска участвуют в боевых действиях, было секретом до 1982 года: нам запрещалось раскрывать свою принадлежность к погранвойскам.
После выполнения задачи на той стороне мы практически всегда возвращались на свой аэродром. Но, когда возили высокое командование и если они оставались в Афганистане работать, то мы тоже оставались с ними на сутки-двое. Когда случались отказы техники, тоже приходилось оставаться (в этих случаях мы пытались приткнуться поближе к своим).
Весь 1981 год мы занимались и транспортной, и боевой работой. А свой первый бой я запомнил очень хорошо. Меня тогда взяли только для того, чтобы «провести» (так говорят вертолётчики). Ведь я летел на так называемом МИ-8 «буфете», у которого нет подвески ни для пулемётов, ни для «нурсов» (НУРС. Неуправляемые ракетные снаряды. — Ред.), а есть только топливные баки. Поэтому поставили ведомым, где я должен был просто лететь за ведущим. Летели мы на высоте метров четыреста-пятьсот. И тут по нам начали работать с земли! Ведущий борт стрелял, уходил… Я, стараясь не отрываться от него, тоже совершал развороты, пикировал, делал вид, что захожу на цель. Но стрелять-то мне было нечем… Слава Богу, в этот раз всё обошлось.
В начале 80-х годов про ПЗРК (переносной зенитно-ракетный комплекс. — Ред.) мы ещё и знать ничего не знали. Но из стрелкового оружия по нам с земли работали практически всегда. Иногда это было видно, а иногда нет. Особенно хорошо заметен работающий ДШК (крупнокалиберный пулемёт Дегтярёва — Шпагина. — Ред.): появляются вспышки, похожие на дугу электросварки. А если летишь низко, то даже очереди слышишь.
От стрелкового оружия мы поначалу старались уйти максимально вверх, на высоту две-три тысячи метров. На этой высоте из пулемётов в нас не так просто было попасть. Но в 1985–1986 годах духи начали сбивать наши вертолёты из ПЗРК. В 1988 году в один день у нас «стингерами» были сбиты сразу два экипажа. Учитывая это, мы стали летать и на малых, и предельно малых высотах. А если летим над пустыней, то точно всегда ложились на брюхо на двадцать-тридцать метров и летели над самой землёй.
Но в горах на предельно малой высоте летать очень трудно. И вверх от «стингера» уйти почти невозможно, ведь дальность его действия — три с половиной тысячи метров. Поэтому, если даже летишь на максимальной высоте, то всё равно с горы высотой тысяча метров тебя «стингером» могут достать.
От ПЗРК меня Господь отвёл, но попадал я и под автоматный огонь, и под пулемётный, били по мне и с близкого расстояния… Гасли приборы, пахло керосином, но машина всё-таки тянула. Конечно, выручали два двигателя. Если один отказывал, то тянул второй, и на нём можно было как-то доползти до аэродрома и сесть по-самолётному.
В Афганистане в октябре 1981 года у нас была боевая операция с высадкой десанта, во время которой «духи» нас ждали. Мы шли несколькими группами, тройками. Я шёл во второй или третьей тройке. На висении в упор расстреляли из пулемётов первый наш вертолёт. Группу вёл майор Краснов. В его вертолёте был командир оперативной группы полковник Будько. Он сидел посредине на месте борттехника. Пуля из ДШК ему попала в ногу.
Ещё на висении наши вертолёты ответили «нурсами». После этого вертолёты стали уходить. Но один борт капитана Юрия Скрипкина всё-таки подбили, а сам он погиб. Чудом выжили правый лётчик и борттехник. Они выпрыгнули из горевшей машины вместе с десантниками и потом целую ночь вели бой возле вертолёта. Наши помогали, как могли: подсвечивали поле боя, стреляли по целям, куда с земли наводили. У одного из членов экипажа после падения уцелела маленькая радиостанция, 392-я. Благодаря этому мы знали, где сидят душманы, куда надо стрелять. Но сами наши вертолёты сесть ночью в этом Куфабском ущелье не могли. Когда рассвело, мы начали наносить уже массированные бомбовые удары. Наша группа была полностью готова к боевым действиям. Полного разгрома «духов» в этом случае не было. Но своими ударами мы заставили их отойти и забрали своих — и живых, и погибших.
Через некоторое время была очень характерная ситуация уже в Пяндже. Образовался какой-то перерыв в боевой операции, когда обычно оставляют на месте только дежурную пару, остальные уезжают на обед. Столовая была в двух километрах в пограничном отряде. И вот в этой дежурной паре оказался я. И надо же такому случиться: только борты улетели — по обстановке срочно вызывают вертолёты. Наши «коробочки» с пехотой зажали у кишлака Имам-Сахиб в Афганистане, надо было немедленно вылететь им на помощь.
Уже на подходе к Имам-Сахибу узнали, что командир группы «коробочек» убит. Его знали многие лётчики. Ведь мы с пехотой часто общались и кашу вместе ели. Помню, тут нас такая злость взяла!.. Спрашиваем по радиостанции пехоту: где, что, как? Начинаем крутиться. Пехота нас наводит и показывает трассирующими пулями на байский дом, откуда вёлся огонь. На этот раз мы долго не думали и «нурсами» разнесли этот дом вдребезги.
Спрашиваем: «Ну как, ребята, всё нормально?». Отвечают, что вроде всё нормально. Уже собираемся уходить. Но тут с земли кричат: «Опять стреляют!..». Мы вернулись. Видно, что стреляют откуда-то справа, но точно не определить, откуда именно. И тут я разглядел, что в старом высохшем русле реки среди валунов лежат люди: синие шаровары и белые тюрбаны с воздуха хорошо заметны. Было их человек пятнадцать-двадцать. И опять волной накатила ярость! Я говорю ведомому, капитану Ваулину: «Володя, я их вижу! Пристраивайся ко мне. Заходим в русло реки и бьём «нурсами»!». А тут стало понятно, что «нурсов» ни у меня, ни у него нет… Это для меня стало уроком на всю оставшуюся жизнь. Залп или два я потом всегда оставлял на всякий случай.
Из вооружения у нас остались только пулемёты. У меня на фермах висели два ПК (пулемёт Калашникова. — Ред.) калибра 7,62 мм, которыми я управлять мог только вместе с вертолётом. Был ещё бортовой пулемёт, из которого обычно стрелял борттехник из открытой двери. Но на другом вертолёте МИ-8ТВ пулемёт был посерьёзней — калибра 12,7. Мы встали в круг и начали поливать духов из всего, что было. Пока нахожусь я на прямой, Володя идёт по кругу, а его борттехник бьёт из пулемёта из открытой двери. Потом меняемся — он заходил на прямую, я иду по кругу. Круг всегда левый, против часовой стрелки. Командир экипажа всегда слева сидит, ему так поле боя лучше видно.
Зашёл на прямую я, потом Володя, потом снова я. Иду на бреющем на высоте метров двадцать над землёй, бью из пулемётов… И одновременно поглядываю, как бы свои пули рикошетом от скал или камней в меня не попали (такое тоже случалось). «Духи» до этого момента пытались прятаться. Но тут, похоже, они осознали, что деваться им некуда. Многих за это время мы уже достали. Вдруг вижу, как один поднимается, а в руках у него ПК (пулемёт Калашникова. — Ред.)! Расстояние до него было метров сорок-пятьдесят. В момент атаки чувства все обостряются: видишь по-другому, слышишь по-другому. Поэтому я его хорошо разглядел: совсем молодой парень, лет двадцати. (Афганцы обычно в двадцать пять лет выглядят уже на все сорок пять.)
Я пулемётами мог управлять только вместе с корпусом вертолёта. Поэтому ниже вертолёт нагнуть, чтобы достать «духа», не могу — тогда точно воткнусь в землю. И тут как пошёл грохот… Это «дух» с руки начал по нам стрелять!.. Слышу удары пуль по фюзеляжу, потом с какой-то неестественной силой дёрнулись педали. Запахло керосином, дым пошёл… Кричу ведомому: «Володя, уходи, тут пулемёт!..» Он: «Юра, ты сам уходи! Я его вижу, сейчас буду стрелять!..». И он снял этого «духа» из пулемёта.
Я пошёл в сторону аэродрома (до него было километров сорок). Володя ещё побарражировал над руслом реки, но живых там уже не было никого видно. Догнал меня и спрашивает: «Ну, ты как?». Я: «Да вроде нормально идём. Правда, один двигатель ушёл на малый газ и пахнет керосином. По топливомеру — расход керосина выше нормы».
Так мы парой и шли. Если бы нам пришлось сесть, Володя был готов нас забрать. Но мы дотянули. Сели на аэродроме, вышли, смотрим: а вертолёт-то, как дуршлаг — весь в пробоинах!.. И баки пробиты! Так вот почему расход керосина был такой большой: он просто вытекал через пулевые отверстия. Но что самое интересное — ни в кого из нас ни одна пуля не попала. И тут уж совсем получилась удивительная история: борттехник, который стрелял из боковой двери из пулемёта, отошёл за патронами. И как раз в этот момент в этом месте пол вертолёта пробивает пуля!.. Над дверью висит натянутый трос, к которому парашютисты пристёгивают карабины фалов. Так этот трос пулей, как ножом, срезало! Если бы не отошёл он, то всё, конец ему…
Посмотрели — и в других местах, где мы сидели, дырки в фюзеляже. Оказалось, что педалями меня ударило по ногам потому, что пуля попала в тягу управления рулевым винтом. (Тяга — это труба большого диаметра.) Пуля попала в неё плашмя. Если бы она ударила по тяге прямо, то обязательно перебила бы её полностью. Тогда бы рулевой винт вращался, но управлять им я бы уже не мог. Бывали случаи, когда с таким повреждением всё-таки садились по-самолётному, но нам повезло: тяга не сломалась, в ней просто образовалась пробоина.
Мы тогда здорово получили по шапке от начальства. Нам объяснили, что нельзя летать на малых высотах. Предельно малая высота — двадцать метров. Ниже нельзя, потому что стоит немного зазеваться — и вертолёт воткнётся в землю.
А в 1984 году мне пришлось пересесть на большой вертолёт МИ-26. До этого в погранвойсках таких не было. Но поток грузов был так велик, что начальник авиации погранвойск генерал Николай Алексеевич Рохлов принял решение принять на вооружение два таких вертолёта.
Это совершенно особая машина даже по размерам — в длину она больше сорока метров. Мы, чтобы изучить её, вместе с ещё одним экипажем из Душанбе, специально приехали в Центр переучивания в городе Торжок.
В 1988 году на этой машине нам, первым в истории отечественной авиации, пришлось выполнить очень сложную задачу — забрать с территории Афганистана вертолёт МИ-8 из района Чахи-Аб. В том месте сидела группа из Московского пограничного отряда. Борт майора Сергея Балгова, который участвовал в операции в этом районе, был подбит. Вертолёт был прострелен, но уцелел и подлежал восстановлению. Нам была дана команда этот борт эвакуировать. (К тому моменту уже старались машины не терять, они ведь были дорогущими! Всего в Афганистане советская авиация потеряла триста тридцать три вертолёта. Можно представить, во сколько это обошлось стране!)
К тому моменту у меня уже был двойной опыт транспортировки вертолётов МИ-8 на внешней подвеске. Но оба раза работа проходила на своей территории. А тут надо работать на другой стороне. В районе своего пограничного отряда под Душанбе мы полетали часа полтора, чтобы сжечь лишнее топливо. На борту был специалист по десантно-транспортному оборудованию капитан Сергей Мерзляков. С ним я работал по первым двум бортам. Он, конечно, сыграл очень большую роль в том, что нам удалось успешно выполнить это задание. С технической точки зрения это очень непростая операция. Сам вертолёт МИ-26 — очень сложная машина, а тут ещё надо было на внешней подвеске правильно закрепить восьмитонный МИ-8!..
До нас с подбитого вертолёта сняли лопасти. Прилетели мы на место, сели. Техники «пауком» подцепили МИ-8. Я завис чуть в стороне, «паук» соединили с моей внешней подвеской, и тогда я завис уже точно над вертолётом. Это было очень важно, иначе не избежать раскачки при подъёме. Этот опыт был приобретён при первой транспортировке, когда с Героем Советского Союза генералом Фаридом Султановичем Шагалеем из-за раскачивания мы чуть не сбросили машину. Для стабильного положения подвешенной машины надо двигаться с небольшой скоростью сто километров в час и вертикальной скоростью пять метров в секунду. Так мы и шли: вверх, потом вниз, потом вверх, потом вниз…
Маршрут эвакуации проложили заранее с учётом данных разведки. И хотя меня сопровождала пара МИ-24, любая встреча с душманами могла закончиться для нас плачевно. Ведь не было возможности даже минимально маневрировать. Но Бог нас миловал, и под обстрел мы не попали.
Один МИ-26 заменял целую колонну машин (мог поднять около пятнадцати тонн). Но людей на МИ-26 по соображениям безопасности на ту сторону мы никогда не возили. И потому, когда в 2000 году я услышал, что в Чечне в МИ-26 загрузили больше ста человек и этот вертолёт был сбит, то я долго не мог понять: ну как это вообще можно было себе позволить?.. Летали мы и с продовольствием, и с боеприпасами, и с топливом. Бензин, например, перевозили в трёх ёмкостях по четыре тысячи литров. Одни раз, когда летел командир отряда майор Анатолий Помыткин, баки залили под горло. При подъёме на высоту и изменении давления бензин начал расширяться и вытекать из ёмкостей. Ведомый увидел за нами бензиновый белый шлейф. Тогда пронесло… Не дай Бог какая-то искра — сгорели бы в одну секунду…
В 1988 году стало понятно, что из Афганистана мы уходим. Даже был назван конкретный день. Поэтому командование полёты сократило до минимума. Мы только поддерживали свои пограничные десантно-штурмовые группы, которые действовали на той стороне. Тут ещё и со «стингерами» обстановка стала совсем тяжёлая. Из-за них, из-за проклятых, мы стали летать ночью, хотя руководящими документами по лётной работе это было категорически запрещено.
Однажды генерал Иван Петрович Вертелко, который руководил действием наших боевых групп в Афганистане, прибыл на аэродром в Маймене, где одна наша такая группа сидела. Он принял решение провести боевую операцию. Но боеприпасов было мало, особенно — снарядов для «града». Их надо было доставить вертолётами МИ-26 ночью. Вот тут нам пришлось, как говорится, попотеть…
Вылетели тремя бортами. Первым на высоте три тысячи метров шёл я на МИ-26 с боеприпасами. На три триста шёл борт МИ-8, а уже на три шестьсот — ещё один МИ-8. Они должны были меня прикрывать. На одном из вертолётов была светящаяся бомба САБ на тот непредвиденный случай, если придётся сесть в темноте, чтобы как-то подсветить место посадки.
На вертолётах горели только строевые огни сверху. С земли они не были видны. Второй борт видит меня, третий видит второго и, может быть, меня. Я же не вижу никого. Если на территории Союза снизу ещё видны были какие-то огоньки, то после пересечения границы — внизу полная темнота. Иногда какой-то пожар полыхнёт. Но потом трассёры навстречу пошли.
«Духи» услышали рокот наших вертолётов. По звуку понятно: летит что-то мощное. Они подумали, вероятно, что мы летим низко, и начали стрелять. Но ночью на слух почти невозможно прицельно выстрелить, и трассы очень далеко в стороне прошли.
Шли мы над степными районами, поэтому реальная высота у нас была три тысячи метров. На такой высоте ДШК нас не доставал. Мы и сами старались делать всё, чтобы выжить: сами меняли частоты на радиостанциях, высоты и маршруты. Но главная задача была: обойти те районы, где находились банды со «стингерами».
В этот раз было особенно тяжело. Подошли к точке. А аэродром-то горный! Надо снижаться — а гор-то самих не видно!.. На земле зажгли в плошках четыре посадочных огня. В этот четырёхугольник я и должен был сесть. Но в горах даже днём очень трудно определить расстояние до склона. А ночью смотришь: на тебя что-то тёмное надвигается… Умом-то понимаешь (ведь днём летал в этом месте), что именно в этом месте не можешь столкнуться со склоном! Но настроение такое гнетущее в этот момент… Начинаешь крен всё сильнее и сильнее увеличивать, спираль снижения всё сильнее закручивать. Сесть по-вертолётному, зависнув, нельзя, ведь тогда винтами поднимешь пыль, в которой очень просто можно потерять своё пространственное положение. А когда лётчик перестаёт видеть землю, он теряет ориентацию в пространстве (именно в такой ситуации случалось много катастроф). Поэтому садиться приходилось по-самолётному. Но тут возникает другая проблема: аэродром со всех сторон заминирован. Следовательно, надо было не сесть до плошек с огнями и одновременно не выехать за плошки после посадки. Конечно, и остановить гружёную машину при посадке по-самолётному было тоже очень трудно, тормоза у такой тяжёлой машины не эффективны. То есть работу свою нужно было проделать ювелирно.
На базе загружались мы основательно: груз укладывали и крепили очень тщательно, полностью в соответствии с инструкцией по размещению груза в грузовом отсеке, и потратили на это полдня, а вот разгружали нас мгновенно — солдаты в форме одежды «сапоги — трусы — автомат» бегали очень быстро.
Разворачивать вертолёт на земле времени не было. Поэтому, когда я начал взлетать, на тот груз, который не был очень тяжёлым, солдаты просто легли плашмя, иначе потоком воздуха от винтов всё лёгкое просто бы сдуло. Я поднялся на высоту тридцать метров, там развернулся и ушёл обратно на базу. Времени до рассвета оставалось мало. Вторую ходку за ночь мы делали более хитро. С бензином вообще придумали такую схему: загоняли в вертолёт сам топливозаправщик, а при приземлении его надо было только отстегнуть. Он сам выезжал из вертолёта, и на его место загружали пустой.
Конечно, полёты с бензином на борту были очень опасны. Один из ведомых, мой однокашник по Саратовскому училищу Сергей Быков, который шёл выше, видел трассёры, которые с земли «духи» пускали на звук моего вертолёта. И если бы хоть одна шальная пуля в нас попала, то нетрудно представить, что бы с нами стало. Не лучше было настроение и при перевозке снарядов для «градов». Грузили снарядов тонн двенадцать-четырнадцать, да своего керосина восемь тонн. Так что, не дай Бог, если бы в нас попали — далеко бы пришлось собирать обломки…
Каково было напряжение, особенно во время снижения, можно понять на таком примере. У штурмана с рабочего столика вдруг упала навигационная линейка (она как логарифмическая, только с другими цифрами). Ну какой такой звук мог быть от её падения на фоне работающих двигателей!.. Но в такие моменты до предела обостряется всё: обоняние, зрение, слух. Так вот нам этот посторонний звук показался просто страшным грохотом! Где?.. Что произошло?.. А когда поняли, в чём дело, как все на штурмана набросились!.. Обозвали его очень нехорошими словами, и на душе стало легче…
Ночью на ту сторону мы слетали всего раз восемь-десять. Этого нам вполне хватило… Но когда сейчас говоришь гражданским лётчикам, что мы на МИ-26 летали в горы ночью, они просто крутят пальцем у виска… Но по-другому было никак. Днём мы бы совершенно точно подлезли бы под «стингер». Это была ситуация по пословице: куда ни кинь, всюду клин…
Высокую точность пусков «стингеров» можно было объяснить ещё и вот чем: «дух», запуская ракету, понимал, что в случае попадания ему положена большая награда: жёны, деньги… и в то же время понимал, если он, паче чаяния, промахнётся, то не быть ему живым. Во-первых, сам «стингер» очень дорогой (стоимость одной ракеты 80 000 американских долларов в ценах 1986 года. — Ред.). И ещё ведь этот самый «стингер» надо было из Пакистана в караване провезти через наши засады! А это ох как не просто! Поэтому стрелять из ПЗРК их специально обучали. Это не то, что дали простому крестьянину ружьё, и он начал из него палить. Каждая ракета у них была просто на вес золота. И даже больше того — цена ей была жизнь. При попадании — жизнь тех, кто был на борту. А при промахе — того, кто промахнулся. Вот такая арифметика…
14 февраля 1989 года, за день до официального вывода войск, я ещё летал на ту сторону, а 15 февраля уже был на своём аэродроме в Душанбе. Тут же был организован митинг, прямо на площадке. Но полного вывода советских войск как такового в феврале 1989 года не произошло. Мы ещё долго прикрывали отход армейских групп и оберегали мост через Термез на Хайратон.
Я давно мечтал перевестись служить в Арктику и попробовать МИ-26 в совершенно других климатических условиях, и вообще — за эти годы мне так надоела эта жара… Но командующий нашей авиации генерал Рохлов сказал: «Пока война не закончится, никуда не переведёшься». И вот, наконец, 21 марта 1989 года моя мечта сбылась! Мы загрузили в МИ-26 вещи семей всего экипажа и полетели на север. 23 марта мы уже были в Воркуте. В Душанбе было плюс двадцать, трава зеленела, а когда прилетели в Воркуту — там уже минус двадцать. Тогда мне и голову не могло прийти, что снова придётся вернуться в Душанбе.
Но в 1993 году наши первые экипажи из Душанбе опять стали летать на ту сторону границы. И грузы какие-то перевозили, и душманов пощипывали. Я к тому времени служил в Горелово под Петербургом. И более или менее размеренное течение жизни снова нарушилось. Многие, может быть, помнят сообщения о нападении на двенадцатую заставу Московского пограничного отряда в Таджикистане (это не раз показывали по телевизору). И командованию стало ясно, что без вертолётов пограничникам в Душанбе никак.
Когда первые экипажи пошли в Афганистан, мне стало понятно, что скоро придёт и моя очередь. И она пришла в сентябре 1996 года. Поездом мы добрались до Москвы, там сели на самолёт ФСБ, который из Внуково шёл на Душанбе. Авиацией там командовал Герой Советского Союза генерал Шагалиев, с которым я когда-то на МИ-26 тащил борт из Афганистана. Он мне сказал: «Юра, ты молодец, что прилетел. Работы полно».
Мне было необходимо восстановить допуск на полёты в горах. Для этого надо было два-три раза полететь с инструктором и совершить посадки на разных высотах на площадках, подобранных с воздуха. Со мной тогда ещё сел в вертолёт человек, который из этих мест никогда и не уезжал, — майор Саша Кулеш. Так он и прослужил в этих краях лет пятнадцать без замены…
Сначала масштабных задач по обеспечению боевых действий у нас не было. Мы перевозили с заставы на заставу грузы, крутились между комендатурами. В тот момент пограничники наносили огромный урон тем, кто через Пяндж пытался перетянуть бурдюки с наркотиками. В один из дней пограничники атаковали плоты, на которых переправлялись бурдюки, и взяли много этого зелья. А «духи» в отместку захватили наш пограничный наряд — двоих бойцов — и утащили на ту сторону. И только через некоторое время с большим трудом мы получили тела наших ребят обратно очень сильно изуродованными. Командованием было принято решение провести операцию по ликвидации бандгрупп.
Наша разведка работала с обеих сторон Пянджа. Разведчики знали, в каких кишлаках эти «духи» живут, где базируются, где живут их семьи. Началась подготовка операции. Но и «духи» тоже не дремали.
Сидели мы как-то на аэродроме Калай-Хумб. И тут раздаётся звук летящей мины!.. Все сразу перестали в нарды играть. Хлопок, ещё хлопок, ещё хлопок, ещё… Сначала было непонятно, что стреляет, откуда стреляет… Но по осколкам быстро разобрались, что это 120-миллиметровые мины. И прилететь они могут только с господствующих высот.
Из Душанбе прибыл командир нашего вертолётного полка, полковник Липовой. Говорит мне: «Полетишь со мной». Было это 29 сентября 1996 года, в воскресенье. Взлетели, начали барражировать… За нами шёл один МИ-8 и один МИ-24. Постреляли в разные стороны в надежде спровоцировать «духов». Но в этот раз батарею мы не нашли. Сели, начали снова снаряжаться, заправляться. Тут уже Липовой сел слева, я — справа. Полетели снова.
Во второй раз стали осматривали местность более тщательно. Летели низко: истинная высота было сорок-пятьдесят метров. А барометрическая, над уровнем моря, — три тысячи двести метров. Это высота тех гор, где, как мы предполагали, и находилась батарея.
В этот раз мы уже начали обстреливать всё, что нам казалось подозрительным. Я — через правый блистер из автомата, борттехник — из пулемёта. Снова и снова пытались спровоцировать «духов» на ответный огонь. И на этот раз «духи» не выдержали. С расстояния метров семьсот по нам ударили из пулемёта ДШК. На этом расстоянии даже «нурсами» стрелять нельзя, потому что можно попасть под свои же осколки. Когда по нам открыли огонь, мы увидели этот пулемёт: вспыхнула очень яркая характерная дуга, похожая на сварочную. Я всплеск увидел первым — и тут же назад отбросило борттехника Валеру Стовбу, который сидел посредине между мной и Липовым. Пуля попала в него через лобовое стекло. До этого он успел дать очередь из курсового пулемёта. Помогла ли она МИ-24 увидеть место, откуда начали стрелять, не знаю… Но наши быстро сориентировались и ударили по «духам» из всего, что у них было. Ракетами наши потом и закончили это мероприятие.
Крикнув ведомому: «Лёша, осторожней! Стреляют!..», я успел выстрелить из автомата через блистер в направлении ДШК, и мы начали уходить влево. Духи, конечно, целились в кабину. Но разброс всё-таки был, и часть пуль попали в двигатель. Правый двигатель сразу ушёл на малый газ, по блистеру хлестанула струя масла. Мы и так летели на высоте всего метров сорок, а тут ещё начали снижаться.
Хорошо, что закончилась гряда и началась огромная пропасть. Мы провалились в эту бездну с вертикальной скоростью десять метров в секунду!.. Но постепенно более или менее восстановились обороты несущего винта, и мы пошли в сторону аэродрома Калай-Хумб, откуда взлетали.
Когда удалось выровнять машину, Липовой спрашивает: «Что-то не слышно штурмана, где он там?». Я пытаюсь вызвать его по переговорному устройству: «Игорь, Игорь…». Молчит. Осторожно начал вставать. Вижу — на сиденье откинулся Валера Стовба. Я его перетащил в грузовую кабину. Смотрю — на полу лежит Игорь Будай: явных ранений вроде не видно. И когда на аэродроме его вытаскивали из вертолёта, он был ещё жив. Я тогда подумал, что, может быть, просто сильный стресс и он в шоке. Это уже потом врачи сказали, что пуля от автомата калибра 5,45 пробила обшивку фюзеляжа, вошла ему в бедро, там перебила артерию и, кувыркаясь, прошла через всё тело…
В моём экипаже это была уже не первая потеря. В 1985 году наш вертолёт МИ-26 упал при посадке. Взлетали мы из Душанбе. Уже стоим на полосе, молотим винтами, готовимся выруливать. Тут подъезжает «таблетка», и какие-то офицеры просятся на борт — им нужно в Хорог. Меня спрашивают: «Когда ты оформлял документы, видел, вписаны в них какие-то люди?». Отвечаю: «Нет». Мы их и не взяли, к их счастью. Борт наш при падении сложился так, что в грузовой кабине они бы точно не выжили. А вообще тогда перед нами стояла задача: доставить в Хорог пятнадцать тонн авиационных бомб. Но этот рейс мы летели совершенно пустыми, потому что забрать эти бомбы мы должны были в погранотряде на границе с Афганистаном. А если бы мы упали с бомбами?!.
Оказалось, что на заводе-изготовителе в Перми, где делали главный редуктор, слесарь-сборщик не установил одну деталь в редуктор. И на сорок первом часу налёта вал трансмиссии, который приводит рулевой винт во вращение, вышел из соединения с главным редуктором и перестал вращаться. Рулевой винт остановился прямо в воздухе.
В погранотряде отряде, где мы должны были загрузить бомбы, сесть мы рассчитывали по-самолётному. Я сидел на левом сидении, на месте командира экипажа. При остановке рулевого винта на вертолёт начинает действовать реактивный момент, который вращает машину влево. Пока скорость у нас ещё не очень снизилась, хвостовая балка, как флюгер, ещё как-то удерживала вертолёт. Но когда скорость упала, вертолёт стало всё больше и больше разворачивать влево. На правом кресле сидел майор Анатолий Помыткин, командир моего отряда. Когда вертолёт встал уже практически поперёк полосы и совсем потерял скорость, его стало разворачивать ещё дальше влево с потерей высоты. Я тут понял, что если сейчас мы не вырубим двигатели, то при жёстком соприкосновении с землёй вертолёт может взорваться. А краны остановки двигателя есть только у левого лётчика, поэтому перед самой землёй я двигатели вырубил.
Прямое падение было метров с сорока-пятидесяти. Падали мы с креном на правую сторону. Когда винт коснулся земли, лопасти сразу начали разрушаться. Одна из них ударила по кабине сопровождающих, где сидел бортмеханик прапорщик Женя Малухин. Он погиб мгновенно. А штурман, старший лейтенант Александр Переведенцев, находился сзади правого лётчика. Та же лопасть ударила по бронированной спинке его сидения, кресло перебросило вперёд. От этого сильнейшего удара Саша получил тяжелейшие травмы внутренних органов. Он жил ещё неделю, но потом скончался в госпитале. Сам я получил компрессионный перелом позвоночника. Ну и по мелочи: сотрясение головного мозга и удар лицом о ручку управления. Помыткин сломал ногу. Легче всех отделался борттехник Володя Макарочкин. Дня через три заходит он к нам в палату и, как в фильме «Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещён», говорит: «А что это вы здесь делаете?..».
После перелома позвоночника по правилам летать нельзя год. Но мы лежали в своём пограничном госпитале, и я попросил врачей: «Не вносите этот компрессионный перелом в медицинскую книжку, как вроде его и не было. А сотрясение пусть будет». С сотрясением нельзя было летать всего полгода, на это я ещё как-то был согласен. И врачи этот перелом скрыли.
Но на этой кровати, будь она неладна, я пролежал долго, около двух месяцев. И всё это время постоянно делал упражнения, чтобы не потерять гибкость и разработать позвоночник. Даже в мыслях я не допускал, что долго буду валяться в госпитале, а потом заниматься какой-нибудь наземной работой. И через полгода начал-таки снова летать на МИ-26. Думаю, что так быстро смог восстановиться только потому, что было огромное желание летать.
Военный следователь
После разговора с полковником Валерием Викторовичем Шаховым (к сожалению, ныне уже покойным), военным следователем в Афганистане, мне стала более очевидна ещё одна трагическая особенность афганской войны, которая продолжает собирать свою чёрную жатву и сегодня. Это тотальный государственный атеизм советской власти, из-за которого воевавшие солдаты и офицеры были лишены возможности исцелиться от последствий войны единственным верным способом — с помощью Церкви.
Я слушал рассказ человека, которому приходилось иметь дело со страшными, даже по военным меркам, преступлениями, и почти физически ощущал тот чудовищный груз переживаний, который привезли с собой участники этой войны. В подавляющем большинстве своём лишённые в советское время церковного покаяния (трудно представить в то время солдата или офицера, который пришёл бы на исповедь в церковь), они продолжали носить в себе совершённые грехи, которые часто разрушали их судьбы до основания. Не имея возможности очистить свою душу, кто-то окончательно спился, кто-то оказался за решёткой. Но даже те, которые, казалось бы, смогли адаптироваться к нормальной жизни, не могут забыть о тех, уже далёких от нас, днях и продолжают снова и снова с болью вспоминать и переживать трагические события своей военной молодости.
Рассказывает полковник Валерий Викторович Шахов:
— В 1979 году я служил следователем военной прокураторы в Вологде. В середине декабря этого года меня отправили на три месяца на курсы усовершенствования в Москву. Разместили нас в шикарном общежитии гостиничного типа в центре Москвы — живи и радуйся. Но 29 или 30 декабря на построении утром объявляют: «Советские войска вошли в Афганистан».
И тут же приказ — тех, кто приехал из Туркестанского и Среднеазиатского военных округов, отправить к местам службы. Они так прямо с построения и уехали. После Нового года, 2 января, отзанимались мы только до обеда, потом якобы должна была быть самоподготовка. На самом деле мы все собрались компанией в пивбар, чтобы продолжить отмечать Новый год. Только я в комнате начал переодеваться в гражданку, забегают парни и говорят: «Валера, финиш. К пяти часам нас шестерых вызывают в Главную военную прокуратуру». Одного человека мы не успели предупредить, так он умудрился за час после окончания занятий напиться в драбадан. В Главной прокуратуре объявляют: «Местные прокуратуры с границы вместе с войсками ушли в Афганистан. Остались уголовные дела. Надо будет туда сейчас поехать, помочь разобраться». И сразу же выдают билеты на самолёт.
Провожали нас, как на войну. В Ташкент мы прилетели утром 7 января. Меня направили в Термез (это самая южная точка Узбекистана). Он находится на правом берегу Амударьи, а левый берег — это уже Афганистан. Основная масса наших войск шла как раз со стороны Термеза, через понтонный мост. Именно здесь проходило формирование частей, которые уходили в Афганистан.
Что там творилось — не передать, несусветный бардак! Только один пример — в Термезе работала оперативная группа Генштаба, которая занималась формированием частей. В мае пришло сообщение из Ташкента, что там умудрились призвать какого-то человека, подозреваемого в убийстве. Он якобы отправлен в Термез и может уйти в Афганистан. Надо его срочно найти. Прокурор мне говорит: «Валера, сходи в опергруппу, пусть там срочно его разыскивают». Прихожу, спрашиваю у офицеров. А они мне: «Что тут можно найти? Вот видишь — накладные, клочки бумаги — в них написано только количество, сколько человек прибыло, и всё. Дай Бог разобраться хоть откуда, фамилий нет, количество и то — плюс-минус». И вот тогда один пожилой полковник — он в 1945 году лейтенантом был — произнёс фразу, которая мне запомнилась навсегда. Он сказал: «Если сейчас, в восьмидесятом году, на нас нападёт армия, равная немецкой образца сорок первого года, они же, сволочи, опять до Москвы дойдут!».
Как раз в восьмидесятом году была разрекламирована очередная инициатива Советского Союза: «Сократим тысячу танков в Европе!» И значительную часть этих танков прямиком гнали в Афган. А чего там этим танкам делать? Что, душманы в пешем строю по пустыне в атаку пойдут на наших? Они воюют совсем другими методами — хитрым наскоком, из-за угла, в основном в горах. И танков у них своих не было, с которыми можно было бы им Прохоровку новую устроить. И пришлось оттуда танки эти выводить. Конечно, требовалось в Афганистане какое-то количество танков. Где-то их в землю закапывали, где-то они сопровождали колонны. Но не тысяча же.
В первую же неделю к нам утром в прокуратуру прибегает начальник местной судебной медицинской лаборатории — узбек — и кричит: «Вах-вах, что делать, что делать!» Оказывается, пришёл он утром на работу, а морг забит весь. Лежит больше десятка одних военных, все с огнестрельными ранами. Привезли их с той стороны Амударьи, только бирки на руках, на ногах. И дальше пошли погибшие. Что с ними делать, куда отправлять, как? Службы не готовы были, даже цинка не было. Я потом пытался понять, почему так получилось. Мне кажется, руководство думало, что всё будет, как в 1968 году в Чехословакии. Пришли мы, те походили с плакатиками и разошлись по домам — всё тихо и мирно. Ну, покидали камни пару раз, какой-то псих стрельнул, и на этом всё закончилось. Это и понятно — кто в Чехословакии в конце шестидесятых после тёплого ватерклозета пойдёт партизанить в лесу? Никто. А здесь всё было по-другому, и мы к этому абсолютно не были готовы.
В сам Афганистан я улетел 28 июня 1981 года, в день рождения мамы. Там не действовали глушилки, и мы спокойно слушали все вражеские голоса. Особенно две передачи Би-Би-Си мне врезались в память. Суть их сводилась к следующему: «Ребята, зачем вы туда полезли? Вы бы спросили у нас! Ведь мы туда ходили два раза и с одинаковым результатом — вы наши могильники ещё можете увидеть. Куда вы залезли?»
А мы-то уже поняли, куда залезли. К тому времени я уже полтора года на границе просидел и реально представлял, что ни о какой победе речи не может быть принципиально. Во-первых, в Афганистане живёт народ, который не приемлет вмешательства извне. Там полно и узбеков, и таджиков. Они не признают никого. Это другая цивилизация. А во-вторых, не одну армию надо было направлять а, как мне кажется, минимум три, потому что надо было закрывать всю афгано-пакистанскую границу. Да там со всех сторон опасность. И китайцы поставляли оружие, и Иран. Мы же только себя охраняли. Ну, операции проводили какие-то. Но точечными ударами победить партизан невозможно, особенно если партизаны — это вся страна. И не поймёшь, кто есть кто. Днём он пашет, а ночью — стреляет.
У войны вообще нет лица
Есть такое выражение, что у войны не женское лицо. Я думаю, что у войны вообще нет лица, а скорее — звериный оскал. Первое уголовное дело, которое я принял в производство, начиналось в Ташкенте, когда я ещё только собирался ехать в Афганистан. Дело по убийству пятерых афганцев было возбуждено в отношении двух солдат и старшего лейтенанта, командира танковой роты. Солдаты уже уволились в запас, и мы их нелегально переправили обратно в Афганистан, так как преступление было совершено в Афганистане, и расследовать его надо было там. Причём в Ташкент они приехали сами — по телеграмме, до этого не скрывались. Они просто не представляли, что там с ними может такое произойти.
Первый допрос был ещё в Ташкенте, в прокуратуре Туркестанского военного округа. Первый приехавший солдат абсолютно ничего не скрывал, всё рассказывал. И я понял, насколько война изуродовала души этих совсем молодых ребят.
Фабула дела довольно банальная. Их отдельная танковая рота охраняла участок горной дороги, которая ведёт от Кушки до Герата. Командир роты, старший лейтенант, послал этих двух солдат добыть ему афганей (местные деньги. — Ред.). Видимо, это было не в первый раз, так что послал он уже проверенных старослужащих. Они — автоматы на плечо и поехали в Герат. Герат — это древняя столица Афганистана, старинный город, очень интересный. Солдаты остановили машину, в которой афганцы перевозили товары, выехали с ними за город и стали обыскивать. А потом расстреляли всех пятерых человек, нагрузили на себя барахла, сколько могли унести, и ушли.
Практически вся рота знала о том, что произошло. Ночью командир выделил им танк. Они на нём поехали, пять трупов погрузили, отвезли в другое место и закопали. Машину сожгли.
Вскрылось это совершенно случайно, примерно через полгода. Один из бойцов вёл дневник в записной книжечке, куда заносил все известные ему подвиги их боевой роты. Там дневник такой был, что мне вспоминать до сих пор жутко. Я весь дневник приобщать к уголовному делу побоялся — по их подвигам вообще надо было целую следственную бригаду создавать. А этот случай с пятью афганцами был как раз на отдельном листке описан. Я этот листок изъял и оформил, как положено. А сама записная книжка с дневником потом потерялась. Были там страшные записи. Одна в память врезалась: «Поймали пленного. По рации сообщили бате (командиру полка. — Ред.). Он ответил: «Мне его кормить нечем». Расстреляли». Это нормальному человеку читать страшно.
Допрашиваю я этих двух парней: «Ну ладно, забрали у афганцев вещи, зачем убивать-то стали?» Помню, первый, Серёжа, говорит: «Товарищ капитан, да там один побежал». Я ему: «Ну, побежал, и пусть бежит. Грабили же вы его, собственно говоря». А он на меня смотрит совершенно удивлёнными глазами и говорит: «Товарищ капитан, нет. Если бежит, значит, душман». Уже двадцать с лишним лет прошло, а до сих пор его слова помню.
Попал он первому афганцу из автомата в затылок. Я говорю: «А остальных зачем убивали?» Он отвечает: «Одного убили, зачем уж остальных-то оставлять, свидетелей, вот и положили всех четверых». Второй, Володя, тот всё время удивлялся: «Товарищ капитан, неужели нас собираются за этих пятерых судить?» Я говорю: «Ребята, вы же не в бою людей убили, вы же их грабили». А они меня не понимают, за что их собираются наказать. И рассказывают такую историю: «Во время рейда в Герате в базарный день на центральном рынке началась какая-то стрельба. По нам стреляли или нет, мы не поняли. Командир командует: «Осколочным заряжай! Огонь!». И мы по толпе из пушки осколочным снарядом дали. Сколько там народа полегло, даже не знаем. И слова никто не сказал. А вы тут нас всего за пять человек!» У них это в голове не укладывалось. Им казалось, что судить их не за что.
Я заканчивал следствие уже в Ташкенте, поскольку статья-то у них была расстрельная, и предъявлять расстрельное обвинение надо было обязательно с адвокатом. Помню, ко мне одна из адвокатов пришла, молоденькая девушка. Я ей только обвинение показал — она и заплакала, затрясло её всю. «Я не буду участвовать в этом деле. У меня, говорит, такое афганское дело было уже. Там приговорили к расстрелу. Я не хочу больше». А коллегия адвокатов по нашей заявке её, молодую, и направила. Денег тут получить не с кого. Кроме нервного потрясения очередного, ничего больше не видать. Ещё, помню, под конец к Серёже приехал отец, простой колхозный агроном. Он, пожилой мужчина без одной руки, плакал и всё у меня спрашивал: «Я не пойму, как он стал убийцей?».
Самое жуткое в этой истории то, что до призыва в армию это были абсолютно нормальные ребята. В те годы от армии ещё никто не бегал, и в Афган многие ехали добровольцами, в том числе и солдаты. Я сам долго пытался понять — как это совершенно нормальные восемнадцатилетние деревенские парни стали убийцами. Думаю, что свою роль сыграла неправая война. То, что нас туда местное правительство пригласило, это всё сказки. Формально — да, нас кто-то позвал. Но я знал многих офицеров, которые входили с первыми частями. Они при пересечении границы говорили: «Поехали нашего друга Амина спасать». А по дороге сообщают: оказывается, Амин-то бяка, его уже шлёпнули. Там какой-то Бабрак Кармаль теперь главный. Народ афганский нас не принял. Они готовы были умирать, но стоять на своём. А наши рейды по кишлакам какую роль сыграли? Запись из того же дневника: «Окружили такой-то кишлак. По информации, в нём работала радиостанция душманов. Надо было эту радиостанцию обнаружить. Как её обнаружишь в кишлаке, даже если он не очень большой, это же не грузовик. Окружили. По приказу командира роты собрали всех аксакалов кишлака. Задрали ствол танка, к концу ствола привязали верёвку, на конце сделали петлю. Объявляем: «Если в течение часа рация не будет лежать здесь, начнём вешать». Через час рация лежала».
И ещё на моей памяти довольно известный случай, который был в восьмидесятом или восемьдесят первом году. Тогда приговорили к расстрелу старшего лейтенанта, командира роты десантников. Возвращались после рейда. Из кишлака их обстреляли. Кто-то был ранен, кто-то убит. Так они снесли кишлак, расстреляли весь. Командира роты судили и расстреляли. Причём за этого старшего лейтенанта ходатайствовали знаменитые в то время люди, потому что отец его был известный испытатель парашютов. И приговор всё равно был приведён в исполнение.
Озверелость тогда перехлёстывала через край потому, что шла война не с регулярной армией, а с партизанской. Анархия там выходила далеко за рамки Женевской конвенции. Афганцы-то про эту конвенцию ничего не слышали, да и слова такого вообще не знали. Я считаю, не надо было туда вообще соваться со своими идеями построения социализма. Бред это полный.
Вот тогда, уже в самом начале, появилось выражение «афганский синдром». Это когда у человека в душе неразрешимое противоречие. Он морально надломлен, опустошён. Ко всему ещё, попадая в нормальные условия, он не может вписаться в них, срывается постоянно, прорывается немотивированная агрессивность. Ведь американцы же для своих солдат, прошедших Вьетнам, потом начали реабилитационные центры строить. Они, как практичные люди, уроки извлекают, мы — никогда. Люди — калеки, инвалиды, воевавшие в Афганистане, — у нас брошены. Выживайте как хотите, что с вами будет — никого это не волнует.
Уже в перестроечное время я читал воспоминания американцев, которые воевали во Вьетнаме. Две недели они на передовой, в боях. Потом отводят роту в Сайгон или ещё куда-то. И гуляй, рванина, от рубля и выше — психологическая разгрузка. Им дают возможность выплеснуть то, что накопилось.
У нас этого не было вообще. Вбили в устав, что военнослужащий должен стойко переносить все тяготы воинской службы, и точка. А за этими тяготами зачастую скрывается маразм, глупость, недомыслие. У меня под самую завязку моей службы был случай, когда солдат пытался застрелить офицера, командира роты. Отдельный усиленный взвод стоял на охране моста под Файзабадом (это в такой дыре, в глубине Афгана). Условия очень тяжёлые, безвылазно стоят отдельно от всех, фактически, как в осаде. Офицер старался просто поддерживать порядок, чтобы люди не раскисали, зарядку по утрам делали. Так у одного из старослужащих утром произошёл психический срыв из-за зарядки. Всех — и молодых, и дедов (старослужащих. — Ред.) — офицер погнал на зарядку. Так этот солдат из снайперской винтовки с пяти или шести метров две пули в офицера всадил и тут же пытался застрелиться сам. Офицер живой остался, хотя ему пробило сердечную сумку. Солдата кто-то успел схватить, винтовку выбили у него из рук. Но он сам себе в упор всё-таки до этого выстрелил в ногу. Чем закончилось дело, я так и не знаю, у меня сменщик приехал. Вот так, из-за зарядки…
Людей в Афганистане часто держали на последнем пределе, служили они на износ. У нас отношение к людям всегда было, как к расходному материалу. Это как автоматный патрон — выстрелили им, и пустая гильза уже никому не нужна.
Коробка сигарет
— Было у меня в Афганистане дело, при расследовании которого я сделал все, чтобы смягчить участь трёх солдат из десантно-штурмового батальона. Их должны были судить за кражу коробки сигарет. Она рублей шестьсот стоила — по тем временам внушительная сумма, за неё вполне можно было сесть. Но когда я начал разбираться в обстоятельствах кражи, у меня никакого другого желания, кроме как помочь этим ребятам, уже не осталось.
Этот десантно-штурмовой батальон был прикомандирован к дивизии. Каждые несколько недель — боевые выходы. Забрасывали их на вертолётах в горы. Причём по плану должны идти на три дня, а воюют на самом деле пять. Так как батальон прикомандированный, своей столовой у него не было. В полку их по остаточному принципу кормили — то достанется что-то, а то и почти совсем ничего. А парни все здоровые, под два метра ростом. Вот эти ребята перед очередным выходом и полезли в палатку, где находился склад, — как они сами говорили, поесть чего-нибудь добыть. Еды не нашли, взяли сигареты. В лучшем случае им дисбат (дисциплинарный батальон. — Ред.) светил. А это всё, клеймо на всю жизнь. Потом, после дисбата, ещё и дослуживать надо, сколько осталось. Порядок такой. И я всё сделал, чтобы им жизнь не сломать. Осудили их условно. К условным срокам в то время в армии солдат почти не приговаривали, в лучшем случае, как я говорил, — дисбат. А они служили дальше срочную, в дисбате не оказались. Не знаю только — в Афгане или уже в Союзе дослуживали.
Смерть замполита
— У меня не было ни одного подследственного, которого мне не было бы жалко. Скорее я могу вспомнить одного подонка-следователя, который ради карьеры готов был, глазом не моргнув, перешагнуть через человеческую судьбу. В то время я служил в Шинданте. Было распространено информационное письмо о том, как следователь с блеском провёл следствие и установил убийцу. Ситуация была такая: 1 мая группа офицеров и прапорщиков сидели в курилке на аэродроме в Кундузе. Поддатые, естественно. Решили они салют устроить и начали стрелять — и в воздух, и не в воздух.
А метрах в семидесяти находилась баня их же вертолётного полка, где в это время парились командир полка, замполит и две дамочки. Услышали они эту стрельбу, и замполиту захотелось посмотреть, кто это средь белого дня на аэродроме стреляет. Баня была сложена из валунов, самострой, и огорожена забором каменным с калиткой деревянной. Подходит он к этой калитке и начинает её открывать. И в этот момент пуля прошивает раму двери, брус и попадает ему прямо в глаз. Замполит убит наповал. Конечно, специально с семидесяти метров из пистолета так попасть невозможно. Случайность это. Обвиняют старшего лейтенанта, вертолётчика из Выборга.
В конце концов, через год с лишним, парня мы отстояли. А тогда прочитал я информационные письма — фамилия следователя была знакомая. В письме было сказано, что он с блеском провёл визирование через дырку в брусе двери (визирование — восстановление траектории движения пули по каналу в брусе. — Ред.). Он якобы вычислил, кто именно стрелял.
А в восемьдесят третьем, летом, я попал в Кундуз, где всё это и происходило. В Кундузе некому было работать — один следователь со сломанной ногой в госпитале, другие болеют, вообще никого не осталось. И вот это дело мне попалось — оно как раз вернулось на доследование. Первый раз осудили старшего лейтенанта вертолётчика за убийство по неосторожности, дали ему три года условно. А что это для офицера значит — увольнение из армии, никаких афганских льгот, жизнь сломана полностью. Каким-то образом адвокаты добились отмены, и дело вернули на доследование. Вот мы со вторым следователем начали его изучать.
В качестве доказательства в деле был кусок этого бруса с дыркой от пули пистолета Макарова. Предыдущий следователь проводил следственный эксперимент — посадил в курилку всю эту компанию в том же положении, как в тот самый момент, и провёл визирование через дырку в брусе с помощью какого-то прибора. И этот прибор якобы точно показал на старшего лейтенанта. Конечно, бывает, что в толстой преграде или в двойном окне через сквозные дырки проводится визирование, и можно определить точку, откуда произведён выстрел. Но пуля пробила дверь в тот момент, когда она приоткрывалась! Преграда-то не была неподвижная. А расстояние, на которое была приоткрыта дверь, показала дамочка, которая была с замполитом. Она якобы подходила к двери вместе с ним. При этом получается, что если сдвинуть дверь на сантиметр туда-сюда, тогда визирование это уйдёт на семьдесят метров вообще в сторону, даже близко не попадёт на эту группу.
Читаем дальше. После визирования следователь проводит дополнительный осмотр места происшествия — двора бани. И под стеной бани, уже после визирования, в ходе дополнительного протокольного осмотра, обнаруживается пистолетная пуля. Назначается экспертиза, и оказывается, что пуля была выпущена из пистолета старшего лейтенанта. Смотрим на пулю — она в целостности сохранилась. А ведь она пробила кусок деревяшки, глазницу и череп и ударилась в булыжник стены. На пуле ни одной царапины, только следок от нарезки. Мы её — в конверт и из Афгана отправляем в Москву, в институт криминалистики. Вопрос: ребята, это реально, чтобы пуля столько преград прошла, ударилась в стену бани и осталась в таком состоянии?
Пулю отправили, а сами читаем, как её нашли. В ходе дополнительного осмотра один из понятых, прапорщик, эту пулю нашёл под стеной бани. На момент следствия прапорщика этого уже в Афгане не было, он отслужил уже. Установили, где он живёт, и отправили поручение допросить прапорщика, выяснить, как была обнаружена пуля. Приходит ответ. «Да, я участвовал в дополнительном осмотре. Меня следователь подозвал и говорит: «Видишь, пуля лежит?»».
А потом пришло заключение экспертизы из Москвы — пулька эта никаких преград не проходила и об стеночку тоже не ударялась. Её выстрелили либо в тюфячок ватный, либо в водичку, поэтому она осталась целёхонькой. Вот так следователь пошёл на полную подтасовку фактов, чтобы карьеру себе сделать.
Почему развалился Советский Союз
В начале девяностых годов я был в командировке в Карабахе. Поступает сообщение — в горном азербайджанском селе застрелили одного старика. Он ветеран войны был, азербайджанец. Его из мелкашки (малокалиберной винтовки. — Ред.) убили в тот момент, когда он был высоко на дереве — сухие сучки ломал на дрова. Одна пуля попала в голову, другая — в бок.
К тому времени из прокуратуры Степанакерта, где было больше армян, азербайджанцы ушли. Все начали голову ломать — кого послать. Азербайджанских милиционеров нет, посылать армянского — на верную смерть. Вот тут про меня, русского, и вспомнили. Тайно привели двух азербайджанцев — опера и судебного медика, — чтобы они меня сопровождали, и мы поехали.
Пока ехали, колотило от страха, что нас там зарежут. Как раз незадолго до этого был случай в Карабахе, когда при выезде на происшествие опергруппу на ножи подняла озверевшая толпа: был убит эксперт-криминалист и сотрудник уголовного розыска — русские ребята. Вспоминать об этой поездке до сих пор страшно. Очень трудно было уговорить родственников убитого разрешить сделать вскрытие. В конце концов, сделали — прямо у дома на улице, на обыкновенной лавке.
И уже после распада СССР, вспоминая этого безобидного старика-ветерана, я осознал, что советское государство, которое не сумело защитить того, кто защищал его в Великую Отечественную войну, обречено.
Партийная «исповедь»
Рассказывает подполковник В.:
— В Афганистане я начинал службу замполитом. И всегда ходил вместе с группами на боевые выходы, чтобы самому прочувствовать — когда солдат уставать начинает, когда он начинает хотеть пить. Я и тогда, и сегодня учу разведчиков — надо обязательно одну банку тушёнки, один брикет сухпайка с собой назад с выхода приносить, я отбирать это на базе не буду. Это очень не просто — ушли в горы на три дня, а вернулись через пять, как тут можно сэкономить что-то. Поначалу они к моим советам скептически относились, пока сами в горах не пробыли намного дольше, чем планировалось. И вот когда они всю кору на деревьях и траву вокруг себя съели, только тогда сказали — да, товарищ командир, правильно вы нас учили. Сам я во время выходов до сих пор вообще ничего не ем. Во-первых, это из опасения ранения в кишечник. Если голодный — есть шанс, а если там что-то есть внутри, то всё, конец. Многие удивляются, как это несколько дней по горам можно вообще без еды ходить. А я за много лет организм свой православными постами закалил, так что сил вполне хватает.
И ещё очень важно, чтобы бойцы не зверели, а ведь на войне это очень легко происходит. В Афганистане я устроил такую акцию — мы в местный детский дом принесли продукты. Правда, первый раз незадача вышла — все они на следующий день оказались на местном базаре, до детей не дошли. Мы это учли, и когда пошли во второй раз, я солдатам говорю: «Подходишь к ребёнку, тут же открываешь банку со сгущёнкой и даёшь ему в руки». Надо было видеть глаза и детей и моих бойцов в этот момент. Словами это передать невозможно! Но зато сейчас мои солдаты в человека, если есть хоть малейшее сомнение, что он, может быть, и не боевик, ни за что не выстрелят.
Командиру очень важно понимать на своём опыте, что чувствует и переживает солдат в бою или экстремальной ситуации. Вспоминаю, как сам в первый раз попал под автоматный обстрел в Афганистане. Меня как заклинило — стою у стены дома, ни рукой, ни ногой пошевелить не могу. Мне кричат — стреляй, ложись, беги, делай что-то! А я как столб замер и всё. Потом, когда отошёл, страшно стало — а вдруг так со мной всегда будет? Как же воевать? Но ничего, в следующий раз всё уже было нормально. Так что нельзя солдата за растерянность в первых боях осуждать, надо дать ему время привыкнуть, тогда уже и спрашивать можно. И ещё мне никак не забыть случай, когда у меня парашют не раскрылся. Сначала показалось, что я чеку не выдернул. Смотрю — да нет, вот она чека, в правой руке. И сам вроде парашют укладывал, всё должно быть нормально. И тут на мгновение тоже всё в голове смешалось. Потом собрался, открыл запасной парашют и приземлился. А сам думаю — а если на моём месте молодой солдат оказался бы? Как его настроить, чтобы он не растерялся и сам себя спас? Я своих бойцов учу, что выход из любого, казалось бы, самого безнадёжного положения, всегда есть. Надо только его искать и всегда бороться за свою жизнь в любой ситуации.
В Афганистане у меня была общественная нагрузка — я был парторгом отряда армейского спецназа. Как-то подходит ко мне офицер и говорит: «Фёдор Иванович, вот ты меня вчера в партию принимал. В связи с этим я вспомнил и хочу рассказать, какая у меня история произошла, когда мы недавно из Пакистана прорывались!.. Духи шли по пятам, и нам надо было перебежать дорогу по открытому месту. Первый наш разведчик побежал — падает… убит. Второй — падает… убит. Пришла моя очередь бежать на верную смерть. Тут я первый раз в жизни перекрестился — и рванул… Меня даже не зацепило. А ведь я вчера в партию вступил. Как же так?» Я ему ответил просто: «Ведь то, что перекрестился, не снизило боеспособность группы? Ведь так? Тогда всё нормально».
Позже случилось у нас ЧП — солдат замахнулся на офицера. А ведь оружия кругом полно, такие стычки могли очень печально закончиться. Начинаем разбираться. Оказывается, на шее у солдата (а солдат был мусульманином) висел кожаный мешочек, в который матери по традиции вкладывают сыновьям листок с сурами из Корана, что, по мусульманскому преданию, защитит солдата в трудную минуту. Это похоже на православный обычай, когда русские матери зашивают в одежду солдата 90-й псалом. И офицер, узнав, что именно висит на шее у бойца, хотел сорвать этот мешочек. Солдат не давал ему это сделать. Так что они чуть не подрались.
Вызываю к себе солдата. Можно представить, к чему он приготовился, когда его к парторгу по такому вопросу позвали. Спрашиваю: «Так что случилось?» Он: «Этот мешочек мне мама дала перед отправкой, я его ни за что не отдам». Успокоил я бойца, как мог, и пошёл к офицеру. Говорю ему: «Чем тебе этот мешочек помешал?» А он мне: «Так ведь не положено!». Я — в ответ: «А ты теперь представь, что чувствует человек, когда кто-то руку поднимает на то, что ему мать дала. Для него, может, это не столько религиозный предмет, сколько напоминание о доме, о матери. Да он что угодно сделает с тем, кто на этот мешочек позарится!» Тот упорствует: «Так он же на меня замахнулся!» А я снова ему в ответ: «Я бы в такой ситуации точно так же поступил. Это он мать свою защищал!» А в конце нашего разговора сказал ту же фразу, что и раньше: «Если на боеспособность солдата этот мешочек отрицательно не влияет, то не надо его трогать. Оставь парня в покое». Так этот конфликт и погасили.
Самого меня крестили в детстве. Когда я поехал в Афганистан, я был абсолютно уверен, что меня убьют. Женился я перед самым отъездом с мыслью, что хоть квартиру жена получит за меня. Крестик свой перед границей спрятал в самое надёжное место — в партбилет. И так получилось, что уже в Афганистане я крестик этот потерял!.. И до сих помню, как мне стало жутко и страшно… Но потом крестик нашёлся, и вернулся я домой живым и невредимым.
В человека очень трудно стрелять
Рассказывает подполковник З.:
— Не забыть мне один случай, который с точки зрения здравого смысла объяснить почти невозможно. В Афганистане мы с группой заметили: едет по дороге трактор — «Форд», по-моему — с прицепом, по всем приметам душманский. Мы дружно начали по нему работать из всего, что у нас было. Каждый отстрелял по два магазина (в магазине АК-47 тридцать патронов. — Ред.), ещё и пулемётчик полную ленту выпустил. Расстояние было небольшое, метров сто, так что полное решето должно было получиться из всех, кто в тракторе был. Начали мы перезаряжать и видим такую картину — вылезает из кабины душман, идёт к прицепу и снимает тент. Под тентом у него — «эрликон» (многоствольный пулемёт для стрельбы по воздушным целям. — Ред.). И как начал он по нам из него поливать! Мы мгновенно носом в землю все зарылись и лежим не шевелясь. Отстрелял он боезапас, спокойно сел в свою арбу и тихо уехал.
Мы потом долго голову ломали, почему же так в него никто и не попал. Таких случаев в Афганистане много было — стреляет кто-то в «духа» практически в упор и не попадает. А объяснение очень простое — очень трудно нормальному человеку в живого человека стрелять.
Первая чеченская военная кампания
О смысле чеченской военной кампании многие не знали. Некоторые его не понимали, другие не хотели ни знать, ни понимать… Но эта война была. И мы в ней победили!
В декабре девяносто четвёртого…
Рассказывает полковник Павел Яковлевич Поповских — начальник разведки Воздушно-десантных войск в 1990–1997 годах:
— К 18 декабря 1994 года наши войска уже неделю как продвигались по территории Чечни в направлении Грозного. В то время СКВО (Северо-Кавказским военным округом. — Ред.) и Объединённой группировкой войск командовал генерал-полковник Митюхин. Северная группировка под командованием заместителя командующего ВДВ генерал-лейтенанта Алексея Алексеевича Сигуткина подходила к Долинскому, посёлку на северо-западной окраине Старопромысловского района Грозного. Сигуткин не повёл группировку по дорогам, а прошёл по Сунженскому хребту, обойдя все посты и засады. Поэтому он первым подходил к Грозному с северного направления.
Колонну сопровождала пара вертолётов МИ-24, которые вели воздушную разведку и при необходимости могли наносить удары НУРСами (неуправляемый реактивный снаряд. — Ред.). Полётами вертолётов управлял командующий авиацией СКВО генерал Иванников, который находился в Моздоке на ЦБУ (центре боевого управления. — Ред.) авиации Северо-Кавказского военного округа. Кроме экипажей в вертолётах находились офицеры-разведчики 45-го полка специального назначения ВДВ. С ними радиосвязь поддерживал начальник оперативно-разведывательного отделения полка майор В.Л. Ерсак.
В тех условиях это был весьма эффективный способ разведки. Ведь пилоты в основном заняты управлением вертолётом и его вооружением. А разведчики нацелены именно на наблюдение за местностью и противником на земле. Естественно, они и видят дальше, и понимают в наземной тактике больше. На окраине Долинского именно наши разведчики обнаружили отряд противника, два танка и пусковую установку БМ-21 «Град», которые были укрыты за строениями.
Пилоты и разведчики, каждые по своим каналам, докладывают командованию группировки о противнике, в том числе и об установке БМ-21 и танках, указывают их местоположение. Генерал Алексей Сигуткин немедленно разворачивает колонну в боевой порядок и даёт команду вертолётам на поражение выявленных целей. Но у вертолётчиков есть свой прямой начальник!.. Командир звена докладывает генералу Иванникову и просит у него разрешения нанести удар на поражение. Иванников отвечает: «Подождите, я спрошу у Главного». Главным у Иванникова был генерал Митюхин.
Буквально через минуту Иванников передаёт пилотам приказ Митюхина, запрещающий наносить удар по выявленным целям, мотивируя это решение наличием в том месте нефтепровода. Сигуткин даёт команду своим разведчикам и артиллеристам на доразведку и подавление целей. Но пересечённый рельеф местности и расстояние не позволили сразу непосредственно увидеть противника и немедленно дать огневым средствам целеуказание на поражение.
В это время вертолёты, которые по плану должны меняться каждые два часа, уходят на замену. Пока другая пара ещё не заняла своё место в боевом порядке, один танк противника выходит из-за укрытия и становится на противоположном от Сигуткина склоне хребта, показывая расчёту установки БМ-21 «Град» направление стрельбы. Ведь чеченские танкисты из башни видят наши боевые порядки, но сам танк остаётся скрытым от наблюдения за гребнем холма, и наши наблюдатели его не видят! Расчёту установки остаётся только развернуться в направлении, которое задаёт своим положением танк, и выставить на прицеле дальность до наших войск. После этого установка производит залп всеми своими сорока ракетами калибра 122 мм каждый…
Если бы колонна вовремя не развернулась в цепь, потери могли быть очень большими. Ракеты от «Града» всегда ложатся сильно вытянутым эллипсом. Если таким эллипсом накрыть колонну вдоль, то каждый третий снаряд может найти цель.
От этого залпа было прямое попадание реактивного снаряда в автомобиль «ГАЗ-66» и бронированную машину управления огнём артиллерии. В ней, кроме экипажа, находился полковник Фролов, начальник артиллерии 106-й воздушно-десантной дивизии, и старший офицер из штаба воздушно-десантных войск полковник Алексеенко. Так одновременно погибло шесть человек. Это были самые первые боевые потери, которые понесла Объединённая группировка войск в Чечне.
На ЦБУ митюхинская генеральская команда тут же попыталась обвинить во всём десантников генерала Алексея Сигуткина. Он якобы не вёл разведку, медлил, не управлял войсками… Но все доклады, переговоры и команды в радиосети вертолётов записывались на плёнку майором Ерсаком. Им было чётко зафиксировано, что установка была обнаружена вовремя и могла быть уничтожена на месте по команде генерала А. Сигуткина, если бы не последовал прямой приказ Митюхина, запрещающий пилотам вертолётов открывать огонь на поражение. Я вынужден был предъявить эти записи генерал-лейтенанту Л.П. Швецову, начальнику штаба ОГВ, и показать истинного виновника гибели наших солдат и офицеров. После этого обвинения в адрес А. Сигуткина прекратились. Вскоре Митюхина на посту командующего группировкой сменил генерал Анатолий Квашнин — будущий начальник Генерального Штаба ВС РФ.
Однако наши «разочарования» всем происходящим в тот день ещё не закончились. Через несколько часов в вечерних новостях телекомпании НТВ проходит репортаж из Чечни, сделанный корреспондентом этой телекомпании. Там оператор под захлебывающийся от восторга голос комментатора показывает, как эта самая злополучная установка БМ-21 «Град» выходит из укрытия на позицию для стрельбы, делает пуск реактивных снарядов по нашей группировке. Расчёт установки покидал позицию, стоя на подножке машины, проезжающей мимо объектива телекамеры. До сих пор помню разгорячённых и радостных чеченцев, снятых крупным планом, и кричащих: «Аллах акбар!».
Примерно через две недели я оказался на том пригорке, и по знакомому из телепередачи пейзажу понял, что нахожусь на том самом месте, на котором и находился 18 декабря телеоператор НТВ.
До сих пор не могу избавиться от впечатления, что в те трудные для солдат и офицеров дни объективы телекамер российских телевизионных каналов расстреливали нас больнее, чем противник.
Кстати, через три дня разведчики 45-го полка спецназа ВДВ эту установку БМ-21 «Град» нашли. Она укрывалась в ангаре, поэтому обнаружить её с воздуха было невозможно. Но мы знали, что находится она в Старопромысловском районе. А этот район — одна длинная-длинная улица, вернее, шоссе. По обе стороны от шоссе стоят жилые дома, производственные и складские помещения.
Разведчики под командованием полковника Бориса Александровича Козюлина с помощью одного старенького переносного радиопеленгатора (второй сломался, а заменить и отремонтировать его было уже некому, так как их производство было прекращено) взяли пеленг на радиостанцию, которой пользовался расчёт этой установки. Потом на карте его прочертили и по пересечению пеленга с шоссе вычислили её местонахождение. Там находился ангар. По нему и нанесли удар артиллерией и авиацией. Всё разнесли — вместе с расчётом…
26 декабря 1994 года в 12 часов дня в железнодорожном пункте управления министра обороны генерала Павла Грачёва началось совещание. Присутствовали министр внутренних дел Виктор Ерин и директор Федеральной службы контрразведки Сергей Степашин. Был также заместитель начальника ГРУ генерал Валентин Корабельников, начальник штаба антитеррористического центра ФСК генерал Дмитрий Герасимов, командир группы «Альфа» Геннадий Зайцев и один из руководителей ФСО. Доклад делал я. До того министром обороны мне была поставлена задача проанализировать возможность проведения специальной операции по взятию пункта управления Дудаева, то есть его «президентского дворца» в центре Грозного.
Я собрал информацию из всех источников — данные нашей разведки, разведки СКВО, ГРУ, разведки Внутренних войск, данные ФСК. Доложил, какими средствами располагал Дудаев в Грозном за четыре дня до нового, 1995-го, года. По моим подсчётам, которые впоследствии оказались даже заниженными, получалось, что противостоять в ходе специальной операции нашим отрядам спецназа могут две — две с половиной тысячи боевиков. Мы знали, как организованы их противовоздушная оборона и охрана Дома правительства, какие есть у них мобильные группы и чем они вооружены.
Доложил я и о наличии своих сил и средств. 45-й полк спецназа ВДВ как боевая единица к тому моменту уже завершил формирование, был неплохо подготовлен и, без солдат последнего призыва и тыловых подразделений, базировался в Моздоке на аэродроме. До этого более полугода без каких-либо указаний сверху мы усиленно занимались с полком боевой подготовкой. Мы, разведчики ВДВ, целенаправленно готовились к боевым действиям: даже командно-штабные учения провели именно на картах Северного Кавказа. Вооружение у нас по тем временам было неплохое. Позже оно появилось и в других спецподразделениях.
Получалось, что у меня участвовать в операции с оружием в руках могли четыреста тридцать хорошо подготовленных разведчиков. Грачёв спрашивает у Корабельникова: «У вас сколько?». К тому моменту Главное разведывательное управление вывело в Чечню один отряд армейского спецназа численностью около ста человек. Соединения и части специального назначения ГРУ, как и вся оперативная разведка, к концу 1994 года успели сильно пострадать от сокращений и «реформы армии».
От ФСК к выполнению задачи готова была одна группа: двадцать семь спецназовцев. Это были очень хорошо подготовленные офицеры — будущий костяк возрождённого позднее «Вымпела». С осени 1993 года отряд «Вымпел», бойцы которого отказались штурмовать Белый Дом в Москве во время известных событий, находился практически в расформированном состоянии. «Вымпел» был передан в состав МВД, где и переформировывался под названием «Вега». Позже спецназ ФСК был прикомандирован к 45-му полку ВДВ и работал с нами постоянно. Дело в том, что в те времена штатным расписанием этому элитному отряду не было предусмотрено ни каких-либо средств обеспечения, ни машин для передвижения, ни топлива для них, ни пункта обеспечения боеприпасами, ни пункта хозяйственного довольствия.
Из группы «Альфа» налицо было девятнадцать человек, о чём и доложил генерал Г. Зайцев. Семнадцать спецназовцев оказалось у Федеральной службы охраны.
Грачёв сам в уме произвёл подсчёты и подвёл итог: «Это всего шестьсот человек». Потом он посмотрел на Ерина, у которого численность спецназовцев превышала всех остальных, вместе взятых. Не помню дословно, что Ерин ответил, но по смыслу его ответ Грачёву звучал примерно так: «Возьмёшь Грозный, а я его зачищу».
Грачёв минут пять-семь размышлял, глядя на карту, по которой я докладывал, потом положил обе руки ребрами ладоней справа и слева от Грозного и говорит: «Мы Грозный блокировали». Затем положил правую руку и на северную часть карты, показывая, как именно мы блокировали Грозный.
Что касается блокирования, то это было, конечно, некоторое преувеличение. С трёх сторон — с севера, запада и востока — группировки подошли к Грозному. Но о серьёзной блокаде не могло быть и речи. Юг — а это почти сплошные лесные массивы — был вообще открыт.
Далее Грачёв произнёс весьма интересную для объективных историков фразу, подводящую итог совещанию и раскрывающую его замысел дальнейших действий войск в зимней кампании 1994–1995 годов: «Грозный мы штурмовать не будем. В середине января начнём выдавливать их из города. Пусть бегут в горы, там мы их весной добьём». Это было сказано 26 декабря 1994 года в 14.00. На этом совещание закончилось, и все разошлись.
Однако на следующий день с утра Ерин, Грачёв и Степашин одним самолётом вылетели из Моздока в Москву. Вечером того же дня они вернулись обратно, и началась подготовка операции по взятию Грозного к исходу 1994 года, то есть в ближайшие три дня.
Кто мог поставить троим министрам эту абсолютно невыполнимую задачу?! Ведь Грачёв закончил не одну военную академию. Если Ерин со Степашиным могли чего-то не знать в военных науках, то Грачёв не мог не понимать, что невозможно было за три дня подготовить, организовать и провести фактически армейскую операцию по взятию города с населением четыреста тысяч человек силами той разношёрстной, неподготовленной и неслаженной группировки войск. Артиллеристы были из одного военного округа, танкисты — из другого, пехота — из третьего. Все полки и батальоны были «сводными». Сам это термин «сводный» появился в те печальные времена и обозначал часть или подразделение, укомплектованные офицерами и личным составом из разных частей и подразделений. Несогласованность, несостыкованность, неслаженность нескольких десятков тысяч солдат и офицеров невозможно преодолеть за три дня. Смешно даже говорить о хоть какой-то управляемости, когда командиры батальона знали не всех своих командиров рот в лицо, а командиры рот — своих взводных.
Для подготовленных и обученных войск есть оперативные нормативы по времени на выработку решения, на планирование и постановку задачи, на организацию взаимодействия в армейском, а также в дивизионных, полковых и других звеньях. В свою очередь командиры частей и подразделений, получив задачу, должны её осмыслить, оценить обстановку, принять решение, спланировать боевые действия, организовать взаимодействие. И только потом всё это довести до нижестоящих командиров, которым также нужно определить и подготовить личный состав, технику, вооружение к предстоящим боевым действиям и довести задачу до каждого солдата. В декабре 1994 года за три дня всю эту работу сделать было практически невозможно.
Поэтому, когда наши войска входили перед новым, 1995, годом в Грозный, не готовы были не только солдаты. Задачу не знали большинство командиров взводов и даже некоторые командиры рот!.. Шли колоннами, не зная куда, не зная, где противник, и как он будет действовать. Поэтому всё так и произошло…
К утру 1 января наша группировка уже понесла потери и остановилась. Генерал-лейтенант Квашнин, к тому времени уже командующий ОГВ, пришёл на ЦБУ с картой, на которой были нарисованы красивые красные стрелы среди маленьких синих кружков, обозначающих дудаевские позиции… Он встал рядом с картой и говорит: «Мы воткнули в Грозный лом, — показывая на красные стрелы. — Сейчас мы раскачаем лом и развалим оборону Грозного». Это всё происходило в то время, когда остриё этого «лома» — батальон 131-й Майкопской бригады — в районе железнодорожного вокзала был уже разгромлен почти полностью.
Спецназовцы 45-го полка входили в Грозный уже 1 января. Ещё 31 декабря в 16.00 генералом Л. Шевцовым (в то время он был начальником штаба группировки) мне была поставлена задача — сформировать из 45-го полка отряд и на пяти вертолётах МИ-8 высадиться в Грозном на заводском стадионе. Дальше наш отряд должен был разблокировать батальон 131-й бригады в районе железнодорожного вокзала.
Приказ есть приказ. Мы начали спешно готовиться к его выполнению. К 17.00 было подготовлено пять групп по пятнадцать человек в каждой, и мы вышли к вертолётам для посадки. Вообще вертолёт МИ-8 вмещает шестнадцать человек, но я сформировал группы по пятнадцать. Однако и пятнадцать полностью экипированных и вооружённых спецназовцев оказались для изношенных вертолётов слишком тяжёлым грузом. Лётчики отказались взять нас на борт, потребовав: «Сокращай группы до двенадцати человек». Пока я переформировывал группы и делал перерасчёт, очень быстро стемнело, и вертолётчики окончательно отказались подниматься в воздух. Но если бы мы взлетели, то, без сомнения, вертолёты над Грозным были бы сбиты. Как потом выяснилось, именно в это время на том самом стадионе, куда мы должны были высаживаться, находился дудаевский резерв, запас оружия, формировались и вооружались отряды ополчения.
После отказа вертолётчиков лететь я доложил о сложившейся ситуации Л. Шевцову и был примерно наказан, получив новую команду немедленно идти на Грозный своим ходом. Мой заместитель, полковник Валентин Михайлович Прокопенко, сформировал колонну из двенадцати бэтээров, нескольких «уралов» и с отрядом двести человек вышел из Моздока ровно в полночь с 31 декабря 1994 года на 1 января 1995 года. Отряд сделал попытку войти в Грозный, как это и было спланировано и приказано командованием, с севера, по Первомайскому шоссе.
Валентин вёл колонну осторожно, с усиленным охранением. Но как только колонна втянулась в город, из засады дудаевцы гранатомётами и автоматами охранение обстреляли.
Валентин быстро сориентировался — отряд принял бой, сбил засаду, но не стал пробиваться вперёд. Под огнём противника Валентин вывел все машины из боя без потерь в личном составе и технике. Осколками брони и гранаты, попавшей в щиток башни бронетранспортёра, был серьёзно ранен капитан В. Паньков.
Вторую, более удачную попытку, мы предприняли на следующий день, воспользовавшись другим путём через кладбище и по огородам жилого сектора, который днём ранее пробил мудрый генерал Лев Рохлин. Он не стал испытывать судьбу на Первомайском шоссе, где накануне «духи» как раз его и поджидали и основательно готовились к встрече.
…Так для разведчиков ВДВ началась чеченская кампания, которая продолжалась для них почти двенадцать лет. За эти годы 45-й полк спецназа ВДВ потерял тридцать пять человек, десять военнослужащих полка стали Героями Российской Федерации. Полку присвоено имя Александра Невского, и впервые за всю послевоенную историю Советской и Российской Армии указом Президента России полк стал Гвардейским. Из всех соединений и частей ВДВ полк покидал чеченские горы последним — весной 2006 года.
Подвиг разведчика
Операцию, за которую тогда ещё старший лейтенант Андрей Шевелёв получил звание Героя России, сейчас изучают в военных училищах и академиях. И знаменательна она не количеством уничтоженных врагов и подбитой техники, а количеством сохранённых жизней наших десантников. В декабре 1994 года 76-я воздушно-десантная дивизия уже готовились в лоб атаковать «дудаевцев», которые успели хорошо организовать оборону Грозного на наиболее вероятных направлениях наших ударов.
Именно тогда командир дивизионной разведроты Андрей Шевелёв доложил комдиву: «Я выполнил приказ и нашёл путь через горы». И именно по этому пути несколько тысяч десантников с тяжёлой техникой и боеприпасами скрытно преодолели Сунженский хребет. Они без единого выстрела и без единой потери вышли во фланг противника и обратили его в бегство. Определить истинную цену этого подвига разведчиков могут только те, кто благодаря ему остался жив.
Рассказывает Герой России, подполковник Андрей Владимирович Шевелёв:
— В 1994 году я командовал отдельной разведывательной ротой 76-й воздушно-десантной дивизии. 26 ноября 1994-го в Грозном была сожжена российская танковая колонна. После этих событий нас подняли по тревоге, и в тот же день вечером мы приземлились на аэродроме города Беслан в Осетии.
Такая командировка была для нас обычным делом. Ведь 76-я дивизия ВДВ участвовала в урегулировании почти всех конфликтов, которые к тому времени вспыхивали регулярно. Это и ГКЧП в августе 1991 года, и конфликт в Северной и Южной Осетии в 1992 году, и октябрьские события 1993 года в Москве. Мы находились в своеобразном тонусе и привыкли, что каждые полгода нас куда-то «выдёргивают», хотя масштабных боевых действий мы нигде не вели. Поэтому и летели с настроением, что будем, как обычно, обеспечивать порядок. Это означало, что мы должны встать на блокпосты и следить, чтобы не творился произвол.
В Осетии в то время не было ничего такого, что предвещало бы начало масштабных боевых действий на территории Чечни. Да, приходили сводки, что в Чечне идёт сосредоточение вооружённых людей, идут какие-то военные приготовления. Но тон этих сводок не был тревожным.
Запомнилось удивительно доброжелательное отношение к нам осетин. Они ведь помнили нас со времени конфликта 1992 года, когда мы им помогли.
О моём благодушном настрое в то время говорит тот факт, что на Новый год я собирался уйти в отпуск, в котором не был три года. Мы с замом взяли путёвки в санаторий, рассуждая примерно так: за месяц организовываем службу и, когда всё налажено, оставляем за себя подчинённых и Новый год встречаем уже в санатории. Встретили…
Хорошо помню момент, когда ко мне пришло чёткое осознание — начинается настоящая война. Это произошло после переговоров Министра обороны генерала Грачёва с Дудаевым, которые состоялись 6 декабря в 16:00 в здании администрации Сунженского района Ингушетии в станице Слепцовская.
Моя рота сидела в вертолётах в полной готовности и должна была при необходимости обеспечить безопасность Грачёва на время переговоров, на которые мы все возлагали большие надежды. Грачёв предложил Дудаеву сложить оружие и пропустить наши войска в Грозный для обеспечения конституционного порядка. Дудаев, как мы знаем, отказался. Сразу после окончания переговоров выступил по местному радио, передачи которого мы могли слушать и в Осетии. Буквально дословно он сказал: «Окропим кровью неверных нашу землю». И у меня внутри словно переключатель щёлкнул — будет война, надо готовить пацанов.
До этого мы готовили технику, дополучали имущество, боеприпасы и занимались главным образом хозяйственными делами. Но с этого момента мы начали готовить бойцов к бою в городе. Времени было совсем немного, потому что уже через несколько дней, 10 декабря, мы двинулись на Грозный через Ингушетию.
Генеральным штабом для дивизии был выбран маршрут по дорогам — ведь мы идём по своей территории! Но одновременно перед моей разведротой была поставлена задача искать обходные пути. Ведь в условиях ведения боевых действий основные пути могли быть блокированы (как потом и оказалось), мосты на маршруте движения колонн могли быть разрушены и так далее. Мы несколько раз ходили в разведку уже на территорию Ингушетии; знали, что ингуши сочувствуют чеченцам, и поэтому не рассчитывали на беспрепятственное продвижение по территории этой республики.
В первом же населённом пункте ингуши перегородили нам дорогу. Их было около ста человек, в основном старики и женщины. И эти старики стучат палками по броне, кричат. Я одному говорю: «Отец, отойди! Ведь это машина, не дай Бог кого-то зацепим». А он мне в ответ: «Я тебе не отец, ты пришёл на мою землю». И его ненавидящий взгляд я помню до сих пор.
Мы остановились. Командир дивизии — генерал Иван Ильич Бабичев — принимает решение разворачиваться и обходить. Понятно, что это не последний случай и продвигаться такими темпами невозможно. Не давить же людей — ведь нет ни войны, ни даже конфликта. Плюс приказ — не стрелять ни в коем случае. Да ещё у нас был опыт Осетии, когда нас очень долго таскали в прокуратуру и выясняли — кто стрелял, в кого стрелял, где находился, куда двигался и так далее. Да и вообще — поступишь сейчас жёстко, а потом в верхах между собой договорятся, и ты окажешься крайним…
Иван Ильич на бэтээре подъезжает к людям, а сам даёт приказ разворачиваться и сосредоточиться в чистом поле, чтобы уже там принимать решение, как двигаться дальше. Мне ставится задача: искать пути обхода и вести по ним дивизию. Колонна разворачивается, уходит, и я вижу, что комдив остаётся один среди разъярённой толпы, которая его начинает окружать! Я поворачиваю назад и на своей машине въезжаю прямо в толпу. Комдив мне: «Я тебе приказал уходить!» Отвечаю: «Я не уйду, я останусь с вами». Мы с пятью бойцами оттеснили от комдива толпу и вывели его.
Я понимал его действия — ему надо было успокоить толпу. Тем более человек он решительный. Но где гарантия, что не будет провокации? Ведь это комдив, и понятно, что без него дивизия на какое-то время потеряет управление. Позже он признал, что я поступил правильно.
Мы двинулись уже по полям. И здесь я оплошал. Дело было так. Мы в головном дозоре двигались впереди дивизии, выполняя свою главную задачу — вести разведку по маршруту движения главных сил. Вижу: стоит посреди поля в просеке шалаш. Я — туда: спят двое мужиков, у одного — ружьё. И даже не приходит в голову мысль, что это противник. Думаю — это же сторожа, они поле охраняют. Мы их не тронули. Потом уже осознал, что это, видимо, был пост. Но… ведь ни войны, ни военного конфликта, кто же знал…
К тому времени у нас ещё не было ни одной потери. Поэтому трудно было тогда ещё видеть в чеченцах врагов, которые могут тебя убить, не задумываясь. Но когда нас первый раз обстреляли, внутри что-то повернулось. Было это в станице Асиновская 12 или 13 декабря. Въезжаем в станицу и видим нашу машину, которая лежит в кювете. А рядом с ней корчится от боли наш офицер. И вдруг слышу — тук, тук! Это пули по броне щёлкают. Даю команду — стволы развернуть вправо, одному отделению спешиться и эвакуировать раненого, а другому из всех видов оружия открыть огонь. К тому моменту приказа стрелять ещё не было. Но я об этом не думал — я видел перед собой раненого офицера. Мы заняли оборону, ведём огонь, а наша колонна проскакивает мимо.
Я так понял, что боевики из Асиновской отошли после того, как туда пришёл СОБР (специальный отряд быстрого реагирования. — Ред.) и начал зачищать станицу. Мне поставили задачу: искать путь в обход Асиновской. Путь мы нашли, и в результате колонна вышла к месту, куда и должна была выйти, — к Шали. Мы выдвинулись вперёд и заняли оборону на двух господствующих высотах. Прямо под нами был город.
Мы не окапывались, только камнями оборудовали стрелковые ячейки. Наблюдаю за городом в бинокль. Вижу — на площади собирается народ. Время было примерно около двух часов дня. А в горах в пять часов как будто кто-то выключатель поворачивает — в один миг наступает абсолютная темнота. Поэтому понятно, что надо уходить ближе к своим. Докладываю. Мне отвечают: «Жди, наблюдай».
В это время из толпы на площади выходят человек двадцать, строятся и выдвигаются в сторону моей высоты. Вооружены гранатомётами, автоматами. Я докладываю, что в нашу сторону направляется вооружённая группа людей. Мне отвечают: «Не переживай, это местные силы самообороны, с ними контакт есть». Жду.
Через некоторое время человек двенадцать из них занимают оборону на высотке ниже нас, а другая группа по арыку начинает нас обходить. Расстояние до той горки было метров восемьсот или километр. Я подтягиваю с соседней высоты нашу вторую машину (вместе веселее обороняться) и докладываю: «Меня окружают». Отвечают: «Этого не может быть. Всё нормально, идут переговоры».
Спасибо родному училищу и командирам, что хорошо учили. Каждый год мы летали на учения на разные виды местности — в леса, в болота, в горы. И вот во время этих занятий я понял, что такое бой в горах, бой ночью в горах и оборона в горах. И я знал, что как только «свет выключится», я превращусь в слепого и беспомощного мышонка. А они каждую тропинку знают, они у себя дома. Поэтому я своих ещё раз спрашиваю: «Не пора ли нам пора?..». Отвечают то же самое: «Жди. Идут переговоры».
А боевики по арыку обходят нас. Идут в полный рост чуть ли не строевым шагом — арык им по пояс примерно. Вижу автоматы, гранатомёты. И тут я для себя мысленно определяю точку перехода на арыке и решаю, что если они пойдут дальше, то я уже спокойно сидеть и ждать не буду. Даю команду снайперу держать под прицелом эту точку и докладываю начальнику разведки: «Я буду стрелять». Он мне опять: «Жди, идут переговоры». Но для себя я уже всё решил.
В такой ситуации дать приказ стрелять бойцу — это значит: подвести его под эшафот. Поэтому забираю у него винтовку, и, как только первый «дух» из арыка вышел, я выстрелил. Выстрелил на поражение. Он упал, остальные залегли. И слава Богу — буквально сразу по радио приходит приказ, разрешающий открывать огонь. Я винтовку отдал снайперу и говорю своим: «Как только кто-то спину высунет из арыка — валите!». А две наши машины к-а-к дали по «духам», которые на высотке залегли! Они и драпанули сломя голову.
Оставшиеся «духи» в арыке зажаты. Мы им головы не даём поднять. Я думаю: «Если эти убегут, то как потом сможем мы доказать, что обоснованно применили оружие?». Поэтому держим их под огнём плотно.
Проходит где-то полчаса, и со стороны Шали едет белая «нива» с белым флагом. Мы её подпустили. Выходит дед такой колоритный, с орденскими колодками на пиджаке, с посохом в руках. Понятно, что просит переговоров. А я — старший лейтенант, меня переговоры никто вести не учил! Да и о чём говорить? Какие у меня полномочия?
Даю команду своим держать под прицелом водителя «нивы». Сам на бээмдэ (БМД, боевая машина десанта. — Ред.) спускаюсь к старику. И он говорит: «Сынок, мне эта война не нужна». У меня как пружина какая-то внутри разжалась. Отвечаю ему: «Мне-то тем более не нужна!» Говорит: «Мне надо пятнадцать минут, чтобы забрать вон тех, из арыка. Через пятнадцать минут можете уходить, вас никто не тронет». Отвечаю: «Меня это устраивает».
Возвращаюсь на гору и вижу, как боевики грузят в «ниву» того, в которого я стрелял. Я так понял, что он был только подраненный. Они его не волоком тащили, а он вроде как-то и сам шевелился. Потом старик построил остальных, закричал на них — и давай палкой дубасить! Они впереди «нивы» в город и побежали!
Дальше продвигаться было легче. Часто чеченцы сами давали нам проводников, которые проводили нашу колонну мимо их населённого пункта. Они гарантировали: «У нас боевиков нет, техники нет. Не заходите в посёлок, а мы покажем вам дорогу в обход». И так мы дошли почти до самого Грозного. Но тут стало понятно, что дальше так уже не получится. Рубикон перейдён. У соседей появились первые потери, первые погибшие.
Группировки остановились. От нас до Грозного по прямой оставалось двенадцать километров. Мы имели данные разведки, что перед нами два или три кольца обороны: танки в землю врыты, минные поля расставлены. Надо было принимать решение о полномасштабном наступлении. Вызывает меня комдив на совещание и говорит: «Надо найти дорогу к Грозному вот здесь». А сам руку на карту положил и ею показывает — где. Я поверх его руки смотрю — а это горы, Сунженский хребет. Отвечаю: «Есть».
Времени мне дали сутки. Природа была за нас — стоял густой туман, ничего не видно. Как говорится, погода разведчика. И в восемь утра на двух машинах мы наощупь по горам двинулись в сторону Грозного. Не знаю точно, сколько мы накрутили, но длина маршрута, который мы проложили для наших колонн, была тридцать шесть километров.
Как сейчас помню: вываливаемся мы из облаков — и перед нами город внизу! Как-то не верилось, что это Грозный. Хотя не мог это быть какой-то другой город, не было таких больших рядом. Но на всякий случай достаю карту и начинаю искать ориентиры — вышки, высотные здания. Точно, Грозный.
Докладываю по радио своим: «Я возле Грозного, до окраины километра три». Отвечают: «Ты ошибся, ты не можешь там быть. Возвращайся».
Тут вижу, что со стороны города двигается в нашу сторону «камаз». Не знаю, заметили нас или нет, но мы быстро поворачиваем назад и снова прячемся в облака. И тут приходит в голову мысль — зачем идти в лоб и воевать? Если мы прошли, то и дивизия этой дорогой пройдёт.
Но был одни нюанс — мы шли на гусеничной технике, а в дивизии много колёсных машин с боеприпасами. А машина связи вообще неустойчивая, переворачивается при малейшем крене. Поэтому назад шли осторожно, не просто по своим следам. Если видим, что в каком-то месте такая машина может не пройти, то ищем объезд опасного места. А маршрут мы обозначили камнями через каждые пятьдесят — сто метров. Ведь было ясно, что двигаться придётся и ночью.
Пока мы возились с камнями и обозначали ими повороты, стемнело. Вернулись к дивизии мы около шести часов. Я захожу к комдиву на доклад, а у него совещание. Там уже началась постановка задачи на продвижение с боем по сверху утверждённым дорогам.
— «Я нашёл дорогу». — «Где?». Показываю. — «Здесь нет дороги». — «Я был возле Грозного». Комдив у нас был человеком рассудительным, интеллектуалом. Но, как всегда в таких случаях бывает, нашёлся шашкомахатель из его замов. Не знаю, чего ему хотелось — погон, званий, наград, славы… Говорит: «Не может быть, ты врёшь!». Ну вроде бы как тут спорить: я — старший лейтенант, он — полковник!..
Но тогда я чётко понял: ведь если я не докажу, что есть путь в обход, то будет наступление, а значит — потери. Смотрю на комдива и вижу, что он решения ещё не принял, только его формирует. Тогда говорю: «Я не лгу. Если мне не верите, дайте мне старшего офицера. Я готов его прямо сейчас отвести к Грозному и вернуться. Но времени у нас останется уже меньше».
Комдив говорит: «Хорошо, бери». Дали мне начальника разведки дивизии. Я говорю: «Дайте ещё машину тяжёлую, с боеприпасами, и машину связи, которая неустойчивая. Если они пройдут, то все пройдут».
Мы прошли туда и вернулись обратно (Именно тогда у того полковника, которому я не дал повоевать, затаилась змеёй обида на меня. Впоследствии дело дошло до того, что он начал нас в засады засылать на верную смерть. Как-то я набрался наглости, пошёл к комдиву и спросил разрешения на уточнение задачи: «Скажите, может быть в таком месте засада или нет?». Он говорит: «Какой дурак тебя сюда посылает? Я тебе запрещаю».)
Когда мы вернулись, комдив поверил мне окончательно и начал на ходу перестраивать план. Получалось, что к тому времени мы с моей ротой не спали уже сутки. А тут ещё перед началом движения нам надо было выставлять блокпосты на господствующих высотах, чтобы колонна не нарвалась на засаду. На блоки встали разведчики десантно-штурмовой бригады, которая шла вместе с нами. Мы их вывели первыми. А потом я со своими разведчиками — теми, кто знал дорогу, — ещё двое суток без перерыва проводили части колонны. Так и мотались — туда и обратно. Боялся, что бойцы не выдержат и заснут. Пошёл к доктору и попросил дать чего-нибудь. Он дал сиднокарб (психостимулятор, применялся военными медиками в спецподразделениях в Первую чеченскую кампанию. — Ред.), и механики мои продержались.
В полках на момент начала проведения операции серьёзных боестолкновений не было. Это нашей роте довелось столкнуться с попыткой окружения, где пришлось применять оружие по реальному противнику. Припоминая свои сомнения, я опасался, что предстоящий марш будет недостаточно серьёзно воспринят в подразделениях, и попросил комдива: «Можно, я скажу пару слов офицерам».
Конечно, такие моменты общения нигде не прописаны, но обстановка диктовала такую необходимость. Очень хотелось, чтобы они прочувствовали сложность предстоящего марша: «Если хотим жить, надо делать так: идём колея в колею. Малейшее неправильное движение рычагами — и ты в пропасти. Колонну придётся выстраивать не совсем так, как учили, — будем чередовать колёсные и гусеничные машины. Будут подъёмы и спуски. Колёсные машины создадут накат, а танк должен этот накат разбивать, чтобы следующие колёсные не скользили. Если что, цепляем колёсную к гусеничной тросами и вытягиваем. Личный состав на подъёмах и спусках спешивать». В результате удалось эту так называемую дорогу сохранить в проходимом состоянии даже после того, как по ней прошли десятки машин.
Когда после выставления блокпостов я потащил первую колонну, как оказалось, боевики на спуске с гор успели выставить минное поле из шести мин. И я должен был первым проехать по этому полю, и «проехал» бы… Но Господь меня берёг.
Подъезжаю к этому месту и вдруг получаю по радио команду: «Принять влево, остановиться. Пропустить машину». А я тогда обиделся — как это кто-то пойдёт впереди разведчика! Не положено, не принято, не бывает так! Тут из тумана выплывает танк и гордо проезжает мимо меня. На броне замполит бригады с флагом, за ним в сопровождении машина полковой разведроты. Красота!
Только они в тумане скрылись — взрыв!!! Туда сразу побежал офицер с блокпоста. Возвращается и говорит: «Ну, Андрюха, ты везучий. Танк на мину наехал». Мы — туда. А танку-то что — ему только правый направляющий каток оторвало. Механик-водитель по-походному шёл, голова из люка торчала. Когда он на первую мину наехал, и она рванула, он сразу стопорнул танк. Молодец! Если бы не среагировал, то все бы мины собрал. До сих пор помню его лицо, чёрное от копоти. Получил контузию, но цел. А вот если бы мы на своей БМД на эту мину наехали, тогда бы точно всем нам конец, «розочка» бы была, а не машина. Я своим бойцам тогда сказал: «Вот смотрите, это наша смерть здесь была».
Когда первые наши подразделения спустились с гор, то оказалось, что они вышли во фланг обороны дудаевцев. Наши сразу вступили в бой, и боевики просто разбежались. По дороге, которую мы проложили, пошли и остальные. Этим маршрутом прошла не одна тысяча человек.
Мы единственные из всей Объединённой группировки вышли к заданному рубежу вовремя. А чеченские пропагандисты в то время штамповали лозунги, что ни один неверный не подойдёт к Грозному. Поэтому наш прорыв имел большое стратегическое значение. Потом уже ночью противник, опомнившись, предпринял контратаку на позиции 104-го полка. Контратака была отбита. У нас появились первые потери. Особенно запомнился подвиг одного полкового наводчика-оператора (я уже не помню точно его фамилию). В этом бою он погиб, ведя огонь из боевой машины. Он заживо сгорел в ней, положив вокруг себя порядка тридцати боевиков.
После этой атаки мы собрали оружие и всё засняли на фотоплёнку. Ведь в СМИ тогда кричали, что мы воюем с мирным населением. А тут наглядно всё — оружие, экипировка, документы, и вовсе немирного населения.
После этой операции командир дивизии доложил Министру обороны, и тот приказал представить к наградам всех достойных офицеров, прапорщиков и солдат. Тогда комдив предложил представить к званию Героя России меня и погибшего наводчика-оператора. И поставил своё предложение на собрании офицеров дивизии на голосование. Непривычная процедура, но тогда многое было не таким, как в учебниках и по документам.
Я не верил, что меня действительно наградят. Подготовил представления на своих разведчиков и пришёл к начальнику оперативного отдела дивизии. Он спрашивает: «Ну что, к оружию именному кого-то представляешь?» Спрашиваю: «А можно?» — «Конечно, можно. Пиши». Думаю: «Звезду всё равно не дадут, а именное оружие…». Прихожу к комдиву и говорю: «Товарищ генерал, а разрешите мне вместо Героя именное оружие?». Он посмотрел на меня и говорит: «Иди отсюда…». Мне же всего двадцать четыре года тогда было.
Указ о присвоении мне звания Героя состоялся 27 января 1995 года, но саму Звезду мне вручили только 18 марта 1996 года. 28 декабря 1994 года при входе в Грозный меня тяжело ранили, и более года я находился в госпитале. Плюс ко всему наш Президент в тот период очень часто «работал с документами на даче». Поэтому накопилось около сорока таких же, как я, которые ожидали награждения в Кремле. Министр обороны П.С. Грачёв принял решение больше не ждать, собрал нас в Министерстве и вручил нам награды.
Штурм Грозного. Совмин
Рассказывает Герой России генерал-майор Андрей Юрьевич Гущин:
— На войне в Чечне я был капитаном, заместителем командира отдельного парашютно-десантного батальона морской пехоты Северного флота. Самим батальоном командовал подполковник Юрий Иннокентьевич Семёнов.
Когда в декабре 1994 года только началась Первая чеченская кампания, заговорили о возможном участии в ней морских пехотинцев Северного флота. Тогда никто толком не знал, что же на самом деле происходит в Грозном. О кровопролитных боях и многочисленных потерях узнать было неоткуда, об этом по телевизору не показывали и в газетах не писали. Поэтому мы не представляли ни масштаба, ни серьёзности задач, которые нам предстояло выполнять, и добросовестно готовились к обычному перекрытию дорог и осуществлению паспортного контроля, не более того.
Но всё в один час изменилось, когда в первые дни января 1995 года мы узнали о гибели солдат и офицеров Майкопской мотострелковой бригады. Стало ясно: ситуация в Грозном совсем не такая, как мы наблюдали, глядя в телевизор.
А в Рождество 7 января в пять часов дня в бригаде сыграли тревогу. И уже ночью того же дня десантно-штурмовой батальон находился на аэродроме в Оленегорске. Оттуда 7 и 9 января самолётами нас перебросили в Моздок.
Часа через три после посадки в Моздоке нам приказали разгружать вертолёты, на которых привезли раненых. Я считаю, что это было ошибкой. Раненые все окровавленные, кричат, стонут… И ещё давай нашим бойцам рассказывать: «Там настоящий ад! Куда вы идёте!?.». И если до этого у всех чувствовалась просто напряжённость, то тут уже в глазах бойцов появился настоящий страх. Потом пришла и злость. (Но это было позже, когда в бою мы начали терять своих.)
Нельзя забывать, что собственно морских пехотинцев в батальоне было всего человек двести из тысячи ста, а почти девятьсот — это моряки с подводных лодок, надводных кораблей, из строительных и караульных рот. А что видел моряк в подводной лодке или на корабле? Служба у него в тёплом помещении, в уюте… Автомат в руках такой матрос держал в лучшем случае только на присяге. А тут холод, грязь, кровь…
Но вот что удивительно: этот страх стал для них спасительным, мобилизуя и дисциплинируя людей. Теперь, когда офицеры матросам объясняли, как надо укрываться, как передвигаться, чего опасаться, то они всё понимали с полуслова.
Одна рота батальона сразу ушла в Грозный, в аэропорт Северный, а остальные из Моздока до Северного пошли колонной. Всего в колонне было около тридцати машин с одним бэтээром охраны.
Грязь на дороге была непролазная, и два наших «урала» с боеприпасами отстали. Комбриг мне говорит: «Гущин, садись на броню и езжай, ищи машины с боеприпасами». А уже темень наступает. Еду прямо через аэродром. Выстрелы!.. Останавливаюсь. Какой-то генерал говорит: «Куда едешь?». Я: «Комбриг отправил машины искать». Он: «Назад! Через аэродром в темноте ездить нельзя». А темнеет уже капитально. Я рванул дальше. Разворачиваться некогда. Доехал до первого танка охранения. Останавливаюсь, спрашиваю: «Две машины не видели? Тут буквально час назад колонна проходила». Танкисты: «Возвращайся обратно, темно уже. Здесь зона нашей ответственности заканчивается».
Я запомнил по светлому времени, откуда пришёл. Развернулся и пошёл обратно по старой колее. По дороге меня снова остановил генерал, вроде бы уже другой. Но я всё равно поехал поперёк аэродрома, объезжать вокруг было некогда. Как оказалось, на аэродроме ждали прилёта министра обороны, поэтому полоса должна была быть чистой.
Комбригу докладываю: «Танкисты порекомендовали вернуться. «Уралы» не нашёл». Он: «Всё нормально, «уралы» пришли». Вот такой был мой первый, можно сказать, пробный рейд.
Наш батальон передали в состав 276-го мотострелкового полка. Командовал им полковник Сергей Бунин. Нам поставили задачу: расположиться в аэропорту Северном и занять оборону. Но боевые части наши были переброшены самолётами, а тылы-то отправили по железной дороге (они пришли через две недели)! Поэтому с собой у нас были только боеприпасы и по два-три сухпайка на человека.
Пехота с нами поделилась, чем могла. Но когда мы вскрыли контейнеры и достали рис и макароны, то стало понятно, что на складах они лежали очень давно: внутри были уже засохшие черви. То есть продукты были настолько древними, что даже черви померли. И когда нам подали суп, все сразу вспомнили фильм «Броненосец Потёмкин». В супе так же, как фильме, черви плавали. Но голод — не тётка. Отгребаешь червей ложкой в сторону и суп ешь… Командование, правда, тут же пообещало, что скоро будет и сыр, и колбаса. Но этого счастливого момента я не дождался.
В ночь с 10 на 11 января наша парашютная рота пошла брать Главпочтамт. Был бой, но взяли его наши практически без потерь. Сказалась внезапность — боевики их не ждали!..
Сам я в тот момент ещё оставался в Северном, меня назначили временно ответственным за боеприпасы. Но 13 января, когда подъехал начальник склада, я со 2-й ротой поехал в Грозный ознакомиться с обстановкой.
Обстановка эта оказалась страшная. Миномётные обстрелы, постоянные разрывы… Кругом прямо на улицах много трупов гражданских, стоят наши подбитые танки без башен… Сам командно-наблюдательный пункт батальона, куда я приехал, тоже был под постоянным миномётным обстрелом. И минут за тридцать-сорок мне, по большому счёту, всё уже стало ясно…
Тут меня увидел комбриг (он был старшим оперативной группы) и говорит: «Молодец, что приехал! Сейчас получишь задачу. Десантники дважды здание Совмина брали и дважды боевики их выбивали. Сейчас в Совмине и «духи», и наши. Но десантники понесли большие потери. Пойдёшь им на подмогу. Бери 2-ю десантно-штурмовую роту и противотанковую батарею. Задача — продержаться в Совмине двое суток».
Комбриг дал мне карту 1979 года выпуска. Сориентироваться по ней было почти невозможно: всё вокруг сожжено, развалено. Не видно ни номеров на домах домов, ни названий улиц… Даю команду противотанкистам готовиться: взять боезапаса столько, сколько сможем унести. И где-то около шестнадцати часов пришёл проводник — мотострелок — с белой повязкой.
Пересчитались, проверили и зарядили автоматы, патроны дослали в патронник, автоматы поставили на предохранители. Назначили дозорных, которые с проводником пошли впереди. Противотанковую батарею поставили в центр, потому что им идти трудней (они несут свои боеприпасы). Сзади нас охранял тыловой дозор. В общем, сделали всё по науке и пошли.
Какими запутанными путями нас вёл проводник! Если бы я ещё раз оказался там, то дорогу, по которой мы шли, я бы не нашёл никогда! Мы двигались перебежками через улицы, подвалы… Потом выходили через полуразрушенное дорожное покрытие наверх, проходили через пешеходные переходы под землёй… На одной улице, даже не знаю, как она называлась, мы попали под обстрел и долго не могли эту улицу перейти. Потом вообще попали в окружение: нас долбили спереди, справа, слева и чуть ли не с тыла. Стреляли по нам из всего, из чего только можно: из гранатомётов, из пулемётов, из автоматов…
Наконец куда-то пришли. Проводник махнул рукой: «Вон там Совмин, вам туда». И исчез… Осмотрелись: фасад здания рядом вдоль и поперёк изрешечён пулями, оконные проёмы наглухо заделаны досками, фанерой, кирпичом, лестничные пролёты снесены. То там, то тут вспышки от выстрелов, крики на нашем и на чеченском языках…
Всего нас было сто двадцать человек. Я разделил отряд на группы по десять человек, и в перерывах между обстрелами мы по очереди перебежали улицу перед Совмином.
Тут видим — из здания универмага ульяновские десантники выносят своих раненых (от их батальона в живых осталось человек сорок пять). Мы начали им помогать. Универмаг этот входил в комплекс зданий Совета министров Чечни. Весь комплекс напоминал по форме подкову — неправильный прямоугольник размером примерно метров триста на шестьсот. Кроме универмага в комплекс входили здания Центробанка, столовой и ещё какие-то постройки. Разомкнутая часть выходила на дворец Дудаева (до него было метров сто пятьдесят), боковая — на берег реки Сунжи.
После передышки минут на тридцать начался бой. И у меня 2-я рота сразу попала в передрягу: пошла вперёд, и за ней обрушилась стена дома (с пятого до первого этажа), а сам дом начал гореть. Рота оказались отрезанной и от моего командного пункта, и от противотанковой батареи. Надо было их выводить.
Десантники дали инженера. Он взрывом проделал в стене дома отверстие, через которое мы начали роту вытаскивать. А ещё она была и огнём прижата — пришлось её прикрывать. Только я вышел из дома во внутренний двор посмотреть, как рота выходит, вижу вспышку — выстрел из гранатомёта! Стреляли прицельно в упор со второго этажа, метров со ста. Я радиста на землю повалил, сам сверху упал… Нам очень сильно повезло: в доме было маленькое слуховое окно. И граната попала именно в него, влетела внутрь и там взорвалась! Если бы она взорвалась над нами, нас с радистом уже не было бы в живых.
Когда пыль рассеялась, я стал радиста в подвал затаскивать. Он обалдевший, ничего не понимает… Тут из подвала начал кто-то вылезать и кричать явно не по-русски «аларм!» («тревога», англ. — Ред.). Я, особо не раздумывая, дал очередь в подвал и гранату вдогонку забросил. Только после этого у десантников спрашиваю: «Наши есть в подвале?». Они: нет, а вот «духи» оттуда постоянно лезут. В центральном универмаге, где мы засели, были, естественно, огромные подвалы. Через них «духи» под землёй могли свободно перемещаться и постоянно снизу пытались нас из универмага выбить. (Потом мы узнали, что из этих подвалов шёл подземный ход прямо ко дворцу Дудаева.)
И тут почти сразу «духи» пошли в атаку ещё и через Сунжу (река в центре Грозного. — Ред.) и открыли по внутреннему дворику перед универмагом шквальный огонь!.. Чтобы от него укрыться, мы забежали в арку и залегли. Тут же к нам прилетают одна за другой две гранаты и под аркой разрываются! Все, кто лежал вдоль стенки, были контужены: пошла кровь из носа, из ушей…
Рвануло под аркой капитально!.. Пулемётчику гранатами оторвало ноги. Бойцы стали его вытаскивать. Поворачиваюсь и рядом с собой вижу бойца: у него прямо над головой трассирующая очередь прошла!.. А у нас трассеров не было, нам запретили их использовать. Боец присел, весь ошарашенный, глаза горят в темноте. Я ему: «Живой?». И на себя его дёрнул, чтобы он ушёл с линии огня, а своих обратно во дворик стал выпихивать!.. Вот такой был у нас первый бой.
Подходит офицер-десантник: «Есть промедол?» (обезболивающее средство. — Ред.). У них у самих промедол давно закончился. У меня его было на пять уколов. Из них отдал ему три, а два себе оставил на всякий случай. У десантников к тому времени не только промедол, но и вообще всё закончилось. Мы свеженькие же пришли, поэтому поделились с ними и едой, и патронами.
В этот же день мы захватили столовую Совмина. После этого боя в отряде появилось семь раненых. Бойцы раненые хорохорились, особенно когда с десантниками пообщались: нет, мы останемся. Пусть нас перевяжут, и мы готовы дальше воевать. Но я дал команду при любом ранении, даже касательном, при первой возможности бойцов сразу отправлять в тыл. Чтоб они живыми остались.
Доктора у нас не было. Помощь бойцам оказывали мальчишки-фельдшеры, сержанты: перевяжут раненых, через улицу переведут и назад. Но никто из них в тыл не сбежал.
Всё было очень страшно — совсем не как в кино и книжках. Но настроение у бойцов мгновенно изменилось. Все поняли: здесь надо выживать и воевать. По-другому не получится. Хотя справедливости ради надо сказать, что были и такие, кто со страхом своим не справился. Некоторые вообще, как мыши, в угол забились. Приходилось из закоулков их вытаскивать силой: «Не стой под стеной, она же сейчас упадёт!». Я таких бойцов собрал вместе и приказал: «Будете ползать кругом, собирать магазины, снаряжать их и разносить тем, кто стреляет». И с этим они справились.
Задача оставалась прежней: полностью взять комплекс зданий Совмина, очистить его и потом выйти ко дворцу Дудаева. Мы стали искать пути, где можно было бы выйти ко дворцу.
Ночью попробовали пройти в обход по улице Комсомольской. Но тут же нарвались на обстрел и залегли посередине улицы на перекрёстке. А вокруг ни камушка, ни воронки… Хоть до стены дома всего-то метров пять, а подняться никто не может: по нам ведут плотный огонь. Тут боец, который рядом лежал, мне говорит: «Товарищ капитан, у есть меня дымовая граната!». Я: «Давай сюда». Он мне её перебросил. Зажгли гранату. Я бойцам: «Уходите, мы вас прикроем!». Граната горит две минуты, за это время все отошли под стены, а мы с Володей Левчуком их прикрываем. Граната гореть перестала, дым рассеялся. Лежим вдвоём на перекрёстке почти вровень с асфальтом, головы не поднять. Но делать нечего, стали отползать назад. А разворачиваться нельзя, ползём задом наперёд. Оказалось, что каска без двойного ремешка на подбородке — очень неудобная вещь: на глаза падает. Пришлось каски бросить. Пятимся дальше. И тут я заметил окно, откуда по нам стреляли! Встал и с колена дал туда длинную очередь… Стрельба тут же прекратилась. Получается, что опередил я «духа» на какую-то долю секунды и успел выстрелить первым.
У нас в этот раз никто не погиб, хотя раненые и оглушённые были (когда по нам из гранатомёта стреляли, осколками стены посекло).
Тут же нам ставят другую задачу: десантников выводят полностью, а мы занимаем весь рубеж обороны вдоль реки Сунжи. Для тех боевиков, которые обороняли дворец Дудаева, место это было очень важным: ведь через мост (он стоял целый) боевикам подвозили боеприпасы. Нам надо было подвоз боеприпасов полностью прекратить. Сам мост десантура сумела заминировать и поставить на нём растяжки.
Но вдобавок ко всему «духи» продолжали пытаться вылезти снизу, из подвалов. Ведь пол от взрывов провалился. Но мы уже чётко решили: по подвалам из наших никто не ходит, внизу может быть только противник. Назначили слухачей, поставили растяжки. Приказ такой: если они слышат шаги или шорохи, то мы бросаем вниз гранату и даём длинную пулемётную или автоматную очередь.
Вылезали боевики и из канализации. Во время очередного боя «дух», внезапно высунувший из канализационного люка, открывает по нам кинжальный пулемётный огонь! Воспользовавшись этим, «духи» бросились на штурм и по верху. В нас полетели гранаты. Положение стало просто критическим. Спасение было в одном — немедленно уничтожить пулемётчика. Я рванулся из-за стены, одновременно нажав спусковой крючок. Пулемётчик опоздал на долю мгновения, но мне этого хватило… Пулемёт замолчал. «Духи» снова откатились…
Никакой сплошной линии фронта вообще не было. Нас долбили с трёх сторон. Относительно свободной оставалась только одна улица, по которой ночью можно было подвозить боеприпасы и воду. Воду, если и привозили пару термосов, то делили её на всех. Каждому доставалось совсем понемногу. Поэтому мы брали жижу из канализации и пропускали через противогазные коробки. Что из коробки накапало — то и пьём. А еды вообще не было практически никакой, только на зубах цемент и кирпичная крошка скрипят…
14 января у нас появились первые погибшие. Я дал команду, чтобы в относительно спокойном месте уложили тела в одну линию. Тех, кто погибнет 15 января, должны были сверху положить во вторую линию и так далее. А тем, кто останется жив, я поставил задачу рассказать об этом. Всего за пять дней боёв (и каких боёв!) из ста двадцати человек в строю нас осталось шестьдесят четыре.
Положение тех, кто оборонял дворец Дудаева, становилось очень тяжёлым: ведь с перекрытием моста мы практически остановили подвоз боеприпасов. За пять суток к дворцу Дудаева удалось прорваться только одной бээмпэ, всё остальное мы сжигали ещё на том берегу. И 15 января боевики попытались нас полностью уничтожить: они атаковали нас в лоб прямо через Сунжу. Лезли и по мосту, и вброд через речку. Ближе к дворцу Сунжа поглубже, а напротив нас она практически превращалась в неглубокую канаву. Поэтому боевики пошли туда, где мелко и река узкая. Этот участок по ширине был всего метров сто.
Но разведчики доложили заранее, что возможен прорыв. Я связался с командиром миномётной батареи, и мы с ним заранее определились, как они будут нас поддерживать. И часов в семь вечера, когда уже почти стемнело, «духи» пошли на прорыв. Было их очень много. Лезли как саранча… Река в это месте шириной всего метров тридцать-сорок, да до стены нашего дома ещё метров пятьдесят.
Хотя и было уже темно, вокруг от выстрелов всё светилось. Некоторым боевиками удавалось вылезти на берег, поэтому били мы по ним в упор. Если честно, прицеливаться спокойно, когда такая толпа на тебя прёт, особо некогда. Нажимаешь на спуск — и за несколько секунд выпускаешь весь магазин с рассеиванием. Дал несколько очередей, перезарядил, опять несколько очередей. И так до тех пор, пока очередная атака не захлебнётся. Но проходит немного времени — и всё начинается сначала. Опять они толпой прут. Снова мы стреляем… Но до стен наших зданий из «духов» ни разу не добежал никто…
Тогда же к мосту пошёл «духовский» танк. Разведка и про него доложила заранее. Но когда он всё-таки появился, все тут же мгновенно кто-куда попрятались, залезли в самые дальние щели. Вот что значит танкобоязнь! Оказалось, что это вполне реальная вещь. Я: «Всем на место, на позиции!». А бойцы хорошо чувствуют, когда офицер уверенным тоном приказ отдаёт. Тут же все вернулись на позиции.
Видим танк Т-72. Расстояние до него метров триста. Остановился, башней ворочает… Противотанковых гранат у нас не было. Даю команду: «Огнемётчика ко мне!». Огнемётчику со «шмелём» (реактивный пехотный огнемёт «Шмель». — Ред.) говорю: «Бьёшь под башню и тут же падаешь вниз!». Он стреляет, падает. Я наблюдаю за выстрелом. Перелёт… Я: «Давай с другой позиции, бей точно под башню!». Он бьёт и попадает прямо под башню!.. Танк загорается! Танкисты вылезли, но жили недолго. На таком расстоянии шансов уйти у них не было… Танк этот мы подбили на очень удачном месте, он собой вдобавок ещё и мост загородил.
За несколько часов мы отбили около пяти лобовых атак. Потом две комиссии приезжали разбираться. Оказалось, что вместе с миномётчиками боевиков намолотили мы много: по данным комиссии, только на этом участке насчитали около трёхсот трупов. А нас вместе с десантниками было всего-то человек сто пятьдесят. Но тогда у нас была полная уверенность, что мы обязательно выстоим. Матросы за несколько дней боёв совершенно переменились: стали действовать расчётливо и мужественно. Бывалыми стали. И вцепились мы в этот рубеж намертво — ведь отступать некуда, надо стоять, несмотря ни на что. И ещё мы понимали, что если сейчас отсюда уйдём, то всё равно потом придут наши. И им снова придётся брать этот дом. Снова будут потери…
До нас десантников долбили со всех сторон. Боевики воевали очень грамотно: группы по пять-шесть человек выходили или из подвалов, или из канализации, или просачивались по земле. Подошли, отстреляли и тем же путём уходили. А им на смену приходили другие.
Мы многое сумели заблокировать: закрыли выходы из подвалов, прикрыли себе тыл и не давали атаковать себя со стороны дворца Дудаева. Когда мы только шли на позиции, нам сказали, что в Совмине только десантники. Но уже в ходе боёв мы установили связь с новосибирцами (они потом прикрывали нас с тыла) и небольшой группой бойцов из Владикавказа (они обороняли разомкнутую часть квартала). В результате мы создали боевикам такие условия, чтобы они могли пойти только туда, куда мы им предлагали. Они, наверное, и подумали: мы сами такие силы подтянули, а обороняет Совмин какая-то горстка. Поэтому и пошли на нас в лоб.
Но мы ещё и с танкистами, которые находились во внутреннем дворе Совмина, наладили взаимодействие. Тактика применялась простая: танк на полной скорости вылетает из укрытия, выпускает два снаряда туда, куда успел прицелиться, и откатывается обратно. В дом с боевиками попал — уже хорошо: перекрытия рушатся, верхние точки противник уже не может использовать. Потом я встретил человека, который командовал этими танками. Это генерал-майор Козлов (тогда он был зампотехом какого-то полка). Он мне говорит: «Это я тебя у Совмина выручил!». И это была чистая правда.
А в ночь с 15 на 16 января я чуть было не погиб. К этому моменту сознание уже притупилось от потерь, от всего ужаса вокруг. Наступило какое-то безразличие. Пришла усталость. В результате я с радистом не поменял свой командно-наблюдательный пункт (обычно я раз пять в сутки менял места, откуда выходил на связь). И когда я по рации отправлял очередную сводку, мы попали под миномётный обстрел! Обычно стреляли по нам из-за Сунжи из миномётов, установленных на «камазах». По звуку я понял, что прилетела стодвадцатимиллиметровая мина. Страшный грохот!.. На нас с радистом рухнули стена и перекрытие дома… Никогда не думал, что цемент может гореть. А тут он горел, даже тепло чувствовалось. Завалило меня обломками по пояс. Каким-то острым камнем мне повредило позвоночник (потом я с этим в госпитале долго лежал). Но бойцы меня откопали, и надо было продолжать воевать…
В ночь с 17 на 18 января подошли главные силы нашего батальона с комбатом, и стало полегче — комбат дал команду вывести из боя мой сводный отряд. Когда немного позже я посмотрел на себя в зеркало, то ужаснулся: на меня глядело серое лицо смертельно уставшего незнакомого человека…
Лично для меня итог пяти дней войны был такой: я потерял пятнадцать килограммов веса и поймал дизентерию. От ранений меня Бог миловал, а вот травму позвоночника и три контузии получил — разорвались барабанные перепонки. (Врачи в госпитале сказали, что пусть будет лучше лёгкое ранение, чем контузия, потому что после неё последствия непредсказуемые.) Всё это со мной так и осталось. (Кстати, получил я по страховке за войну полтора миллиона рублей в ценах 1995 года. Для сравнения: на знакомого прапорщика батарея отопления упала. Так вот, за это ему по страховке выплатили шесть миллионов…)
Правильные отношения между людьми на этой войне сложились очень быстро. Бойцы увидели, что командир способен ими управлять. Они ведь здесь как дети: ты для них и папа, и мама. Внимательно смотрят тебе в глаза и, если видят, что ты делаешь всё, чтобы никто по-тупому, глупо не погиб, то они за тобой идут и в огонь, и в воду, они полностью доверяют тебе свои жизни. А в этом случае сила боевого коллектива удваивается, утраивается… Мы слышали, что не случайно Дудаев приказал морскую пехоту и десантников в плен не брать, а сразу убивать на месте. Вроде бы при этом прибавил: «Героям — геройская смерть».
И ещё на этой войне я увидел, что одним из главных мотивов, почему мы бились насмерть, было желание отомстить за погибших товарищей. Ведь здесь люди быстро сближаются, в бою все стоят плечом к плечу.
Практические результаты боёв показали, что мы можем выстоять в немыслимых условиях и победить. Конечно, сработали традиции морской пехоты. На этой войне мы уже не делили: эти настоящие морпехи, а это матросы с кораблей. Все до единого стали морскими пехотинцами. И те, кто вернулся из Грозного, не захотели возвращаться на корабли и остались дослуживать в бригаде.
Я с большой теплотой вспоминаю тех матросов и офицеров, с которыми мне довелось вместе воевать. Они проявляли, без преувеличения, чудеса героизма и бились насмерть. Чего стоит только старший прапорщик Григорий Михайлович Замышляк, или «Дед», как мы его называли! Он принял на себя командование ротой, когда в ней погибли все до единого офицеры. У меня в роте погиб офицер всего один — старший лейтенант Николай Сартин. Втроём они должны были захватить подъезд. Николай с двумя матросами в подъезд вошёл, а там оказалось столько боевиков, что в глазах зарябило. Те после боя перезаряжались, но быстро сориентировались и открыли по нашим огонь. Одна единственная пуля пробила Николаю бронежилет, удостоверение личности офицера и попала в сердце. Трудно в это поверить и физически не объяснить с точки зрения медицины, но смертельно раненый Николай ещё около ста метров бежал, чтобы предупредить нас о засаде. Последние его слова были: «Командир, уводи людей, засада…». И упал…
А есть такие моменты, которые вообще невозможно забыть никогда. Боец получает пулевое ранение в голову. Ранение смертельное. Сам отчётливо понимает, что доживает последние минуты. И говорит мне: «Командир, подойди ко мне. Давай песню споём…». А ночью мы старались только шёпотом разговаривать, чтоб ничего не прилетело с той стороны на звук. Но я понимаю, что он сейчас умрёт, и это его последняя просьба. Сел я с ним рядом, и мы с ним шёпотом что-то спели. Может быть, «Прощайте, скалистые горы», может, другую какую-то песню, не помню уже…
Очень тяжело было, когда мы вернулись с войны и меня посадили со всеми родственниками погибших матросов батальона. Спрашивают: а как мой погиб, а мой как?.. А ведь про многих ты и не знаешь, как он погиб… Поэтому каждый год, когда приходит январь, я во сне продолжаю воевать по ночам…
Морские пехотинцы Северного флота справились с поставленной задачей. Они не уронили честь Российского и Андреевского флагов. Родина приказала, они приказ выполнили. Плохо, что прошло время, а должной заботы о участниках этой войны нет. Говорят, что Грозный уже отстроился — как Лас-Вегас, весь сияет огнями. Получается, что те, кто победил, не получили ничего. А те, кого победили, получили всё, чтобы жить лучше…
Бой в городе
Рассказывает офицер Н.:
— На брюхе, как учили в военной школе, мы подползли к гаражам и залегли между двумя из них. Нам повезло — рядом стояли скамейки. Мы с командиром взвода под одну скамейку, на которую падала тень от крыши гаража, и заползли. Бойцов тоже укрыли в полностью затемнённом месте. Плюсом было то, мы были в КЗСах (костюм защитный сетчатый. — Ред.), а они свет вообще не отражают.
Перед нами — дом из трёх подъездов. По бокам подъезды четырёхэтажные, а средний — пятиэтажный и ещё с надстройкой сверху. На самом верху — слуховое чердачное окно, где и сидел снайпер. Оттуда он контролировал весь квартал.
Мы с командиром ещё раз определились по подъездам: кто куда идёт. Изначально я должен был идти в центральный подъезд. Но он в последний момент мне говорит: «Первым пойдёшь ты. Ты молодой, зелёный. А я тебя прикрою». Я: «Командир, как скажешь — так и будет».
Как только всё окончательно решили, я своих бойцов подтянул к себе, а он вернулся за здание гаража. Почти сразу по радиостанции я услышал: «Салют, залп!». Это командир передал в эфир команду на штурм. Тут же я со своей группой рванул вперёд, и мы пулей залетели в левый подъезд. До него было всего метров пятнадцать-двадцать. Командир должен был идти следом в средний подъезд. И у нас была такая договорённость: через два часа, что бы ни случилось, мы начинаем идти навстречу друг другу. То есть либо мы прорываемся в средний подъезд, либо они — в наш левый.
Дом оказался, как сегодня говорят, элитным. Высокие потолки, на полу — дубовый паркет. В некоторых квартирах паркет был вообще с инкрустированными гербами на полу. Мы даже в музеях такого не видели. Похоже, жили в нём доме какие-то партийные шишки. Он не был сильно разрушен, даже не все стёкла были выбиты. Его особо не обстреливали, и из него в нас почти не стреляли.
Как потом выяснилось, в нём в основном находились люди, которые проходили обучение снайперскому делу. Мало того, что в каждом подъезде этого дома были два выхода. Рядом с домом как раз между гаражами стояла будочка, похожая на туалет. А на самом деле это был выход из подземного хода. Определи это мы позже, когда из этой будочки на наших глазах афганские моджахеды полезли…
Это же был центр города, где подвалы домов представляли собой бомбоубежища. Ведь в советское время строилось всё как положено: с дверями металлическими, с корабельными запорами на них. Подвалы эти были соединены разветвлённой системой подземных ходов. Поэтому и стоял этот дом такой, спокойный и ухоженный.
Тактика штурма у меня была отработана заранее, бойцы заинструктированы. Мы пулей, что было сил, по лестнице взбежали на самый верх. Влетели на площадку четвёртого этажа — ни одного выстрела ещё не было сделано не только у нас, но даже во всём квартале. В скоротечном бою самое главное — внезапность и скорость.
С момента начала штурма не прошло и минуты. По большому счёту, по команде: «Салют, залп!» вся рота одновременно должна была ринуться вперёд. Но этого почему-то не произошло, в дом ворвались мы одни…
Мы — на площадке четвёртого этажа, на каждом этаже по три квартиры. Бойцы были заранее распределены по парам — по одной на каждую квартиру. Мы начинаем втихую квартиры проверять, стараясь произвести как можно меньше шума. На четвёртом этаже нам повезло, квартиры оказались пустые.
Одна из сложностей боя в городе, тем более имея на вооружении оружие калибра 5.45, состоит в том, что ты сам себя можешь рикошетом положить. Другая состоит в том, что мы не такие мамонты, чтобы на себе нести нескончаемое количество боеприпасов. Поэтому у каждого было максимум четыре гранаты.
В такой ситуации обостряются все чувства. Проявляется какая-то особая интуиция. Я, например, когда открывал дверь, то чувствовал особым чутьём, есть кто-то внутри или нет. Как это можно объяснить, я не знаю.
Четвёртый этаж свободен. Но на лестничной площадке — лестница вверх и люк на чердак! Оставляю двоих, чтобы они эту лестницу держали. А мы пошли зачищать нижние этажи.
На третьем этаже две квартиры — пустые. В третьей были боевики. Двойка остаётся работать в этой квартире. Мы спускаемся на второй этаж. На третьем этаже парни быстро всех положили. Во-первых, мы взяли их сонными. И ещё нам показалось, что они были под кайфом — то ли обкуренные, то ли обколотые. Задача состояла в том, чтобы как можно быстрее прочесать весь подъезд и сделать так, чтобы в нём никого из боевиков в живых не осталось. А чем больше времени мы даём им на раскачку, тем нам хуже.
Вошли на второй этаж. И тут уже завязался бой! Бросаем гранату, её отфутболивают обратно! Огонь, стрельба, крики… Но внезапность и скорость сделали своё дело, «духи» очухаться не успели. Минут через пятнадцать-двадцать мы контролировали уже весь подъезд. Осмотрелись: все живы и относительно целы…
Одного бойца оставляю на первом этаже контролировать выходы из подъезда. Подъезд ведь проходной: выходит и во двор, откуда мы влетели, и на широкий проспект. Сами мы ещё раз проверили квартиры. Но никого, кто мог бы быть для нас опасен, в подъезде уже не осталось.
Была только одна проблема — чердак. Тут меня вызывают на четвёртый этаж — как и следовало ожидать, нас стали с этого чердака беспокоить. Открывается люк, и время от времени из него то гранатку кинут, то стрельнут. А как их оттуда выкурить? С вертикальной лестницы, что ли? Но для начала мы нашли какие-то доски и швабру и выбили сам люк. Кинули наверх пару гранат, но результата никого. Всё равно оттуда то стреляют, то гранаты бросают.
А вокруг дома уже вовсю бой идёт, стреляет, гремит… Думаю: «Ну, нормально всё». Я был абсолютно уверен, что командир в центральный подъезд прошёл. Это был специалист высочайшего класса, разведчик ещё с афганским огромным опытом. Смотрю на часы: времени до условленного часа, когда мы должны идти навстречу командиру есть, мы вполне укладываемся. Выставили охранение и решили поподробней осмотреть подъезд.
Мои бойцы в одной из квартир нашли коньяк, икорочку… Причём икорочка была и красная, и чёрная. Мой сержант говорит: «Командир, мы сейчас полянку накроем». Я: «Толя, второй завтрак никто не отменял». Достали банки, открыли штык-ножами. И только я штыком зацепил икру, как в комнату прилетает граната! Все в рассыпную… Начался обстрел.
Оказалось, что стреляли по нам с угла противоположного дома. То ли боевики нас сами заметили, то ли им с чердака передали. Короче, икру доесть так и не удалось.
Тут по нам из пулемёта начали стрелять ещё и с противоположной стороны, с проспекта. Я бойцам: «Уходим в дальние комнаты!». Забегаем в комнату на третьем этаже, она вроде в удалении. В этой комнате стоял газовый баллон с пропаном. Прилетает то ли граната, то ли пуля… Свечение яркое, баллон взрывается и начинает по комнате летать…
А тут ещё с чердака нас снова начинают сверху через люк атаковать. Ясно, что задерживаться тут не резон. В квартирах мы нашли очень много книг Дудаева «Путь к свободе» с фотографией его в генеральском мундире. Я ещё для смеху сказал: «Бойцы, книжки соберите, я их домой увезу». Но они нам очень даже пригодились. Мы книги сложили в кучу на площадке четвёртого этажа и подожгли. Стены горели очень хорошо: сами они сделаны из досок, а сверху — штукатурка. Огонь быстро стал подниматься вверх, чердак загорелся. Наверх пошёл удушливый дым. Боевики оттуда быстренько свалили.
Время прорываться к командиру. Но стены между подъездами каменные. У нас с собой был один гранатомёт «муха». Выстрелили из него в стену — никакого видимого результата. Говорю: «Ищем лом, будем долбить дыру». Начали колотить… Слышу — в ответ стуки пошли. Кто стучит, чего стучит?.. Но чувствую, что явно не наши. Хотя по идее у нас радиомолчание должно было быть, по радио вызываю командира. Он не отвечает… Ну ладно, думаю, мало ли почему он молчит.
Когда дырку пробили, первым делом кинули в неё гранаты. И не ошиблись — оттуда в ответ очередь пулемётная!.. Понятно, что туда хода нет. И что наших в соседнем подъезде нет, я тоже уже понял. А вокруг всё уже капитально горит. Надо что-то делать…
Принимаю решение — уходим через чердак. Ведь если будем долбить стену дальше, то обязательно нарвёмся на пулемёт. «Духи» ведь поняли, что мы ломимся через эту стену, и точно будут нас ждать с другой стороны.
Поднимаемся на чердак. Саму кровлю с левой стороны, которая выходит на проспект, сорвало. Оставшаяся часть крыши полыхает, чердак уже тлеет, всё дымит… А тут ещё получилось, что мы высунулись. И с проспекта нас плотно начинают обстреливать снайперы и пулемётчики. Мы легли на пол. Камуфляж стал тлеть и дымиться. То есть мы начали медленно поджариваться…
А деваться нам особо некуда… Впереди — каменная стена и металлическая дверь с замком гаражным самодельным. Он прикручен на болтах. Взрывать мы его боялись: мы же не знали, что за этой дверью. Я с двумя бойцами — к двери. Остальным: «Пацаны, всем лежать, голову не поднимать». Ведь снайперы и пулемётчики со стороны проспекта били по нам метров с пятидесяти. А уже рассвело, часов шесть утра.
Мы с парнями сложили два штыка, обложили ими гайки, как разводным ключом, и пытаемся болты отвернуть. Сколько возились, не знаю, но очень тяжко болты шли… Руки у бойцов уже пузырями пошли от ожогов, а у меня самого подошва на ботинке сгорела.
Но это всё мелочи по сравнению с тем, что мы всё-таки смогли сорвать болты на замке!.. Аккуратно замок открыли, выглянули на площадку пятого этажа — пусто. Стало ясно, что командира с бойцами в подъезде нет. Ещё слышим, что над нами сверху работает снайпер и пулемёт.
Подъём на чердак в этом подъезде — по обычной лестнице. Сама лестница заварена арматурой. Дальше дверь, к ней приварен замок. А мне замок этот взять нечем! Можно, конечно, гранату повесить. Но по опыту знаю: бесполезно, не поможет.
Проверили квартиры на пятом этаже — чисто. Посадили наблюдателей, чтобы предупредили, если боевики полезут снизу. Но понимаем, что сами ничего особо сделать не можем. Но кое-что всё-таки удалось предпринять. Парни сорвали в квартирах две ванны чугунные, килограммов по восемьдесят каждая. И этими ванными мы заваливаем дверь на чердак! Я понимаю, что пожар вот-вот дойдёт до этого подъезда и снайперу с пулемётчиком надо будет куда-то уходить. А единственный путь отхода мы им ваннами и завалили! Так что выбор им оставлен небольшой: либо прыгать с пятого этажа, либо сгореть заживо… Но у нас самих выбор был практически тот же: или сгореть, или победить «духов», которые были под нами. Мы выбрали второе.
Стали спускать вниз. И уже на четвёртом этаже началась бойня!.. Боевиков там было просто немерено… Но они нас не ждали. Мы свалились им как снег на голову. Они-то были уверены, что крыша под наблюдением. Там у них снайпер, пулемётчик, все работают, всё контролируется. И наше преимущество было ещё в том, что мы шли сверху, и нам, по большому счёту, терять было нечего. Перестрелки шли в упор, дошло до рукопашной… Крики, стоны, стрельба…
А я перед этим с автомата снял подствольный гранатомёт. У меня же правая рука ранена, автомат с подствольником тяжело поднимать. Я заклеил стопор на подствольнике, гранату оставил в стволе. Получился одноразовый крупнокалиберный пистолет. И когда у меня закончились патроны и было ясно, что перезарядить я не успею, то я просто выхватил подствольник и выстрелил из него в «духа» в упор. Граната сразу не взрывается, ей надо метров десять пролететь, чтобы встать на боевой взвод. Поэтому она просто пробила в груди у «духа» огромную дырку, и он куда-то улетел…
Я не знаю, сколько времени прошло. Все — и мы, и они — бились насмерть. Боевики ведь тоже поняли, что и им деваться некуда. Мы друг друга рвали, душили, давили… В результате все «духи» остались на своём четвёртом этаже навсегда.
Вниз, на третий этаж, мы пошли сразу же. Но тут нас уже встретили. Ведь до этого «духи» слышали, что на четвёртом что-то происходит: крики, стрельба… Но сунуться наверх побоялись: непонятно, кто там и что там.
Нахрапом взять третий этаж нам не удалось, пришлось откатиться назад. Пожар на крыше в полный рост разыгрался, уже и сам подъезд горит нормально… Но тут произошло непредвиденное: на третьем этаже оказалась какая-то ёмкость с горючим. «Духи» гранату к нам наверх кинули, я её ногой назад «отфутболил», и она попала в квартиру с этой ёмкостью. Слышим хлопок от гранаты, и следом из квартиры вылетает сноп огня!.. Что-то там взорвалось и внизу тут же заполыхал пожар!
Мы снова скатываемся на третий этаж, а там «духи» из квартиры с криками выбегают! На них одежда горит, орут!.. И мы сталкиваемся с ними лоб в лоб!.. До сих пор перед глазами картина стоит: боевик весь в огне бежит на меня! Он стреляет в меня, я — в него. Я в него сразу попал. Он, падая, ещё достреливал, и его очередь так близко прошла, что я её кожей ощутил. У меня карман срезало, но тельняшка осталась целая… И тут у меня клинит автомат, а на меня летит ещё один!.. В ход пошли уже кулаки и магазин от автомата…
Получается, что мы дочистить третий этаж не успеваем. Горит всё уже и здесь. Опять оттягиваемся на четвёртый этаж, на лестницу. Понимаем, что «духам» тоже деваться некуда и им тоже нужна лестница. Вокруг всё полыхает в полный рост. После взрыва на третьем этаже, когда огонь уже открытый пошёл, вокруг загорелось практически всё.
Что делать? Гореть заживо? Собираю ребят и говорю: «Так и так, внизу битый кирпич. Сейчас врываемся на площадку третьего этажа, давим всё, что можно, и тупо выпрыгиваем в окно на лестнице. Выживем — выживем. Не выживем — что делать…». Так и порешили.
Опять волной скатываемся вниз, сметаем всё, что попадается на пути. Первым в окно выпрыгнул я, за мной вроде как выпрыгнули все. Я приземлился удачно: ничего не зацепил, ногу не подвернул.
Оказалось, что выпрыгнули мы прямо на проспект. Открытое место, рядом стоит ларёк «Пиво-воды», металлический. Я закатываюсь под него — тут очередь ларёк насквозь прошивает…
Смотрю вокруг. Подъезд, с которого мы начинали штурм, уже полностью выгорел, осталась только коробка каменная. Говорю своим: «Отходим и забегаем в подъезд». Вбежали, а троих бойцов нет! Говорю: «Толя, принимай командование. Оставайтесь здесь, я возвращаюсь». Только собрался выходить, со стороны двора в подъезд с криком «Командир, меня убили!» залетает Паша.
За шиворот затягиваем его внутрь, видим — он за бок держится. Рвём камуфляж: думаем, что он ранен в спину. А получилось так: у него сумка с гранатами от подствольника во время боя растрепалась и ушла на спину. Мы гранаты обычно на сердце носили: и доставать удобно, и защищают как бронежилет. Ему пуля 5.45 попала в гранату, и он получил такой удар офигенный! Саму гранату расплющило. А вторая пуля у него через сапог прошла и под кожей засела. Как заноза, наружу торчит. Я сначала хотел её вырезать. Но парни мне говорят: «Пусть он ходит с ней, ему она мешать не будет».
Получается, что нет двоих. Спрашиваю: «Паша, где они?». Он: «Они сзади были». Оказалось, что в горячке боя они то ли не туда побежали, то ли их огнём отсекли. Не знаю точно…
Мы с одни бойцом выбегаем наружу. А тут ребята как раз подползают. У одного нога израненная, а у другого рука — в хлам. Мы их только успели в подъезд затащить, как начинается шквальный обстрел со стороны двора, нам во двор просто не высунуться. Свечение вокруг зелёное. Гранаты летают…
Мы оттянулись в глубь подъезда, начали раненым помощь оказывать. А вокруг всё раскалённое: ведь лестницы не бетонные, а каменные. Такое впечатление, что мы находимся на гигантской сковородке. Все стоят, подпрыгивают на месте. Одно хорошо — точно не замёрзнешь.
Воды нет, только спирт во фляжках. Раненым тут же вкололи промедол и дали выпить спирт. Ребята — «под балдой», мы спокойно их перевязывали. Это противошоковое средство командир ещё с Афгана помнил. Во-первых, у раненого циркуляция крови улучшается. Во-вторых, шок болевой проходит. Мы через каждые сорок минут жгуты снимаем и бьём руками по мышцам, чтоб кровь шла. Иначе военная медицина им конечности потом точно отрежет.
Счёт времени к тому моменту я уже потерял. Но дело шло к вечеру, темнело. Мы подсчитали боеприпасы: на десять стволов четырнадцать магазинов, две гранаты в подствольнике, две ручные гранаты и ножи. Вернее, гранаты было три. Но свою я «зажал», её даже не считал. Она была у меня под животом в штанах зашита. Если вдруг наступит момент, то я говорю: «До свидания», выдёргиваю чеку — и всё…
Две гранаты я отдал Толе и говорю: «Храни, раненые на тебе. Если что, то чтобы пацаны в плен не попали, ты их подрываешь». Я знал, что с ними в плену может произойти. И, как это ни страшно осознавать, подорвать их — это было лучшее, что мы могли в такой ситуации для них сделать.
Видим: во дворе у гаражей будка стоит, на сортир похожая. Расстояние до нас — метров пятнадцать-двадцать. И тут из неё самые настоящие афганцы полезли, в характерных шапках «пуштунках»!.. Говорю: «Толя, огонь на поражение!». Он: «Командир, представляешь, что после этого будет, когда «духи» на нас пойдут?». Я: «Понимаю». И мы открываем огонь. Афганцев к тому моменту вылезло уже человек пять. Мы их, как в тире, и положили…
Заскакиваем назад в подъезд. Я: «Ну что, надо прощаться…». Я ведь понимаю, что если сейчас будет контратака, то мы ничего сделать не сможем. Сели мы все дружненько, и я говорю: «Представляете, пацаны, нас посмертно наградят. Ордена дадут». И тут все как заржали, просто истерический смех начался… Это был даже не смех, а гогот какой-то. Поржали немного, стресс спал.
И тут видим: заходят самолёты. Сначала два, они по проспекту чем-то отработали. Потом один идёт на боевой разворот. А я сижу, смотрю на него (сверху открыто всё, крыша-то сгорела) и говорю: «Сейчас по нам жахнет!». Хорошо, что у него бомб было только на два захода — нас только взрывной волной задело. Думаю: ушёл. Нет, собака, разворачивается и начинает из авиационной пушки лупить! Как по линейке прошёлся, один снаряд за одним! Хотя мы укрылись вроде, но снаряды были осколочные, посекло нас серьёзно. Самолёт улетел.
Я сел на ступеньки. (А сидеть горячо: вместо штанов лохмотья, снизу печёт, ноги босые, подошвы на ботинках нет — вместо неё какая-то фанера прилипла.) Сижу и говорю: «Боженька, если ты есть, выпусти нас отсюда живыми! Покрещусь, только выпусти! Спаси пацанов, они же молодые совсем!». Да и сам я был молодой, жить мне тоже очень хотелось…
Тут начался обстрел. Одна мина упала, вторая… Под лестницей был закуток. Говорю: «Раненых туда». Раненых выносили пацаны, я из квартиры в проём на лестничную площадку выскакивал последним. Помню, стало очень светло, а дальше — ничего… Оказалось, что рядом со мной разорвалась стадвадцатимиллиметровая мина. Хорошо, что фугасная, а не осколочная. Меня взрывной волной так шибануло, что я пролетел через всю лестничную площадку. У стены стоял Паша. Он парень крепкий, сто килограммов веса да ещё обмундирование. И я со всей дури в него врезался! Паша стукнулся об стену, и самортизировал удар. Я думаю, что иначе меня по этим кирпичикам просто бы размазало.
Сколько времени я был без сознания, не помню… Меня бойцы всё-таки как-то привели в чувство, но состояние было тяжёлое — контузия. Дальше всё происходило уже в полузабытии. С горем пополам радиостанция с шомполом вместо антенны заработала. Но единственный, кто меня слышал, был командир роты нашего батальона. Но он сам находился в отчаянном положении: его контратаковали с проспекта. Его очень миномётчики наши выручили: под самые окна мины укладывали, чтобы хоть как-то отсечь «духов».
Мы от жажды тогда очень страдали. Снег пошёл… Но его в рот берёшь — он весь в гари. А губы потрескались на всю глубину, кровь во рту…
В своём контуженном состоянии я ещё пытался группой руководить. И тут меня осеняет: всё лишнее бросить. Не знаю, откуда эта мысль ко мне пришла, но она была настолько чёткая и сформировавшаяся, что я даже удивился. Может, Господь Бог помог.
Патронов собрали два полных магазина. Распределили: кому пять, кому десять патронов. А из имущества у нас — только радиостанция раздолбанная. Говорю: «Разбейте её о стену, всё бросить! Пацаны, забираем раненых и рвём когти».
И тут вокруг наступила гробовая тишина. Но самое страшное на войне — это как раз когда тихо. Не знаешь, чего ждать. Толя одного раненого, как ребёнка, на руки взял. Мы с Пашей идём, он меня поддерживает, я плетусь как пьяный. Говорю: «Если что, меня бросай, мне уже не уйти». Он: «Командир, я не брошу. Как можно!..». Добираемся до детского сада, до забора. А забор-то высокий! Раненых за руки, за ноги через забор перекинули, как мешки. Саша (контуженный, ничего не слышит) с той стороны их на руки ловит. Парень очень здоровый, богатырь настоящий. Меня, как мешок, тоже через забор этот перебросили. Идём в открытую, а по нам никто не стреляет…
Приходим на командный пункт нашего батальона. Там свет горит, жизнь крутится, всё нормально. Выходит наш начальник разведки. Я: «Дядя Коля, здрасьте!..». Он меня увидел, головой в стену упёрся и говорит: «Мы же вас похоронили…». — «Нет, мы живые». Он: «Убитых сколько?». Я: «Нет убитых». Он: «Да не может быть!..». Но мы действительно остались все живы. И я абсолютно уверен, что спасти нас во время этого боя мог только Господь.
Видение
Я давно хотел написать об Игоре Леонидовиче Срибном. Это человек-легенда: семь раз участвовал в пяти военных кампаниях от Афганистана до Чечни. Трижды был ранен, несколько раз контужен. Только за Вторую чеченскую военную кампанию награждён тремя орденами Мужества. В этой книге я решил без изменений привести рассказ об одном боевом эпизоде из его военной судьбы. Его мне по почте прислал сам Игорь Леонидович. Произошло это в Чечне.
Рассказывает подполковник Игорь Леонидович Срибный:
— Впереди был какой-то магазин и мы ворвались в помещение. У разбитой пулями витрины сидел «дух» с окровавленной головой. Он был мёртв, и его тело удерживало основание витрины, на которое он склонился. Рядом с ним стоял ящик с «эфками» и лежала СВД. «Старый» набил гранатами пустые карманы разгрузочной системы и парочку их втиснул в карманы штанов. «Кузя» и «Череп» сделали то же самое. Вышли через служебный вход.
Перебежав улицу, они вошли в подъезд пятиэтажки. Поднявшись на пятый этаж, разведчики увидели квартиру с распахнутой настежь входной дверью, и ступили за порог.
«Старый» посмотрел в окно и ухмыльнулся: вся оборона духов была перед ним как на ладони.
— «Кузя», связь! — приказал он, и радист завозился с рацией. — Передавай! Скопление сил противника у заводоуправления — до пятидесяти человек. На площади перед заводом нарыты окопы, духи накапливаются для атаки. Остаюсь здесь, чтобы скорректировать артогонь!
Потом всё утонуло в густом, вязком, нечеловеческом гуле… Работали «грады».
«Старый» присел у окна. Всё его тело дрожало от усталости и напряжения.
— Командир, духи отходят! В нашу сторону! — прокричал «Череп».
«Старый» посмотрел в окно. Духи поравнялись с домом. В гулком пустом подъезде явственно зазвучали возбуждённые голоса. Он подошёл к распахнутой входной двери и прислушался… Голоса смолкли.
«Старый» вернулся к окну.
Падал мелкий снежок и тут же таял на мокром разбитом асфальте.
— Что будем делать, командир? — спросил «Кузя».
— Сейчас не выберемся! — ответил «Старый». — «Духи» откатились во дворы. Будем ждать темноты… Передай новые цели и отключайся. Да! Скажи обязательно, что здесь нужно будет атаковать одновременно на всех участках!
Поблизости от дома начали рваться снаряды. Правее. Потом — левее. Под непрекращающийся грохот канонады «Старый» задремал, усевшись на пол, и не услышал, как прекратился артиллерийский обстрел.
Проснувшись, вздёрнулся:
— «Кузя», ну что там?!
— Тихо! — вдруг полушёпотом сказал «Череп», толкнув его в колено.
На лестнице послышался скрип стёкол под чьими-то тяжёлыми шагами. «Духи» заговорили. Скрипнула дверь парой этажей ниже…
Наконец стемнело. Разведчики поднялись с пола и посмотрели в окно. Освещённая пожарами улица была пустынна.
— «Череп», проверь подъезд и около него. Далеко не ходи, сразу же возвращайся.
«Череп» ушёл.
Они ждали полчаса. «Череп» не возвращался. «Старый» подтолкнул «Кузю» к выходу, и они медленно стали спускаться вниз, стараясь не наступить на поблёскивающие в зареве пожаров стёкла.
Снова прошли через магазин. Где-то заработал пулемёт, прогремела автоматная очередь… И опять тишина.
Разведчики дошли до угла, и вдруг тишину разорвали автоматные очереди. Рванула граната. Испуганные крики «духов» и другой — нечеловеческий голос, переполненный болью:
— Уходите!..
«Старый» замер. Он понял, что «Череп» кричал в надежде, что они, находясь на пятом этаже, его услышат.
Автоматы застучали, казалось, со всех сторон. В небо взлетели осветительные ракеты, и стало светло, как днём.
«Кузя» дёрнулся в сторону крика, но «Старый» рванул его за ремень разгрузки, увлекая обратно в сторону магазина. Но навстречу им уже гулко бухали шаги бегущих духов.
Им пришлось запрыгнуть в стоящую около дома машину и пригнуться, пока не пробежит группа «духов». Дождавшись, пока погаснут в небе «осветиловки», они снова рванули через улицу. Пробежав через дворы микрорайона, попали в частный сектор. Открыв калитку, вошли во двор с голыми клумбами. И только здесь отдышались, присев на мокрую скамью под деревом.
В небо взмыли ещё два десятка ракет, осветив всё вокруг.
«Кузя» вдруг вскочил на ноги и встал прямо перед «Старым». В тот же миг в окнах дома, во дворе которого они присели отдохнуть, замелькали вспышки выстрелов.
«Старый», словно в замедленном кино смотрел, как пули рвут тело радиста, пока оно не рухнуло на него, сбив со скамейки. «Старый», лёжа на земле, выдернул из кармана гранату и швырнул её в окно. Взрыв сотряс дворик. Посыпались оконные стёкла, выбитые взрывной волной… Он метнул вторую, увидев как из окон рванулись клубы огня…
«Кузя» был мёртв. Несколько пуль прошили его тело насквозь, пробив корпус рации… Не обошли они и «Старого».
«Старый» перевалился через забор, и только тогда почувствовал боль. Хромая, он дошёл до стены полуразрушенного дома, и здесь силы оставили его. Он с трудом поднялся на ноги и стал искать вход.
Когда он поднимался по лестнице, услышал, как в правом ботинке хлюпает кровь…
В квартире он попытался снять ботинок, но сил на это не хватило: всё слиплось от крови. «Старый» проковылял к шкафу и увидел мужские вещи — костюмы, сорочки, галстуки. Он перетянул ногу галстуком, как жгутом, и, взяв пальто, упал на диван. Было очень холодно, и он натянул пальто до подбородка, пытаясь согреться. Даже в лежачем положении у него кружилась голова, а в ушах стоял какой-то назойливый протяжный звон. Потом он то ли уснул, то ли потерял сознание…
Проснулся он от жуткого холода.
«Старый», превозмогая боль, уселся на диване и в рассветных сумерках осмотрел ногу. Две пули прошили её навылет, и одна рана всё ещё сочилась кровью. Разорвав зубами перевязочный пакет, он промыл раны водкой из своего НЗ и сделал перевязки, и только сейчас почувствовал боль в правом плече. Он пощупал плечо и нашёл пулю. Пробив пряжку плечевого ремня разгрузки, она застряла в мышце. «Старый» попытался вытащить её, ухватив пальцами за донце, но пуля не поддавалась. Он подковырнул её штыком, и она с глухим стуком упала на пол. Он залил рану водкой и подложил под ремень клок оставшегося бинта. Больше ничего сделать он не мог…
Когда он закончил, холодное бледное солнце уже висело над домами.
Его лихорадило, и он снова лёг на пропылённый диван.
В течение дня он несколько раз просыпался и удивлённо слушал тишину, недоумевая, почему не наступают наши… И снова проваливался в густую, липкую темноту…
Прошла ночь. Наступил новый день.
Напрасно вслушивался «Старый» в окружающий мир. Артиллерия молчала. А духи ходили под окнами, громко разговаривали, и вообще вели себя так, будто им ничто не угрожало…
И снова наступила ночь… Его била жестокая лихорадка, а раненая нога мучительно дёргалась и саднила. Под утро «Старого» стал донимать холод… Он поднялся, превозмогая страшную, нечеловеческую боль, и, цепляясь руками за стены, несколько минут добирался до шкафа, до которого было всего-то два метра. «Старый» вывалил из него всё тряпье и здоровой ногой пододвинул к дивану. Он набросал на себя всё, всё, что было, но желанное тепло не приходило…
— Господи! — «Старый» с огромным трудом разорвал спекшиеся в одну полоску губы. — Господи, не дай мне умереть в этом склепе бесславной смертью! Спаси меня, Господи! Помилуй меня, Господи!
Он не знал ни одной молитвы и никогда прежде не обращался к Богу. Но сейчас ему было не на кого уповать, кроме как на Господа, и «Старый» повторял свои слова снова и снова. В какой-то момент ему вдруг стало тепло и покойно, и «Старый» подумал, что это всё. Он умирает… Но в его воспалённом сознании вдруг возникло видение… Сверху, из какой-то бездонной сине-белой бездны, на него взирал смутный бледный лик, обрамлённый тёмными волосами и такой же бородой.
— Поспи, воин! — принял «Старый» не слова даже, а какой-то всплеск где-то глубоко в душе. — Тебе нужно поспать!
Ему стало тепло… «Старый» неожиданно для себя уснул.
В полусне-полубреду он вдруг услышал канонаду. И проснулся…
Было утро.
Сбросив тряпьё на пол, «Старый» резко сел, едва не потеряв сознание от рванувшей его тело боли. Сомнений не было — он слышал звуки боя. Лай скорострельных пушек, взрывы, грохот обваливающихся зданий… Совсем рядом, метрах в двухстах, надрывался в кашле крупнокалиберный пулемёт…
И сразу в памяти возникло видение… Он понял, что находится теперь в каком-то другом измерении, во власти других, более могучих сил. И он знал, что должен сделать… Собрав в кулак жалкие остатки сил, «Старый» спустился вниз и пошёл туда, где бил пулемёт «духов». Он шёл, сильно хромая и сжав зубы до боли, с закаменевшим лицом. Проходя через двор, он наткнулся на группу гражданских, в основном, стариков и старух. Они суетились около входа в подвал, пытаясь сбить с него замок. Они что-то кричали ему, но он не слышал их и упорно шёл вперёд.
Наконец, он дошёл до дома, из подвала которого бил пулемёт. Прямо перед ним двое «духов», согнувшись, тащили ящик с патронами. Он выстрелил короткой очередью, полагая, что за грохотом пулемёта его выстрелы никто не услышит. Перешагнув через тела, он начал медленно спускаться по крутым ступеням. Грохот стоял такой, что закладывало уши. На голову и плечи сыпалась штукатурка.
У дверного проёма он отдышался, прислонившись к стене, и выщелкнул магазин из окна приёмника. Магазин был пуст. Он лихорадочно зашарил по карманам разгрузки, но по лёгкости магазинов понял, что все патроны он расстрелял, пока они прорывались к пятиэтажке.
«Старый» глубоко вздохнул, приготовил гранату и шагнул в подвал…
На фоне окна чётко были видны трое «духов» у ДШК, изрыгающего выхлопы пламени. Подвал дрожал мелкой дрожью… «Старый» метнул гранату под пулемёт и упал на бетон пола. Взрыв сотряс весь дом, и отбросил «Старого» в сторону выхода, полностью оглушив его. Придя в себя, он приготовил вторую гранату и пополз к окну. Опираясь на станок покорёженного взрывом пулемёта, он поднялся и увидел «духов», отходящих по улице. Он метнул вторую гранату прямо в их скопление. Потом третью… Оставалась одна — крайняя… «Старый» подумал… и швырнул её в кучу убегающих «духов»…
Дальше был чёрный провал. Он быстро-быстро летел в какой-то чёрный колодец, крича от боли…
Несколько солдат-срочников мотострелкового полка с удивлением и каким-то ужасом на детских лицах смотрели на «Старого»… В изорванном в клочья обмундировании, весь залитый кровью, с чёрным от гари и боли лицом, он сидел на полу подвала среди трупов «духов» и… смеялся. А по щекам, вымывая светлые дорожки на лице, катились то ли слезинки, то ли капли воды из пробитых осколками водопроводных труб…
Молитва матери со дна моря достанет
Рассказывает подполковник Сергей Борисович Яновский:
— В 90-е годы я служил в 55-й дивизии морской пехоты Тихоокеанского флота. В самом начале января 1995 года Андрей Сумин, наш ротный, мне говорит: «В Чечне бойня. Наверное, будут набирать туда и от нас. Но как что будет — не знаю…».
Первую команду собрали очень быстро, второпях. Людей снимали прямо с кораблей, не особо рассматривая их личные дела. Так и отправили. А вот потом подход изменился. И когда уже я собрался туда, то рапорт написал сам. Рассматривали его очень долго, и только в конце января 1995 года я получил разрешение, так что в Чечню я попал уже в феврале 1995 года.
Для отправки надо было сначала поехать в Славянку, где стоял отдельный полк морской пехоты Тихоокеанского флота, на полигоне которого проходило боевое слаживание.
На следующий день после оформления документов в Бамбурове или, как мы его называли, «Бомбее», нас погрузили на корабли. Шли сначала рекой, а потом — морем в сторону аэродрома. Высадили нас в бухте рядом с запасным аэродромом. Наверное, это было сделано с целью скрыть нашу отправку от остальных. Команду получили: «Никуда не отходить, всем стоять на месте!». Тут же быстренько открыли твиндеки у десантных самолётов ИЛ-76 и погрузили нас внутрь, что селёдок в бочку.
Летели мы с посадкой в Новосибирске. Там на полосе снежок, холодно… Но — что удивительно — выйти в туалет разрешили только офицерам! А матросы — даже не знаю как — сидели и терпели до конца полёта. А ведь летели мы до Моздока часов восемь!
Настроение было обычное, хотя все чётко осознавали, что не на прогулку летим. Знали ведь, какие потери были у наших в январе в Грозном. И была ещё одна причина такого настроя: люди просто пили, чтобы заглушить тревогу, а некоторые продолжили пить и дальше, уже после прилёта. Но таких без лишних разговоров отправляли обратно. Полной уверенности нет, но, возможно, что кто-то из них делал это специально, чтобы оказаться подальше от войны.
Когда мы вышли из самолёта в Моздоке, первое ощущение — хорошо!.. Вздохнули полной грудью. И немудрено, ведь десантный вариант ИЛ-76, на котором мы прибыли, это огромная металлическая труба с маленькими лавочками. А ещё мы все с оружием, с боекомплектом…
Погода стояла отличная: весеннее солнышко светит, тепло. У кого-то даже мысли появились позагорать, пока суть да дело… Но уже минут через десять нашу разведроту (рота была урезанная: три офицера, четыре мичмана и двенадцать бойцов) построили и посадили в вертолёт. Мы полетели под Грозный.
Задача была поставлена такая: сменить то, что осталось от роты 165-го полка морской пехоты, вжиться в район и ждать подхода основных сил.
Рота 165-го полка стояла на высоте рядом с газораспределительной станцией. Парни, которых мы меняли, уходили с бодрым настроением, которое очень хорошо передают слова известной песни: «В Моздок я больше не ездок». Они нам рассказали, какие могут быть провокации, откуда обстреливают. Хотя на тот момент общая обстановка вокруг была уже относительно спокойная. Ещё кое-где стреляли, но днём можно было передвигаться относительно свободно, хотя, конечно, не в одиночку. Что запомнилось: всюду стоял ужасный запах трупного гниения…
В планах был перенос сюда штаба объединённого полка морской пехоты, который мы должны были охранять и с этого места работать — выводить батальоны. Общей задачей полка был захват Ведено.
Заняли позицию у газораспределительной станции внизу. Приехали и командир полка, и штабные. По плану, на следующий день первой на боевую высоту Гойтен-Корт должна была вставать рота нашего десантно-штурмового батальона. Командиру роты тут в голову пришла такая «гениальная» мысль: а вдруг на высоте «духи», а мы придём раньше; поэтому приехал он с ребятами на высоту не утром, а накануне вечером! А «духи» (почему-то!) знали точно, что рота заняла позиции на высоте раньше времени.
Между газораспределительной станцией и высоткой было метров триста-четыреста, а в низине росли густой кустарник и деревья. «Духи» зашли в этот кустарник и постреляли сначала в сторону десантно-штурмовой роты, а потом — в сторону штаба. И понеслось… Мы начали воевать друг с другом. Вот что получилось благодаря внезапному озарению командира роты.
Штаб стал вызывать помощь: мы тут чуть ли не в окружении бьёмся! Но через некоторое время всё-таки разобрались. Начальник разведки полка Паша Гапоненко (а он к тому моменту уже знал, что на высоте наши) даёт мне бинокль и на высоту показывает: «Вон точка работает. Как лупит!.. Без перерыва кладёт очереди веером!». Тут пулемёт замолкает. Пашка: «Смотри!». Вижу — тень движется, тык-тык-тык… Спрашиваю: «Что, отходят?». — «Да если бы! За патронами побежал». Через пять минут тень в обратную сторону — тык-тык-тык… И снова начинает стрелять по нам. Хорошо, что в этот раз никого не зацепило.
На войне я должен был командовать одной из групп разведроты. Вместе со мной в группе было пять матросов, с которыми я встретился только в Славянке, на полигоне. Это были, как считало командование, казарменные хулиганы, по которым суд плачет и клейма негде ставить. Всех бойцов до единого на войну забрали прямо с гауптвахты. И офицеры в разведроте собрались «залётные», которые были не особо угодны командованию. Но, как потом выяснилось, изо всей роты мерзавцами и хапугами оказались лишь двое из них. В бой они идти не хотели, а всё старались держаться ближе к матчасти. Естественно, что отношение к ним было соответствующим. (Причём один из этих двоих даже как-то сказал: «Как только будет какая-нибудь стрельба, я вам в спину выстрелю!». Но мы решили никак на это не реагировать. Рассудили так: если на войне ещё и между собой начнём грызться, то ни к чему хорошему это точно не приведёт.) Кроме этих двоих народ в роте подобрался боевой — такие первыми в бой входили и последними из боя выходили.
Кстати, наша разведрота так и осталась неугодной командованию. А неугодными мы стали потому, что мы даже не пытались скрывать, как мало желания у нас охранять высоких начальников, которые периодически осчастливливали полк своим присутствием. Мы для них вынуждены были быть при них и выполнять не свойственные нам функции таксистов — возить их туда-сюда.
Любить их было не за что — при близком общении стало понятно, что это за люди. Так как мы постоянно находились рядом с ними, то видели, чем они занимаются, как весело и с огоньком проводят время. Помнится, какое роковое участие высокие начальники приняли в судьбе двух молодых женщин, которые вышли из Грозного и прибились к нашему штабу. Они-то думали, что вырвались от боевиков и пришли к своим!.. А их мерзко использовали для ублажения приезжающих высоких начальников. Всё по классической схеме: приезжают проверяющие, а им, пожалуйте, — девочки, баня, водка… (Позже, при выводе полка, этих несчастных женщин так в Чечне и бросили.)
Наша ненависть к высоким начальникам из Москвы была так велика, что у нас даже родился сценарий: при нападении группы боевиков (которую должны были изображать двое наших разведчиков) они геройски погибают. Сейчас я осознаю: хорошо, что дальше плана дело не пошло. Пусть Господь Бог будет им судьёй. Кстати, одного из этих начальников время от времени я до сих пор на экранах телевизора вижу.
Некоторые поездки с начальством были почти анекдотичными. Левадний Алексей, командир одной из групп разведроты, как-то поехал с полковником Кондратенко из нашей 55-й дивизии на переговоры с Масхадовым. И на одном из блок-постов вэвэшники их бэтээр остановили. Полковник Кондратенко представился, но, по понятным причинам, о цели поездки ничего не сказал. Номера на их бэтээре были завалены ящиками с патронами и мешками с песком. Кто едет, куда — непонятно… И прицепился к ним то ли старшина, то ли прапорщик, который почему-то был в чёрном берете: «А я откуда знаю, кто вы? Давайте быстро документы!..». А Кондратенко, как многие из офицеров, действовал так: говорил один раз, а если его не понимали, то начинал «закипать». Сидел он на командирском месте справа; Лёшка Левадний — ближе к водителю, с той стороны, откуда вэвэшник и подошёл качать права. Вид его чёрного берета добавил Кондратенко злости: «Ты чего в чёрном берете? Ты что, морпех? Этот берет даже в морской пехоте ещё заслужить надо!». Но вэвэшник снова начал ерунду нести.
Тогда Кондратенко поворачивается к Лёшке: «Взводный!». Тот: «Я, товарищ полковник!». — «Он мне надоел. Дай ему в бубен и забери берет!». Лёшка в мгновение ока это и исполнил: наклонился и сдёрнул с головы вэвэшника берет. Тот что-то забубнил — но тут же получил такой удар ногой, что, хоть и был в бронежилете, в воздухе перевернулся и, как жаба, на четыре кости плюхнулся. Тут же пулемёт бэтээра развернули на остальных вэвэшников, которые из будки своей повыскакивали. Кондратенко водителю: «Поехали!». Надо понимать, какое у морских пехотинцев отношение к берету: это предмет особой гордости. И в бой мы обязательно шли в тельнике и в берете.
Такие относительно безобидные (по результату) случаи происходили часто. Однажды один наш боец своему замполиту в пятую точку дал очередь из пулемёта! Это вообще умопомрачительная история, в которой соединилось сразу всё: глупость, тупость, жадность и ещё не знаю что.
Мы стояли между Шали и ущельем, через которое к Шали идёт дорога. Тогда было очередное перемирие с боевиками… Утром вызывают всех офицеров разведроты в штаб. Нам ставят задачу: моей группе и группе Лёшки Леваднего одеться, экипироваться, вооружиться и быть готовым выдвинуться через десять минут. По данным разведки, с гор на «уазике» должна прорываться группа боевиков, человек восемь-десять. Их цель — попасть в Шали.
Мы залегли в засаде по обе стороны дороги: по двое с каждой стороны у самой дороги, а остальные смотрят в сторону Шали. Но мы же не знали, что постановку задачи услышал ещё и замполит! А тот решил рвануть рубаху на груди. Он собрал бойцов из десантно-штурмовой роты и рассудил примерно так: на уазике «духи» вряд ли в открытую поедут. Пойду-ка я с бойцами в лесок, через который они точно должны пройти. Другими словами — он захотел всех опередить и лично поймать бандитов. Но мозгов не хватило хотя бы узнать, где мы залегли! Тут надо сказать, что экипировкой нашу одежду, в которой мы ходили, можно было назвать с большой натяжкой. Новое обмундирование было давно продано, поэтому по внешнему виду мы от боевиков почти не отличались. Если смотреть со стороны на нас и на «духов», то выглядело это так: и с одной стороны воюет банда, и с другой — банда. Заросшие, чёрные… Фиг поймёшь кто где…
Замполит с бойцами доехали докуда смогли на бэтээре, а потом решили срезать путь к леску и пошли мимо нас. Мы сначала услышали шум мотора. Матрос Виктор Решетников докладывает: «Какая-то группа идёт!». Я: «Сколько человек?». — «Наблюдаю около десяти. Все вооружены, идут осторожно, оглядываются. Что делать?». Я: «Их много, всех тихо не возьмём. Но хотя бы пугануть-то надо! Подпусти поближе и дай очередь по ногам. Хоть кого-нибудь захватим». Решетников выбрал самого матёрого (им и оказался замполит!) и дал по нему из пулемёта! Витька стрелял хорошо и всю очередь всадил замполиту в задницу! Но по тому, что именно стали кричать «боевики», сразу стало понятно, что это свои. Раздавались обещания сгноить нас в Сибири до момента, пока мы весь снег там не уберём, и тому подобное. Решетников потом долго и очень сильно переживал, сам не свой ходил. Но обошлось…
Рядом с нами стояли «зелёные» — мотострелковый полк из Владикавказа. У них были станции наземного обнаружения ПСНР. Меня и послали к разведчикам этого полка учиться работать на этой станции. Научился я дня за три-четыре и стал выдавать реальные результаты.
Это уже было за Шали. До предгорий оставалось километра три. Кругом стояли отдельные деревья, но в основном местность представляла собой степь с высокой травой. В этом поле стояли два недостроенных коттеджа, в подвале одного из которых мы и расположились. Здесь же находилась и сама станция.
Наши ушли в предгорья. За нами были Шали. Обстановка вроде спокойная, хотя охранение мы всё равно выставляли. И вот утром часов в пять забегает боец из охранения: «Духи!..». Мы — кто в чём — стали выползать из своего подвала. Во дворе стояла вкопанная в землю БМП. Слышим, как по её броне пули щёлкают! Туман утренний низко по земле стелется, сразу-то и не разобрать, откуда стреляют. Огонь мы открывать не стали — непонятно куда стрелять! Но минут через пять увидели двоих посреди поля. Ходили они по полю какими-то непонятными зигзагами. Куда они стреляют, понять было невозможно. Хоть пули до нас и долетали, было ясно, что стреляют они не в нас, а в кого-то другого, кого мы не видим. Первое, что мы подумали: это пара обкуренных «духов». Решили взять их живьём. Обошли с двух сторон и взяли. А они оказались морпехами с Северного флота!.. И стреляли-то они в зайца! Им очень хотелось есть, вот они на и охотились «косого». Но они-то своего зайца видели, а мы — нет! А про то, что мы в своём подвале засели, они и знать не знали.
Забрали у них оружие и говорим: «Бегите к своим, пусть приезжает командир». Убежали… Через полчаса прискакивает их командир, старший лейтенант. Андрей, начальник разведки «зелёных», говорит: «Ну что, командир? Оружие, наверное, хочешь получить обратно?». Тот: «Да, да, да, да…». Андрюха ему: «За каждый автомат — по пол-литра спирта». Старлей пытался спорить, но Андрей как отрезал: «Я два раза повторять не буду, дальнейший разговор бесполезный». Старлей запрыгнул на бэтээр и уехал.
Часа через два (Андрей уже волноваться стал, ведь такой случай решили шашлыками отметить) старлей подъезжает. Андрей успокоился — можно бойцов за бараном посылать. Старлей заходит, а мы у него в руках только свёрток небольшой видим — явно не литр спирта. Подаёт фляжку. Андрей: «Тогда только один автомат! И то без боеприпасов». Он: «Да нет, ребята! Это заменяет литр обычного спирта». Во фляжке оказался спирт с добавлением эфира. Андрюха наливает и подаёт взводному «северян»: «На, первым пей!». Старлей выпил, всё нормально. Они нам ещё и зелени привезли, надрали где-то чеснока дикого. Пожалели старлея, отдали ему оба автомата.
Спирт с эфиром вообще-то применяют в медицинских целях. Но нам он очень понравился: небольшая доза — и тебе хорошо, но не дуреешь. Единственный недостаток: во рту послевкусие остаётся — как будто баллон резиновый съел.
А в том, что мы не смогли наших бойцов от «духов» на расстоянии отличить, не было ничего удивительного. Для того, чтобы в лесу как-то своих от чужих отличать, мы нашивали на руку и ногу камуфляжа куски «тельника».
Пока мы осваивали станцию ПСНР, какая-то паскуда повадилась нас обстреливать: со стороны окраины Шали по ночам стали к коттеджам прилетать по две-три пули. Мы примерно видели, откуда стреляют — из брошенных домов на дороге, которая вела из Шали к фермам. Это удобное место для наблюдения за нашими войсками с тыла. Можно было и постреливать в спину…
Забыв о том, что инициатива наказуема, мы с Андреем мы попытались выйти на «Молот», артиллерию Группировки: хотели добиться каких-нибудь огневых средств для подавления огневых точек. Готовы были передать точные координаты и сообщить, когда там будут «духи». Нам было сказано примерно так: «Вы не лезьте, это вообще не ваше дело. Будет ещё какой-то старлей от нечего делать нам указывать, куда удары наносить!».
И тут мы сообразили: а в Шали же наши стоят! Ну-ка мы к ним обратимся! Через командира владикавказского полка вышли на коменданта Шали. Он к нам сам подъехал. Проводили на место, обрисовали, где позиции у боевиков, когда они приходят сюда. Но в сам дом не пошли.
А комендант Шали сказал нам просто: «Во-первых, у меня нет сил для такой операции. А во-вторых, куда вы вообще, ребятки, лезете…». То есть вежливо нас отшил. А нам надо-то было от него всего человек десять. План созрел такой: комендатура закрывает проход в город. От нашей вкопанной бээмпэ как раз прямая наводка на этот дом была, расстояние метров пятьсот. Бээмпэ да мы впятером развалили бы дом до самого фундамента.
Из-за отказа в помощи пришлось всё делать самим. «Духов» мы в «ночники» видели, но сколько их точно, не знали. Пошли втроём: я, Андрей и ещё один боец. Взяли пулемёт, подствольники. Подошли метров на семьдесят. Сначала забросили в дом по три-четыре гранаты от подствольников, а потом к-а-к дали из пулемёта!.. Оттуда взлетела ракета. И — тишина… Утром прошлись по дому: нашли патроны, ручные гранаты, гранаты от подствольника, мины восьмидесятидвухмиллиметровые. На этом обстрелы прекратились.
До двадцатых чисел мая мы занимались разведкой. Изредка были короткие стычки с боевиками. Тогда же было объявлено очередное перемирие. Хотя потери у нас во время перемирия всё равно были: под Гойтен-Кортом снайпер застрелил матроса.
Именно тогда мы выловили корректировщика огня. Им оказалась женщина лет тридцати, украинка. Поймал её наш боец в расположении десантно-штурмовой роты, мальчишки там были смышлёные. Тётка стала говорить, что она местный житель: якобы приехала в Чечню на заработки, а у нас корову ищет. И показала документы гражданки Украины. Но при обыске у неё нашли топографическую карту с нанесёнными нашими позициями, координаты, позывные. Это были не те рисунки, которым учат в военном училище, но понятные и довольно-таки грамотные. Да и вообще разобраться в топографической карте не каждый сможет. По её рассказу получалось, что она корову по карте искала… При более тщательном осмотре стало понятно, что физически она хорошо подготовлена: сильные руки, ноги тренированные. А на правом плече нашли синяки. Стало ясно, что она недавно много стреляла.
Видно было, что она боится. Сначала стояла на своём: корову ищу — и всё тут! Вызвали особистов, которые стали «колоть» её дальше.
Среди боевиков наших братьев-славян можно было встретить не так уж и редко… Так Алексей Левадний из нашего полка познакомился со своим тёзкой, тоже Алексеем, с Украины. Во время переговоров между нашими и Масхадовым они стояли в двух шагах друг от друга. На вид хороший парень. Разговорились. Оказался бывший «афганец», служит в охране Масхадова. История простая: пришёл с Афгана, а тут — перестройка. Потыкался, помыкался — никому на фиг не нужен. Решил, что семью чем-то кормить надо, родителям помогать тоже как-то надо. Вот и подался в Чечню…
А знаменитый «майор Вася»! Это был капитальный спец! Тоже «афганец», танкист, за Афган был награждён. Мне про него рассказывал особист, которого мы возили в Ханкалу. «Майора Васю» уволили из Вооружённых сил по дискредитации, без жилья. Непонятно, что за формальная причина была для увольнения. Но особист сказал, что офицер этот был невиновен. И вот в результате получили серьёзного врага. «Майор Вася» возглавлял у «духов» бронетанковую службу. По его плану и под его руководством «духи» подняли танки в горы, создали для них оборудованные площадки, капониры и пристреляли территорию. И это были такие капониры, что мы стреляли по ним из ПТУРов с нулевым результатом!.. Он ещё сумел организовать обслуживание и ремонт подбитых машин.
И с этих отличных позиций «майор Вася» за несколько километров попадал в цель. Он как опытный офицер грамотно мог предположить, где что расположено, — все же в одних училищах учились. Поэтому каждый выстрел — или трупы, или уничтоженная техника. И ещё он был отчаянным: не боялся вступать в перестрелку один против танковой роты. Особисты говорили, что под ним сгорело пять машин.
В том, что этот «майор Вася» очень хороший специалист, мы убедились на собственной шкуре. От его снарядов погибли люди, которых я знал лично. Среди них — капитан Олег Саулко. «Майор Вася» выстрелил точно в палатку, где обычно проходили совещания. Но он немного ошибся со временем — задержались господа офицеры. А Олег был дежурным, сидел в палатке на связи вместе с бойцом. Если бы наши зашли на пять минут раньше, то одним выстрелом накрыло бы всё руководство полка…
Причём понять, когда будет стрелять «майор Вася», было очень сложно. Это у нас всё чётко — ровно в восемь тридцать артобстрел. «Духи» встали чуть пораньше и с позиций ушли. А наши выстреливают вагоны снарядов в пустоту, в белый свет как в копейку!.. Обстрел заканчивается, «духи» возвращаются на позиции.
Майора-танкиста «духи» вообще берегли как зеницу ока. Наши поймать его так и не смогли. И на семью его тоже выйти не удалось, её заблаговременно перевезли в Турцию. Всё это наводит на размышления. Предатель — да, несомненно. Но… Зачем было так искушать человека? Не на пустом месте случилось с ним это. От безысходности и ненависти такой профессиональный офицер стал оборотнем.
26 мая 1995 года нам была поставлена задача провести разведку боем: решили попробовать, что произойдёт, когда полк начнёт наступление на юг, на Ведено. Дальше Ведено «духам» бежать было некуда. Там начиналась горно-скалистая местность, Кавказский хребет. Тактический замысел был простой: прижать боевиков к горам и добить.
Наша разведка оказалась настолько успешной, что мы могли бы гнать «духов» очень далеко. Но как всегда, всё непонятным образом смешалось: сначала дали команду «Стоять!», а потом и вообще — «Назад!».
Наступление началось рано утром. Стояла жара, я почему-то это хорошо запомнил. Утром поработала авиация. Но прилетали всего по одному-два самолётика, так что можно сказать, что особой подготовки перед наступлением не было.
Сразу за Шали мы вошли в одно из трёх ущельев, что вело на юг к Ведено. В голове шёл авангард из «северян», они были слева от нас. Вела их наша разведгруппа Виктора Ярового. По центру по дороге и справа шли «тофовцы». Всего наступал один батальон с приданным танковым взводом и бэтээром. Ещё один бэтээр был с установленным на нём «васильком» (многоствольный миномёт. — Ред.)
Бой начался с подрыва бэтээра. И тут же пошёл обстрел с двух сторон. Обстрел в тот момент был очень сильный, просто головы не поднять. И тут окончательно стало понятно, что наши автоматы калибра 5.45 в лесистой местности, в «зелёнке», — оружие очень слабое. Задевают пули за какую-нибудь ветку и отскакивают неведомо куда. А «духи» почти все воевали с оружием калибра 7.62. Группа у них состояла из трёх человек: пулемётчик, гранатомётчик и автоматчик. Подбегут к краю «зелёнки», стрельнут и уходят. Так вот эти «тройки» и бегали вдоль дороги. Но было видно, что нашим ответным огнём эти «тройки» постепенно всё-таки уничтожались.
Когда началась стрельба, я ехал на бэтээре водителя Виктора Калейманова. Находились мы примерно в середине колонны. Майор Павел Гапоненко, начальник разведки полка, мне говорит: «По связи передали, что погиб врач, твой друг». Я, не понимая, зачем он мне вообще это сейчас сказал, спрыгнул и бросился вперёд, — к месту, где на дороге обстреливали бэтээр. Пашка — за мной. Он был, как и мы, в маскхалате, но бежал без автомата, только с пистолетом. Не знаю, сыграло ли это свою роковую роль (боевики усвоили: если с пистолетом, то это точно офицер), но граната от гранатомёта пролетела мимо меня и взорвалась прямо перед Гапоненко! Я упал, перекатился в сторону.
Рядом с Пашей оказался прапорщик со Славянки. Он кричит нашим: «Помогите, помогите!..». Но из колонны к нам никто подойти не может — очень плотный огонь. Тогда он стал кричать мне: «Надо выносить Пашку, я один не могу!». Я перекатился через дорогу к обочине, где они лежали. Увидел, что у Паши в груди такая сквозная дыра, что просто смотреть на неё было страшно! Он погиб мгновенно…
Мы оказались в неглубокой канаве. Это было хоть какое-то, но укрытие от огня слева. «Духи» бьют непрерывно по дороге и краю канавы — не высунуться. Выставишь руки с автоматом над бруствером, нажмёшь на спуск — магазин за несколько секунд вылетает. Перезарядил, выставил, выпустил… А между этими очередями Пашу тянем вдоль канавы в сторону своих. Но канава становилась всё мельче и мельче. Через какое-то время поняли: ползти дальше смысла нет; ещё немного — и мы бы оказались на открытом месте. Что делать?..
И тут подошёл танк. Он прикрыл нас бортом и сделал несколько выстрелов в сторону «духов». Стрельба мгновенно прекратилась, мы смогли выйти. И почти сразу пришла команда «Стоять!» и «Назад!». Бой закончился.
После боя мы пытались разобраться, при каких обстоятельствах погиб врач. Выяснили: в самом начале у «северян» появилось много раненых. Расстояние до них было небольшое, не больше километра. И доктор с двумя бойцами поехал за ранеными на МТЛБ (многоцелевой тягач лёгкий бронированный. — Ред.). Почти перед самыми позициями «северян» они напоролись на засаду. Механик погиб сразу, а второй матрос выскочил и убежал, бросил офицера.
Когда потом нашли доктора, оказалось, что у него жгутами были перетянуты перебитые ноги. Он сам себя попытался перевязать. Пустых гильз вокруг было очень много, он отстреливался в течение нескольких часов. То ли он истёк кровью, то ли от шока умер. До сих пор не понимаю, почему «северяне», к которым он ехал и которые слышали, что рядом несколько часов идёт бой, ему так и не помогли. А у него именно в этот день, день его гибели, родилась дочь…
В тот же вечер я разговаривал с командиром группы армейского спецназа. Они вышли из тыла боевиков на нашем участке. По его словам, разведка у нас была организована ужасно. Карты старые, конца пятидесятых или начала шестидесятых годов. Вроде бы должна быть «зелёнка» по карте, а там давно уже скошенный огороженный луг, где и деревьев-то никаких нет.
А у нас в полку всё упростилось до предела. Разведка стала простым авангардом: нас использовали как «штафников» в Великую Отечественную. Мы первыми вступали в бой, а потом подтягивались остальные части. Именно поэтому кадровый состав нашей полковой разведки очень быстро поменялся полностью: от начальника разведки полка до последнего бойца… А ведь, по военной науке, разведчика, который начинает стрелять, пора переводить в категорию диверсантов. Ведь какая основная задача у разведки? Добывать информацию.
Но, как говорится, не надо переживать: на самом деле всё гораздо хуже, чем кажется. Была ещё одна большая проблема. Допустим, информацию ты добыл. Но её же надо передать в штаб! А связь была ужасная. Две частоты — основная и запасная… На обеих частотах постоянно сидели «духи»: и на той, и на другой — чеченская речь. Начинаешь говорить абракадаброй, чтобы хоть как-то затруднить понимание. Вроде были у нас и аппаратные средства шифрования переговоров, «аристотели» и «архимеды» всякие. Но они такие тяжеловесные! Их просто невозможно таскать по горам! И толком говорить через них никто не умел. А ведь надо, чтобы тебя услышали и поняли. А говорить надо было примерно вот так: «Нууууужноооооогооооооовооооооорииииить вооот тааааак». И выдать информацию в таком темпе во время боя крайне сложно. Были ещё и «арбалеты». Они хоть и маленькие вроде, но дрянь редкостная.
Так что можно сказать, что связи нормальной у нас практически не было. Ведь самое главное в бою — это координация и взаимодействие. А как командир может руководить боем, если он не может толком ни получить информацию, ни отдать распоряжение? И нам приходилось решать этот вопрос так: рядом с командиром при штабе сидел наш человек, которому мы по открытой связи передавали придуманную нами абракадабру. И он уже командиру переводил её на нормальный язык.
День 26 мая оставил тяжёлый след в душах у всех нас. Накопилось много обид, непонимания: почему мы так действовали, зачем? Мы с товарищем вечером хлопнули бутылку водки на двоих. На закуску был один кусок хлеба. Но результата от водки — ноль, абсолютно трезвые.
Почти все у нас в разведроте пришли к вере именно тогда, когда начались реальные бои: надели крестики, спрашивали тексты молитв друг у друга. Некоторые привезли с собой иконки. И молились, это я знаю совершенно точно. Мне мама дала пояс с 90-м псалмом, я его на войне не снимал.
И буквально на глазах мальчишки становились мужиками. Учились все очень быстро. Причём часто учились и у «духов», обдумывали и анализировали их действия. А труса никто не праздновал, хотя всем было страшно, очень страшно… Когда пульки начинают летать, так к земле тянет, она становится очень родной! Так хочется её обнять и вжаться в неё! Но подниматься всё равно надо…
Вспоминаю один показательный случай, который произошёл как раз 26 мая, в день, когда мы начали наступление. Многие смотрели фильм о самоходчиках «На войне как на войне». Там командир самоходки вылез под обстрелом и буквально вёл за собой самоходку, так как механика-водителя заклинило от страха. И вот здесь на моих глазах командир танка сделал то же самое.
«Духи» очень грамотно заминировали дорогу: на самой дороге заминировали участок метров тридцать. А когда на дороге обнаружены мины, какая команда сразу поступает? Правильно: съехать с дороги и двигаться по обочине! И следующие тридцать метров заминированы уже не на дороге, а на обочинах. И как только раздавался взрыв, «духи» тут же начинали обстрел.
Впереди колонны были два бэтээра с бойцами, которые вступили в огневой контакт с «духами». За ними шёл танк с минным тралом. И вдруг танк встал! Экипаж труханул: разрывы, выстрелы… Тогда их командир выскочил и начал механику руками показывать: «На меня, на меня…». Смотрелось это дико: все лежат, вжавшись в землю. А он посреди дороги на совершенно открытом месте медленно-медленно идёт перед танком…
Через несколько дней началось настоящее наступление. Я со своей группой вёл батальон «северян» в обход селения Агишты. «Северяне» должны были в селе остаться, а мне поставили задачу: захватить мост через реку Бас за Киров-Юртом и удерживать его до подхода основных сил. Мост надо было держать на тот случай, если боевики из села будут отходить к реке.
Подошли к мосту, смотрим в бинокль: мост на абсолютно открытом месте, вокруг одни валуны. Как и где окапываться — непонятно. Я по рации спрашиваю: «А сколько боевиков может отходить в этом направлении?». Отвечают: «Более семисот человек». Настроение стало невесёлое. Нас-то было всего пятеро… С собой — два гранатомёта одноразовых, пулемёт и автоматы. Правда, боеприпасов очень много. Мы никогда не брали с собой ни еды, ни воды — всё загружали патронами.
Но делать нечего, приказ есть приказ. Подошли к мосту поближе. Нам повезло — боевиков там не оказалось. Расположились в сотне метров на сопочке, с которой при необходимости можно было бы вести по мосту огонь.
Но боя на этот раз не было. Причина простая: боевики в селе были, но серьёзного сопротивления не оказали. В самом начале они пропустили танк и из крайнего дома расстреляли бэтээр. Не знаю, о чём они думали. Танк тут же развернулся и с одного выстрела разнёс дом, откуда стреляли, в пух и прах. Откуда-то выскочили два оглушённых «духа», которые недолго бегали по полю — их тут же захватили живьём. А остальные «духи» огонь открывать не решились. Они поняли, что цацкаться с ними никто не будет, и посчитали, что лучше сберечь село.
Задача у полка была идти дальше на Ведено. Приказ: при оказании сопротивления подавлять его всеми средствами. Накануне мы вывели «северян» на высоту, откуда они должны были подавлять огневые точки. К ним от моста мы и вышли. Связались со штабом полка, доложили и остались ждать дальнейших указаний.
Бойцы сразу стали ловить баранов. И ближе к вечеру, часов в пять-шесть, из села пришли старейшины и заявили командиру батальона: «Если вы сейчас не прекратите ловить нашу живность и не отдадите то, что уже поймали, то мы вам ночью устроим бойню!». Причём они видели у нас и танк вкопанный, и бэтээры. Комбат справедливо рассудил: если они, видя у нас тяжёлое вооружение, собирались нам ночью устроить бойню, значит, их в селе много боевиков и вооружены они до зубов. (Понятно, что с охотничьими ружьями они на танки не пойдут.) Комбат мне говорит: «Явно в селе оружие и боевики есть. Ну что, разведка, прочешем село? Весь батальон — наизготовку. Связь с танками и бэтээрами есть. Если где-то сопротивление окажут, мы сразу из танка и из всего, что есть, по этому дому начинаем лупасить». Я говорю: «Я готов, но мне надо связаться с командованием». Но командование нам ответило: «Верните, мародёры, всё, что взяли!.. В село не ходить!».
Надо сказать, что баранов ловить парни пошли не от хорошей жизни. Питание от полковой кашеварилки было отвратительное, на машинном масле. Но часто и этого не было. Так что каждый изворачивался как мог…
Переночевали у «северян». Утром дают приказ — везти двух пленных в тыл. Но что-то не срослось, и мы почти сразу вернулись с ними обратно. И пока несколько дней пленные (одному было лет пятьдесят, а другой совсем молодой — лет восемнадцать-двадцать) были у «северян», они и окопы копали, и укрепления строили. И ещё их заставили выучить гимн Советского Союза, а также произносить речёвки на тему: «Масхадов с Дудаевым — уроды»!
Вели они себя очень смирно. Куда былая гордость подевалась? Но положение у них было незавидное: их взяли в плен с оружием в руках. Пока они были здесь, вместе с нами, копанием земли и пением гимна всё для них и ограничивалось. Но потом, когда их отвезли на ТПУ (тыловой пункт управления. — Ред.), наши тыловики над ними вволю поиздевались. Всю ночь водку пили, и чего с ними только ни делали… Потом связали их проволокой и посадили в дизельную комнату распредстанции. А уже утром из жалости кто-то им туда гранату кинул…
Нам этого было не понять. И после этого случая наше и так крайне негативное отношение к тыловикам сформировалось окончательно. Ну нельзя такое творить! Как будто не по своей земле идём. Тебе для чего пленных привезли? Чтобы получить от них информацию. А издеваться зачем? Я вот точно знаю, что свои руки бессмысленно кровью не запятнал.
Но наш тыл полковой по сравнению с Ханкалой — это передовая!.. В Ханкале военные ходят такие деловые, в рубашечках — куда деваться! Мы часто возили в штаб особиста. Его, конечно, надо было охранять. Один раз приехали, а он говорит: «Обязательно меня дождитесь». Мы сидим, ждём. Вид у нас, только что с гор спустившихся, соответствующий: грязные, заросшие, без знаков различия. Сидели-сидели — жрать охота, пить охота! Вода во флягах нагрелась, противная. Говорю: «Давайте фляжки, попробую пошакалить в районе штаба. Может, чего-нибудь найду холодненького да хлеба принесу». Прихожу обратно — бойцы весёлые такие! «Командир, залазь на бэтээр. Сейчас прибежит тут один…». — «Вы что успели отчебучить?..». Вижу, бежит особист озабоченный: «Давайте, поехали быстрее! Кого вы тут чуть было не убили?». Я: «Да не знаю! Вот вода, хлеб — ходил искать».
Бойцы рассказывают: подходит к ним какой-то «подпол» (подполковник. — Ред.). Спрашивает: «Вы кто?». Ему: «А вы кто?». — «Вы кто такие?!. Я вас арестую!». Решетников Витька отвечает: «Мы свои. А насчёт арестую — чем арестовывать-то будешь? Вот я, например (и пулемёт подтягивает к себе), дам очередь и развалю тебя пополам!..». Подполковник попрыгал-попрыгал, а сделать ничего не может: все борта бэтээра мешками с песком завалены, номеров не видно. Решетников подполковнику говорит: «Иди отсюда, неровен час я тебя пристрелю, даже пискнуть не успеешь». Тот: «Как вы разговариваете, вы кто такой, ваше звание?!.». Тот: «Ну никак ты не понимаешь…». Соскрёб грязь с ботинка и бросил в подполковника. И попал… А как только мы за ворота выехали, искать нас было уже бесполезно. В общем, потешились…
Конечно, эта сцена говорит об общем отношении к тыловым. Разделение между теми, кто воюет, и ними было налицо. Сами себя мы называли «окопным быдлом». Вроде уничижительное определение, но это в противовес отдельным личностям, которые, пробыв в Чечне один день, получали орден Мужества. Мы совестью своей чувствовали, что лучше быть окопным быдлом, чем лощёным мерзавцем.
Тогда уже было понятно, что у тыловых и торговля идёт полным ходом, и прямое предательство бывало. Проезжаешь по Грозному — вдоль дороги бабушки стоят, что-то продают. «Мальчики, что же у вас даже колбаски нет? Это же ваши только привезли». И показывают на то, что они на коробках разложили и продают. Это наши тыловые сгрузили им продукты — торгуй! А потом за деньгами приезжают. Так было стыдно…
Экипировка у нас была кошмарная, зато боеприпасов много. Мы ездили в Грозный меняться. Я «зелёным» привозил гранаты, патроны и менял на разгрузку, камуфляж, КЗС (костюм защитный сетчатый. — Ред.). Никаких доппайков и в помине не было. Привезли как-то сигареты и сказали: «Мы сейчас запишем, кому сколько дали. Кто погибнет — ладно, спишем. А вот у тех, кто выживет, потом из жалованья вычтем». (Как-то привезли нам гуманитарную помощь. Там были транзисторные приёмники простейшие. Так мы их приспособили для обнаружения растяжек. Вставляли вместо антенны длинную проволоку. И когда эта проволока задевала проволоку растяжки, транзистор начинал пищать. Хоть какая-то польза…)
Даже на ТПУ своего полка такая обстановка: люди водку жрут, мясо едят и ничего не делают. Отдыхают, загорают, как на курорте. Бойцы же всё это видят… Я, да и многие вместе со мной, хотели бы после войны встретиться с зампотылу нашего полка. Но его в Чечне спрятали, скрытно вывезли, и в дивизии он больше не появился.
Самый трагический день в моей жизни — это 6 июня 1995 года. В этот день в одном бою погибли одиннадцать человек. Среди них — и разведчики из нашей группы под командованием Виктора Ярошенко, и моряки-балтийцы, которые пошли на подмогу.
Из моей разведгруппы в том бою нас было четверо: водитель Виктор Калейманов, я и двое матросов. Я считаю, что Калейманова надо было обязательно представлять к званию Героя посмертно. Ведь когда первая граната из гранатомёта попала в бэтээр, он до конца выполнял приказ: прикрывал бэтээром группу Виктора Ярошенко. (Огонь «духи» вели только с одной стороны, слева. Поэтому нами было принято такое решение: подставить под огонь бэтээр и под его прикрытием уйти назад к своим по руслу реки.) И Калейманов, зная, что его обстреливают в первую очередь, не выскочил, не убежал, а вёл бэтээр до тех пор, пока в него всё-таки попала вторая граната из гранатомёта и взорвалась внутри. Виктор погиб мгновенно. Но обо всём по порядку…
В начале июня информация у нас была следующая: есть базовый лагерь боевиков, в котором они лечатся в передвижном госпитале. Задача — найти и эвакуировать оборудование этого госпиталя — нам была поставлена третьего или четвёртого июня 1995 года. Общая задача полка — продолжать двигаться на Ведено. Наступление должно было начаться со дня на день.
Точных сведений о месте нахождения базы с госпиталем не было. Говорили, что лётчики видели этот госпиталь в ущелье, но точных координат нам не дали. По очереди, одна за другой, разведгруппы должны были ходить в ущелье. Я почти сразу понял, что из Ханкалы такую задачу полку не ставили. Это была местная инициатива. И дальнейшие события это только подтвердили.
Четвёртого июня первая группа протопала по ущелью километров десять и нормально вернулась. Ходили они по дну, где текла речка, больше похожая на ручей. Само дно состояло из валунов, на скатах очень густая «зелёнка». Между собой мы решили выполнять задачу иначе. Разведгруппа никогда по дну ущелья не идёт, это бред. Обычно группы идут по склону. Причём не по географическим высотам, а чуть ниже боевой высоты, в шахматном порядке. Но искать госпиталь надо было именно на дне ущелья. Нам говорили: «Вы можете в «зелёнке» на склоне госпиталь проскочить, поэтому надо идти именно вдоль русла». Конечно, из «зелёнки» госпиталь мы действительно могли не увидеть, высота довольно крутых склонов была метров двести.
Как потом стало ясно, «духи» поняли, куда и зачем мы идём. Первую группу они специально пропустили, чтобы не вспугнуть тех, кто придёт позже. Утром шестого июня пошла вторая группа Виктора Ярошенко, вместе с ним пять человек. Считалось, что раз до места, где развернулась и пошла обратно первая группа, признаков присутствия боевиков не обнаружили, то их там и вообще нет. И как раз в том месте, докуда дошла первая группа, группа Ярошенко напоролась на засаду.
Накануне выхода группы Ярошенко новый начальник разведки полка мне говорит: «На выходе из ущелья с нашей стороны — блок-пост, там стоят балтийцы. У них можно разжиться мёдом, есть продукты. Бери Калейманова и поезжай на бэтээре к ним. Заодно будешь на связи и подстрахуешь Ярошенко — вдруг к нему надо будет на бэтээре подскочить».
Мы подъехали к блок-посту. Встретил меня майор Дмитрий Каракулько. Посмотрели, как они обустроились, заглянули на местную пасеку. И тут Виктор Калейманов, который постоянно находился на связи и сканировал основную и запасную частоту, мне докладывает: «Наши напоролись на «духов»!..». Но где они конкретно находятся, разведчики передать не успели — «духи» почти сразу расстреляли радиостанцию. (Кстати, эта станция спасла жизнь радиотелефонисту, мы его называли «Петрович». После боя из станции выковыряли четыре пули. Это ведь сто пятьдесят шестая, гробина ещё та — лучше бронежилета! Её пули калибра 7.62 так и не пробили. «Петрович» с этой пробитой радиостанцией на спине так весь бой и бегал.)
Сами мы были без бронежилетов, хотя командование этого не поощряло. Но в бою надо быть очень быстрым, подвижным. Те бронежилеты, которые нам давали, весили почти двадцать килограммов. Поэтому мы поступили по-своему: выпаивали, вырезали, вырывали из жилетов пластины и пришивали к камуфляжу у жизненно важных органов: по паре пластин на грудь, печень. А больше, в общем-то, и не надо.
Мы запрашиваем Ярошенко — связи нет! Дима Каракулько тут же вышел на своих в Ханкале. Оттуда ожидаемый ответ: «В ущелье не входить, помощь прибудет. Скажите, где они находятся». Мы посоветовались и решили: ждать смысла нет, надо идти на помощь. Тем более у нас был бэтээр. Дима прыгнул на наш бэтээр с четырьмя матросами, и мы помчались по дну ущелья вперёд.
У меня был автомат и четыре магазина патронов. На бэтээре сверху были закреплены ящики с боеприпасами: и снаряжённые магазины, и просто патроны, и несколько одноразовых гранатомётов. Мы эти ящики прикрыли брезентом — перед выездом накрапывал дождь.
Стрельбу в ущелье мы услышали буквально через пару минут после начала движения. На БТР мы с Димой сидели справа, бойцы — слева. Прокручивали ситуацию: по карте прикинули, что группа Ярошенко должна быть справа. Мы планировали их быстренько втянуть и, подставив борт, уйти назад.
Местность, где «духи» прижали наших, позволяла нашим отстреливаться. «Духи» были и на одном склоне, и на другом. Но те, которые были на правом склоне, не доставали наших огнём. Те оказались в мёртвой зоне. Доставали их «духи» только с левого склона и вдоль ущелья.
Мы выскакиваем к месту боя — первый выстрел по нам из гранатомёта, взрыв!.. Граната попала почти посредине бэтээра и разорвалась не внутри, а снаружи. Поэтому водитель, Виктор Калейманов, который был один внутри, остался жив, хотя его сильно оглушило. Матросы тут же попрыгали на землю. По нам стали стрелять. Огонь из пулемётов и автоматов был очень сильный, два или три матроса были убиты сразу. Ведь стреляли практически в упор, метров с пятидесяти.
Я остался на бэтээре и кричу Калейманову: «Давай назад!». Решение пришло мгновенно: сдать назад к карману, который был у правого склона, подставить бэтээр, сбросить с него боеприпасы и там принять бой. Но как только Виктор начал сдавать назад, почти сразу прилетела вторая граната от ручного гранатомёта и, пробив броню, взорвалась внутри. Калейманова убило сразу, а меня взрывной волной сбросило на землю.
Мы все оказались между бэтээром и правым склоном. И тут неуправляемый уже бэтээр врезается кормой в скалу! Там оказался один из матросов-балтийцев. Он забежал за корму бэтээра потому, что там вроде было самое безопасное место. И неуправляемый бэтээр придавил его к камням! Умирал матрос очень долго и очень страшно! И при этом он так кричал!..
Дима Каракулько был по званию старший, майор. Говорит мне: «Коли ему промедол, собирай бойцов». Перед боем командирам групп давали промедол. Командир раздавал его уже бойцам и показывал, где держать, чтобы игла не сломалась, как колоть надо. А у нас в полку на пункте медицинского обеспечения два негодяя-моряка, которые промедол выдавали, тонким шприцом прокалывали пластиковый шприц-тюбик, вытягивали промедол, а обратно закачивали воду. Особисты их вычислили. Я считаю, что этим двоим крупно повезло. Если бы их вычислили мы, то расстреляли бы однозначно. Я потом в госпитале, где времени было много, интересовался у врачей, как организм реагирует на ранение. Я сам ведь на себе испытал, что боль приходит не сразу. Оказалось, что основная реакция организма в момент ранения — отключать всё периферийное и мобилизовать все силы на место ранения. И вот, чтобы этого не происходило, и колют сразу после ранения промедол. Ну а когда проходит первый болевой шок, то это ощущение ещё хуже, чем шок в первый момент.
Мы вкалываем раздавленному матросу промедол — он орёт благим матом! Но помочь ему ничем не можем, даже просто успокоить обезболиванием не можем. А «духи» на его крик стреляют — значит, есть у нас живые! Из группы Ярошенко в живых к тому моменту остались сам Виктор и радист «Петрович».
По фонтанчикам от пуль, по рикошету от левого борта бэтээра (особенно когда начался пулемётный огонь) мы примерно определили, откуда по нам лупят. Стреляли с левого склона и вдоль ущелья. Мы заползли под БТР и стали отстреливаться. Впереди поставили пулемёт, мы с двумя автоматами на углу залегли. Место это было относительно безопасное, потому что попасть сверху из гранатомёта под бэтээр было довольно сложно.
Отстреливаемся… Но содрать патроны с бэтээра так и не удалось, у каждого оставалось по одному-два рожка… А когда остался один магазин, я вообще перевёл автомат на одиночные.
Нам не давали покоя «духи» на правом склоне, для которых мы были вроде как в мёртвой зоне. Виктор Ярошенко кричит: «Если они подойдут и гранаты сверху покидают, нам копец!..». Дима Каракулько вызвался сам: «Я попробую прыгнуть вверх!». На склоне виднелась тропочка маленькая. И Дима по ней рванул вверх! Ему не хватило до изгиба склона всего метров трёх — пулю ему влепили прямо в затылок…
Тут же по дну ущелья к нам двинулись «духи». Я думаю, что они поняли, что нас осталось совсем мало и пошли добивать. Как только мы их увидели, стрелять прекратили. Лежим, ждём…
Документы, которые были у меня с собой, я уничтожил. Разведчики, понятное дело, шли без всего. А я-то ехал поддерживать связь и за мёдом, поэтому у меня был полный комплект. Каждый по гранате приготовил: разжали усики и засунули палец в кольцо. Это для того, чтобы кого-то из «духов» с собой забрать, даже если ранят.
Ждём… За пулемётом был матрос-балтиец. У него шоковое состояние: весь белый и вцепился в пулемёт так, что не оторвать никакими силами. Промедол колоть ему мы побоялись — толкаем, тормошим: «Надо вести огонь!». Ноль реакции. Он не был ранен, просто впал в психологический ступор. Пока я его тормошил, Витька крикнул: «Смотри, «духи»!». Я повернулся направо и увидел «духов» совсем близко, они были в нескольких метрах. Я знал, что они идут, но не думал, что они подошли уже так близко. Крик Витькин они не услышали — всё-таки горная река какой-то шум производила. И мы встретились с ними глазами… Похоже, «духи» шли сначала к тем нашим убитым, которые лежали на открытом месте. Поэтому автоматы держали стволами вниз. А мы были полностью готовы с стрельбе. Вот эта секунда и решила дело! Этот миг я не забуду никогда: мы выстрелили первыми и уложили двоих. Третий успел отскочить назад за изгиб склона, хотя я бросил ему вслед гранату.
И тут же началась вторая волна обстрела. Вижу летящую гранату от гранатомёта. Она похожа на летящее облако с кулаком внутри, издающее шипящий звук. Я примерно прикинул, где будет разрыв, и успел голову убрать. Взрыв!.. Меня как будто палкой по ногам ударили, появилась сухость во рту. «Петрович», который лежал чуть позади меня, кричит: «Командир, ты ранен!». Места под бэтээром разворачиваться и подробно обследовать ноги не было. Я: «Если я ранен и ты что-то там видишь, то почему сидишь? Давай, перематывай!..». Боли вообще не было. Во-первых, шоковое состояние. А во-вторых, мы все были под сиднокарбом (психостимулятор, созданный в СССР в 1970-е годы. Использовался в военных целях. — Ред.), жрали его каждый день.
«Петрович» попытался меня перевязать поверх камуфляжа. Но обстрел продолжается, мы перемещаемся, поэтому повязки все посбивались и в конце концов превратились в грязные тряпки, которые болтались вокруг моих ног.
Наши, как я понял, пытались нас выручить. Но связи с ними не было — рация у Ярошенко была разбита в первые минуты боя, рация в бэтээре накрылась при прямых попаданиях из гранатомёта. У нас была ракетница, и Витька Ярошенко успел из неё выстрелить. Но толку от этой ракеты было мало — как определить, кто выстрелил: мы или «духи»?
«Духи», естественно, очень хотели, чтобы нам пришли на помощь. Они почти сразу организовали засаду между нами и блок-постом, где и поджидали уже третью группу. А нас оставили на потом, на десерт, так сказать. Ведь деться нам, по большому счёту, было некуда…
Наши подошли к месту засады. Начался бой. Но дело было уже к вечеру. Темнело. И из Ханкалы им дали команду отходить. Там рассудили так: если «духи» организовали засаду ближе к блок-посту, то в живых никого уже нет. Нас объявили пропавшими без вести и накрыли миномётным огнём часть ущелья от места последней засады и дальше. То есть мины уже стали падать прямо на нас…
Перед этим Витька мне говорит: «Распоряжайся что делать». Я двум матросам: «Давайте, шуруйте назад. Я со своей ногой точно не дойду». Они: «А как же вы?». — «Как, как?.. Как-нибудь…». Они: «Ладно, мы пришлём помощь. А если никого за вами не отправят, то расстреляем штаб». И когда стало смеркаться, мы сумели бойцов отправить, они ушли. Правда, долго перед этим тормошили балтийца с пулемётом — он никак не мог прийти в себя, просто прилип к пулемёту, его трясло всего… «Петрович» мне: «Командир, да что ты с ним цацкаешься?». Передёргивает затвор для пущего эффекта, хотя патрон и так был в патроннике, приставляет автомат ему к голове и говорит: «Если сейчас не пойдёшь, пристрелю на месте!». Тут матрос очухался. Мы его первого подкинули на склон, за ним «Петровича». Они смогли уйти в «зелёнку». Выстрелов с той стороны мы не слышали и решили, что они вышли благополучно.
Мы с Виктором Ярошенко по темноте на карачках, ползком всё-таки смогли вылезти в «зелёнку» на склон. Но самое страшное осознание пришло позже. Когда мы немного отползли и стало понятно, что появился шанс дойти до своих, то сообразили, что не знаем пароля. А ночью пройти охранение без пароля почти невозможно… Но мало того — начался очередной миномётный обстрел. Вот это был ужас! Но не задело…
Витька тащил меня до тех пор, пока во время очередного миномётного обстрела я ему не сказал: «Нет, так у нас ничего не выйдет — сгинем вдвоём. Давай найдём дерево, где можно «ныкнуться». Нашли на склоне дерево, у которого под корнями было что-то наподобие берлоги. Он меня туда положил, дал свой рожок от автомата. И пошёл к нашим. Я остался один…
Уже под утро вижу — тени какие-то двигаются. У меня два рожка, бой могу принять. Я решил подпустить их совсем близко. Но когда они пошли ближе, я понял, что это свои. Я: «Не стрелять, не стрелять, нихт шиссен!». Это пришли за мной бойцы из группы Лёшки Леваднего… Первым увидел Решетникова. Снова кричу: «Не стрелять, я здесь!». Но это мне казалось, что я кричу. А на самом деле я еле слышно шептал. Решетников потом мне рассказывал: «Понимаю, что кто-то вроде рядом есть. Ближе-ближе… Тут вижу какой-то комок грязи шевелится и что-то шепчет». Вот так он меня и нашёл.
Нога у меня была ранена, и я её вообще не чувствовал — от сидения в одном положении и от холода у меня всё тело затекло. (Потом целые сутки я не мог пошевелить ни рукой, ни ногой.) А на всю жизнь я запомнил, как мальчишки-матросы, которые меня выносили, закрывали меня своими телами! Ведь было непонятно, есть ли в округе «духи» или нет их. А у меня самого было такое ощущение, что началась новая жизнь. Как будто я переступил какую-то черту, за которой всё будет по-другому. Есть у меня деньги, нет у меня денег — да какая разница?.. Я буду просто жить и радоваться каждому дню! А когда меня положили на броню и повезли, то я в небо смотрел и радовался!..
Этот бой не просто перевернул мою жизнь, он полностью изменил её в лучшую сторону. Пришло ясное понимание того, что всё нам даёт Господь. И каждый свой поступок я стал оценивать так: грех это или не грех. Потом мы с женой много ездили по стране. И маршруты специально выбирали, ориентируясь на храмы и монастыри, которые везде посещали в первую очередь.
Сразу меня эвакуировать не получилось: опустился туман, вертушки не ходили, а колонной отправлять побоялись. Мне повезло, что ни один осколок не задел крупных сосудов, иначе я бы просто истёк кровью. Ведь и повязки, которые на меня на месте пытались наложить, и жгут во время переползаний слезли. Бинты так и болтались грязными кольцами за мной, когда я пытался с Ярошенко ковылять по лесу.
Я врачам сказал: «А зачем вы меня собираетесь отправлять в госпиталь? Я тут в полковом ПМП (пункт медицинской помощи. — Ред.) отлежусь неделю, да и всё». Они: «Нет, может быть заражение». Да и не было там того оборудования, чтобы точно диагностировать все ранения. Осколков в меня попало много, с некоторыми из них я до сих пор хожу.
По докладам командованию боя этого вообще не было, а погибших расписали по разным дням. И в дивизию о бое никто не сообщил. В тыл нас пытались спешно отправить, чтобы мы ничего тут не наболтали лишнего. А перед отправкой специально предупредили, чтобы мы и там никому ничего не говорили.
Про меня быстренько сообщили во Владивосток, что я пропал без вести. И матери сразу об этом сообщили. Она побежала в дивизию, чтобы хоть что-то узнать. А там руками разводят — мол, сами ничего не знаем. Где, когда, при каких обстоятельствах — никто сказать ей ничего не мог. Получилось, что мы ещё воевали, а нас уже заживо похоронили.
Маме я позвонил уже из Ростова, из госпиталя. Денег у меня вообще не было, никаких документов тоже не было — ведь свои я уничтожил. Поэтому бесплатный звонок был всего на пару минут. Получается, что мама узнала, что я жив, только через две недели после первого сообщения о том, что я пропал без вести. Она до сих пор особо не рассказывает, что она пережила за эти дни…
Мне потом брат говорил, как мама меня вымаливала. Молилась за меня постоянно и дома, и в храме Святителя Николая Чудотворца. И когда бой только начался, я сразу вспомнил именно о маме. Почему-то подумал, что есть дела, которые не сделаны. Можно было бы и исповедоваться в храме, и причаститься. Ещё подумал, что вряд ли уже будет такая возможность. Мысли о том, что мы выживем, ни у кого не возникало. Ведь обстановка была такая, что выжить было совершенно невозможно. Мы сами на себе поставили крест. И решение приняли простое: будем биться до конца и постараемся утянуть с собой как можно больше «духов».
Но мысль о чуде, что Бог может всё, тоже в глубине души была. У нас ведь все бойцы были верующие. Причём до войны на зимних квартирах крестики носить бойцам не разрешали. Они, конечно, их носили всё равно, но это не приветствовалось. А в училище я один из первых надел крестик. И из-за этого у меня было столько неприятностей! Это было ведь в 1990 году. В то время начал подниматься интерес к религии. Правда, одновременно с этим всплыла всякая муть: и магия, и Кашпировский. Но мы с Валерой Рыбкиным как-то сумели сделать правильный выбор. Крестила меня мама в детстве, она всегда в Бога верила. И у нас, и у сестры маминой в доме были всегда иконы.
А вот здесь, на войне, мы уже никому не запрещали выражать свою веру. Мы часто сидели в засадах, где есть возможность поговорить друг с другом. Особенно часто и много я разговаривал с Витькой Решетниковым. Могу точно сказать, что мы воевали за веру православную, за Андреевский флаг и честь флота. И также могу сказать, что за конституционный порядок в государстве (тогда именно так называлась основная цель чеченской военной кампании) тогда из нас не воевал никто точно.
Сперва меня привезли в госпиталь в аэропорту Северный под Грозным. Здесь оказали помощь уже по-настоящему. Госпиталь оборудован был прилично, завезли новое оборудование. Там я пробыл всего два или три дня. Но как я ни рвался назад, к своим, меня всё равно законопатили в Ростовский госпиталь. А тогда был такой порядок: те, кто попадал в Ростов, все до единого ехали на зимние квартиры. Но в Ростове я оказался не сразу: сначала «чёрным тюльпаном» (самолёт с телами погибших. — Ред.) во Владикавказ, а оттуда, тоже «тюльпаном» — в Ростов. Все эти перемещения заняли две недели.
Сейчас я уверен, что меня услали в Ростов потому, что пытались как-то замять дело с самим боем. Ну как можно было отправлять меня в Ростов вообще без документов! И когда я уже из Ростова летел во Владивосток, то на руках у меня была смешная бумажка, похожая на мандат времён Гражданской войны. Листок без фотографии…
Конечно, в Ростовском госпитале лечение было. Но само лежание действовало на меня угнетающе. Я вырос в медицинской семье и понимал, что последствия будут потом. А сейчас я могу не просто служить, но и воевать. Ведь ходил я сам, только прихрамывал немного. Написал рапорт, чтобы меня отправили либо к своим в Чечню, либо в дивизию. Отправили в дивизию. (Через несколько лет я пару раз терял сознание — это последствие контузии. В то время я учился в военном университете. Естественно, я эти случаи скрыл, потому что иначе меня сразу бы отчислили. И ещё я стал заикаться. Борюсь с заиканием до сих пор. Но при сильном волнении всё равно оно проявляется.)
В ростовском госпитале я встретился с Олегом Малыхом из нашего полка. Домой мы полетели вместе. Возвращались очень весело. Денег у нас почти не было, только Олегу прислали сколько-то. Олег лежал вместе с контрактником, который был из Ейска. Он нас пригласил к себе на недельку погостить. Дня через четыре мы из Ейска вернулись в Ростов и полетели уже во Владивосток. Топлива было мало, и для дозаправки самолёт сел в Сочи. Там мы и познакомились с бизнесменом из Приморья. Мы летели в форме. Он: «О, ребята, вы с войны! Сейчас я всё организую!». Накупил шампанского, вина, фруктов. Выкупил билеты на четыре последних ряда в конце салона, мы опустили спинки кресел и устроили там огромный стол. Стюардессы только успевали нам вино и закуску подносить.
Олегу он на память часы дорогущие подарил, с себя снял. Дал денег с собой (у нас деньги на такси появились!). А ещё в Сочи он нашёл продавца цветов и говорит: «Чтобы девяносто девять роз были до отлёта! Одна нога здесь, другая — там!». Тот пулей куда-то слетал и привёз в аэропорт огромную охапку свежих роз. Это был букет для моей мамы.
Во Владивостоке в форме, в берете, с огромной охапкой цветов я пришёл к маме в больницу, где она работала. Она не знала, что я прилетаю. Ей позвонили с проходной и говорят: приходи, для тебя есть что-то срочное. Вот так я вернулся с чеченской войны…
Война не закончилась, пока не похоронен последний солдат
В ноябре 2014 года законодательно была установлена новая памятная дата — День Неизвестного солдата, который будет ежегодно отмечаться 3 декабря. В официальных документах сказано, что «этим законом увековечивается память, воинская доблесть и бессмертный подвиг российских и советских воинов, погибших в боевых действиях на территории страны или за её пределами, чьё имя осталось неизвестным».
Почему возникла сама идеи установления нового памятного дня? Дело в том, что до сих пор на территории России и за её пределами остаются лежать непогребенными безвестные останки многих наших воинов, сражавшихся за Родину. Если говорить о Великой Отечественной войне, то, по официальным данным, пропали без вести и попали в плен 3 396 400 военнослужащих, а вернулись из плена 1 836 000 человек. То есть судьба около полутора миллионов советских солдат и офицеров до сих пор неизвестна…
Следующей серьёзной войной, хотя и не сравнимой по масштабам с Великой Отечественной, была война в Афганистане. За время боевых действий на территории Афганистана попало в плен и пропало без вести 417 военнослужащих. Из них 130 были освобождены до вывода советских войск из Афганистана в 1989 году. На сегодня неизвестна судьба около 300 военнослужащих. Такое относительно небольшое количество пропавших без вести связано, прежде всего, с тем, что советская армия воевала в Афганистане очень организованно.
После окончания войны в Афганистане прошло всего пять лет, и началась Первая чеченская военная кампания. Ситуация с пропавшими без вести времён Великой Отечественной войны повторилась вновь, хотя и не в таком масштабе. По официальным данным, в Первой чеченской кампании попали в плен и пропали без вести 1 231 человек.
Особой проблемой стало огромное количество неопознанных тел наших солдат и офицеров, погибших при Первом штурме Грозного в январе 1995 года. Было принято решение организовать опознание этих тел на базе Центральной лаборатории медико-криминалистической идентификации в Ростове. От Военно-медицинской академии Санкт-Петербурга работу по идентификации тел возглавил тогда ещё капитан И.А. Толмачёв.
Рассказывает начальник кафедры судебной медицины Военно-медицинской академии полковник Игорь Анатольевич Толмачёв:
— У войны в Чечне есть ещё одно страшное измерение, о котором даже говорить невероятно сложно. В январе 1995 года сотни наших бойцов погибли самым страшным для солдата способом — в безвестности. При первой возможности тела таких погибших отправляли в Ростов. Было принято решение именно там организовать работу по идентификации их останков. И в самом начале февраля 1995 года меня из Академии откомандировали в Ростов в 124-ю судебно-медицинскую лабораторию для оказания методической помощи. Перед нами стояла задача установить личности погибших.
Приехал я на место 4 февраля. Ситуация обстояла следующим образом: на территории Ростовского окружного военного госпиталя была огорожена площадка. На ней установили несколько больших армейских палаток. Внутри палаток находились станки Павловского — металлические стеллажи для размещения носилок. На этих носилках и лежали неопознанные останки наших погибших солдат и офицеров. К моему приезду неопознанных тел было больше двухсот. В феврале в Ростове обычная температура — ноль градусов. Но уже к марту должно было значительно потеплеть. У всех было понимание того, что надо торопиться.
В то время в Ростов уже приезжали родственники пропавших без вести. Многие из них до этого побывали в Чечне. Часто матери пропавших без вести объединялись и отправлялись прямо к местам боёв. Они вступали в переговоры с боевиками, выкупали живых пленных и тела погибших…
Насколько я знаю, сначала процедура установления личности заключалась в том, что родственникам просто предъявляли трупы. Даже трудно себе представить, что чувствовали люди, оказавшиеся в этих палатках, какой невероятный стресс приходилось им пережить. «Неужели эти дурно пахнущие куски мяса и есть то, что было моим родным, бесконечно близким человеком, живым мальчиком?!. Что же с тобой сделали? С тобой и с другими, что сейчас здесь находятся в виде человеческих фрагментов…».
Примерно за два дня до моего приезда в лаборатории начали работать фотограф и видеооператор. Они должны были задокументировать всё по максимуму. Но фотограф запил уже на второй день и больше в эту обстановку не вернулся. Это был штатный фотограф военного фотоателье. Кстати, фронтовик. Так что дальше фотографировать пришлось нам самим.
Видеосъемку делали двое ребят из Новочеркасского военного училища связи. Гражданский, Блиставцев Володя, и начальник телевизионного центра училища. Начальник был постоянно за рулём, поэтому ему было тяжелее. А Володя Блиставцев приходил с утра, припадал к «роднику огненной воды», и шёл снимать. Вообще-то специалистов нашей группы тогда очень трудно было найти абсолютно трезвыми. Особенно когда начался показ родственникам отснятых видеорядов.
Мы заняли почти все помещения окружной паталогоанатомической лаборатории. Была поставлена палатка, где разместили два стола для вскрытий тел погибших. Но кто-то должен был выполнять эту практическую работу.
Как раз в то время на месяц в Военно-медицинскую академию в Санкт-Петербург приехали военные судмедэксперты. Это были главные эксперты Черноморского и Северного флотов, Каспийской флотилии, Ленинградского военного округа и специалисты из Сибири и Дальнего Востока. Все люди солидные, полковники. Уровень их подготовки был очень высокий. Плюс огромный накопленный опыт. Я обратился к руководству медицинской службы Вооружённых сил с просьбой всю эту группу направить в Ростов. И уже через три дня я встречал их на вокзале. А незадолго перед ними приехал и ещё один наш сотрудник из Академии, Андрей Валентинович Ковалёв.
Установление личности возможно проводить всего двумя путями: опознание и идентификация. Опознание — это когда пришёл родственник или сослуживец и сказал: «Это он». Всё! Тело выдали, увезли, похоронили. Поэтому тела были разделены на три группы. Условно их назвали так: пригодные для опознания, условно-пригодные (лица нет, но есть явные приметы) и непригодные (нечто бесформенное, обгоревшее). В любом случае информация собиралась по максимуму: измерялись окружность головы, длина тела, окружность груди, длина стопы и так далее. Параллельно было составлено циркулярное письмо, которое разослали во все военкоматы. Там были данные, кто пропал из призвавшихся через них. И в ответ на это письмо нам присылали личные дела призывников. Также присылались и медицинские книжки из частей. Но им мы особо не верили. И сейчас им никто не верит. Все знают, как их пишут.
Особая история — это штатные и самодельные жетоны с подписанной фамилией и маркировка одежды. На маркировке мы обожглись буквально в первые дни. Например, старослужащий снял с молодого всё обмундирование, а молодой его уже отмаркировал. И пошёл этот погибший старослужащий под именем молодого. Что касается жетонов, то оказалось, что перед тем, как идти в бой, бойцы часто менялись жетонами. Смысл в том, что якобы так (по какому-то поверию) можно обмануть смерть. То есть и этот способ идентификации тоже не работал.
Моя главная функция заключалась в том, чтобы продумать технологию и организовать сам процесс. Мы начали выбирать возможные пути осуществления идентификации. Самый распространённый способ — по узорам гребешковой кожи на руках. Проще говоря, по отпечаткам пальцев. Ведь при необходимости можно найти личные вещи погибших, где остались их отпечатки пальцев, и произвести сравнение. Надо было фиксировать узоры у погибших.
Но зачастую тела долго находились в самых разных условиях: лежали под открытым небом при разных температурах, перемещались. Кожа была изменена, кисти рук изменены. У нас, судебных медиков, существует специальная технология, при использовании которой можно восстановить узоры на пальцах. Обычно кисть отсекается, помещается в раствор и выдерживается определённое время. После набухания кожи узор восстанавливается, производится откатка отпечатков и кисть пришивается на своё место.
Однако мы успели сделать всего три-четыре таких процедуры. Кто-то решил, что мы глумимся над останками погибших. И по линии нашего местного медицинского руководства нам настоятельно порекомендовали прекратить этим заниматься. Вечером мы покумекали все вместе и придумали, как обойтись без отсечения кисти. Мы начали надевать на кисть резиновую перчатку и наполнять её раствором. И уже после этого проводить откатку отпечатков прямо на месте.
Однако отпечатки пальцев — это далеко не единственный метод установления личности. В наших Вооружённых силах такой науки, как генетика, в то время вообще не знали. Но во всём мире генетический анализ уже вовсю применялся. Поэтому с самого первого дня я предложил брать материал для генетического анализа с перспективой его использования в будущем. Однако для генетического исследования годится только тот материал, где сохранились клетки с ядром. В ядре клетки и находятся данные о геноме. Надо было иметь полную гарантию, что мы взяли именно сохранившийся материал, который будет пригоден для дальнейших исследований. Поэтому мы брали несколько волос, одну-две ногтевые пластинки и один зуб.
Но многие тела были очень сильно обгоревшие. В таких случаях я предложил брать участок бедренной кости. Она занимает центральное положение в массиве мягких тканей, и вероятность сохранности её клеток максимальная. Но опять через Главного эксперта Вооружённых сил нам выразили недовольство на ту же тему — глумление над останками. Якобы родственники жалуются, что на телах появляются дополнительные повреждения. Но мы-то должны были выполнить поставленную нам задачу: дать надежду на идентификацию хотя бы в будущем. Поэтому мы опять нашли выход и начали брать участок не бедренной кости, а кости большеберцовой. Там две кости, и поэтому деформация конечности практически незаметна.
Пока мы работали, неопознанные погибшие продолжали поступать: от одного-двух тел до нескольких десятков в день. Это зависело от возможностей сбора и отправки тел. К сожалению, убывали идентифицированные останки значительно медленней, чем прибывали новые.
Более или менее процесс пошёл тогда, когда заработала вся система. По моей просьбе, нам дали программиста из Ростовского областного военкомата — Андрея Жихарева. Я предлагал, как программа должна работать, а он переводил это на компьютерный язык. С одной стороны, у нас была информация о конкретном теле. С другой стороны, мы получали аналогичную информацию из личных дел. Компьютер проводил сравнение по всем параметрам, по всей базе и выдавал варианты совпадения. Один вариант — наиболее вероятный, три — менее вероятных и пять маловероятных. Тому из родственников, кто приехал в Ростов, на бумажке в колонку пишут один номер, три номера, пять номеров. Он переходит в помещение, где на экране смотрит соответствующие фотографии и видеозаписи.
Сначала я ездил в Новочеркасск, где на базе телецентра училища связи осуществлялся монтаж записей. Но уезжать приходилось на два-три дня. Это была очень большая потеря времени. Также был нужен и приличный компьютер. Местные сотрудники лаборатории обратились к ростовским бизнесменам: нужна спонсорская помощь на святое дело. И на следующий же день у нас была вся техника: нормальный компьютер, два монитора, два видеомагнитофона для записи и монтажа.
Процедура опознания выглядела так. Приезжает к нам человек, и его начинают расспрашивать. Потом по полученным данным производится поиск по базе. Если были совпадения, то родственник получал номера и пробовал опознать визуально. Если не получалось, то он оказывался в помещении, где на экране последовательно демонстрировались видеозаписи и фотографии погибших.
Там было несколько скамеек, на которых сидели другие родственники, которые тоже не смогли опознать своих по номерам, выданным компьютером. Тут же находился солдатик. Он, не глядя на экран, давил кнопку на клавиатуре. Сидевшие люди смотрели всё подряд. Этот вариант был более или менее щадящим. Иначе родственникам надо было ходить по палаткам, а потом, когда потеплело, ходить по рефрижераторным вагонам в железнодорожном тупике, куда переместили тела. Можно только представить, что пришлось бы переживать людям после таких осмотров.
Мы обратили внимание, что через час-два у человека, который на экране просматривал страшные изображения, обычно наступало притупление чувств. Он таким образом настраивался уже на выполнение главной задачи — опознание. Хотя все, конечно, находились в предаффектном состоянии. Сидят они, смотрят, смотрят — и вдруг какая-то мамочка говорит: «Стоп!». Солдат останавливает картинку или возвращается назад. Она узнаёт своего сына. И тут наружу выплёскивает всё то горе, что у неё накопилось. У других женщин происходит то же самое, и начинается страшное хоровое рыдание. Обычно тут же объявляли перерыв. Мужики пытались выйти хотя бы на десять минут, якобы чтобы перекурить. Но, как правило, в этот момент они тайком бутылку доставали и прикладывались к горлышку.
Нам, тем, кто организовывал эту работу, родственники были очень признательны. Они понимали, что если бы мы были в таком же загрузе, как они, то работа бы очень быстро встала. Ведь мы находились в такой обстановке неделями и месяцами. Я, например, пробыл там почти три месяца. Мне их хватило за глаза. Потом надо было, как говорится, со «стакана слезать». И если эксперт возвращался с такого мероприятия без невроза, то это просто сказка. Но всё равно какое-то нервное повреждение происходит. И если бы не народный антидепрессант, то дело могло дойти и до психоза. Мой коллега, который работал в Моздоке, жаловался, что каждую ночь во сне у него эти картинки перед глазами проходят. Хотя он работал только с повреждениями и просто фиксировал их. Но есть одно «но»: к нему попадали тела тех, которых «духи» пытали.
Ничтожность человеческой жизни была настолько явной, настолько наглядной, настолько концентрированной! Я не был уверен, что я крещёный. Поэтому, когда во второй раз я поехал в Новочеркасск для монтажа видео, то пришёл в кафедральный собор и обратился к батюшке. Он оставил все свои дела и отвёл меня в крестильную, где я принял крещение. А через неделю я уже стал крёстным отцом для Ковалёва Андрея. Его крестили в той самой комнате, где происходил просмотр. Местный священник поставил табуретку, на неё — миску, и в таких походных условиях крестил Андрея.
Решение креститься я принял сам. Душа требовала какого-то контакта не только человеческого. И дело не в том, что не хватало личных душевных сил. И в концлагерях люди выдерживали. Но когда ты вступаешь в контакт с чужим, да ещё таким концентрированным горем, оно тяжелее, чем личное.
Я могу свидетельствовать: после крещения мы с Андреем в этих страшных условиях остались живыми и, по большому счёту, неповреждёнными душевно. А предпосылки к тому были. Да ещё какие!
Больше всех в этой ситуации страдали солдаты-срочники. Их нам откомандировывали из обычной части. Они выполняли вспомогательную работу: это отнеси, то разгрузи. Отцы-командиры опекали их очень плотно и не давали расслабляться. По крайней мере один из них с психозом ушёл в «жёлтый дом».
Особенно мне врезался в память День защитника Отечества 23 февраля 1995 года. Так уж совпало, что на время моей командировки пришлось несколько праздников: Масленица, 23 февраля, 8 марта. В эти дни мы пытались хотя бы на полдня меньше поработать, чтобы по-человечески за столом посидеть. Накануне 23 февраля мы попросили родственников, чтобы они в праздничный день поменьше занимались своей скорбной работой. Они ответили: «Вы на нас не обращайте внимания, а мы будем заниматься своим делом». Они даже солдатика отпустили, и на кнопку в этот раз нажимал кто-то из родителей. А мы в это время сидели за праздничным столом за стенкой.
Праздник есть праздник. Все выпили. Несмотря на смертельную усталость, народ за столом постепенно оживился, стал говорить громче. Потом кто-то даже запел какую-то застольную песню. Андрей Ковалёв, который так и не оставил вполне родственников, время от времени заходил к нам и говорил: «Перестаньте смеяться, перестаньте песни петь…». Уж очень дикое несоответствие было между этими происходящими всего в нескольких метрах друг от друга событиями. Но тут в самое сердце нас поразили сами родственники погибших. Они услышали слова Андрея, зашли к нам и сказали: «Ничего, ничего. Вы нам не мешаете…». Это какой же душевной чуткостью надо обладать, чтобы в такой момент за своим неизбывным горем не забыть про других людей! Думаю, эти свойства нередки для русских людей. Хочется им низко поклониться…
Вторая чеченская военная кампания
Тем, кто находился на переднем крае, приказы командования нередко казались безрассудными. Часто таковыми они и являлись. Но приказы не обсуждают, а выполняют… И ценой нечеловеческих усилий и огромных потерь бойцы всё-таки выполняли поставленную задачу. Вечная память павшим, честь и слава живым!
Штурм Комсомольского
С Героем России полковником Алексеем Николаевичем Махотиным из Санкт-Петербургского отряда спецназа Министерства юстиции «Тайфун» мы познакомились несколько лет назад. Мы нередко встречались с ним на спортивных соревнованиях, посвящённых памяти погибших бойцов отряда «Тайфуна». Отряду пришлось участвовать в самых значимых событиях Первой и Второй чеченской военных кампаний. «Тайфун» штурмовал Грозный в декабре 1994 года, освобождал Дагестан в августе-сентябре 2000 года. И никогда бойцам отряда не забыть трагические события марта 2000 года, когда они оказались в самом пекле боёв в селе Комсомольское. Тогда ещё подполковник Махотин командовал сводным отрядом Минюста, который наступал на позиции боевиков на самом опасном направлении — вдоль реки Гойты. За две недели кровопролитных боёв сводный отряд из ста человек потерял десять погибшими и более двадцати ранеными, но задача была выполнена.
Рассказывает Герой России, полковник Алексей Николаевич Махотин:
— В августе 1999 года командир нашего Санкт-Петербургского отряда спецназа Министерства юстиции «Тайфун» ушёл в отпуск. Я остался за него исполнять обязанности командира отряда.
Шестнадцатого августа я должен был ехать в Воронежскую область — маме исполнялось семьдесят лет. И тут пятнадцатого числа приходит телефонограмма: «В течение суток экипироваться и прибыть в Москву на аэродром Чкаловский для отправки на Северный Кавказ». Мы со вторым замом решили тянуть жребий, кому ехать. Ехать хотели и он, и я, но кто-то из нас должен был остаться на базе отряда в Санкт-Петербурге. Повезло мне. Но если бы даже жребий выпал ему, я бы всё равно поехал сам. Воспользовался бы своим служебным положением, отменил бы и демократию, и результат жеребьёвки.
Причины такого моего рвения можно было отыскать в недавнем прошлом. Дело в том, что я в Первую чеченскую кампанию был в Чечне в составе питерского СОБРа (специальный отряд быстрого реагирования милиции. — Ред.), и после её окончания у меня осталось ощущение какой-то незавершённости.
После Первой кампании всё тяжёлое оружие, скопившееся в от ряде «Тайфун», сдали на склад — мы же не армия. Остались только автоматы, ручные пулемёты Калашникова и снайперские винтовки. Хорошо ещё, что подствольников (ГП-25, подствольный гранатомёт автомата Калашникова. — Ред.) было много, почти у каждого второго. Они нас потом здорово выручили.
К середине августа 1999 года изо всех подразделений Минюста в Дагестане собрали человек четыреста. После того, как туда прибыли мы, нас с ещё двумя отрядами отправили в Хасавьюрт. И мы разместились в тюрьме. Обстановка в округе была неспокойная, здесь проживало много чеченцев-акинцев, которые при случае могли бы сыграть роль пятой колонны. Тут мы начали переживать: «Вот как нам не повезло, не придётся участвовать. В тюрьме этой всё самое главное просидим».
До нас тюрьму охранял только волгоградский отряд спецназа ГУИН (Главное управление исполнения наказаний Министерства юстиции. — Ред.). На усиление прислали наш отряд и отряд из Тулы. Волгоградцы разместились в административном здании, но больше места там не было. Можно, конечно, было расположиться во дворе, под навесом — погода стояла тёплая. Комизм ситуации был в том, что так или иначе одному из отрядов доставались только тюремные камеры. Нам выпал жребий выбирать. Естественно, что мы выбрали навес во дворе. Тульские ребята заняли камеры. Только тот, кто работает в системе ГУИН, может по-настоящему оценить, что для нас это значило. Смеялись все от души. Как гласит русская народная пословица: от тюрьмы и от сумы не зарекайся.
В тюрьме было несколько сотен заключённых. Мы должны были оборонять этот объект, чтобы предотвратить возможные попытки боевиков освободить своих. Наверняка среди заключённых были не только обычные уголовники, но и пособники боевиков. Но если бы пришлось оборонять тюрьму в случае нападения, это было бы очень сложно, ведь совсем рядом находились жилые дома и сады.
По мере возможности мы укрепили въезд мешками с песком, на крыше оборудовали огневые точки, но понимали, что в случае нападения держать эту тюрьму нам было бы очень тяжело по объективным причинам: не приспособлена она была для обороны от нападения извне. Поэтому, когда поступил приказ выдвигаться в сторону гор, покинули мы это место без сожаления.
Сначала отправили нас в село Шамхал, потом в Карабудахкент, где компактно проживают кумыки. Боевиков к себе кумыки не пустили. Собрали ополчение, которое с карабинами СКС (самозарядный карабин Симонова образца 1944 года. — Ред.) выставило оцепление. Да и милиция там работала очень эффективно.
Нас они встретили очень радушно, разместили вместе с ещё несколькими отрядами в школе. Глава администрации села дал задание жителям близлежащих домов кормить нас. Помню, какие огромные кастрюли борща с мясом они приносили нам! А ещё, когда попросили дать возможность помыться (жарко ведь, лето), так они для нас воду грели, помогали во всём… В общем, отнеслись к нам уважительно, как к своим защитникам.
Вместе с местными милиционерами мы провели операцию в населённом пункте Губден. Там находился районный центр ваххабизма (экстремистское религиозное течение. — Ред.).
Прошла информация, что сюда начали просачиваться боевики. Чтобы предотвратить возможные провокации, приняли решение заранее обезвредить лидеров местных ваххабитов. Милиционеры накануне вычислили дома тех людей, которых надо было задержать. Каждому нашему отряду дали по два-три милиционера, которые указали нам эти адреса. В 4.55 утра мы должны были подойти каждый к своему дому. Ровно в 5.00 утра все одновременно должны были зайти в мужскую половину каждого из этих домов и выхватить нужного нам человека. Но при любом стечении обстоятельств в 5.05 мы все должны были обязательно выйти из домов.
Операция прошла отлично. Утечки информации об операции не было. Выехали мы тихо и незаметно. Всего захватили одиннадцать человек, двое из которых оказались серьёзными фигурами, а остальные — лидерами местного значения.
И как раз тогда в сложную ситуацию попал сводный отряд дагестанской милиции в селе Ванаши-Махи. Наш «Тайфун» срочно отправили в тот район на помощь милиционерам.
Об этом необходимо рассказать особо. Дело было так: дагестанские милиционеры вошли в село, расположились в его центре и решили попить компот — нашли время и место! Боевики за всем этим какое-то время просто наблюдали, и затем, естественно, атаковали их. В этом бою около десяти милиционеров погибли, более двадцати были ранены.
Необходимо было вывести милиционеров из Ванаши-Махи. С этой целью одна группа нашего отряда «Тайфун» двинулась по ущелью в сторону села.
Другой группе отряда «Тайфун», которой командовал я, и спецназу ГУИН из Курска была поставлена задача взять господствующую высоту, метров шестьсот вверх. Мы стали подниматься, разбрасывая вперёд и вокруг гранаты из подствольников, чтобы создать перед собой зону безопасности. Таким способом постепенно боевиков мы оттеснили. Мы заняли высоту и, как могли, окопались в щебёнке, зная, что к семи вечера нас должны были сменить.
Перед нами эту же высоту пытались занять бойцы из краснодарского отряда ГУИН. Боевики с высоты их обстреляли. Потерь у наших не было, только одному нашему бойцу пуля попала в мушку автомата.
Вся это местность — сплошные горы с ущельями. Склоны самой высоты покрыты кустами-колючками и мелкими камнями. Сверху всё хорошо просматривалось, поэтому незаметно боевики подойти могли только ночью. Массовой атаки мы не ожидали, но отдельные боевики могли подобраться. Так и произошло, когда на следующий день после нас позиции на высоте занял курский отряд ГУИН. К ним незаметно подобрался боевик, и в бою тогда погиб Михаил Токарев. Посмертно его наградили орденом Мужества. А самому боевику удалось уйти.
Для родителей это было страшным ударом. Трагедия усугубилась тем, что за год до этого в Курске, пытаясь спасти утопающую женщину, погиб его брат Александр Добротворцев. Таким образом, оба брата погибли, а больше детей в семье не было…
Ночью боевики вполне могли нас атаковать. Что творилось дальше в «зелёнке» (густые заросли. — Ред.), было непонятно. Мы видели «вертушки» (вертолёты. — Ред.), которые вечером пролетели над нами дальше вперёд в сторону Кадара и высадили десант. И потом всю ночь мы слышали звуки сильного боя как раз с того направления. Стрельба то разгоралась, то затихала. Скорее всего воевал десант, который высадили с вертолётов. Мы переживали, потому что стрельба продолжалась очень долго, и предполагали, что нашим там приходится несладко.
Сверху нам было видно, как выходили дагестанские милиционеры: досталось им крепко, шли еле-еле, вид у них был побитый.
А в шесть часов вечера начался проливной дождь. Одеты мы были легко, на себе был только боекомплект. Ни плащей, ни палаток, ни еды…
Я запрашиваю командиров: «Когда нас сменят?». А мне отвечают: «Нет такой возможности». Часам к одиннадцати вечера стало так холодно, что передать словами это просто невозможно! Вся одежда промокла насквозь. И сейчас я помню, какой мукой казались нам эти долгие часы под проливным дождём без всякой возможности где-либо спрятаться или согреться! Нескончаемая пытка в течение многих часов с прилипшей к телу ледяной мокрой одеждой!.. Мы с Колей Евтухом пытались одежду повесить над собой на колючки. Ничего не помогало. Тогда мы троих ребят направили вниз, чтобы они разжились в штабе хоть парой бутылок водки или спирта, — хоть как-то согреться. Это было тоже очень непросто: ночью спускаться по осклизлым от дождя камням, а потом снова взбираться с каким-то грузом в гору. Но нам не приходило даже в голову, когда мы посылали ребят, что в этом нам могут отказать! Вы не поверите: нам-таки отказали… Водку в штабе не дали, да ещё и послали куда подальше.
Когда мы на следующий день спустились, то узнали, что штабисты сами квасили постоянно, водка-то у них была. Не хочется думать о людях совсем плохо: наверное, они просто не поверили, что мы были на грани, что реально замерзали! А под утро нас тряс такой колотун, что я думал, что от переохлаждения мы тут все разом и окочуримся. Но чудны дела Твои, Господи! После такого… у нас никто даже не заболел. Тут невольно проводишь параллели с Великой Отечественной. Фронтовики рассказывали: было всё — обморожения, ранения, но гриппом и ангиной не болел никто. Каждая клеточка организма в такие моменты включала все свои защитные силы, отвечая на состояние стресса, в котором находился боец.
На следующий день на этой высоте нас сменил другой отряд. Ещё через день курский отряд ГУИНа занял позиции на высоте. Именно в эту ночью боевик убил одного нашего бойца, а сам ушёл.
Позже мы поднялись в горы к Кадарской зоне. Нам — пяти отрядам спецназа ГУИНа, которые прибыли из разных регионов страны, — поставили задачу занять перевал между селами Ванаши-Махи и Чабан-Махи. Остальные отряды должны были нас прикрывать. По плану командования, после взятия нами перевала спецназ Внутренних войск «Кобра» должен был штурмовать гору.
Всех людей, что проживали в сёлах, вывели заранее подальше от предполагаемых боевых действий. В этот раз наши отряды продвигались вперёд по всем правилам военной науки: соблюдая фланги, занимая господствующие высоты, блокируя направления возможных контратак и атак с тыла. Шли мы очень жёстко: граната направо — граната налево. И патронов тоже не жалели, простреливали всё перед собой. Таким образом мы создавали перед собой безопасную зону. А погода стояла сухая, патроны нам дали трассирующие. Поэтому оставили мы за собой шлейф густого дыма — горело сено в сараях, сами сараи и дома.
Но эта тактика себя оправдала, и нам удалось избежать потерь. Эта стрельба проводилась специально, чтобы боевики ясно понимали, что нас много, что мы хорошо вооружены и настроены очень решительно. Поэтому прямого контакта с боевиками в Ванаши-Махи у нас не было. Они отходили, не вступая в бой.
Подходим к сужению в горах, где всего пять домов от края ущелья. Врываюсь я со своей группой в один из домов. Первое помещение там — вроде кухни с прихожей. На столе стоит банка со сметаной. А у стены — шкаф древний-древний. И вдруг вижу фигуру в камуфляже с автоматом: прямо на меня смотрит страшное-страшное грязное лицо с бородой. Я по нему — длинной очередью от бедра: та-да-да-да-да!.. Сметана по комнате летает!.. Меня всего заляпало с головы до ног. И тут я наконец понимаю, что стрелял-то я в своё собственное отражение в шкафу в зеркале! Вот так я себя не узнал…
Когда мы заняли Ванаши-Махи, меня вызвали к командованию и на подведении итогов дали нагоняй. Зачем так сильно надымили? Из-за этого командование с наблюдательных постов не видело поле боя. Нас, как штрафников в Великую Отечественную, отправили в «отстой» — дожидаться наказания.
Дальше, как и планировалось, штурмовать гору Чабан двинулся спецназ Внутренних войск «Кобра». С ними была часть ярославских и дагестанских омоновцев. На штурм пошли они утром. Но накануне прошёл сильный дождь, шёл всю ночь и с утра только усилился. Бэтээры не смогли подойти к их позициям и поддержать огнём — колёса буксовали и скользили по мокрым склонам. Сумела до «Кобры» добраться только гусеничная бээмпэ, но под самой горой боевики её сожгли.
Спецназовцев из «Кобры» вместе с омоновцами боевики зажали в очень неудобном для обороны месте. Обстреливали боевики их с трёх сторон с расстояния двухсот-четырёхсот метров. А ещё прямо перед «Коброй» был бугор, за который они не могли высунуться, сразу попадали под огонь, да ещё и в лоб!
Тут вызывают меня в штаб. Вижу такую картину — генерал-полковник Лабунец из Внутренних войск бегает туда-сюда, орёт по радиостанции своим спецназовцам: «Расстреляю всех! Вперёд!». Мой непосредственный командир говорит: «Ну что? Вы тут самые крутые? Тогда давайте вместе с ещё двумя ГУИНовскими отрядами, которые будут вас прикрывать, идите «Кобре» на помощь».
Как потом выяснилось, весь сыр-бор был вот из-за чего: начальство уже доложило наверх, что населённый пункт нами контролируется. На самом деле «Кобра» лежала под огнём, уткнувшись в землю под горой. И непонятно было, как можно было подниматься «вперёд в атаку» под шквальным огнём со всех сторон.
Мне дали нашего ГУИНовского полковника. Сказали: «Он будет осуществлять общее руководство тремя отрядами, а в бою командовать и принимать решения должен ты». Мужик он оказался неплохой. Пошёл с нами вперёд. Вот только никакого опыта боевых действий у него не было. Ведь он занимал должность заместителя начальника ГУИН по режиму.
Представьте такую картинку: идёт дождь, кругом грязь, проволока от управляемых реактивных снарядов под ногами путается. Ползти очень тяжело, ведь мы были экипированы по полной программе. А высота, на которую мы лезли, чтобы подойти к тому месту, где «Кобра» залегла, — это метров восемьсот будет вверх. Проползли примерно половину и видим: перед нами дорога-серпантин, открытый участок метров двести. С обеих сторон — глазу не за что зацепиться, всё открыто. Если действовать по правилам, то гору надо обойти. Но если идти вокруг горы, получается очень долго. С полковником решили так: наш отряд вместе с ним пойдёт вперёд. Два других отряда решили гору обходить.
Только вылезли мы на этот серпантин, по нам к-ааа-к ударили!.. На наше счастье, расстояние до боевиков было метров шестьсот, стрельба получилась неприцельная. Но ощущения всё равно неприятные. Вот бежит человек передо мной, а я вижу, как у него между ног трассера (трассирующие пули, оставляющие в полёте видимый след. — Ред.) пролетают! Ребята, которые за мной бежали, потом рассказывали: что то же самое видели — пули летали и у меня за спиной и между ног!
Уложили боевики нас своей стрельбой на землю в грязь, в ручей. Полковник «геройски» рядом со мной лежит. Ребята у меня были опытные: взяли с собой дымовые шашки. Поставили дымовую завесу. Дым дорогу закрыл, а пулемётчик Коля Евтух в это время занял выгодную позицию и начал нас прикрывать. Так что сумели дорогу мы всё-таки нормально перебежать.
Ползём дальше, карабкаемся по камням. До штаба «Кобры» добрались только к ночи. Остальные два отряда чуть ниже остались и прикрывали потом нас снизу и сбоку.
Наутро от генерала из Внутренних войск команда опять всё та же: «Вперёд! Расстреляю!..». Ребята из «Кобры» в шоке, это давление на психику сверху действует губительно. А в это время продолжается дождь, техника колёсная так и не может подойти к нашим позициям.
Дальше без огневой поддержки какие-то действия предпринимать было бессмысленно. Нам на месте это очевидно: надо подождать, пока немного земля подсохнет. Но вместе с этим я понимаю, что если мы не пойдём с «Коброй» вперёд, то генерал сделает именно нас виноватыми во всём.
Говорю ребятам: «Пошли на позиции». Понятно, что было это безрассудно и отчаянно с нашей стороны, а делать всё равно нечего. Приползаем на выступ, по которому с трёх сторон метров с двухсот-четырёхсот нас «духовские» пулемётчики и снайперы начинают долбить непрерывно. Картина безотрадная: кругом коровы раздувшиеся лежат, они попали под бомбёжку заодно с боевиками. Тут же боевик мёртвый валяется. Накануне через бугор он из мёртвой зоны за бугром вылез и, как камикадзе, взорвал себя и троих ярославских омоновцев.
Перед самой высотой, куда нам надо лезть, — опять тот самый бугор. За ним нам ничего не видно. Решили насколько пар пулемётчиков со снайперами вперёд выдвинуть, чтобы они хоть как-то нас прикрыли. Но только они метров двадцать-тридцать проползли, как боевики их заметили и давай с горы по ним лупить! Ребята на открытом месте лежат. Ничего сделать нельзя. Еле-еле мы их назад оттянули.
А полковники в штабе, на которых генералы по рации орут, что они их расстреляют, опять дают команду «Вперёд!» взводным и заместителю командира «Кобры» по спецоперациям майору Коле. Сами-то командиры находятся в штабе, в доме в низине, по ним-то никто не стреляет!
Вдруг смотрю — на небольшое деревце залезает солдатик со снайперской винтовкой и начинает бить в тыл, по крыше дома, где находится наш штаб. Я ему: «Ты что делаешь!?.» А он рукой махнул — это он так офицерам в штабе решил показать, что пули-то кругом летают…
А командиры всё кричат, стоит такой ор… Тут подходит к нам майор Коля. Он понимает, что должен идти вперёд, это как раз на него кричат. И в то же самое время он ясно понимает, что идти вперёд нельзя. Естественно, что Коля нервничает, дёргается. Подошёл к нам в открытую и стоит. Мы-то сами лежим под бруствером, в землю уткнувшись. Прямо над нами гранаты от «духовских» подствольников пролетают, но взрываются чуть дальше, нас не задевают.
Генеральский напряг — дело обычное. И многих уже нормальных ребят это погубило. Вот и Коля стоит теперь: не знает, что делать. Мы ему: «Коля, присядь, пригнись хотя бы!». А на голове у него сфера (защитная каска. — Ред.) с ярким таким камуфляжем. И буквально через минуту видим — закрутился он, как юла, начал движения какие-то странные совершать. Сам в одну сторону как-то непонятно полетел, сфера с головы — в другую!.. Мы втроём к нему бросились, к земле прижали. Вкололи укол обезболивающий. До сих пор помню его взгляд умоляющий… Видим — у него в области виска пулевое отверстие!
По рации докладываем: «У нас «трёхсотый!» (раненый. — Ред.). А время — часа четыре, через час уже начнёт темнеть и «вертушки» вообще не полетят. Дождь продолжается, колёсная техника к нам наверх подойти не может! Но что-то из техники на гусеничном ходу всё-таки к нам пробралось. Колю спустили вниз и успели до темноты в госпиталь в Махачкалу доставить. Он выжил. Это был единственный случай на моей памяти, когда для спасения одного человека были предприняты такие действия. Потом, когда потери стали массовыми, всё опять пошло привычным порядком.
Тут смотрим — два «крокодила» (ударные вертолёты МИ-24. — Ред.), которые сопровождали МИ-8 с раненым Колей, идут прямо на нас. Я говорю соседям слева, ярославским омоновцам: «Обозначьте зелёными ракетами левый фланг, а я — правый, чтобы они по нам не долбанули». Обозначаю зелёной ракетой свой правый фланг и вижу, что они слева на центр нашей позиции пускают красную ракету — дают вертолётам целеуказание на нас! Я связываюсь со своим штабистом и кричу очень нехорошими словами: «У вас есть связь с вертолётами? Нас обозначили красными ракетами, вот-вот по нам ударят!..» Минута тишины… А вертолёты так красиво на нас идут! Вдруг слышу: «Циклон» (это был мой позывной), это отвлекающий маневр. Они прикрывают вертушку с раненым».
Опять нам командуют: «В атаку!». Теперь через нас взвод Внутренних войск должен был пройти, а мы должны были его прикрывать. Бездарность этого приказа обсуждать не с кем, поэтому пошли вперёд. Боевики таким шквальным огнём встретили!.. Несколько человек сразу ранило. Ребята остановились и начали отходить. Мы раненых вытаскиваем и слышим, что гул от стрельбы на нас надвигается — боевики сверху пошли в атаку! А у нас позиция плохая: из-за бугра, что высится перед нами, мы ничего не видим, только слышим нарастающий гул стрельбы.
Начали пулять мы почти вертикально вверх из подствольников, чтобы хоть как-то зону прямо перед собой за бугром прикрыть! Этим мы добились того, что через бугор боевики не полезли. Вся ночь так и прошла: мы лежим, время от времени за бруствер гранаты руками забрасываем, чтобы хоть как-то их отпугнуть.
Нам ещё повезло, что в штабе находился очень толковый офицер, выпускник Академии имени Фрунзе. Он серьёзно помог нам огнём «Утёса» (крупнокалиберный пулемёт. — Ред.) и «Василька» (82-мм автоматический миномёт. — Ред.). Я давал координаты, из «Утёса» трассирующими пулями били и уточняли у меня: «Правильно?». Я корректировал или подтверждал, и по этому месту бил «Василёк». Это боевиков существенно сдерживало, особенно когда они в атаку сверху на нас пошли.
Утром вышло солнце, земля подсохла. Наконец-то подошла наша техника и поддержала огнём. Рывок — высота взята. Убитые боевики, которых «духи» не смогли с собой забрать, так и остались валяться на позициях.
После удачного штурма высоты мы опять стали в фаворе. Правда, состояние у нас было аховое. Переохлаждения, ползания по грязи круглыми сутками дали о себе знать. Нас — на транспорт, на базу, на самолёт и домой. А по дороге даже успели заехать на Каспий искупаться…
В горах под Харсеноем
До конца 1999 года ещё одна группа нашего отряда, которой командовал командир отряда «Тайфун», работала в Чечне. А в начале 2000 года настала очередь ехать моей группе из сорока семи человек. 4 февраля поездом мы выехали из Санкт-Петербурга и 7 февраля прибыли во Владикавказ. Собственно спецназовцев было тридцать, остальные обеспечивали охрану и связь. На машинах нас перебросили в Урус-Мартан. По дороге мы видели следы боевых действий в Алхан-Кале на окраине Грозного. Помню, как у меня, когда я проезжал эти места, мелькнула та же самая мысль, что и полгода назад в Дагестане: «Не повезло, война прошла стороной».
Генерал Шаманов поставил нам задачу усилить подразделения армейского спецназа, которые работали в предгорьях и горах. Людей у них не хватало. Да и осенью 1999 года в Дагестане спецназ Минюста хорошо себя зарекомендовал, особенно в горах. Сначала там идут высоты, до двух тысяч метров, с лесом, а дальше уже скалистые горы. Задача перед нами была поставлена такая: искать на склонах подходящие тропы, чтобы по ним технику наверх можно было загнать.
Высадили наши две группы на две соседние высоты — 1892 и 1886 метров над уровнем моря. В ясную погоду друг друга мы даже видели, но идти с одной горы на другую надо было часов восемь. С нами был артиллерийский расчёт и армейские разведчики. Помню: как раз в то время неподалеку ездила чеченская машина с зенитным пулемётом, за нашими вертолётами охотилась. Однажды часов в шесть утра сбили чеченцы вертолёт МИ-24, он летел на высоте полторы тысячи метров. По-моему, эту машину с пулемётом так и не поймали.
Нам говорили, что еды надо взять на три дня, да и всего остального по минимуму. Но мы как-то почувствовали, что тремя днями дело вряд ли обойдётся, и еды, вопреки пожеланиям, взяли примерно на неделю. Как в воду глядели — забрали нас с этих гор через восемнадцать дней.
На высотах у нас была база, откуда мы уходили утром и куда возвращались вечером. Но как мы ни искали, дороги для прохода техники так и не нашли. Через три дня нам поставили задачу просто оставаться на вершинах и вести наблюдение. С вертолёта сбросили еды ещё на пять дней.
В зоне видимости нашей второй группы стояла пара домиков, и ночью в этих домиках горели огоньки. Ночами мы иногда наблюдали и слышали, как в тех районах по ущельям передвигались боевики, наши их издалека в приборы ночного видения наблюдали. А 21 февраля у армейских разведчиков произошла страшная трагедия.
21 февраля издалека мы услышали стрельбу под Харсеноем. Чуть позже по закрытой связи передали, что там в одном бою были убиты почти все псковские разведчики армейского спецназа. Всего погибли тридцать три человека, из них двадцать пять человек разведчиков. Выжили только двое.
Наши ребята, что находились на высоте, которая была ближе к месту боя, потом мне рассказали подробности этих событий.
Где-то после обеда 21 февраля пошла стрельба, взрывы. Закончилось всё быстро, минут за пятнадцать-двадцать. Наша группа находилась на базе, на высоте. От места боя примерно в километре, если по прямой. Когда уже потом они спустились со своей высоты и начали сопоставлять факты, то стало ясно, что это был бой под селом Харсеной. У погибших разведчиков это был последний выход, дальше их должны были заменить.
Когда наши бойцы побывали на том месте, то стало ясно, что позиция у разведчиков была невыгодная, на полянке в низине они расположились. А «духи» их с высоты атаковали. Да и расслабились они чуть-чуть. Этому тоже была своя причина.
Сами разведчики говорят, что человек может эффективно работать на выходе только три дня. Конечно, можно и месяц ходить по горам, но результат будет нулевым. На четвёртый день человек начинает уставать. Дают о себе знать и тяжесть снаряжения, и холод, и недосыпание. Таких профессионалов, которые могут неделю в горах воевать, очень мало. А псковские разведчики тогда работали на выходе целых восемь дней, а вокруг местность не осмотрели. Вроде кругом свои, урчит рядом наша техника. Кажется, уже всё закончилось, пришли. А, как не раз было доказано на практике, расслабляться можно только дома.
Разведчики тремя группами сидели, метрах в двадцати друг от друга. Сначала их обстреляли из «мух» (ручных гранатомётов. — Ред.). В каждую группу боевики, скорее всего, сделали по одному выстрелу из гранатомёта. Ведь когда рядом разрывается заряд, человек попадает в прострацию. Это не контузия, но в течение нескольких минут с человеком можно делать всё что угодно.
Если бы наши ребята с соседней высоты сразу же туда пошли, как бой начался, всё равно они не успели бы. Но под перекрёстный огонь боевиков попали бы они точно. Ко всему ещё огромное количество мин. Напичкано ими было всё.
На первый взгляд, когда с горы смотришь на равнину, кажется, что это недалеко. А на самом деле идти по времени надо прилично, больше часа. Потом наши ребята всё-таки ходили на место боя. С одной горы перешли на другую, по ней прошли и вышли по ручью. В ту зиму снег был по пояс, рыхлый. Когда идёшь нагруженный, то постоянно проваливаешься по пояс, дыхалка забивается. К себе на базу они только к вечеру вернулись.
На следующий день, 22 февраля, на другой стороне высоты наши бойцы нашли разгрузки раненых боевиков, места их остановок, банки из-под прибалтийской тушёнки, сгущёнки. Были там и цинки (оцинкованные коробки для хранения патронов. — Ред.). Самое интересное, что серии совпадают с нашим боекомплектом. Вот и думай что хочешь…
Батареи у раций начали садиться. Еда закончилась. Что-то случилось с рукой у нашего ГУИНовского фельдшера из Майкопа. От какой-то занозы рука у него очень сильно распухла, а врач нашего отряда находился на соседней высоте. Мы собирались вести фельдшера туда, чтобы врач вскрыл его воспалённую руку и как-то её очистил. Но потом прикинули — восемь часов туда, восемь — обратно. За день не управиться. Поэтому и не пошли.
Как раз тут к нам залетел какой-то шальной вертолёт. Мы обрадовались — думали, нам продукты привезли. А он сбрасывает нам десять ракет для ракетной установки ПТУРС нашего артрасчёта. Наш «лепила» (на жаргоне — врач) обрадовался, запрыгнул в вертолёт и умчался.
Еда совсем закончилась. У себя мы нашли палку заплесневелой колбасы. Варили её несколько раз, и «бульон» этот пили. Ещё мы в ручье, который был под высотой, гранатами заглушили четыре маленькие рыбки, горную форель. Оповестили соседей с другой высоты об этой своей радости. Те тоже было пошли с гранатами на «рыбалку», но ничего не поймали.
Сидение на горе закончилось 28 февраля. У нас был всего один день в Урус-Мартане, чтобы помыться и поесть по-человечески. И тут прошла информация, что боевики просачиваются в населённые пункты Алхазурово и Комсомольское. Нас перебросили туда, и для нас начались самые страшные бои за всю Вторую кампанию.
Комсомольское. Хроника штурма
Комсомольское мы прочёсывали первого, второго и третьего марта. Наш отряд шёл вдоль реки Гойты. Слева шли бойцы 33-й бригады Внутренних войск из посёлка Лебяжье под Петербургом, а справа — Внутренние войска из Нижнего Тагила. Бои пока не начались, но боевики уже начали встречаться на пути. В один из этих дней видим — двое боевиков в гражданской одежде издали нас увидели и стали убегать. Один сумел уйти, а другого мы завалили. Несмотря на гражданскую одежду, сразу было видно, что это не мирный житель. Лицо у него было землистого цвета, как у тех, кто всю зиму просидел в горных пещерах без солнца. Да и по виду он был явный араб. У главы администрации Комсомольского потом спросили: «Ваш человек?». Отвечает: «Нет». Но за этот случай мы от начальства всё равно получили нагоняй: «Да вы что это? Устроили, понимаешь, тут стрельбу без причины!».
Пятого марта на другом берегу Гойты бойцы СОБРа из Центрально-чернозёмного региона, те, что шли вместе с нижнетагильцами, вступили в бой и понесли первые потери. Были у них и погибшие. В тот день и нас в первый раз обстреляли, и мы получили приказ отходить.
Шестого марта у соседей справа снова появились потери. Сложилась такая обстановка, что они даже не всех своих погибших смогли забрать.
В первой половине дня шестого марта мы провели небольшую операцию не в селе, а в лагере жителей. К этому времени их из Комсомольского уже вывели. Они стояли лагерем за селом метрах в двухстах. Ещё дальше, у перекрёстка дорог, стоял наш блок-пост, и в вагончиках расположился штаб — от Комсомольского метров шестьсот.
Офицер по спецоперациям дивизии Внутренних войск «Дон-100» мне говорит: «Есть информация, что в лагере мирных жителей есть раненые боевики. Но забрать мы их, наверное, не сможем. Да и руководство моё не горит желанием это делать. Если сможешь, то давай».
Я беру с собой пэпээсников (ППС, патрульно-постовая служба милиции. — Ред.) и говорю: «Давайте сделаем так: мы блокируем, а вы их забирайте, и потом вместе выходим обратно». Врываемся внезапно в лагерь и видим, что на одеялах и матрасах лежат раненые с характерными землистыми лицами. Выдернули мы их очень быстро, так что население не успело среагировать, иначе устроили бы обычную в таких случаях демонстрацию с женщинами и детьми.
После этого прорвались мы к мечети. Она стояла в самом центре Комсомольского. Тут нижнетагильцы просят меня остановиться, потому как они продвигались с большим трудом, а нам с ними надо было держать одну линию.
Заходим в мечеть. Видим, что там лежит мёртвый араб, которого мы уничтожили пятого марта, подготовленный к похоронам по местным обычаям. Уже одно это доказывает, что это не житель Комсомольского. Иначе бы его, по традиции, похоронили бы в тот же день.
Обстановка сложилась относительно спокойная — стрельба на нашем направлении незначительная. Боевики, как можно судить по огню, находятся где-то подальше. Видим — в нашу сторону едет «Волга» с московскими номерами. Из машины меня спрашивают: «Как тут на другой берег лучше проехать?». Это была попытка договориться с Гелаевым (позывной «Ангел»), чтобы он вышел из села. На «Волге» приехал глава администрации Комсомольского, с ним — мулла местный. Они привезли с собой посредника. Тот раньше где-то с Гелаевым (вроде бы в Абхазии) воевал. У каждого из них была своя цель: мулла хотел сохранить мечеть, а глава Комсомольского — дома жителей. А я не очень понимал, как можно выпускать Гелаева. Ну, вышел бы он из села — а что дальше?
Я по рации с соседями связался и предупредил их: «Сейчас я к вам подъеду». Садимся с тремя бойцами на бэтээр и поехали. «Волга» за нами идёт. Переехали на другую сторону, остановились на перекрёстке… И тут неожиданно пошёл нарастающий гул стрельбы!.. Огонь пока неприцельный, пули над головами пролетают. Но стрельба стремительно приближается. «Волга» мгновенно развернулась и уехала обратно.
Нижнетагильцы нас просят: «Пробейте нам забор, а сами уходите!». Пробить-то забор бэтээр пробил, но потом запутался в нём. Думаем: «Хана нам». Передаю по рации своему заму: «Бери, «Джавдет», командование на себя. Мы будем уходить, как и куда получится».
Но нам повезло: бэтээр из забора всё-таки выбрался. Спасибо солдатикам с бэтээра — они нас немного подождали, пока мы через Гойту по пояс в воде к ним перебегали. Домчались до мечети. Но тут бэтээр начал разворачиваться и врезался в каменный столб. Я так себе голову о броню разбил! Хорошо, как потом оказалось, что просто рассёк кожу на голове.
А на другой стороне реки война уже идёт вовсю: боевики пошли в атаку. А с нашего берега нам на помощь выслали два бэтээра с пятьюдесятью бойцами по той же дороге, по которой мы входили. Но до нас они не смогли дойти. У одной машины «духовский» снайпер механика-водителя застрелил, а на второй — командира снял.
Я своему полковнику, Георгичу, как я его называл, говорю: «Всё, не надо больше никого посылать. Будем выходить сами» и решил уходить в сторону окраины посёлка.
С нами у мечети был начальник разведки из 33-й бригады Внутренних войск, майор Афанасюк. Все его звали «Борман». Он говорит: «Я не пойду, мне приказа отходить не было». Но, к чести этого офицера, солдатам своим он приказал отходить вместе со мной. Сам он остался, долго не уходил, и я с большим трудом его всё-таки уговорил идти с нами. Майор Афанасюк и его разведчик Бавыкин Сергей («Атаман»), с кем мы были в этот день у мечети, погибли позже, десятого марта.
Мы уже почти что вышли из села, и тут вдруг получаем команду: «Вернуться на исходные позиции». Приказы не обсуждают. Мы быстренько возвращаемся, снова занимаем мечеть. Смеркается. Я связываюсь со своими командирами и говорю: «Если я останусь здесь ещё полчаса, то завтра здесь никого из нашего отряда в живых уже не будет. Я выхожу».
Я хорошо понимал, что мы в мечети ночью против боевиков долго не продержимся. В штабе мнения разделились, но мой непосредственный командир всё-таки принял сложное для него решение и дал мне команду отходить.
Видим: по улице идут человек двенадцать мирных жителей с белым флагом. Я подумал, что это к лучшему: «Как живой щит будут, по своим чеченцы стрелять не должны». И на самом деле в этот раз вышли мы без потерь.
Следующий день, седьмое марта, для нас был более-менее спокойным. Боевиков оказалось явно не тридцать человек, как первоначально говорили генералы. Поэтому теперь уже, принимая во внимание большие потери, руководство операции решало вопрос, что вообще делать дальше. По селу начала работать авиация.
Восьмого марта мы посчитали своё войско: справа нижнетагильцев сто тридцать плюс СОБР с четырьмя старыми «коробками» (бронированная машина или танк. — Ред.), у нас семьдесят человек с двумя «коробками». Плюс в 33-й бригаде сто человек с двумя «коробками». Мне ещё дали пятнадцать человек пэпээсников. Но я им велел вообще не стрелять и идти позади нас.
А фронт, по которому мы должны были наступать, был растянут километра на два. На танках боекомплект — семь-восемь снарядов. Были ещё машины разминирования УР-70, которые пару раз с жутким грохотом и шумом бросили свои заряды килограммов по четыреста тротила в сторону боевиков. И тогда мы пошли в атаку.
Доходим до первого уровня домов и видим чеченку, бабульку лет восьмидесяти. Мы её за огород вытащили, показали, где находится лагерь жителей, и говорим: «Тебе туда». Она поползла.
Тут у нас начались потери. Доходим до второго уровня домов — слева взрыв. Погиб боец из нашего псковского отряда, Ширяев. Его просто разорвало.
Идём дальше. У кладбища река расширяется, соседи уходят в сторону, и фланг у нас остаётся открытым. Как раз в этом месте была небольшая высота, которую нам никак не обойти. Выходим на неё двумя группами. Чувствуется, что у боевиков она пристрелянная. Знали они, что нам мимо никак не пройти, и с нескольких сторон начали лупить по этой высоте с расстояния метров сто-триста. Это были точно не подствольники, взрывы более мощные, а скорее всего эрпэгэ (РПГ, ручной противотанковый гранатомёт. — Ред.) или самодельные миномёты.
И тут началось… События разворачивались стремительно: прицельное попадание в нашего пулемётчика Володю Широкова. Он погибает. Тут же убивают нашего снайпера Сергея Новикова. Коля Евтух пытается вытащить Володю, и тут «духовский» снайпер бьёт Коле в поясницу: у него перебит позвоночник. Ранили другого нашего снайпера.
Раненых мы вытаскиваем, начинаем перевязывать. Я осматриваю раненого снайпера. А у него ранение оказалось тяжёлым. Олег Губанов пытается Вовку Широкова вытащить — опять взрыв, и Олег на меня летит сверху головой вниз! Стреляют со всех сторон!.. Опять попадание в Вовку — он горит! Нам никак не зацепиться… Отходим метров на пятьдесят, забрав троих раненых и одного погибшего. Широков остаётся лежать на высоте…
На правом фланге тоже заруба идёт. Докладываем о потерях. Генералитет даёт всем команду отходить — по селу будет работать авиация. Тагильцы и мы просим сначала полчаса, потом — ещё полчаса, чтобы забрать своих погибших.
Тут заходит пара штурмовиков СУ-25 и начинает нас бомбить! Сбросили две огромные бомбы на парашютах. Мы попрятались, как могли: кто за камень какой-то залёг, кто просто во дворе. Ба-бах… и метрах в пятидесяти от нас бомбы в землю входят!.. Но не взрываются… Первая мысль — бомба с замедлением. Лежим смирно, не шевелимся. А взрыва всё нет и нет. Оказалось, что бомбы были пятидесятых годов выпуска. Оказалось, уже некондиция. Так и не взорвались, на наше счастье.
На следующий день, девятого марта, опять идём на те же позиции. Метров за сто пятьдесят боевики встречают нас шквалом огня. То место, где погиб Широков, нам отсюда не видать, и ближе никак не подойти.
Мы думали, что Володи на бугре уже нет. Все уже были наслышаны были о том, как боевики глумились над погибшими. Стали расспрашивать другие отряды. Где-то там, оказывается, руку отрезанную нашли. Наш вопрос: «Есть такая-то татуировка?» Нет татуировки. Значит, не он. А Володя, как оказалось, на том же месте и лежал, где его убили. Не сумели мы в этот день подойти к высотке.
Десятого марта идём вперёд с Тимуром Сиразетдиновым. Рядом ребята из 33-й бригады с танком нас прикрывают. Оставили их с танком за домом, а сами поползли. Впереди — бугорок. Договариваемся: я бросаю гранату, а Тимур метров тридцать до сарая должен перебежать. Бросаю гранату за бугор. Тимур побежал. И тут очередь из пулемёта издалека… Пулемётчик нас отслеживал, это было понятно.
Тимур кричит: «Алексей, я ранен!..». Я — прыг к нему. Пулемётчик опять очередью поливает… Фонтанчики от пуль вокруг так и пляшут! «Джексон» сзади кричит: «Лежи!..». Чувствуется, есть какая-то мёртвая зона, где я к земле прижался, — не может меня пулемётчик достать. Подняться не могу — он тут же меня срежет.
И тут офицер из 33-й бригады меня спас — отвлёк внимание пулемётчика на себя (фамилия его Кичкайло, четырнадцатого марта он погиб и звание Героя получил посмертно). Он пошёл с солдатами за танком в сторону Тимура. Пулемётчик внимание на них переключил, стал по танку стрелять — только пули по броне щёлкают! Я воспользовался этой секундой и скатился в овраг, который тянулся в сторону боевиков. Там мёртвая зона, никто в меня не стреляет.
Бойцы затащили на танк Тимура и отошли. Я подполз — у Тимура ранение в области паха. Он без сознания. Разрезаю брюки, а там сгустки крови, словно желе… Перетягиваем ногу выше раны, перевязываем. Доктор наш делает ему прямой укол в сердце. Вызываем эмтээлбэшку (МТЛБ, малый тягач лёгкий бронированный. — Ред.), а она нас никак найти не может!.. Но вторая, посланная вслед, всё-таки нас отыскала. Забрасываем Тимура на неё, отправляем его в тыл.
Мы как-то очень надеялись, что Тимур выкарабкается. Ведь и на первой войне у него были ранения — пятьдесят пять осколков тогда в него попало. Он в тот раз выжил. Но через час по рации мне передают: «Циклон», ваш «трёхсотый» — «двухсотый» («трёхсотый» — раненый, «двухсотый» — убитый. — Ред.). А Тимур — мой близкий товарищ. Зашёл в сарай. Ком у горла… Не хотел, чтобы бойцы слёзы мои видели. Отсиделся там минут пять-десять, и снова вышел к своим.
В этот день большие потери были у всех. Артиллерийской поддержки никакой, танки без боекомплекта. Идём в атаку с автоматами да пулемётами без артподготовки. Поэтому одиннадцатого и двенадцатого марта руководители операции снова взяли тайм-аут.
Одиннадцатого марта нас на позициях подменил ижевский отряд Минюста. Мы отошли, чтобы доукомплектоваться боеприпасами. Меня как командира беспокоило ещё вот что. Дело в том, что в оперативное подчинение мне передали двадцать снайперов, которые занимали позиции в ущелье выше Комсомольского. И вот с этими-то снайперами у меня пропала связь. Надо было их теперь искать.
По дороге я заехал в штаб, где произошла трагикомическая и очень показательная история. Подъезжаем к пилораме, куда штаб переехал, и видим такую картину. Двое солдатиков полезли в овраг за телёнком. И вот тут-то их боевики огнём на землю положили и лупят по ним! За этим человек шесть генералов наблюдают и журналисты разные. Все бегают, суетятся, но никто ничего не делает, чтобы изменить ситуацию.
Я был с Вовкой «Ворчуном». Мы схватили какую-то эмтээлбэшку, подъехали и вытащили солдатиков. Потом отправились на поиски снайперов дальше.
Пока мы их искали, командира удмуртского отряда Ильфата Закирова вызвали в штаб на доклад. Туда приехал на совещание генерал Баранов, командующий Группировкой наших войск.
На этом совещании произошла очень неприятная история, которая имела трагические последствия. И вдвойне несправедливо, что генерал Трошев в своей книге о чеченской войне описал её со слов генерала Баранова. А написал он — ни больше ни меньше — что в спецназе Минюста оказались трусы, которые комфортно расположились в спальных мешках в спокойном месте и не особо хотели воевать. И только личное вмешательство доблестного генерала Баранова заставило этих трусов взяться за ум и затем уже показать себя геройски.
До сих пор никак не могу взять в толк: и как это можно было писать про какие-то мешки спальные и спокойное место, когда наша позиция была в самом центре Комсомольского, правее мечети, которую с командного пункта даже видно не было?
А вот как было на самом деле. В штабе всегда находились два полковника, военные коменданты Комсомольского и Алхазурово. Они мне и рассказали, что именно происходило на этом совещании. Ильфат докладывает обстановку (а перед совещанием я ему рассказал, что у нас происходит на позициях) как она есть — туда идти нельзя, здесь разрыв на правом фланге, отсюда боевики стреляют. А Баранов ему, не разобравшись: «Ты трус!». За Ильфата тогда вступился единственный человек, милицейский генерал Кладницкий, которого я за это лично уважаю. Он сказал примерно следующее: «Вы, товарищ командующий, неправильно ведёте себя с людьми. Нельзя так разговаривать». Я слышал, что после этого Кладницкого куда-то задвинули.
А Ильфат — парень восточный, для него такое обвинение вообще ужасно. Он, когда вернулся на позиции с этого совещания, был весь белый. Говорит отряду: «Вперёд!..». Я ему: «Ильфат, подожди, успокойся. Дай мне час времени. Я на высоту выйду, где Вовка Широков лежит, заберу его и тогда вместе пойдём. Не лезь никуда».
Незадолго до этого мы украли, тайком от нашего штаба, боевика убитого, полевого командира. Их несколько там, у штаба, лежали для опознания. И вот, через главу администрации Комсомольского, мы передаем боевикам предложение обменять его на Володю. Но ничего из этого не получилось. Не дождались мы тогда ответа. Тело боевика я отправил в комендатуру Урус-Мартана. Уже числа семнадцатого меня оттуда спрашивают: «Что нам с ним делать?». Отвечаю: «Да закопайте где-нибудь». Так его и похоронили, даже не знаю где.
Тогда я взял четверых бойцов, танк и снова пошёл к той самой злосчастной высоте. А боевики по ней вовсю лупят!.. Танк мы поставили в лощине, ребята меня прикрывают. Сам я с «кошкой» подполз снизу к краю обрыва, а потом бросил её и зацепил за ботинок (больше не за что было) то, что от Володи осталось. Какого я увидел Володю — это страшно… От здорового двадцатипятилетнего парня осталась разве что половина. На вид теперь это было тело десятилетнего подростка — он весь сгорел, скукожился. Из одежды одни ботинки на теле остались. Завернул я бережно его в плащ-палатку, до танка ползком дотащил, с ребятами на танк загрузил и отправил в штаб.
Меня раздирали противоречивые чувства. С одной стороны, меня страшно потрясло то, как он выглядел. С другой стороны, отлегло от сердца — не пропал он без вести, и можно будет похоронить, как положено, на родной земле.
Запрашиваю по рации Ильфата — не отвечает. А перед этим по рации же он мне ещё раз повторил: «Я пошёл вперёд». Я ему снова: «Подожди, не спеши. Я подойду, тогда вместе пойдём». Тут наш генерал по рации мне даёт приказ: «Я отстраняю вас, «Циклон», от командования сводным отрядом Минюста. Командовать будет старший лейтенант Закиров». Ну отстранил и отстранил. Я его тоже понимаю. Он там среди остальных генералов находится. Ну а что подполковника отстранил, а старлея назначил, — его вопрос.
Выхожу к дому, куда ижевцы пошли, и вижу — стоит отряд. Спрашиваю: «Где командир?». Показывают в сторону дома. Со мной четверо моих бойцов. Ещё беру «Деда» из ижевского отряда. Он человек опытный, в предыдущих кампаниях участвовал. Врываемся во двор, забрасываем гранатами, устраиваем стрельбу во все стороны. Видим — во дворе около дома лежат два тела, полностью изуродованные, одежда — в клочья. Это Ильфат со своим заместителем. Погибшие. «Дед» забросил их на танк, хотя очень непросто убитого поднять. Но здоровый он мужик.
А дело было так. Ильфат со своим замом вошёл во двор, и они схватились с боевиками практически врукопашную. Оказалось, что у боевиков за домом окопы вырыты были. Нескольких боевиков Ильфат со своим замом застрелили, а оставшиеся их самих гранатами забросали.
Так ижевский отряд остался без командира. Ребята — в шоке. Я их сразу чуть-чуть назад отвёл. А потом вообще отправил на замену в резерв. Они до сих пор мне это добрым словом вспоминают. Но я действительно понимал их психологическое состояние: нельзя их было тогда вперёд посылать.
Когда генералы орали на офицеров, те по разному реагировали на это. Кто-то, как я, например, глотал всё это. Стреляю дальше — и всё. А кто-то эмоционально реагирует, как Ильфат, и погибает… Кстати, после его гибели командиром отряда снова назначили меня.
Ещё раз мыслями возвращаюсь к тому обидному для меня и моих боевых товарищей, что позволили себе два генерала: очернить в своей книге человека, совершенно неповинного в том, что в чём они его обвинили. Именно в Комсомольском я понял, что генералы, которые нами командовали, солдатиков-то и не знают. Для них — это боевая единица, а не живой человек. Они недаром их «карандашами» называют. Мне же пришлось эту горькую чашу испить до дна. Когда я в Питер приехал, каждому родственнику погибших — жене, родителям, детям — я в глаза смотрел.
А что касается солдат-срочников, о них там, наверху, никто особо не задумывался. Так ещё восьмого марта в штабе я попросил взвод, чтобы перекрыть разрыв на фланге между нами и нижнетагильцами. А мне отвечают: «Вот дам я тебе взвод, и у врага будет на тридцать мишеней больше. Потерь будет больше. Дай лучше координаты, я миномётом накрою». Ну что тут скажешь… Глупость, непрофессионализм? А расплачиваться за это приходится самым дорогим — жизнью…
Числа тринадцатого марта к нам на позиции подъехала ракетная установка «штурм». Спрашивают: «Ну, куда тебе долбануть?». Отвечаю: «Вон по тому дому. Там огневая точка». Это метров семьдесят или сто от наших позиций. Говорят: «Не можем, нам метров четыреста пятьдесят надо». Ну а куда они на четыреста пятьдесят могут долбануть? Ведь всё, что по мне стреляет, находится на расстоянии от семидесяти до ста пятидесяти метров. Эта замечательная ракетная установка оказалась здесь совсем ненужной. Так и уехали ни с чем…
В тот же день служба снабжения боеприпасами спрашивает: «Что вам прислать?». До этого ничего не было из серьёзного оружия, пулемётами да автоматами с подствольниками воевали. Говорю: «Пришлите «шмелей» (огнемёт. — Ред.) штук восемь». Присылают восемь ящиков по четыре штуки в каждом, то есть тридцать две штуки. Господи, раньше-то где вы были?! Хоть и давали нам всё это без расписок, но жалко добро. Тащить столько железа вперёд очень тяжело было.
Начиная с восьмого марта из Комсомольского мы уже не выходили, на ночь оставались на своих позициях. Это было очень неприятно. Ведь примерно до пятнадцатого марта с тыла нас толком никто не прикрывал, боевики через нас пробегали периодически. Десятого марта один добежал до кладбища, которое было рядом с нами. Мы отработали по нему и поползли в ту сторону. На кладбище нашли вещмешки с патронами. Боевики их заранее подготовили. И только после четырнадцатого-пятнадцатого марта подмосковный ОМОН начал подчищать за нами дворы и огороды.
Пятнадцатого марта Комсомольское окутал такой туман, что в трёх метрах ничего было не видно. Ещё раз сходили с бойцами на высоту, где Широков погиб, забрали оружие. Кстати, ни одного ствола за всё время боёв мы не потеряли.
И тут меня позвали соседи из Внутренних войск на координацию действий. Так ведь там меня чуть не застрелили, а я так и не понял, свои это были или чужие! Вот как всё было. Соседи сидели в доме неподалёку. Захожу во двор и вижу, что в метрах двадцати мимо сарая бегут какие-то фигуры в камуфляже. Обернулись на меня, посмотрели — и как дадут очередь из автомата в мою сторону! Прямо скажем, неожиданно… Спасибо и за то, что попали только в стену рядом.
Отличить своих от чужих было действительно очень трудно — все были вперемешку. Ведь все выглядят одинаково: камуфляж, все грязные, с бородами.
Был такой характерный случай. Командир чувашского отряда спецназа ГУИН занял дом со своими бойцами. Как положено, сначала гранату бросили. Через некоторое время спускается командир с фонариком в подвал. Посветил фонариком и увидел — сидит боевик, смотрит на него и лишь глазами моргает. Наш — вверх прыг: а вылезти не может — автомат зацепился за края лаза. Выскочил всё-таки, гранату — в подвал. И очередь из автомата… Оказалось, что там почти что неживой раненый боевик сидел, у него уже гангрена началась. Поэтому-то он не стрелял, а только и мог глазами моргать.
Именно пятнадцатого марта, как потом рассказывали коменданты Комсомольского и Алхазурово, все генералы по спутниковому телефону, как один, каждый своему начальству, докладывают: «Комсомольское взято, контролируется полностью». Какое там контролируется, если шестнадцатого марта у нас опять потери — три человека погибшими, человек пятнадцать ранеными? В этот день погибли Сергей Герасимов из новгородского отряда «Русич», Владислав Байгатов из псковского отряда «Зубр» и Андрей Захаров из отряда «Тайфун». Семнадцатого марта ещё один боец из отряда «Тайфун» погиб, Александр Тихомиров.
Шестнадцатого марта вместе с приданным нам взводом ярославского ОМОНа мы от середины Комсомольского двинулись к школе — сходиться с 33-й бригадой. Начинаем смыкаться и видим — прямо на нас идёт танк Т-80! К тому времени техника армейская уже подошла. А связь у нас всех разная. Я только со своим генералом могу разговаривать, омоновцы — со своим командованием, бойцы из 33-й бригады — только со своим. Генерала своего спрашиваю: «Чего делать? Он же сейчас по нам лупить начнёт!..». Хорошо, что у нас флаг российский с собой был. Я его развернул и вышел в зону видимости танка. Он на меня сориентировался, и с 33-й бригадой соединились мы благополучно.
Числа семнадцатого-восемнадцатого боевики начали массово сдаваться. За один день в плен взяли человек двести. Потом их начали ещё и из подвалов выкапывать. Были какие-то попытки прорыва двадцатого марта, но к тому времени уж, по большому счету, всё было кончено. Кресты на высоте, где погибли Широков, Новиков, был тяжело ранен Коля Евтух, мы ставили двадцать третьего марта.
Позже мы узнали, что по амнистии под президентские выборы (26 марта 2000 года состоялись выборы Президента Российской Федерации. — Ред.) многих из боевиков выпустили. Но, если бы заранее было известно что их выпустят, то, по логике и по совести, не надо было и брать их в плен. Правда, все тайфуновцы специально ушли, когда боевики начали сдаваться. Я отправил работать на приём пленных одного своего заместителя и тех из наших, которые в боевых действиях не участвовали, из охраны. Это надо понять: у нас были жесточайшие потери. Погибли наши друзья Владимир Широков и Тимур Сиразетдинов, с которыми я прошёл Дагестан. Я просто боялся, что не все смогут выдержать. Не хотелось брать грех на душу.
Сейчас я оглядываюсь на то, что было в Комсомольском, и удивляюсь тому, что человеческий организм выдержал такие нагрузки. Ведь проползали мы всё Комсомольское много раз вдоль и поперёк. То снег выпадет, то дождь. Холодные и голодные… Сам-то я там на ногах перенёс пневмонию. Жидкость из лёгких выходила при дыхании, толстым слоем осаживалась на рации, когда я говорил. Врач колол мне какие-то лекарства, благодаря которым я продолжал работать. Но… как автомат. Непонятно, на каком таком ресурсе мы все всё это выдержали. За две недели непрерывных боёв ни еды нормальной, ни отдыха. Днём в подвале костерок разожжём, сварим курицу какую-нибудь, потом бульон этот пьём. Ни сухпайки, ни тушёнку мы практически не ели. Не лезло в глотку. А до этого мы же на горе своей ещё восемнадцать дней поголодали. И перерыв-то между этими событиями был всего-то два-три дня.
Теперь уже можно, всё осмыслив, подвести итоги штурма Комсомольского. Вся операция была проведена безграмотно. А ведь была возможность блокировать село по-настоящему. Население уже было выведено из села, так что можно было бомбить и обстреливать сколько угодно. И только после этого можно было уже штурмовать.
А штурмовали мы населённый пункт не теми силами, которые должны быть по всем правилам тактики. Нас должно было быть в четыре-пять раз больше, чем обороняющихся. Но нас было меньше, чем обороняющихся. Ведь только отборных бойцов Гелаева было шестьсот-восемьсот человек. А ещё местные ополченцы, которые со всех окрестных сёл пришли по его призыву.
Позиции у боевиков были очень хорошие: они находились выше нас, а мы шли снизу вверх. Стреляли они по нам с заранее подготовленных позиций из-за каждого угла. Мы начинаем движение вперёд, и рано или поздно они нас замечают. Когда они с одной огневой точки открывают огонь, а мы сосредотачиваем на ней свой огонь, то тут по нам ещё с двух-трёх точек по нам начинают стрелять и дают первой точке отойти. Кроме того, в первую неделю и мы, и боевики были вооружены приблизительно одинаково. На тех танках, которые были нам приданы, практически не было боеприпасов — по семь-восемь снарядов на танк Т-62. Танки Т-80 нам прислали только числа двенадцатого. Огнемёты «шмель» появились примерно через неделю после того, как начались бои.
А если по уму, то надо было обойти Комсомольское со стороны села Алхазурово, выше которого стоял наш полк Министерства обороны, и с позиций полка давить боевиков с высот вниз. Я очень хорошо отношусь к бойцам спецназа Внутренних войск и очень плохо к командованию Внутренних войск, которое осуществляло общее руководство этой операцией. Я хоть и без высшего военного образования, но могу точно сказать, что так, как они вели боевые действия в Комсомольском, воевать нельзя. С одной стороны, не научились они в академиях тактике ведения боевых действий. А с другой стороны, желание нахрапом получить высокие награды и отчитаться вовремя было заметно невооружённым глазом. Не трусы были наши генералы. Но и не полководцы. Далеко не полководцы…
Конечно, оглядываясь назад, я понимаю, что командование наше очень спешило. Приближались выборы Президента. Поэтому операцию проводили, невзирая на людские потери. Операцией командовали около семи генералов. Общее командование сначала осуществлял генерал из Внутренних войск, из дивизии особого назначения «Дон-100». Потом командовал комендант Урус-Мартана, потом командующий Внутренними войсками генерал-полковник Лабунец, знакомый нам по Дагестану. Позже приехал командующий группировкой генерал Баранов. Но добрые слова я могу сказать только о генерале-лейтенанте Кладницком из МВД. Это был человек, который по-настоящему понимал, что там реально творится.
И ещё одно точно могу сказать — солдаты-срочники проявили себя геройски. Не видел я ни одного случая трусости. Это были трудяги. Но жалели их только взводные и другие офицеры такого уровня. А генералы их не жалели. У них была главная задача: чтобы их самих не вздрючили. И при случае, может быть, и высокую награду получить.
Но самый главный итог этой бездарной операции — Гелаев-«Ангел» со своей элитой всё-таки ушёл. Правда, понёс большие потери. Однако в основном погибли ополченцы, что подтягивались из окрестных сёл.
Потом везде стали говорить: «Мы разбили Гелаева». Но я не считаю, что мы его разбили. Над Гелаевым победы не было, раз он ушёл. А потери, которые мы понесли, были неоправданные. Вот если бы мы его уничтожили, то тогда эти потери можно было бы хоть как-то оправдать.
Сам я не был Александром Матросовым, в Комсомольском на амбразуру в бою не бросался, но для себя тогда решил, что безрассудные приказы генеральские придётся и мне выполнять вместе со всеми. Идти вперёд нельзя, но надо, потому что есть приказ. Поэтому я шёл вперёд вместе с бойцами. Создалась такая ситуация, что по-другому я никак поступить не мог. Если сам не пойдёшь, а ребят пошлёшь, неправильный ты человек. А не пойдёшь вместе с ними, вообще всех трусами назовут. Прямо как в русской народной сказке: «Налево пойдёшь — пропадёшь, направо — погибнешь, прямо пойдёшь — себя и коня потеряешь». А идти надо…
Хотя с нашим генералом у меня отношения во время операции были жёсткие, доложил он руководству всё, как было. И что «Тайфун» шёл по самому опасному направлению вдоль реки Гойты, и что дольше всех находился на позициях и понёс самые большие потери. Я считаю так: наш отряд действительно сражался геройски, а меня представили даже к званию Героя России за заслуги всего отряда.
Через неделю, двадцать шестого марта 2000 года, состоялись выборы Президента Российской Федерации. И жители села Комсомольского, которое мы «геройски» стёрли с лица земли, тоже голосуют в одной из школ Урус-Мартана. И нам, отряду «Тайфун», оказывают честь обеспечивать безопасность именно этого избирательного участка. Мы его заранее проверяем, с ночи выставляем охрану. Появляется глава администрации Комсомольского. Он был свидетелем того, как мы ни одного целого дома в селе не оставили, включая и его собственный дом…
Я работу организовал, и поэтому мне оставалось только проверять, заезжая время от времени на участок. Хотя поздно вечером передвигаться по Урус-Мартану было опасно, но на ночь оставлять урну и охранять её в участке было ещё опасней. Приезжаю к вечеру, чтобы забрать избирательную урну. В соответствии со всеми демократическими процедурами опечатанную урну в сопровождении бронетранспортёра мы благополучно доставили в комендатуру.
А закончилось голосование тем, что мы с главой Комсомольского распили бутылку водки. Он говорит: «Я понимаю, что ничего личного в том, что произошло, не было. Вы — солдаты». Мы — ему: «Конечно, у нас никакой вражды к жителям нет. У нас общие враги — боевики».
Результат выборов по этому участку сразил всех наповал. Восемьдесят процентов голосов — за Путина, процентов десять — за Зюганова. И процента три — за чеченца Джебраилова. И могу свидетельствовать, что никаких признаков фальсификаций на участке не было. Так проголосовали главы чеченских родов Комсомольского.
Обретение святыни
Рассказывает подполковник Д.:
— Произошло это 5 марта 2000 года. Мы зачищали село Комсомольское. Темнело. Мы стали выходить из села. И тут по нам открывают огонь из стрелкового оружия, мы — в ответ! Отходим — где перебежками, где ползком, лицом в грязь…
Я с гранатомётом, второй номер. Слышу: пули уже рядом свистят-жужжат. Мы с первым номером падаем на землю. Обе руки у меня в густую грязь окунулись. Чувствую в правой руке что-то. Взял, в руке зажал, сам не понимая, почему.
Стрельба стихла, мы побежали дальше до следующего укрытия. На то, что у меня оказалось в руке, я не смотрел. Не до того было — время от времени стрелять из автомата приходилось. Хотя я и правша и этой рукой стреляю, но и не бросил то, что подхватил с земли. Так нёс и нёс с собой.
Благополучно вышли к своим. Беру флягу и поливаю кусок грязи, который держал в руке. Отряхнул, начал мыть. Отмыл, смотрю — а это крест! Получилось, что я поднял из грязи священнический крест. Потом мне сказали, что к 2000 году в Чечне погибли двое православных священников. Может быть, крест и принадлежал одному из них.
Этот крест в нагрудном кармане я до конца боёв за Комсомольское почти месяц носил с собой. Иногда я думаю: может быть, именно этот крест меня тогда и спас…
Правильное решение
Рассказывает подполковник армейского спецназа Д.:
— Командир группы по связи доложил: «Группа была обнаружена вооружённым человеком в камуфляже. Этот человек направил оружие в сторону группы, мы открыли огонь ему по ногам. При досмотре у раненого обнаружено удостоверение местного егеря. Что делать?».
Решение я принял практически сразу: оказать раненому помощь и тащить его на базу.
Возвращаться нашим было достаточно далеко. Сидим все на базе как на иголках, ждём. Через несколько часов в селе, рядом с которым стоял отряд, стало заметно какое-то нездоровое оживление. Появились незнакомые дорогие машины, люди кучками собираются. Тут раздаётся звонок из штаба: «Что произошло?». Доложил как всё было. Мне говорят: «Если с егерем что-то случится, пеняй на себя». Егерь этот оказался родственником какого-то известного в Чечне человека. Откуда чеченцы так быстро узнали, что егерь у нас, до сих пор понять не могу…
С КПП докладывают, что к ним подъехали люди на нескольких машинах. Хотят пройти внутрь и переговорить с командиром.
Запрашиваю наших — с егерем вроде всё нормально, но двигаются медленно. В горах тащить на себе раненого человека очень тяжело.
Напряжение растёт, бесконечные звонки из штаба и шум у КПП… Понятно, что через КПП группе на базу отряда входить нельзя — последствия мало предсказуемые. Но у нас, конечно, были подготовлены разные варианты. В результате группа вошла на базу незамеченной.
Врач осмотрел егеря и говорит: «Состояние удовлетворительное, жить будет». Я оставил доктора заниматься с раненым, а сам пошёл к тем, кто собрался у КПП. Обстановка там накалилась уже до предела. До стрельбы дело ещё не дошло, но по всему было видно, что так долго продолжаться не может.
Я объяснил приехавшим, что егерь у нас. Живой, но ранен. Он направил оружие на группу, поэтому и был открыт огонь. Мне не верят, естественно! Тогда говорю: «Пойдём и сами его спросим!». Взял с собой пару человек из приехавших, мы пошли к доктору. Входим в палатку — егерь чин-чинарём лежит на кровати перевязанный, умытый, под капельницей. Чеченцы вроде успокоились — действительно живой. Стали его по-чеченски о чём-то спрашивать. Я им: «Говорите по-русски, чтобы мы тоже слышали». Они спрашивают егеря: «Есть у тебя претензии, как с тобой обращались?». Тот отвечает: «Есть одна претензия». — «Какая?..». — «Меня, когда надо было с горки спускаться, просто клали поперёк, и я скатывался!». Именно в этот момент я окончательно осознал, что принял правильное решение.
Хроника выполнения невыполнимой задачи
Рассказывает полковник армейской авиации Владимир Николаевич Бабушкин:
— Для меня Вторая чеченская кампания началась 27 сентября 1999 года. Бои в Дагестане, где я тогда оказался, шли уже на спад. Но всем было ясно, что идёт подготовка операции по блокированию территории Чечни и штурму Грозного.
В начале этой командировки я летал и на МИ-8, и на МИ-24, но затем — только на МИ-8. Так вышло, что при комплектовании нашей 85-й эскадрильи была совершена ошибка. Количество экипажей у нас точно совпадало с количеством вертолётов. А если по уму — количество лётчиков должно было быть больше, чем количество машин. Ведь люди болели, да и хозяйственные какие-то дела требовали перерыва в полётах. Но если, при необходимости, командирами экипажей летало командование эскадрильей, то лётчиков-штурманов было ровно по количеству машин. И они без продыха целых полгода летали каждый день. Это очень большая нагрузка, не каждый человек её выдержит.
А нашей 85-й эскадрилье пришлось пробыть в Чечне не три месяца, как другие, а именно полгода. Правда, каждому из нас предлагали отпуск на двадцать суток. Но я, например, как представил себе, что поеду домой, как потом буду возвращаться… И вообще не поехал.
Поначалу побаивались все. Ведь для многих это была первая кампания. Лично я вообще не имел никакого боевого опыта. Но прямых отказов лететь у нас не было. Хотя, конечно, иногда я и сам видел, когда в данный момент конкретный человек психологически лететь не готов. В таком состоянии и не надо лётчику лететь, а надо ему дать какую-то паузу, чтобы он в себя пришёл. Это и была одна из главных задач командования эскадрильи — правильно распределить и настроить людей.
Первое сильное противодействие с земли произошло в октябре 1999 года. Тогда на МИ-24 полетел командир эскадрильи полковник Виктор Евгеньевич Богунов, а я должен был лететь у него оператором (оператор управляет вооружением вертолёта. — Ред.). У нас с ним была негласная договорённость: если он летает, то я сижу на КП (командный пункт. — Ред.), и наоборот. А тут подходит ко мне лейтенант Васютин, который приехал за день до этого, и говорит: «Мне бы в столовую сходить». Я его и отпустил. Только он ушёл — команда на вылет! Комэск: «Где Васютин?». Я: «Отпустил его поесть». Он: «Тогда с тобой вдвоём полетим».
Я сел в операторскую кабину, карту взял, начал курс прикидывать, уже включил оборудование и вдруг вижу: Васютин бежит. Говорю: «Евгеньич, вон Васютин». Он: «Ты тогда вылезай, полечу с ним». Они и полетели.
Но плюс к плохой погоде было сильнейшее противодействие с земли!.. Все вертолёты вернулись на аэродром с дырками. Когда они сели, Васютин блистер открыл и так и не выходил из вертолёта очень долго. Сидел и просто молчал. Потом я себя корил: ну нельзя было его так сразу бросать в пекло. Но предугадать, что он в первом же полёте попадёт в такую заваруху, было невозможно.
В том же октябре мы с Мишей Синицыным корректировали огонь артиллерии. Летаем на высоте около тысячи метров, а артиллерийский наводчик в бинокль смотрит на мост через Терек у станицы Червлёная и своим по радиостанции передаёт: «Правее, левее…». И тут я вижу, что вокруг нас какие-то маленькие облачка появляются, как в фильме «Небесный тихоход». И только потом я сообразил, что это по нам зенитная установка от моста работает, но снаряды не долетают и самоликвидируются. Стало немного жутковато. Но со временем я и к этому привык.
Без вертолётов в Чечне просто никак: ведь всем надо было куда-то срочно добраться, а вертолёт — лучшее средство передвижения: быстро и относительно безопасно. Поэтому у меня в кабине были две таблички. Я собственноручно с одной стороны картонки написал «Обед», а с другой — «Вертолёт никуда не летит».
Прилетаешь на площадку с начальником каким-то или раненого забрать — и тут же вокруг тебя начинают ходить люди, которым куда-то надо. Большинство хотело лететь в Моздок (база российской армии на территории Северной Осетии. — Ред.). Сидишь и через блистер каждую минуту отвечаешь на один и тот же вопрос: «В Моздок летишь?». — «Нет». Когда устанешь отвечать, ставишь табличку «Обед». Народ никуда не уходит, терпеливо ждёт окончания обеда. Потом переворачиваю табличку — все подтягиваются, чтобы прочитать, что на ней написано. А там: «Вертолёт никуда не летит».
Хотя, конечно, часто брали… В конце декабря 1999 года до очередного штурма Грозного оставался один-два дня. В штабе группировки шло совещание. Я сижу на КП, руковожу полётами. Тут звонит майор Покатило и говорит: «Николаич, меня заставляют лететь на Сунженский хребет. А нижний край облачности — сто метров». Сам хребет высотой около пятисот метров, то есть на хребте точно ничего не видно. Я ему: «Да ты что? Нельзя лететь ни в коем случае!». Он: «Да на меня тут всё командование группировки давит…». Я: «Ты пока не соглашайся, я сейчас что-нибудь придумаю».
А лететь нельзя не потому, что страшно, а потому что нельзя. Но пехоте разве докажешь, что это не только нарушение мер безопасности. Ну, подумайте, как лётчик будет снижаться в горах в тумане? У него не будет возможности определить, где земля, он ведь её просто не увидит. Столкнётся со склоном — и всё…
Звоню Покатило и говорю: «Юра, скажи, что у тебя керосина нет». Он обрадовался и генералам говорит: «У меня до хребта керосина не хватит, только до Калиновской». (Военный аэродром в двадцати километрах севернее Грозного. — Ред.) Они: «Хорошо, лети в Калиновскую». Через некоторое время прилетает Покатило, и из его вертолёта выходит генерал Михаил Юрьевич Малафеев (через несколько дней он погиб в бою при штурме Грозного). Подхожу, приветствую его: «Здравия желаю, товарищ генерал! А вы чего прилетели?». Он говорит: «О, Бабушкин, здорово! Мне сказали, что какой-то другой лётчик меня на Сунженский повезёт. У Покатило керосина нет. Сейчас полечу с другим».
У меня аж сердце остановилось: с каким другим!?. Говорю: «Да нет здесь никаких других лётчиков! Один я тут». Он: «Вот ты меня и повезёшь!».
Звоню начальнику авиации группировки подполковнику Василию Степановичу Кулиничу. Говорю: «Вы что, с ума сошли? И что мне теперь — просто так сложить голову самому, экипажу и генералу вместе с нами? Вы соображаете, какую задачу вы ставите?». Он: «Николаич, помочь ничем не могу, выполняй задачу».
Я Малафееву говорю: «Товарищ генерал, я сейчас буду читать вам инструкции по вертолётовождению, по минимальным безопасным высотам…». Он: «Ты что мне мозги паришь? Полетели — и всё».
Что делать, не знаю. Вызываю правого лётчика — лейтенанта Удовенко. Ни майора, ни капитана, а именно лейтенанта! Говорю ему: «Вот Калиновская, где мы сейчас, вот площадка в горах. Взлетаем, проходим привод, и ты включаешь секундомер и ДИСС (прибор, который измеряет путевую скорость. — Ред.). Проходим двадцать километров, разворачиваемся. Ты снова включаешь секундомер. И когда мы будем в этом районе, ты мне скажешь: командир, мы в районе». В то время никаких спутниковых навигаторов у нас и в помине не было.
Взлетели и сразу вошли в облака. Идём на высоте семьсот метров в облаках. Лейтенант мне говорит: «Командир, курс такой-то». И включает секундомер. То есть летели мы полностью вслепую — никаких радионавигационных средств, ни-че-го…
Через какое-то время он говорит: «Командир, мы в районе». Сердце сжалось — надо снижаться. А куда снижаться? Кругом сплошной туман… Гашу скорость с двухсот до семидесяти, ставлю крен двадцать градусов и жду, когда об землю стукнемся. Но так как скорость снижения всего метра полтора в секунду, поэтому утешаю себя тем, что если стукнемся, то хотя бы несильно. Барометрический высотомер показывает высоту пятьсот метров, а радиовысотомер — сто пятьдесят метров. Принимаю решение — снижаюсь до ста по радиовысотомеру, а потом буду уходить. Ну не убиваться же сознательно! И пусть меня потом хоть расстреливают…
Слово не сдержал — девяносто метров, восемьдесят метров, семьдесят… Думаю: ну всё, уходим. Выхожу из крена, и вдруг в кабине становится темно!.. А это означает, что я вышел из облаков, и земля рядом. И, не поверите, — прямо перед собой вижу четыре огня площадки приземления!.. А скорость у меня уже посадочная. И я между этими огнями — бац! И сел…
Штурман справа сидит в оцепенении. Я ему: «Мы куда прилетели?». Он говорит: «Не знаю…». Генерал Малафеев вышел из вертолёта: «А говорил: не сядем…». И пошёл по своим делам.
Если это не Божий промысел, то что это?!. Ну как можно было без радиотехнических средств ночью при сплошной облачности найти эту площадку в горах и сесть, не зацепив ни одну горку вокруг?..
Наступил январь 2000 года. Бои за Грозный шли жесточайшие. 9 января, где-то после обеда, мне подполковник Кулинич говорит: «Надо слетать в район Джалки, отвезти боеприпасы и забрать раненых». Задача понятная. Но я не знал, что в Джалке колонна спецназа МВД попала в засаду между двумя мостами, и именно сейчас она ведёт тяжёлый бой. Мне об этом тогда никто не сказал.
Погода плохая, туман. К тому времени у нас, к счастью, уже появился GPS (спутниковый навигационный приёмник для определения местоположения. — Ред.). По дороге мы нанесли ракетно-бомбовый удар в районе Мескен-Юрта. Подлетаем к Джалке, видим характерный ориентир — элеватор. На дороге бэтээры стоят, стрельба со всех сторон идёт, пули кругом летают… Причём сверху понять, — где свои, где чужие, — очень трудно. Саня, лётчик-штурман, кричит: «С элеватора такой шлейф пламени в нашу сторону пошёл!..». Это зенитная установка по нам отработала.
Докладываю Кулиничу: «Тут бой идёт… Куда садиться? Там наводчик-то хоть есть, чтобы спросить? А то сядем, а нам вертолёт сожгут». Он: «Что, правда, бой идёт? Тогда возвращайся».
Я вернулся в Калиновскую, отпустил экипаж, а сам пошёл в столовую. Мне сказали, что сегодня я уже никуда не полечу, а полечу завтра с утра. Сидим мы с начальником отдела боевой подготовки полковником Иксановым, ужинаем. Я в медицинских целях выпил три рюмки коньяка. Кстати, три — это на самом деле три, а не тридцать три. Я коньяк там в гомеопатических дозах принимал, чтобы хоть как-то напряжение снять.
Тут мне говорят: «Срочно звони на КП». Звоню Кулиничу: «Степаныч, в чём дело?». Он: «Володя, тут начальник Генерального штаба… Обстановка серьёзная. Надо в Джалку лететь, забирать раненых и убитых». А время уже часов восемь вечера, темно. Говорю: «Я же там днём был: ничего не было видно и ничего не понятно. И как ты себе представляешь, что я ночью там разберусь?».
Но делать нечего… Понятно, что лететь придётся. Взял экипаж, газик и поехал на аэродром. Своим парням сказал: «Идите в палатку, а я — на КП».
Говорю командирам: «Хорошо, мы летим». Выхожу с КП на улицу и глазам своим не верю: туман сел такой, что видимость максимум метров двадцать. Возвращаюсь к телефону: «У нас туман». Кулинич: «Так везде туман! В Моздоке, во Владикавказе…». Я: «И как я туда должен лететь?.. Не полечу».
Он говорит: «Сейчас доложу командованию». Возвращается: «Володя, надо лететь». Это он меня вроде как уговаривал. Я: «Не полечу. Это же просто убиваться. У меня дети…».
И не то, что я трушу. Просто нет условий. Нельзя лететь.
Я решил позвонить начальнику авиации группировки, генерал-майору Базарову. А там никто трубку не берёт… Звоню начальнику КП — тоже никто трубку не берёт. Наконец лейтенант поднимает: никого нету! Но я-то слышу, что они там есть! Слышу своими ушами, как они ему дают указание: скажи, пусть сам принимает решение. Кулиничу говорю: «Степаныч, ну ладно, я трус! Но ещё смельчаки есть?». Он молчит. (Потом он мне сознался: «Володя, все отказались. Но начальник Генерального штаба тогда сказал — делайте, что хотите, но давайте туда вертолёт. И всё тут…».)
Я вышел. Туманище… На душе такая жуть… Думаю: ну всё, пора с жизнью прощаться… Саня Минутка и Серёга Ромадов в палатке, как я им и сказал, сидят. Ждут… Я дверь в палатку открыл и говорю: «Саня, на вылет…». Повернулся, дверью хлопнул и молча пошёл. Иду и думаю: а они-то идут за мной или нет?.. Но они шли. Шли молча, не говоря ни слова.
Молча запустились, молча взлетели. А тут ещё в тумане обледенение бешеное… После того, как по расчётам прошли Терский хребет, я приступил к снижению с высоты тысяча двести метров. Из облаков вышли на высоте сорок метров. Скорость загасил до семидесяти, и Саня мне даёт удаление до площадки. Оказывается, к его чести, что, когда мы были здесь днём, он снял точные координаты этой точки.
Не видно вообще ничего. Чуть вверх — в облаках, чуть вниз — высоковольтки. Сигнализатор опасной высоты постоянно ревёт: «Опасная высота, опасная высота…». Штурман говорит: «Удаление шесть…». Вдруг вижу большой квадрат с огнями. «Саня, вон оно, наверное!». Он мне: «Николаич, да ты что? Это площадь в Аргуне! Там костры горят». Потом он предупреждает: «Вроде сейчас будет площадка, удаление километр». Я скорость ещё меньше сделал. Он: «Пятьсот метров!». И вдруг вижу какие-то огоньки.
Для себя я принял окончательное решение — буду садиться. Второго раза просто может не быть. А внизу бой идёт: зенитная установка в одну сторону работает, в другую… Всполохи кругом, мины взрываются… Сели.
Посадочные огни пехота зажгла в гильзах от снарядов, ветошь туда напихали. Только сели, вижу — огоньков уже нет, бойцы их быстренько потушили. Сане говорю: «Бери управление, я пойду разбираться». Оказалось, мы сели на дороге, а рядом — лес. От деревьев до края винта оставалось полтора-два метра.
Решил не идти по дороге, а сразу залез в придорожную канаву. По этой канаве и двинулся в ту сторону, где днём бэтээр стоял. Наткнулся на бэтээр. Около него какой-то мужик в каске сидит и куда-то стреляет. Я его ногой двинул: «Я лётчик, где раненые у вас?». Он: «Да отвали ты! Тут все раненые, не до тебя». Кто нас звал, зачем я сюда прилетел? Я к другому бэтээру — там тоже все стреляют. Во весь рост боюсь встать, пули летают. Вдруг из темноты начинают появляться носилки, раненые сами бредут. Убитых несут… Я говорю: «Там борттехник покажет, как грузить».
Возвращаюсь и спрашиваю у Сани: «Сколько загрузили?». — «Уже человек двадцать». Ну ладно, двадцать — это нормально. А их всё несут и несут… Уже двадцать пять. Говорю: «Больше не возьму».
Ещё вот что было плохо — у меня заправка полная. За сорок минут, пока летел, ну от силы литров пятьсот израсходовал. А у меня в баках — три пятьсот пятьдесят!
Тут ещё какие-то военные сами пришли и в вертолёт лезут. Гляжу: да они же вполне здоровые, с автоматами. Начинаю их отшивать. Они мне: мы контуженые, и всё тут!
Убитых принесли, человека четыре-пять. А в грузовой кабине и так уже люди штабелями под потолок. Мне их командир говорит: «Ну, куда я с убитыми? По рукам и ногам связали. За собой их, что ли, возить?». Говорю: «Ну, кидай, куда хочешь». Одного ко мне в кабину затащили, а остальных сверху на раненых бросили. Картина дичайшая, передать её словами просто невозможно… И в кабину я залезал, наступая даже на знаю, на кого и на что…
Сел на своё место, соображаю как бы взлететь… Трассеры летают совсем близко. Это уже на звук работающего двигателя ударили «духи». Вдребезги разлетелся радиокомпас — единственный прибор, который помогает лётчику выдерживать курс полёта при отсутствии видимости.
Как взлетать, куда взлетать?.. Смотрю: с одной стороны — лес, а с другой — вроде как поле. Про себя, как заклинание, повторяю: «Главное, не потянуть ручку на себя раньше времени… Главное, выдержать разгон скорости у земли… Выдержать глиссаду, не дрогнуть, не рвануть ручку…». Фару на секунду включил, начинаю отворачивать вправо с разгона. И тут Саня как заорёт: «Там провода!..». А мне куда деваться?.. Я — вертолёт в другую сторону!.. Деревья ширкают по корпусу, стрельба какая-то снова… Спасло нас только то, что выдержали разгон скорости и нижний край облачности — пятьдесят метров. Только взлетел — и сразу в облаках! Теперь другая проблема — куда лететь? Везде туман с видимостью менее пятидесяти метров.
Полетел я в Моздок, так как бывал там много раз. И тут началось обледенение. Слышим — лёд начинает с лопастей скатываться, по балке стучит. Я потом посчитал, что, учитывая работу противооблединительной системы и обогрев двигателей, взлётный вес у меня должен был быть не более одиннадцати тысяч восемьсот килограммов. А фактически он был четырнадцать двести.
Я — Сане: «Ты мне помогай, я не справляюсь один». А тут какой-то полковник в кабину залез и начал орать: «Я заместитель командующего, мне в Ханкалу надо!». Мне потом Саня сказал, что Серёга Ромадов ему популярно объяснил, кто на борту старший… Больше он нам не мешал.
Примерно через час подлетаем к Моздоку. А там туман с видимостью менее тридцати метров! А ведь минимум для вертолёта — вниз пятьдесят, вокруг пятьсот. Это при условии, что есть радиотехнические средства. А автоматический радиокомпас не работает, его пулями разбило. Как заходить на посадку? Повезло, что руководителем полётов в Моздоке был настоящий ас. И Саня со своим GPS здорово помог. Шваркнулись об полосу, но не сломались.
Руководитель: «Вы где?». Я: «Мы где-то сели, вроде бетонка подо мной». Он: «Сиди, не рули». Через некоторое время подъезжают четыре «санитарки», «пожарка». Они по всему аэродрому ездили, нас искали. Оказалось, что сел я прямо посредине аэродрома, как положено.
Тут как начали раненых в «санитарки» загружать — у них аж рессоры в обратные стороны выгнулись! Мы так точно и не знаем, сколько человек мы привезли. Я думал, что загрузили нам двадцать три раненых и четверых убитых. Но Саня, который считал их уже при выгрузке, насчитал больше тридцати.
Никуда мы, конечно, в этот день не полетели. В Моздоке как раз был экипаж МИ-26 из Торжка. Саня говорит: «Пойдём к Гречушкину!». Экипаж этот жил в оружейке. Они налили нам по полстакана спирта, а потом, помню, я лёг спать на каких-то трубах, куда подстелили доски.
Убитых мы возили часто, поэтому к этому страшному зрелищу все привыкли. Но в этот раз было настолько дико и жутко, что отпустило меня не сразу — дня четыре просто рвало периодически. А когда я посмотрел на себя в зеркало, то увидел, что борода у меня стала совершенно седой… Но закончилась эта война для меня только через три месяца. Впереди был и отказ двигателя ночью в облаках, и попадание под огонь своей же артиллерии, и расстрел нашего вертолёта из танка. И ещё более трёхсот боевых вылетов…
Принуждение Грузии к миру
Успех военной операции по принуждению Грузии к миру в августе 2008 года многие специалисты связывают с тем, что мы смогли найти и нейтрализовать Центр боевого управления грузинскими войсками, а противнику это сделать не удалось. Правда, есть мнение, что наш Центр не нашли потому, что его просто не было. Но, как бы то ни было, благодаря героической стойкости осетинских бойцов в первые дни нападения, а также мужеству и решительности российских солдат и офицеров в этой пятидневной войне мы всё-таки победили.
Я встречался со многими участниками трагических событий августа 2008 года. Это и осетинские ополченцы, и бойцы армейского спецназа, и псковские десантники… Из бесед с ними стало ясно: мы победили потому, что были правы. Правы, что всё-таки пришли на помощь таким, казалось бы, далёким от нас осетинским женщинам и детям, которых грузинские войска безжалостно и методично уничтожали из установок залпового огня. Правы ещё и потому, что не простили грузинам гибели своих товарищей — бойцов российского миротворческого батальона.
Конечно, были в этой пятидневной войне и политическая, и дипломатическая составляющие. Но решающую победу над противником одержали всё-таки не политики и дипломаты, а российские солдаты и офицеры. Поэтому наш рассказ о тех, кто наголову разгромил и обратил в позорное бегство в разы превосходящего по численности противника, которого к этой войне хорошо подготовили и вооружили наши так называемые западные «партнёры». О тех, кто, едва выйдя из ожесточённых боёв, уже поддерживали общественный порядок в брошенных властями грузинских городах и сёлах и доставляли туда продовольствие. О тех, кто помогал своим поверженным врагам хоронить тела их погибших. Честь и слава русскому солдату-победителю!
Цхинвал. Хроника уничтожения
Рассказывает Александр Янович Сланов, руководитель Регионального отделения общественной организации ветеранов Воздушно-десантных войск и войск специального назначения «Союз десантников» Республики Северная Осетия-Алания:
— 1 августа 2008 года во Владикавказ приехали сотрудники Министерства внутренних дел Южной Осетии — кадровики и представители ОМОНа. Они обратились в осетинское отделение Союза десантников России и к казакам с просьбой помочь укомплектовать ОМОН профессионалами: снайперами, специалистами по минно-подрывному делу, операторами бээмпэ и БМД (боевая машина десанта. — Ред.). Я их представителю полковнику говорю: «Завтра День Воздушно-десантных войск. Каждый год в этот день мы сначала поминаем наших погибших товарищей, а потом начинается уже сам праздник — день ВДВ. Приходите часам к десяти утра на Аллею Славы, где похоронены ребята, погибшие и в ингушских событиях в начале 90-х годов и в Чечне. Я вас представлю, и вы уже сами конкретно скажете, кто вам нужен и в каких количествах, сколько человек».
Утром 2 августа к десяти утра они не пришли. Мы их ждали-ждали. И было уже почти двенадцать часов дня. Я начал звонить в Южную Осетию — поздравлять наших десантников. А они мне говорят: «В ночь с первого на второе грузины — снайперы и минометчики — обстреляли Цхинвал, погибли шесть человек, больше десяти ранены. Так что нам не до праздника». Я понял, почему их представителей не было у нас. Ночью, когда им сообщили об обстреле, все они срочно выехали в Цхинвал.
Мы уже помянули погибших, за праздник выпили. Поэтому я ребятам об обстреле ничего говорить не стал — а все они уже были в самурайском настроении и в Цхинвал пошли бы пешком, не остановить. Я только своему активу сказал: «Завтра встречаемся, надо обсудить кое-какой вопрос».
Третьего августа я им рассказал, что произошло в ночь с первого на второе августа и что МВД Южной Осетии просит оказать помощь людьми. Мне ребята отвечают: «Ты, командир, поезжай на место и разберись сам: кто им нужен, сколько человек. Нам надо будет потом три-четыре дня: кому-то с работы уволиться, кому-то отпуск за свой счёт оформить, кому-то домашние дела завершить».
В ночь с четвёртого на пятое августа я и ещё пять ребят-десантников выехали в Цхинвал. Приехали мы в пять утра. Нас руководство республики прикомандировало к бойцам осетинского батальона, который стоял в Хетагурово. Это первый населённый пункт на пути от грузинских позиций к Цхинвалу. Он по форме напоминает подкову и окружён по периметру грузинскими селами.
Шестого августа были два сильнейших обстрела Хетагурово. Я послал смс-сообщение Председателю Союза десантников России генерал-полковнику Владиславу Алексеевичу Ачалову. Он мне сразу перезвонил. Как раз шёл бой. Я даже трубку телефона в сторону отвёл, чтобы он сам услышал, что у нас происходит.
Проблема на тот момент была в том, что против наших ручных гранатомётов и стрелкового оружия у грузин были миномёты, бээмпэ, то есть тяжёлое вооружение. Силы из-за этого у нас с ними оказались неравными.
Само село Хетагурово находится на высотке. А на другой высотке примерно в километре, если по прямой, грузины построили укрепрайон. Там они закопали в капониры БМП-2, сделали долговременные огневые точки. Там же находились у них миномёты и крупнокалиберные пулемёты.
Осетинские бойцы были рассредоточены на блок-постах, которые расположены между Хетагурово и грузинскими сёлами. Но огонь грузины главным образом вели по самому селу. Жителей в нём было очень много, потому что уходить-то им, по существу, было некуда. Я уже говорил про форму села в виде подковы. В Цхинвал можно было уйти только по Зарской дороге, участок которой хорошо простреливался со стороны грузинских сёл.
Цель у грузин была очевидная: нанести максимальные потери мирному населению, чтобы люди запаниковали и начали из села бежать. Дело в то, что Хетагурово было, как обычно военные говорят, танкоопасным направлением. Именно через Хетагурово грузины танки в Цхинвал потом и ввели. А обстрелы — это огневая подготовка перед танковой атакой. Только обычно в таких случаях огонь ведут по боевым позициям противника и его оборонительным сооружениям. А тут грузины ровняли с землей само село вместе с мирными жителями.
Мне Ачалов говорит: «Поезжай в Цхинвал к министру обороны Южной Осетии, расскажи о ситуации и объясни, чего не хватает для организации обороны. Я, со своей стороны, выйду на первого заместителя министра обороны России, который до этого командовал ВДВ, и расскажу о сложившейся обстановке».
Первый обстрел длился часа два с половиной. После разговора с Ачаловым я обратился к командиру осетинского батальона. Он выделил мне машину с водителем, и я поехал в Цхинвал к министру обороны, генерал-майору Луневу Василию Васильевичу, и рассказал ему о сложившейся ситуации. А он мне отвечает: «Я два месяца назад отправил заявку, куда следует, как раз на тяжёлое вооружение. Но пока тишина». Ещё я рассказал ему о разговоре с Ачаловым. А он мне: «Неудобно как-то через голову моего руководства действовать». А я сижу и про себя думаю: «У тебя, брат, война начинается, а ты всё о субординации думаешь». Но вслух я ничего не сказал — он всё-таки генерал, я не могу с ним так разговаривать.
В этот день как раз во время совещания силовиков Южной Осетии в Цхинвале, на котором я присутствовал, был второй сильный обстрел Хетагурово. Поэтому в ночь на седьмое августа Минобороны Южной Осетии направило в Хетагурово три танка Т-55 и две бээмпэ. К слову сказать, все бронетанковые силы Южной Осетии на тот момент состояли из пяти танков Т-55 образца 1955 года. И вот эти три танка начали артиллерийскую дуэль с грузинским укрепрайоном на высотке, откуда те вели массированный огонь по Хетагурово.
Танкист Владимир В.:
— В Хетагурово мы прибыли утром 7 августа. Нам была поставлена задача уничтожить грузинский укрепрайон, который находился на высотке недалеко от Хетагурово. В 2004 году грузины эту высотку у нас отбили. И за последующие четыре года этот укрепрайон «выпил всю кровь» у тех, кто находился в Хетагурово: оттуда постоянно шли обстрелы и самого села, и позиций наших бойцов вокруг него.
Позиции грузинские мы обнаружили заранее и знали, что на высотке у грузин стоит танк, бээмпэ и «фаготы» (противотанковые ракетные комплексы. — Ред.). Решили мы применить против грузин так называемую «тактику подскока». Это довольно рискованное предприятие, но оно дало свои результаты. Суть вот в чём: из укрытия на открытое место выезжает наша бээмпэ, открывает огонь по грузинским позициям и как можно быстрее отходит назад. Грузины, естественно, отвечают: бьют по тому месту, откуда стреляла бээмпэ. Но её уже там нет, она отошла. И в этот момент мы засекаем их огневые точки. Дальше на прямую наводку выходит наш танк, производит несколько выстрелов и тоже отходит назад.
Бой получился скоротечный, длился не больше часа. Выходить на стрельбу прямой наводкой нам пришлось трижды. В танке у меня был полный боекомплект — сорок один снаряд. Огонь мы вели достаточно интенсивно, и я выпустил все снаряды, кроме пятнадцати бронебойных. Ими стрелять в этой ситуации было бесполезно: ведь это просто железные болванки.
По результатам можно сказать, что отстрелялись мы успешно, практически каждый выстрел нашёл свою цель. Грузинские танк, бээмпэ и почти все те, кто находился на высотке, были уничтожены. Уже после войны я поднимался на эту высоту, а потом разговаривал с жителями окрестных сёл. Они рассказали, что после этого боя здесь осталось лежать около сорока грузин.
Да, вот ещё что интересно. Тогда, именно седьмого августа, в Хетагурово работали телевизионщики с одного из российских каналов. Начался бой, а они снимают телекамерами, и при этом ещё задачи нам ставят: башню туда поверните, сюда поверните… Мне пришлось вылезти из танка и отправить их куда подальше. И как раз в этот момент совсем рядом с телевизионщиками разрывается снаряд. Место там болотистое, поэтому корреспондента с головы до ног окатило грязью… Мы подумали, что ему, точно, конец пришёл, ведь разрыв был совсем близко. Подбегаем — а он грязный весь, глазами моргает. Но — ни единой царапины!..
Когда бой закончился, у нас почти полностью пропала связь: грузины стали её глушить. Причём временами связь снова появлялась. Но, как потом выяснилось, как раз в этот самый момент грузины наши переговоры записывали.
Снаряды у нас закончились, заправить танки было негде, поэтому из Хетагурово нам пришлось отойти к Цхинвалу. А в четыре часа утра восьмого августа в Хетагурово вошли уже грузинские войска. Наши же танки в тот же день перебросили ещё дальше, в Джаву. Ведь российские войска, которые уже начали подходить к Цхинвалу, в горячке боя вполне могли перепутать осетинские танки с грузинскими.
Александр Янович Сланов:
— Укрепрайон на высотке удалось уничтожить. Но тут же грузины начали стрелять по Хетагурово из 152-миллиметровых САУ (самоходная артиллерийская установка. — Ред.). Эти установки были в соседних грузинских селах на расстоянии не более пяти километров. Часа два с половиной или три многострадальное Хетагурово грузины из этих «саушек» утюжили.
Наши танки Т-55 очень старые. И моторесурс у них был почти полностью выработан, и боеприпасы к ним тоже были старые. Да и вообще снарядов после интенсивного боя у наших практически на осталось. Потому полноценно продолжать артиллерийскую дуэль с грузинскими САУ наши танкисты уже не могли.
В Цхинвале во второй половине дня седьмого августа стало известно, что Саакашвили выступил по телевизору и объявил перемирие. Отношение у нас к его выступлению было двоякое. Вроде бы он и официально объявил о перемирии, вообще-то это же серьёзное заявление, так, по крайней мере, должно быть. Потому надежда на мир у нас всё-таки была.
Я выехал из Хетагурово на встречу с министром внутренних дел, чтобы всё-таки обсудить тот вопрос, ради которого я вообще оказался здесь — комплектование ОМОНа. Меня забрал оттуда мой друг, который специально приехал в Хетагурово за мной. Министр сказал, что он едет на переговоры с грузинами. Потом говорит: «Завтра подходи часам к десяти, мы с тобой ещё переговорим». Тогда уже были проблемы с бензином. Друг мне предложил: «Давай ты у меня переночуешь, чтобы машину туда-сюда не гонять. А завтра после разговора с министром я тебя отвезу в Хетагурово».
В половине двенадцатого ночи седьмого августа в Цхинвал прилетели первые мины и снаряды, потом начали работать «грады». Многие люди в городе в это время уже спали. Кто-то ещё телевизор смотрел, кто-то припозднился с ужином. И тут начинается массированный артиллерийский огонь по спящему, по существу, городу. Работали очень методично и организованно. «Грады» залп произведут, начинают перезаряжать — в это время бьют 152-миллиметровые САУ и 120-миллиметровые миномёты. Всё было у них продумано.
Но в Цхинвал танкам войти можно было практически только через Хетагурово. Нашим бойцам, которые в основном были разбросаны по блок-постам, дали приказ отходить в сторону Джавы по Зарской дороге. Уж больно силы были неравные. Ручные гранатомёты, которые были у наших, бьют всего на шестьсот пятьдесят метров. А у танка дальность прямого выстрела — почти два километра. Поэтому грузины, танки которых вошли в Хетагурово в четыре часа утра, село, можно сказать, гусеницами просто раскатали, как хотели…
Утром восьмого августа над Цхинвалом появились «грачи» (СУ-25, фронтовой бомбардировщик. — Ред.). Пролетали они очень низко, было видно, что они камуфлированные. Народ подумал, что это «грачи» российские, люди выбежали на улицы — машут руками, приветствуют их. А грузинские самолёты в это время развернулись и ударили по мирному населению ракетами.
К двум часам дня грузины заняли больше половины Цхинвала. Сопротивление было по всему городу. Кто-то из наших бойцов успел отойти, а кто-то остался в тылу у грузин. Их артиллерия по мере продвижения по городу танков и пехоты переносила огонь на те районы, которые ещё не были захвачены, чтобы по своим не ударить. Сам я в это время был в районе Текстильщики. По нему огонь «градов» практически не прекращался. Минуты на три интенсивность спадала, хотя в это время всё равно прилетали снаряды от САУ и мины, а потом опять начинали работать «грады».
Могу точно сказать, что жители Цхинвала держались очень сплочённо. Помогали друг другу, прятали у себя в подвалах тех, у кого подвалов не было. Паники тоже особой не было. Но было абсолютное понимание: надежда — только на Россию. Все ждали: ну когда же наконец появятся российские войска?..
В районе трёх часов дня восьмого августа на наших полевых командиров вышли по радио российские военные. Наших стали запрашивать по их позывным: «Вы где, выходите на позиции». Те отвечают: «Хорошо. А помощь будет?». Отвечают: «Да, помощь будет». Но, насколько я знаю, российские войска к тому моменту на территорию Южной Осетии ещё не вошли.
Наши бойцы из Министерства обороны Южной Осетии, МВД, КГБ, ополченцы перегруппировались и атаковали грузин. В городе, имея ручные гранатомёты, воевать с танками, бээмпэ и бэтээрами уже можно. Вспомните, сколько наших танков было подбито в своё время при штурме Грозного. Сколько точно было подбито единиц грузинской бронетехники, я не знаю, но звучала цифра: около двадцати пяти. На улицах осталось много убитых грузин. Когда их атаковали, они начали забегать в дома, прятаться…
Я находился рядом с радиостанцией, которая работала на волне, где переговоры между собой вели наши полевые командиры. Они запрашивали друг у друга обстановку в зоне ответственности, координировали действия. И по их переговорам стало понятно, что к восьми часам вечера Цхинвал был практически очищен. Около девяти часов были подбиты две бээмпэ и ещё две бээмпэ захвачены. К тому же времени были зачищены и сёла под Цхинвалом.
Всю ночь с восьмого на девятое продолжался артобстрел. По городу опять били десятки «градов», САУ и миномёты. Утром девятого августа их штурмовики снова бомбили город. Утром девятого августа, ближе к обеду, в эфир вышел Анатолий Константинович Баранкевич. Раньше он был министром обороны Южной Осетии, потом стал секретарём Совета безопасности. Сам он восьмого августа днём тоже находился в Цхинвале, лично подбил танк. Он запросил по позывным полевых командиров. Те доложили ему обстановку. Переговоры велись, естественно, условными кодами. На Баранкевича, в свою очередь, вышел представитель российских войск, позывной у него был «Стрелок» (позывной изменён. — Ред.).
Наши командиры доложили Баранкевичу, что они наблюдают большое скопление грузинской пехоты и около ста пятидесяти единиц бронетехники. Они назвали координаты. Баранкевич эти координаты передал «Стрелку» и говорит: «Ребята, накройте их, пока они находятся в районе ожидания или сосредоточения». Ему ответили: «Мы вас поняли, сейчас артиллерией накроем». Прошло часа полтора-два, но огонь российские войска по скоплению живой силы и техники грузин так и не открыли…
Сам я находился всё в том же районе Текстильщики. Постоянно был наверху, но где-то к обеду спустился в подвал, где находилась радиостанция, чтобы послушать последние новости. Женщины плачут. Спрашиваю: «Что случилось?». Отвечают: «Командиры по радио сообщают, что гранатомётные выстрелы почти закончились. Со стороны района, который в народе называют Шанхаем, в город снова начали входить грузинские войска».
Сопротивление грузинам всё равно было, наши ребята упирались до последнего. Но уже сказывались проблемы с боеприпасами, особенно с гранатомётными выстрелами. Без этого как с танками бороться? Я слышал, как полевые командиры друг друга опрашивали, что у кого осталось, и совещались, как дальше оборону держать. И вот ситуация дошла до того, что грузины уже начали зачистки в тех районах, через которые они вошли в Цхинвал. Насколько я знаю, вошло в тот день двенадцать тысяч грузинских пехотинцев и около ста пятидесяти единиц бронетехники. Российских войск в Цхинвале на этот момент всё ещё не было.
Тогда, в этой критической ситуации, было принято такое решение: пока есть возможность, прорываться и вывезти женщин, которые находились в подвалах, в Джаву. Есть две Зарские дороги: одна старая, другая новая, объездная. Мы с женщинами выехали на старую Зарскую дорогу, я на ней оказался первый раз в жизни.
Когда мы поднялись на гору, то открылся вид на Цхинвал. Он напоминал Сталинград. На дороге стояли несколько российских бээмпэ, но в город они не входили… Дальше по дороге встретились грузинские сёла. Там нас обстреляла грузинская БМП-2. Я её не сразу заметил, она была камуфлирована. Наши-то бээмпэ все покрашены в цвет хаки. Дай Бог здоровья этому грузину — оператору бээмпэ — за то, что он в нас не попал. Мы на белой старенькой газели еле-еле ползли в гору. Он дал очередь на четыре выстрела, и они легли прямо рядом с газелью. Стрелял он снизу вверх, но расстояние по прямой всего-то было метров триста-четыреста, значит, разнести нас он мог просто вдребезги. Я не знаю: то ли он не захотел в нас попасть, то ли прицел как-то не так взял.
Мы перескочили через гору и начали спускаться вниз. Тут нас обстреляли уже из ПК (пулемёт Калашникова. — Ред.). Хорошо, что мы ушли под склон, а они, похоже, только в последний момент нас заметили. Дали длинную очередь трассерами, но по нам, слава Богу, тоже не попали.
Дальше мы подъехали к какому-то селу, где уже стояли российские танки с активной бронёй, с гвардейскими значками на люках. Мы видели, как раненых российских солдат грузили в «уралы». Потом со старой Зарской дороги мы выскочили на новую. И там уже стояли наши «саушки», через равные промежутки — «тунгуски» (зенитный ракетно-пушечный комплекс для борьбы с воздушными целями. — Ред.). А когда мы по серпантину спустились к Джаве, то увидели, что навстречу нам колоннами идут российские танки, бронетехника… И в этот момент мы почувствовали, что победа будет за нами.
Самым страшным во всём этом кошмаре было сомнение, что российским руководством вообще будет принято решение о вводе войск. Когда я спустился в подвал, то женщины плакали из-за того, что уже больше половины города грузины взяли. Начались зачистки, появилась информация об уничтожении мирного населения. И женщины с плачем спрашивали: «А где же Россия, неужели она нас бросила?». Но Россия их, слава Богу, в беде не бросила.
Бросок на гори
Рассказывает Герой России полковник Андрей Леонидович Красов:
— В начале августа я находился в служебной командировке в городе Пушкине под Петербургом. Наша 76-я десантно-штурмовая дивизия (она находится во Пскове. — Ред.) должна была участвовать в тактических учениях «Ладога–2008», и мы проводили рекогносцировку возможной площадки приземления на полигоне «Каменка». В два часа ночи 8 августа 2008 года мне позвонил оперативный дежурный нашей дивизии и сказал, что сегодня же в четыре утра я должен быть у командира дивизии. Спрашиваю: «А что случилось?». Отвечает: «А смотрите по телевизору новости». Я включил телевизор — показывали горящий Цхинвал. Стало ясно: началась война…
Срочно закончив свои дела, только вечером 8 августа я смог вернуться в дивизию. К тому времени первая батальонно-тактическая группа десантников уже вылетела в Северную Осетию. После проведения строевого смотра наша группа осуществила погрузку в самолёты и вслед за ними вылетела в Беслан.
Аэродром Беслана — гражданский. Он не приспособлен для приёма большого количества военных самолётов. Эту проблему пришлось решать так: сначала нужно посадить первые пять самолётов, в быстром темпе выгрузить и отправить. Только после этого появляется возможность посадить следующие.
Там на месте, когда мы прилетели, заместитель командующего ВДВ генерал-майор Вячеслав Николаевич Борисов сообщил, что осетинские части и ополченцы ведут ожесточённые бои с грузинами и уже погибло несколько десятков российских миротворцев. Эта страшная новость, конечно, повлияла на настроение бойцов. Все как-то подобрались внутренне — стало ясно, что будем сражаться до конца. Я не могу сказать, что люди были одержимы чувством мести. Просто всем стало очевидно, что справедливое возмездие за погибших товарищей и убитых мирных жителей должно наступить обязательно.
Здесь же на аэродроме генерал-майор В.Н. Борисов уточнил нам задачу. И в ночь мы совершили марш по маршруту Беслан — Алагир — Рокский туннель. Не будет преувеличением сказать, что тогда наши механики-водители совершили коллективный подвиг. Представьте: ночь, горная дорога, ограниченная видимость, огромное скопление техники, встречное движение машин с беженцами… Личный состав, который, исходя из чеченского опыта, передвигался сверху на броне, а не внутри машин, имел ещё возможность хоть как-то глаза сомкнуть, а механики-водители, те не могли отвлечься ни на секунду, ведь на некоторых участках, прямо у обочины дороги, начиналась уже пропасть, на дне которой, на глубине четырёхсот метров, бурлила горная река. Одно неверное движение — и машина вместе с десантниками улетит вниз…
В голове пронеслась мысль: как хорошо, что в июле 2008 года в Северной Осетии были проведены дивизионные командно-штабные учения. Они закончились буквально за неделю до начала войны. Тогда мы тщательно изучили все дороги, ведущие к Рокскому тоннелю. На территорию Южной Осетии, конечно, мы тогда не переходили, но именно там наши механики-водители получили очень нужную практику передвижения в условиях горной местности. Думаю, поэтому во время этого ночного марша не было ни одной поломки и ни одной задержки.
Тоннель, протяжённость которого три километра восемьсот метров, был нами преодолён часов в десять утра, и к вечеру мы сосредоточились в Джаве. На следующий день утром совершили марш к юго-восточной окраине Цхинвала — это километров тридцать-сорок. К тому времени в самом Цхинвале грузинских войск практически не было. Лишь отдельные группы находились на окраинах, в основном на господствующих высотах. Оттуда они продолжали обстреливать город.
Около двенадцати часов дня нам поставили задачу: выдвинуться в южном направлении и блокировать населённый пункт. Только начали движение — один налёт грузинской авиации, второй, третий… Была подбита одна наша БМД-2 (боевая машина десанта. — Ред.). Но в этот раз, к счастью, обошлось без потерь. Тут же старший лейтенант Тарасовский из ПЗРК (переносной зенитно-ракетный комплекс. — Ред.) попал в левый двигатель грузинского самолёта и сбил его.
Местность для нас была крайне опасная: лесопосадки примыкают прямо к дороге. И вот почти весь день из этой «зелёнки» нас обстреливали из стрелкового оружия, из гранатомётов… Тогда-то у нас и появился первый раненый. Хорошо, что ранили его легко, в плечо. Но когда мы пытались обойти село Мевгрекиси, часть нашей колонны была обстреляна из ближайших домов, и грузинский снайпер выстрелом в голову убил старшего лейтенанта Пуцыкина. Посмертно ему было присвоено звание Героя России.
Вообще-то мы старались населённые пункты обходить, ведь из любого дома, из любого окна нас могли обстрелять. Но грузинской деревни Мевгрекиси нам было никак не обойти. Там и был сделан смертельный выстрел снайпера…
Отвечали на огонь мы из всех видов оружия. Точных разведданных о местах скопления противника не было, потому свою артиллерию мы использовали для стрельбы прямой и полупрямой наводкой по принципу: «вижу — стреляю».
Дальше мы двинулись уже на Гори. Тут нас опять атаковали два грузинских штурмовика. Мы открыли по ним огонь из зенитных установок. Поэтому один из самолётов сбросил бомбу далеко, километрах в трёх от нас. Но второй штурмовик всё-таки сумел обработать колонну кассетными снарядами.
В самые первые часы боёв бойцы были немного заторможенными. Но это у них быстро прошло. И уже на второй день войны солдаты всё делали как надо: быстро спешивались и отбегали от машин. Последними выбирались механики-водители и наводчики-операторы — им-то было труднее всего. Трое из них были тяжело ранены, а один наводчик — очень серьёзно: ему пробило грудную клетку. Но раненых мы сумели своевременно эвакуировать, и они, слава Богу, остались живы.
Хочу рассказать об одном эпизоде. Наш механик-водитель (точно помню, что звали его Иван) тогда же попытался вывести свою машину из-под удара авиации. А перед этим осколок одного снаряда попал в воронку на дороге и срикошетил в его машину, пробив масляный радиатор. Пока Иван машину выводил, масло всё вытекло и двигатель заклинило. И что вы думаете? Ночью при помощи «летучки» (машина технической помощи. — Ред.) механики сняли двигатель с трофейной бээмпэ и поставили на место заклинившегося. Так что к утру машина была как новенькая.
В зоне своей ответственности мы двумя тактическими группами общей численностью порядка семисот человек сумели полностью дезорганизовать оборону противника, выполнив тем самым те боевые задачи, которые перед нами стояли. Сколько грузин нам противостояли, в тот момент мы не задумывались. Знаю точно лишь то, что численность только той бригады первой пехотной дивизии, базу которой мы захватили в Гори, была более четырёх тысяч человек. Причём это были достаточно опытные солдаты. Мы потом нашли их штабную книгу. Из неё стало понятно, что почти все военнослужащие заключили контракты в 2004 и 2006 годах. Я насчитал всего десяток человек, которые приняли присягу 8 января 2009 года. Причём один из батальонов этой бригады находился в Ираке, и его бойцов на американских военных самолётах срочно вернули в Грузию. Но этот батальон на своём пути мы так и не встретили, затерялся он где-то…
Конечно, любая потеря — это страшная беда. В двух наших группах двое погибли (офицер — от пули снайпера, а старший сержант скончался в госпитале от потери крови), и двенадцать человек были ранены. Но, учитывая те задачи, которые мы выполнили, и те условия, в которых мы действовали, эти потери можно считать минимальными.
До захвата базы рассуждать, кто трус, а кто герой, было просто некогда. Мы с боем пробивались в заданном направлении и думали только о том, как выполнить задачу и при этом сберечь своих людей. Но когда базу мы уже захватили, всё предстало в истинном свете: грузины просто струсили и совершили массовый забег по маршруту Цхинвал — Гори — Тбилиси. Так что, увы, деньги, которые вложила Америка в грузинскую армию, пропали зря.
Много можно было понять, увидев, в каком состоянии грузины оставили своё оружие и имущество на захваченной нами военной базе в Гори. Заходишь в казарму — вещи разбросаны… Стоят закрытые на замок пирамиды с оружием и боеприпасы. Всё брошено… Всего в окрестностях Гори мы захватили пятьдесят три (!) танка Т-72. Причем, судя по формулярам, танки новые, выпуска 2002–2004 годов. Их для Грузии поставила Украина в 2007 году. Там же мы взяли двадцать шесть БМП-2 и шестнадцать новейших бээмпэ «Кливер». Практически в смазке. И ко всему этому ещё около ста тонн боеприпасов.
Одна наша рота вообще дошла до города Каспи и выставила пост на расстоянии сорока километров от Тбилиси. И когда мы, глядя на карту, оценили, какое расстояние мы преодолели, и вспомнили, как нам грузины «сопротивлялись», то окончательно стало понятно: ну не вояки они. Было у них из чего стрелять, было чем стрелять… А они просто разбежались от страха. Получилось, что мы оказались сильнее.
Численность и техника были на их стороне. Но… не материальное здесь главное. Сколько денег американцы вбухали в их оружие и снаряжение! А боевого духа у грузинских солдат не было никакого. Вроде бы информационно их и готовили как-то к этой войне. Но я думаю, что после того, как они убили наших миротворцев и мирных осетинских жителей, они всё-таки на подкорке почувствовали, что возмездие неотвратимо. Плюс ко всему до них дошла информация, что в их сторону идут десантники 76-й десантно-штурмовой дивизии вместе с чеченскими бойцами армейского спецназа из батальонов «Запад» и «Восток» и якобы всех грузин поголовно вырезают на своём пути. И этого оказалось достаточно, чтобы тысячи грузинских солдат просто разбежались…
Тогда же в Гори на «уазике» в сопровождении двух БМД-2 приехал командир нашей дивизии генерал-майор Александр Николаевич Колпаченко. Остановился на площади у железнодорожного вокзала, там как раз в это время стояла электричка на Тбилиси. Электричка тут же очень быстро отправилась. Грузины впервые увидели российскую боевую технику, солдат… Народ начал на нас косить взглядом. Командир спрашивает: «Так, по-русски кто-нибудь понимает?». Один грузин отвечает: «Я понимаю». И в это время у него мобильный зазвонил. Командир спросил, кто звонит, грузин ответил, что это его сын из Тбилиси. Комдив взял у грузина телефон: «Дай-ка я с ним поговорю. Алло. Тебя как зовут? Мамука? Передай Саакашвили или кому-нибудь из полиции, что завтра в обед или, если не успеем, то к вечеру, точно, 76-я дивизия будет в Тбилиси».
И вечером того же дня в Гори прибыл Председатель совета безопасности Грузии господин Ломая для ведения переговоров. Мерзкий тип. Первые дней пять он весь от страха трясся, а потом, увидев, что ему лично ничего не угрожает, начал хвост поднимать: «А что такое, а что такое?..». Как раз тогда генерал-майор В.Н. Борисов и представители грузинской стороны обсуждали, как обменять пленных. Наших было пятеро, грузин — четырнадцать. Из наших в плен попали несколько солдат из пехоты и лётчики со сбитых самолётов. Ещё у грузин находились и тела наших погибших лётчиков. И этот Ломая всё время какие-то палки в колёса ставил: оттягивал сроки, пытался ставить дополнительные условия. Но генералы Борисов и Колпаченко быстро этого наглеца на место поставили…
Надо сказать, что простые жители Гори оказались в катастрофическом положении. Муки нет, хлеба соответственно тоже нет. Первой «сделала ноги» полиция, а вслед за ней — администрация города. Командир нашей дивизии зашёл в здание администрации, сел в кресло губернатора и говорит: «Ну и где эти власти?». И тут же на стене написал: «Губернатор, вернись к своему народу, трус!». Кстати, когда мы захватили базу, то на стене казармы тоже на память им оставили надпись: «76-я ДШД. Первая пехотная бригада, где вы?» (ДШД. Десантно-штурмовая дивизия. — Ред.).
На базе в Гори мы были долго — с двенадцатого по двадцатое августа. Во время разведпоисковых действий нашли брошенную военную технику, оружие и боеприпасы. Их охраняли военные грузины в гражданской форме. Никакого сопротивления они нам не оказали.
Довелось посмотреть глаза в глаза тем грузинам, которых мы взяли в плен. Испуг, шок… Смотрю в документы: год рождения семьдесят первый. Начинаю в уме считать: Советский Союз развалился в девяносто первом году, так что он по-русски должен уметь говорить. Задаю вопрос — непонимание в глазах, за сердце начинает хвататься… Поэтому мы их просто передали представителям ФСБ в Цхинвал. Те уже их дальше сами допрашивали.
После прекращения боевых действий мы сопровождали миротворцев и колонны с гуманитарными грузами к грузинским деревням. К простым людям мы относились с сочувствием. Именно они больше всех и пострадали от этой авантюры. Разрушены дома, нет продовольствия… Нам их было жаль. Они не были настроены к нам враждебно, хотя по их лицам читалось, каково у них на душе…
Могу сказать, что переход от прямых боевых действий к патрулированию и сопровождению колонн произошёл очень быстро. Одиннадцатого августа мы насмерть бились с грузинами лицом к лицу, а уже четырнадцатого августа оказывали помощь в эвакуации тел их погибших. Дальше всё происходило согласно нашей поговорке: «Лежачего не бьют».
Мы охраняли миссию священников Грузинской Православной Церкви, которые вывозили тела грузинских солдат и офицеров. Со дня их гибели прошло уже пять или шесть суток, тела от жары были уже сильно обезображены.
Эта вынужденная и внезапная война заставила меня о многом задуматься. Упорство и бесстрашие в бою, и наряду с этим незлопамятность и милосердие к поверженному врагу — это в характере русского воинства. Я абсолютно уверен, что нет лучше в мире солдата, чем наш: и по исполнительности, и по подготовке. Если вспомнить наши народные сказки, то в них всегда русские богатыри вставали на защиту слабых — тех, кто по тем или иным причинам сам не мог оказать сопротивление злому врагу. Так и здесь получилось. Ведь ясно, что в августе 2008 года немногочисленный народ Южной Осетии не мог адекватно ответить до зубов вооружённой и обученной американцами грузинской армии в несколько десятков тысяч человек!.. Да и наши миротворцы были вооружены только стрелковым оружием, а техника находилась не на постах, а вблизи пунктов постоянной дислокации.
Святой благоверный князь Александр Невский говорил: «Не в силе Бог, а в правде». Иными словами — неправый человек силу теряет, а правый её приобретает, и сила его удваивается. А наш 234-й десантно-штурмовой полк 76-й дивизии как раз и носит почётное имя Александра Невского. Так что победили мы грузин потому, что не потеряли духа наших былинных героев, он у нас в крови.
Напряжение держалось до самого последнего момента. Ведь даже когда завершились реальные боевые действия, то всё равно продолжалось передвижение техники по горным дорогам. Потом была погрузка этой техники в железнодорожные составы. Так что война для нас закончилась только уже во Пскове, когда мы автоматы в оружейную комнату поставили и сдали боеприпасы. Тогда уже можно было и милых обнять, и детей поцеловать…
Разведчики
Рассказывают солдаты и офицеры армейского спецназа Николай Н., Александр А., лейтенант Н. и майор Д.
Александр А.:
— Ещё в июле 2008 года было очевидно, что нас к чему-то готовят: мы очень много времени стали проводить в лесу на учебных выходах — неделя в части, неделя на полигоне, неделя на выходе.
Все же смотрели новости. И по всему было видно, что в Грузии что-то такое начинается. А потом приехал генерал и сказал на смотре: «Поздравляю с началом учений! Главное — вернитесь живые и здоровые!». Самое смешное, что каждому из нас дали подписать бумагу примерно такого содержания: «Я добровольно согласен ехать на учения на неопределённый срок». Ясно было, что никакие это не учения. А открыто о том, что едем на войну, нам сообщили только в поезде. Может быть, боялись, что мы сбежим перед отправкой?..
Но отказников практически не было. Был у нас один дембель, который со дня на день должен был увольняться. Тот написал рапорт и официально не поехал. Правда, нашлись и два таких товарища, что всем говорили: «Мы поедем, мы поедем…». А сами просто не явились в день отправки на службу. Но зато были и, наоборот, такие, что приехали в часть из отпусков. Их не берут, а они: нет, мы поедем со своими… И всё-таки добились своего — их взяли.
Ехали долго, четверо суток. Настроение у народа было боевое, хотя среди бойцов почти не было тех, кто воевал в Чечне. Офицеры, те — да, многие воевали. Взять нашего командира роты: у него за плечами три или четыре командировки в Чечню. А вот командиром группы у нас был совсем молодой лейтенант — только что из училища. Зато заместитель его, прапорщик, был боевой: Чечню прошёл. Конечно, это сказалось на нашей работе. Прапорщик уже по приезде часто говорил, глядя на карту: «Давайте лучше здесь пойдём, дальше здесь…». Причём он спокойно выполнял наши нормативы на физподготовке, хотя ему уже под сорок (это четвёртая возрастная группа).
Николай Н.:
— Несколько дней мы стояли лагерем в горах в Северной Осетии, на высоте 2 180 метров. В Джаве (база российских Вооружённых сил в Южной Осетии. — Ред.) мы оказались 16 августа. И в первый же день вечером упала вертушка — почти прямо на нас.
Мы только-только сели ужинать в палатке. Слышим, пролетает вертушка. И летит, судя по звуку, как-то слишком низенько. Упала она метрах в пятидесяти за бугорком. Мы что было под рукой похватали и побежали оттуда подальше. А потом, уже в госпитале, я встретился с бойцом, оставшимся в живых в этой катастрофе, который мне и рассказал эту историю.
Дело было так. Смеркалось. «Двадцать четвёртая» (МИ-24, транспортно-боевой вертолёт. — Ред.) садилась без фонарей, по приборам. А тут ещё пыль от винтов поднялась, вообще ничего не было видно. «Двадцатьчетвёрка» винтом зацепила «восьмёрку» (МИ-8, транспортно-боевой вертолёт. — Ред.), накренилась и грохнулась сверху. Подойти к горящим вертушкам было практически невозможно: начал рваться боезапас — сначала в одной, потом — в другой. В восьмёрке было трое разведчиков. Группа к чему-то готовилась. В «двадцатьчетвёрке» — два пилота. Изо всех в живых остался только один разведчик из «восьмёрки».
Сам он точно не помнит: то ли его выбросило, то ли сам он как-то выполз из горящего вертолёта. Запомнил только, как его уже снаружи подбирали. У него всё на месте, только ожоги страшные, и потом он ещё долго в специальном белье ходил. Правда, сейчас только перчатки специальные приходится носить, ведь больше всего обгорели у него руки.
Александр А.:
— На первый выход мы пошли недели через полторы после того, как прибыли в Джаву. Прошла информация от местных жителей, что в горах они видели кого-то с оружием. Причём говорили, что это были чуть ли не негры. Мы днём-то ходим, ищем, а ночью — сидим в засаде. Однако никаких негров мы не обнаружили. Зато позже на высокой скалистой горе наткнулись на небольшую базу грузинского спецназа. И что интересно, там было очень много продуктов украинского производства. Это и шоколад, и тушёнка… Плюс американские сухпайки в зелёном пластике. И если с сухпайком всё понятно, то я думаю, что грузины вряд ли бы с украинскими продуктами на выход пошли.
Николай Н.:
— На этом первом выходе я был командиром тылового дозора. В дозоре нас трое, я постоянно, как и положено, оглядываюсь назад. Отходим от небольшой речушки, воду уже набрали. Группа поднимается по очень крутому склону, ребята с трудом ползут вверх, цепляются за всё подряд… А мы втроём в это время сидим внизу и смотрим назад. Потом мы вслед за своими на половину склона поднимаемся, снова встали и опять смотрим назад. Вдруг вижу — что-то в кустах метрах в тридцати от меня мельтешит чёрненькое. Я знак подал: все сели. Ствол вскидываю, снимаю с предохранителя… Думаю: «Если появится человек с оружием — завалю». И я бы точно выстрелил. Но тут из зарослей появляется корова!..
Так что настроение у нас было такое: «Воевать так воевать». И если бы мы столкнулись с грузинским спецназом, то точно был бы бой.
Александр А.:
— Перед командировкой каждого бойца экипировали на сто двадцать тысяч рублей по программе создания нового облика Вооружённых сил. Так что нам самим ничего покупать не пришлось, как это бывало раньше. Обувь новая: две пары берцов (высокие армейские ботинки с защитой голеностопного сустава и нижней части голени. — Ред.). Правда, ботинки были отечественного производства, хотя вроде бы с системой «Гортекс» (GoreTex, дышащий материал, отличающийся высокой водонепроницаемостью с эффектом односторонней мембраны — влагу пропускает только изнутри наружу. — Ред.). Одни ботинки летние, другие — зимние со смешным названием «Фарадей».
Оказалось, что в летних ходить очень удобно, ноги не стираешь. Но в них стоять очень неудобно. Даже на обычном строевом смотре стоять трудно — ноги болеть начинают. К тому же они словно резиновые сапоги — в них жарко. Почему так, разобрались не сразу, а только уже перенеся все эти «ботиночные пытки». Оказалось, что «Гортекс» нельзя чистить обувным кремом, так как крем закрывает поры на поверхности ботинок. Тем самым нарушаются дышащие свойства мембраны. А нам же вменялось в обязанность чистить обувь до блеска! И никто не удосужился довести до нас то, что было написано в инструкции. Одним словом, получилось по Черномырдину: хотели как лучше, а получилось как всегда…
Правда, «Фарадей» оказался ещё хуже. Зимой, когда уже выпал снег, я стоял как-то в наряде, и у меня замёрзли ноги. И вот я решил надеть этого самого «Фарадея». А ботинки новенькие, хорошо выглядят (даже решил и поберечь, чтобы потом взять домой). От палатки до КПП дойти — метров двадцать. Пока дошёл, ноги — насквозь мокрые; поставил ботинки сушить у печки — подошва после первой сушки сразу отклеилась. И мне пришлось обуваться в то, что сам за свои деньги и покупал…
А ещё нам выдали новую полевую форму от Юдашкина. Много об этом говорили: будет ух красота, ух качество!.. Грозились, что материал высококачественный!.. Но этот самый материал продувается всеми ветрами и промокает просто на раз!.. Короче, всё это оказалось фуфляндией.
Правда, кое-что действительно толковое нам дали. Это — «горки» (специальный костюм для ведения боевых действий в горах. — Ред.), рюкзаки рейдовые и (самое главное!) простые отечественные резиновые сапоги, только с шерстяными носками внутри. Ведь одна из самых больших проблем на войне на Кавказе — это непролазная грязь. К ботинкам сразу килограммов по пять налипает, ноги передвигать трудно. А с резиновых сапог палочкой грязь счистил — и снова летаешь!
С амуницией и обмундированием вообще-то была беда. Да что говорить про форму, если у наших пехотинцев из 58-й армии патронов сначала толком не было. Когда они пошли воевать, у каждого было по два-три магазина, а в БМП (боевая машина пехоты. — Ред.) — по два снаряда.
Нас-то ещё хоть как-то приодели. А что касается пехоты, то та поехала на войну в том, в чём и была, без формы от Юдашкина. Потому-то они на трофеи сразу и набросились. Почти каждый боец из 58-й армии, когда появилась возможность, переобулся в грузинские ботинки, надел грузинскую разгрузку (специальный жилет с карманами для магазинов с патронами и гранат. — Ред.). Только форму грузинскую не стали надевать, чтобы друг друга не перестрелять по ошибке. Наши знакомые ребята загрузили снаряжением ещё и бээмпэ под завязку. Но когда они уезжали обратно, их стопорнули «фэбосы» (сотрудники Федеральной службы безопасности. — Ред.), заставили сгрузить всю грузинскую экипировку в кучу и сожгли. Единственное, что оставили, — это берцы.
Наши приехали на место постоянной дислокации, и офицеры тут же взяли «урал», бээмпэшку и поехали назад. Загрузили «урал» грузинским имуществом и привезли в часть. Но только-только они собрались бойцов созвать, чтобы раздать амуницию, как появился какой-то генерал с проверкой. Наверное, «спалили» их, кто-то стуканул. Амуницию снова выгрузили и на глазах у всех сожгли. Генерал обозвал офицеров мародёрами и пообещал, что в следующий раз их расстреляет. И добавил: «Воюйте в том, что вам Родина дала».
Николай Н.:
— В октябре 2008 года в конце недельного выхода мы пошли на обычную разведку к грузинскому блок-посту. Наш и грузинский посты друг от друга напротив метрах в ста стоят. В этот раз мы работали из базового лагеря на горе метрах в шестистах выше. В первый день одна группа отправилась наблюдать за грузинским блок-постом, другая — разведывать дорогу к нашему посту. Лично я ещё с одним бойцом пошёл искать воду.
Наши ребята увидели на грузинской стороне комиссию, которая прибыла с проверкой на нескольких джипах. Подошли наши разведчики поближе и залегли на краю леса метрах в пятнадцати. Наблюдают за происходящим в цифровой фотоаппарат, снимают. Видят: стоят несколько джипов, которые доверху завалены оружием всяким, охрана рядом. И вокруг вышагивают такие крутые грузины рембовского вида, обвешанные всем, что нужно и что не нужно. Ходят важные, понтуются — ведь комиссия приехала! Тут же шашлык готовится. Девочки-официантки, которые с комиссией приехали (белый верх, чёрный низ), суетятся тут же. Наши парни сидят в лесу, смотрят и облизываются. Но дело своё делают, комиссию засняли.
На следующий день к блок-посту пошли уже мы. Надо было посмотреть, что там реально происходит в то время, когда никаких комиссий нет. Нас было трое бойцов, все с бесшумным оружием. Двое из них ходили вчера, и я с ними третий, как бы новенький. Я сам попросился, ведь командир и не думал меня туда посылать. Хотя сейчас вспоминаю, как что-то внутри меня говорило: не надо мне туда идти.
Пошли мы другой дорогой, не той, которой вчера ходили. Мы же никогда не ходим одними и теми же путями. Идём тройкой: они двое впереди, я — сзади. Не дошли мы до блок-поста метров сто. Когда спускались с горки, я наступаю на мину — взрыв!.. Мне одну ногу оторвало ниже колена, а другую перебило. Валяюсь в шоке, но сознания не теряю: всё вижу, всё слышу и всё чувствую. Чуть-чуть поорал — Палыч прибежал. Он мне жгутом ногу перетягивает, я ему помогаю… Вроде всё нормально. Про вторую ногу, перебитую, говорит: «Всё хорошо, она у тебя вся синяя, там уже крови нет».
Я пальцами на руках пошевелил — работают!.. А ногой пошевелить не могу — больно!.. Палыч меня на руки поднимает — вытаскивать собрался… Делает один шаг — и мы вместе с ним подрываемся на второй мине, на которую уже он теперь наступил!..
Можно сказать, что он меня спас. Если бы я сам начал себе жгут накладывать, то перевернулся бы на бок и вторую мину обязательно бы зацепил. И она для меня была бы, наверное, последней. Ведь мины специально так и ставят рядом: на одну наступаешь, на другую падаешь… Повезло ещё, что вначале я упал не вперёд, а на спину.
Палычу одну ногу тоже оторвало, а самого всего осколками посекло. А мне ещё и кусок берца «Гортекса» влетел в задницу. Потом мы ещё всё шутили, какие хорошие берцы у нас делают, — настоящее оружие! Лежу я на правом боку, пошевелиться толком не могу. Руки работают, а то, что ниже пояса, не слушается. Но самое главное осталось на месте. Уже хорошо!
На коленях ползти не могу, потому что одна нога перебита. На спине ползти тоже не могу, потому что в заднице дырка от «Гортекса». Кровит отовсюду… Но я как-то нашёл силы и шомполом вокруг себя листья попробовал разворошить: нет ли ещё мин. Но ничего не нашёл.
Вообще-то сначала мы подумали, что подорвались на растяжках. Когда я второй раз упал, смотрю — чуть ниже в траве проволока для растяжек лежит. Это потом уже разобрались, что эта проволока при подрыве у Палыча из кармана выпала! Он на ночь растяжки ставил, а утром проволоку свернул и в карман положил.
Мины, как потом выяснили, были американские, противопехотные. У них ещё название: «подберёзовик». Они по форме действительно гриб напоминают. Потом боец, который за нами пришёл, при отходе взял прутик (сказался опыт, ведь в Чечне он был сапёром) и начал траву перед собой раздвигать. И ещё одну мину сковырнул, но она не взорвалась.
Третьего нашего бойца почти не задело, только руки и лицо чуть-чуть осколками посекло. Он внизу сидит, нас прикрывает. Палыч на одной целой ноге в кусты отпрыгнул. Он меня ведь до этого перетянул своим жгутом, поэтому я достал свой и ему бросил. И ещё перевязочный пакет вдогонку.
Мы запустили ракету, я по радио с командиром группы связался. Боль, конечно, она и есть боль, но голова была ясная. Пролежали мы так час. Наши ведь знали только примерное направление, куда мы пошли. Расстояние по прямой вроде небольшое, метров пятьсот всего, но уж очень густой лес, найти нас было не просто.
Искали двумя группами. А когда одна на нас вышла, они потом ещё долго стояли и соображали, как к нам подойти: думали, что мы вообще на минном поле лежим.
Кроме того, мы могли ожидать и того, что вот-вот с блок-поста придут грузины нас добить, ведь до них было всего метров сто. Я уж и гранату по их душу приготовил.
Тут сверху приходит команда: при появлении грузин стрелять на поражение из бесшумного оружия. Я ствол в руки взял и думаю: «Хоть парочку напоследок с собой прихвачу…». Ведь лежал-то я на открытом месте, кусты начинались чуть в стороне.
Третий боец наш, который ниже лежал, потом рассказывал: «Слышу какой-то шорох!.. Прицелился, палец на спусковом крючке держу и жду. Смотрю: среди деревьев вроде наша форма мелькает. Дай, думаю, крикну на всякий случай. И крикнул глупость какую-то типа: «Стой, три!». Так делают, когда посты проверяют. Снизу голос прапорщика, я его сразу и не узнал: «Иваныч, не стреляй, это мы!». Оказывается, они спустились совсем близко от нас, но нас не увидели. Дошли почти до блок-поста, потом повернули обратно, стали подниматься и наткнулись на нас. Их было двое — прапорщик и боец, самый здоровый у нас. Стоят метрах в пяти от меня и обсуждают, как им ко мне подойти. Говорю: «Да вот мои следы, по ним и идите!». Подошли, промедол (шприц-тюбик для экстренного обезболивания. — Ред.) мне вкололи. И тут мне стало так хорошо!.. Ведь целый час я лежал без промедола. Он, по инструкции, только у командира группы и его заместителя должен храниться, чтобы несознательные бойцы не употребили его не по назначению.
По рации уже вызвали вертушку. Прапорщик меня взвалил на себя. И тут у него вдруг спину прихватило!.. Человеку ведь больше тридцати лет, он уже неделю на выходе отпахал с рюкзаком. Тогда решили, что он останется нас прикрывать, а дальше нас двоих по очереди вытащил Тёма, который с прапорщиком пришёл. Он меня сначала подтащит, затем положит, за Палычем сбегает, его подтащит… Перед Тёмой был крутой подъём, а потом начиналась полянка, куда вертолёт должен был сесть. Только дотащил он нас — опять шорох! Подумали, что грузины лезут. Оружие приготовили. Но получилось, что чуть своих опять не постреляли. Оказывается, это вторая наша группа мимо проходила. Они третьего нашего раненого взяли и с ним спустились к нашему блок-посту.
Когда появилась вертушка, со времени подрыва прошло уже два часа. Спасибо командиру вертолётного полка, он ведь без приказа её поднял. Кстати, сначала вертушку вообще не хотели посылать. Но командир нашей роты сбегал к вертолётчикам и доложил прямо их командиру. Тот, как только узнал, что за ситуация, сразу вертушку и поднял. Конечно, запрос официальный они сделали. Но разрешение пришло только через полчаса. Если бы я ещё и эти полчаса провалялся, то неизвестно, чтобы со мной было вообще. Врачи сказали, что я потерял два с половиной литра крови. А у человека их всего пять в организме, и потеря трёх литров считается критической.
В вертушке был наш начмед. Он нас уже как следует перебинтовал, жгуты на узлы завязал, капельницы поставил. До вертушки я был в сознании. Но как только меня начали поднимать, я как провалился куда-то… Очнулся, когда уже летели.
Сначала мы оказались в Цхинвале. Нас перегрузили на другую вертушку и отправили в госпиталь в Моздок. Там нас с Палычем и прооперировали. Спасибо докторам, которые меня лечили. Анестезиолог, который ко мне в реанимацию заходил, и домой мне дал по телефону позвонить, и необходимые вещи принёс — щётку зубную, пасту… А хирургам отдельное спасибо — оказались настоящими мастерами своего дела! Полгода я по госпиталям разным лечился, но сейчас дело идёт на поправку. Протез мне хороший сделали, скоро буду нормально ходить.
Кстати, по пути в Моздок вертушка подхватила третьего нашего раненого, который на блок-посту оставался. В госпиталь его привезли… с гранатой в кармане!.. Только там её у него отобрали. Так что к встрече с грузинами он тоже подготовился.
Майор армейского спецназа Д.:
— Восьмого августа утром я включил телевизор и увидел новости про события в Южной Осетии. Показывали репортаж, который потом уже почему-то не повторяли. На фоне стреляющих «градов» стоит представитель Грузии и говорит: «Сегодня началась контртеррористическая операция против незаконных вооружённых формирований…». То есть он произносил практически те же слова, с которыми мы начинали Вторую чеченскую кампанию. Суть этого пропагандистского трюка всем понятна: если вам можно, почему нам нельзя?..
Первая мысль была: «Ну вот, началось». Ведь мы предполагали: что-то такое будет. А вторая мысль: «Ничего себе, контртеррористическая операция — по спящему городу из «градов» лупить!».
Еду на службу. Таксист спрашивает: «Что, на войну?». Отвечаю: «Да нет, сбор у нас». А он улыбнулся и говорит: «Да я полночи возил десантников и лётчиков на аэродром». Так что в этой ситуации военную тайну сохранить было трудно.
Загружаемся в эшелон и видим, как самолёты с аэродрома взлетают. Один семьдесят шестой пошёл (ИЛ-76, тяжёлый военно-транспортный самолёт. — Ред.), другой… Это те десантники полетели, которых полночи таксист возил.
Ехали мы четверо суток. И на перегонах видим: слева от нас целый эшелон бээмпэ едет, а справа — целый состав теплушек, где по восемь человек солдат в одно окошко головы повысовывали. Кричим: «Ребята, откуда вы?». В ответ: «Такая-то бригада оттуда-то!». Нам в этом смысле повезло — мы как люди ехали, в вагонах плацкартных.
Разгрузились в Северной Осетии, встали лагерем и заночевали. На следующий день колонной выехали в сторону Рокского перевала. Но на территорию Южной Осетии нас не пустили. Пока мы ехали, там уже почти всех победили. Нас поставили на горном хребте на высоте более двух тысяч метров, рядом с пограничниками. Я так понял, что принималось решение, что с нами делать дальше: отправлять вперёд или возвращать назад.
Но на следующий день мы снова колонной отправились в Джаву. Туда прибыли 16 августа. Говорят: «Становитесь лагерем здесь!». А как становиться, когда это чья-то частная земля? Мне один из наших командиров говорит: «Так, ты у нас специалист по душам человеческим. Иди, договорись с местными, чтобы нам разрешили здесь лагерем встать».
Узнал, что хозяина земли зовут Георгий. Оказалось, что дед нормальный. Договорились. У него было стадо в коров двадцать. А если мы станем лагерем во всю ширь, то где он будет коров своих пасти? Ну а после нас на его пастбище лет пятьдесят вообще ничего расти не будет… Учитывая это, встали мы аккуратно, чтобы его сенокос не слишком затоптать.
Работать начали мы почти сразу. Была информация, что в зоне нашей ответственности действуют диверсионно-разведывательные группы. Позже узнали, что в нашем районе действовал грузинский спецназ, в котором были люди со славянской внешностью и украинским акцентом. Причём переодеты они были в нашу форму! В районе Гори одного солдатика таким образом грузины и взяли в плен. Тот вышел спросить дорогу. Смотрит — стоит майор в нашей форме. Поздоровались за руку, а майор его не отпускает. Подбежали (такие же славяне в нашей форме), скрутили, забросили в машину и увезли.
С противником непосредственно мы не встречались. Но нашли много чего интересного. Это и оружие, и снаряды с патронами, и продукты. Причём было имущество брошенное, а было и замаскированное в тайниках. Удивительно, но в лесу наши бойцы нашли два КрАЗа (большегрузный грузовой автомобиль. — Ред.). Что эти громадины там делали, ума не приложу! Но наши трофеи на фоне тех, что взяли десантники на военных базах в Гори и в Сенаки, — просто капля в море.
Ложусь я спать обычно рано. Вдруг звонок: «Сергеич, давай срочно на ЦБУ». (центр боевого управления. — Ред.). Первой в голову почему-то пришла дурацкая мысль: «Может быть, кто-то водки выпил. Тогда надо будет проводить расследование. Да пусть лучше он, гад, спит до утра! Утром и разберусь». Но на ЦБУ вижу, что дело тут поважнее, чем пьяниц воспитывать. Все офицеры сгрудились вокруг карты.
Оказалось, что на нашем отдалённом блок-посту, где всего-то находилось шесть пехотинцев с бээмпэ, наших бойцов блокировал грузинский полицейский спецназ. И нашим командованием нам была поставлена задача разблокировать пехоту.
Ставят задачу мне: «Утром в тот район должны пойти танки и бээмпэ из пехоты. Мы, в свою очередь, на вертолётах забрасываем наш десант. А ты с двумя группами через горы к шести утрам должен выйти к блок-посту, разблокировать наших и держаться до подхода основных сил».
Спрашиваю: «Что значит разблокировать: стрелять, оттеснять, убеждать?..». Отвечают: «Действуй по обстановке». Мне так нравится эта формула: действовать по обстановке!..
Мы быстро собрались и полетели. Выбросили нас на значительном отдалении от поста. И в двенадцать часов ночи мы начали восхождение.
Командиры померяли километраж по карте, посчитали и решили, что идти нам пять часов. А снега-то — по пояс! И ещё там какая-то противная растительность на крутых склонах, которая постоянно тебя цепляет. Кроме того, и вооружились мы по полной. Ведь никто не знал, что нас ожидает, поэтому у пулемётчиков с собой — по две тысячи патронов. Это много. У каждого снайпера по две штатные винтовки: СВД (снайперская винтовка Драгунова. — Ред.) и «Винторез» (бесшумная снайперская винтовка ВСС. — Ред.), патроны к одной и другой. Сухой паёк должны были взять на пять суток. Но продуктов взяли меньше в соответствии со спецназовской песней «Выбрось из ранца хлеба буханку… ведь хлебом буханкой не бросишь по танку». Поэтому мы выбросили из ранцев хлеба буханку и положили ещё патронов.
Вдобавок ко всему не было связи. Поднялись на горку, и бедные связисты, как белочки, начали лазить по деревьям. Куда они антенны только ни забрасывали, — нет связи, и всё тут! То, что не будет связи с самой базой, мы знали заранее. Но мы не ожидали, что группа с ретранслятором выйдет в заданную точку только к восьми утра. А они тоже пробивались через снег, и пройти им надо было, как и нам, километров шесть.
Ещё была одна проблема: как объяснить своим на блок-посту, что мы свои. Я думал связаться с ним по станции, чтобы они нас со страху не перестреляли. Но мне командиры говорят: «Они наши частоты не поймут. Да и вообще рация у них, скорее всего, всё равно не работает. Вот тебе номер мобильного телефона подполковника, который среди них находится. Правда, в том районе грузинская сотовая связь, и наш «мегафон» там сейчас не работает». Спрашиваю: «А на хрена тогда мне этот телефон?». Отвечают: «На всякий случай…». Ну какой такой тут всякий случай может быть?.. Невольно вспоминается наша сказка, где командование (царь) герою тоже так ставит задачу: пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. Бессмертны всё-таки наши русские народные сказки!
Идём-идём по горе… Вдруг боец говорит: «Товарищ майор, смотрите! Вон вроде что-то похожее на танк или бээмпэ виднеется». Смотрю: да, вроде какая-то машина стоит. Кругом сосны, флага нет ни российского, ни грузинского. Непонятно: то место, не то… Поэтому пошли не напрямую, а вокруг. Пока обходили, смотрим — вертушки идут. Думаю: «А вдруг наши решат, что это враги идут, и ударят по нам?».
А у меня есть одна отличительная черта — блестящий верх головы, то есть попросту лысина. Снял шапку, рукой на голову показываю и машу — это я! «Двадцатьчетвёрка» (МИ-24, транспортно-боевой вертолёт. — Ред.) покачала крыльями — узнали меня. Садится только одна «восьмёрка» (МИ-8, транспортно-боевой вертолёт. — Ред.), оттуда бойцы выпрыгивают и бегут через мост к блок-посту. Выходим на связь со своими: «Кто пошёл? А, такой-то. Понял». Это наши прилетели, которые и должны были по плану утром прилететь. Это мы опоздали, но не по своей вине. Невозможно было такое расстояние пройти по горам по пояс в снегу за то время, которое нам на это отвели.
Дальше события развивались очень быстро. Грузинских спецназовцев было больше ста человек. Все в полной американской экипировке. Это значит, что на них надеты обязательно каска и бронежилет. Все с автоматическим оружием. Наша группа (шестнадцать человек) из первого вертолёта подбегает к грузинам и начинает их оттеснять. Бам, бам, бам… Начался рукопашный бой. Правда, наши били не всех подряд, а только тех, кто пытался дёргаться.
Получилось, что шестнадцать разведчиков атаковали сотню спецназовцев. Потом грузины пытались оправдаться, что якобы у них была команда — не поддаваться на провокации. Но на самом деле они просто были в шоке. Как посмела такая горстка бойцов их атаковать, ведь слишком неравные были силы!..
Тут села вторая наша вертушка, ещё шестнадцать из наших подбежали. Мы в это время обходили село и подошли с другой стороны. Это заняло буквально минут пятнадцать. Мы специально не прятались, и враги нас быстро заметили. А когда они увидели, что с горы спускается вереница бойцов с рюкзаками, с пулемётами, и эта вереница всё никак не кончается, то тут они окончательно дрогнули. Потом я в сердцах своим сказал: «Эх, жаль что вы до нас всех победили! Не успели мы свою лепту внести». А мне ответили: «Вы ещё какую лепту внесли! Когда грузины увидели, что одна вертушка села отсюда, другая — оттуда, да ещё вы со своими пулемётами с горы спускаетесь, они так перепугались, что перестали сопротивляться окончательно». Тут грузин погрузили и увезли.
Когда всё закончилось, командиры мне говорят: «Конечно, вы молодцы, всех победили. Вот только долго вы шли. А шесть километров, по нашим расчётам, можно пройти за час-полтора». Я ещё подумал тогда: «Да пять-шесть километров в час пешеход по дороге в кедах идёт! А с рюкзаком ночью по горам по пояс в снегу в составе отряда в тридцать человек — это невозможно».
Потом наши ребята через телефоны залезли в Интернет и прочитали грузинскую версию событий: «Шестьдесят вертолётов высадили шестьсот десантников горно-стрелковой бригады…».
Я был удивлён, как они себя повели. Уж очень сильно, до неприличия, они растерялись и испугались. Если честно, мне сейчас за грузин даже как-то немного стыдно.
Лейтенант Н.:
— Часов в десять вечера 12 декабря 2008 года меня и ещё одного командира группы вызвали на ЦБУ. Сказали, что пришло боевое распоряжение: разблокировать взвод нашей пехоты. Они оказались в своего рода ловушке — попали в окружение в горах.
Ночью две другие наши группы ушли в тот район через горы. Мы же должны были взлететь на вертолётах в шесть утра и соединиться с ними уже на месте.
Большую часть ночи мы получали всё необходимое. Собирались в горы из расчёта на трое суток. Рюкзаки получились большие и тяжёлые: мы взяли мины и всё такое прочее. Как потом оказалось, ничего этого нам не понадобилось. Пригодились только руки да ноги и автоматы в качестве дубинок.
Подъём в пять, в шесть построились. Подошёл комбат. До семи простояли на месте. В семь часов поступила команда: идти на вертолётную площадку. Это метров двести. Повезло: лётчики попались знающие, да ещё и умные. До взлёта прямо на площадке договорились о взаимодействии, о радиочастотах. Они нам: «Если всё будет серьёзно, — убегайте. Мы потом всё с землей сравняем». Ведь предугадать, как всё пойдёт, никто не мог.
С нами в вертолёт сели комбат и два офицера, да ещё командир 4-й военной базы, которая только-только была организована и должна была на постоянной основе остаться в Южной Осетии. У нас-то рюкзаки огромные, а у старших офицеров — совсем маленькие. Мы ещё про себя подумали: интересно, а как они там есть да спать будут. В моей группе — двенадцать человек вместе со мной и «замком» (заместителем командира группы. — Ред.). Мы разделились ещё на две группы, по шесть человек в каждой. Я должен был идти к пехоте через мост, а «замок» с пятью бойцами — на другой конец села, где тоже грузины стояли.
Получилось, что моя группа пошла первым бортом. До места лететь минут десять. Командир базы кратко рассказал, что там за местность и какая обстановка. На административной границе Грузии и Южной Осетии стоит высокогорное село Переви, через которое протекает горная речка. Тут же находился пост нашей пехоты. Накануне днём пехоте дали приказ отойти в глубь осетинской территории примерно на километр. Они снялись с позиций, отошли и на новом месте разбили палатки — к вечеру другой приказ: возвращаться обратно. А как только наши отошли, грузины сразу же на это место и встали. Потом грузины ещё и мост через речку заняли, наших никуда не пускают. У пехоты за этим мостом ещё и сломанная бээмпэ осталась.
Командир базы нам говорит: «Разрешаю действовать на ваше усмотрение, но только приказ: стрельбу первыми не открывать». Площадка приземления — километра за два от нужного места. Высадились мы и побежали. Командир базы впереди бежит, дорогу показывает. Метров через двести я понял, что с этими рюкзаками мы не добежим: ведь каждый рюкзак весил килограммов тридцать-сорок. Точнее: добежать-то мы добежим, но при этом так выбьемся из сил, что толку от нас не будет никакого. Принимаю решение — рюкзаки снимаем, складываем в одно место, двоих бойцов оставляем их охранять.
Бежим дальше. Пробегаем первую половину села, за ней крутой поворот, мост, и отсюда начинается другая половина села. От угла до моста метров пятьдесят-семьдесят. Вылетаем из-за поворота — видим сломанную бээмпэ нашей пехоты. Я кричу «замку»: «Разделяемся, как договорились: я — на мост, а ты — на другой конец села!».
«Замок» с бойцами мимо моста вброд через речку бросились на горку, где пехотинцы стояли. А дальше — на другой конец села, где тоже расположились грузины. Я со своими бегу на сам мост! Вижу: три джипа «тойота хайлюкс» стоят и около них расхаживают грузинские спецназовцы — с оружием, в бронежилетах, в касках… На пригорке выше моста у них уже огневая точка оборудована и мешки с землей в человеческий рост уложены. А подальше ещё десяток джипов стоят. Так как джип вмещает пять человек, то понятно, сколько грузин только на этой стороне села находится, — больше шестидесяти. «Замок» потом сказал, что и с его стороны стояло столько же джипов. Легко посчитать, что грузинских спецназовцев было больше сотни.
Бежали мы красиво. Получился своеобразный забег между жизнью и смертью, не хватало только флага российского, тельняшек и голубых беретов. Своим кричу: «Бить можно, но без стрельбы!..». Вперёд пропустил пулемётчика, он у нас парень очень крепкий. Тот сразу пулемёт коробом с лентой вперёд развернул. Перед ним грузин нарисовался, начал ему что-то кричать: «Эй, эй!..». Наш его пулемётом — хрясь! — грузин куда-то в сторону улетел. Тут подбежали мы, началась потасовка… Глаза у грузин очень большие, они не могут взять в толк, откуда мы появились.
Наших пехотинцев было человек двадцать. С ними были подполковник и старший лейтенант, остальные — солдаты-срочники. К тому времени, как мы им на помощь подоспели, прошли уже сутки, как они были блокированы. С собой у них вообще ничего не было — ни палаток, ни спальников. А ведь это декабрь месяц и горы! Поэтому сначала вид у этих наших солдатиков был довольно-таки жалкий. Лица обветренные, красные, ведь замёрзли за целую-то ночь! Да ещё и растеряны, не знают, как быть, что делать… Но как только они нас увидели, приободрились. Я нескольких из них послал обойти грузин сбоку. Те и начали мять грузин с тыла — работали руками, ногами, автоматами, не стреляя при этом…
Тут ещё над нами две «двадцатьчетвёрки» летают. У меня на разгрузке две рации, по ним лётчики каждую минуту нас запрашивают: «Ну что там у вас?». Грузины это слышат, глаза их ещё больше становятся.
Самое интересное, что пока мы били тех из них, что кантовались на мосту, остальные за мешками с землёй так и остались стоять, прятались за ними и ни во что не вмешивались. А их там было человек пятьдесят-шестьдесят.
Командир базы сразу к своим пехотинцам подбежал. Сел на какую-то доску и нам говорит: «Делайте, что хотите, но чтобы грузины отсюда ушли».
Два грузинских командира к нам подскочили и давай вокруг нас бегать. Один оказался побоевитей. Ему лет сорок пять, седой весь. Он всё хотел к нашему полковнику прорваться. А тот: «Мне никто ни для каких переговоров не нужен. Пусть уходят, и всё!..».
Мост мы захватили, грузин с него согнали. Но три джипа так и остались на мосту стоять. Я: «Убирайте джипы!». Они: «Не будем». Тогда я спокойно сажусь в джип и говорю: «Если сейчас джип не будет отсюда убран, я его сам уберу. И вообще уеду на нём». А в джипе я увидел: лежит разгрузка с гранатами для подствольника от винтовки М-16. Беру её и говорю: «Вот как брошу сейчас её на вас, так все и полетите отсюда!». У их командира вообще глаза на лоб вылезли, вижу, у него чуть ли не предынфарктное состояние… «Всё, всё, сейчас уберём…». Короче, такого психологического давления они не выдержали. Сели в джипы и быстренько с моста съехали. Мост оказался полностью нашим, пехота с нашей стороны разблокирована. Хотя из самого села грузины так и не уходят.
Я своих бойцов рассадил повыше, чтобы хоть какое-то прикрытие было. Мало ли что… И побежал к своему «замку». Они там на своём участке тоже немного подрались, попинали грузин. Вообще-то бойцы у нас — молодцы. Не услышишь от них: «Да, может быть, не надо…». А только так: «Если надо, значит, надо!..». Короче, вели себя даже нагловато. В том противостоянии это нам очень помогло.
На той стороне, где «замок» был, наши грузин сразу за село выгнали. И как раз с этой стороны, словно из-под земли, нарисовалось грузинское телевидение. Идут к нам, начинают снимать. Мы их отогнали, поставили заслон, не пускаем. Грузинские командиры снова вместе собрались совещаться. Минут через десять со стороны Грузии появляются ещё машин пять-шесть телевизионщиков со спутниковыми тарелками.
А возле моста джипы с грузинскими спецназовцами так и стоят. Подхожу к командиру базы и спрашиваю: «Что делать?». Он: «Пока джипы не уедут, никаких разговоров вести не будем».
Так прошло минут сорок-пятьдесят. В это время прилетает вторая наша вертушка, и из неё всё той же дорогой на мост бежит ещё одна наша группа. Чувствую, у грузин нервы на пределе. И тут командиры наших бойцов направили на возвышенность в тыл грузин. Наши разведчики сели, изготовились к стрельбе… А спустя ещё минут десять мы все наблюдаем такую картину маслом: через хребет спускаются те две наши группы, которые через горы шли. А вид у наших очень грозный: в горно-штурмовых костюмах, с рюкзаками, с пулемётами… Они речку перешли и встали рядом с пехотой. Тут у грузин окончательно сдали нервы. Они запрыгнули в свои джипы и умчались…
Две группы, которым через речку вброд пришлось переправляться, стали сушиться. Мы посты организовали. Командир базы повеселел: чай, кофе, обогрев…
Часа через полтора с осетинской стороны подъезжает миссия ОБСЕ. В джипе двое иностранных военных, с ними переводчица. Меня по рации ребята запрашивают: «Пускать?». Я командира базы об этом спрашиваю. А тому уже всё равно — задача-то выполнена: «Делайте, что хотите».
Иностранцы останавливаются возле нас: «Что здесь происходит?». Я: «А вам-то какое дело?». Общался я с ними не слишком вежливо. Они: «Мы проедем». Я: «А я вас не пущу. Вы кто такие?». Они: «ОБСЕ». Я: «А для меня вы — никто». Заволновались, начали куда-то звонить. Тут командир базы говорит: «Да ладно, пускай едут». Они проехали к телевидению на грузинскую сторону.
Двое грузинских командиров всё ещё крутятся рядом — всё норовят с командиром 4-й базы поговорить. Проходит ещё минут сорок. Тут прямо на пятачок к пехотинцам садится вертолёт с командующим. Охрана его из вертолёта высыпала. Пехота по случаю прибытия высокого начальства попыталась свою бээмпэ завести, но так и не смогла.
Часам к одиннадцати утра стала подтягиваться пехота, которую ещё вчера ночью тоже подняли по тревоге. Говорят: «Ночью вышли десять танков. Шесть по дороге сломались, четыре где-то сзади едут. Выехало ещё и восемь машин бээмпэ, но пять из них сломались, три как-то едут. Так что до места доехали только мы на двух «уралах»: четыре офицера и солдаты». Просто цирк на конной тяге!..
Часов в двенадцать дня мы улетели на базу, а те две наши группы, что через горы пришли, ещё три дня пост нашей пехоты с высоток прикрывали.
Только потом, когда мы начали осмысливать случившееся, стало понятно, что вариантов развития событий было несколько. Обстановка обрисована была нам в общих чертах, но конкретно-то мы не знали, что нас ждёт и какова численность грузин. Ведь связи с пехотой не было. Может, кто-то по телефону с кем-то разок поговорил и всё. Так что летели мы почти в полную неизвестность.
И когда мы выскочили из-за поворота и увидели эти бесконечную вереницу джипов с экипированными и вооружёнными грузинами рядом, то в первую очередь нам помогли наши же эмоции — как будто сила какая-то изнутри распирает. Смотрю на своих бойцов — челюсти сжимают, подбираются все как-то, автоматы уже готовят к рукопашной.
Из тех двенадцати грузин из трёх джипов только один дёрнулся по-настоящему, пытался что-то спросить: «Вы кто такие? Что надо?». Он-то как раз первым и получил… Тут же и затух.
И, конечно, удивительно нам было видеть шестьдесят грузинских спецназовцев, которые стояли в двадцати метрах и не бросились помогать своим десятерым, — тем, которых мы били. Так и стояли словно оцепеневшие… Не знаю, что и думать. Может быть, они просто остолбенели от нашей дерзости и, наверное, даже какой-то наглости.
Видимо, с их точки зрения невозможно вшестером броситься на семьдесят вооружённых до зубов спецназовцев в касках и бронежилетах? Наше состояние в тот момент можно охарактеризовать как бесшабашность, что ли. Такое у русского человека проявляется в критические моменты, и тогда помогает главным образом не голова, а чувства.
Вот эти первые десять-пятнадцать минут всё и решили. Грузины так и не вышли из того психологического транса, в который впали от нашей дерзости. И их командиры, похоже, разделили состояние своих бойцов и даже не попытались как-то их организовать для оказания сопротивления. Вообще каждый из них переживал уже только за свою судьбу: понимали, что их, точно, по головке не погладят за такой позорный для них исход сражения.
В то время, когда мы прогоняли их с моста, а они отъезжали на трёх своих джипах, прошло всего минут пять. Но для меня эти минуты показались вечностью. По существу, на открытом месте оставался только я один: ведь мне приходилось бегать к «замку» на другую сторону, а своих я рассадил вокруг моста на позиции за какими-то естественными преградами, чтобы они заняли организованную оборону. В эти моменты я действовал уже не на адреналине, а с рассуждением. По сути я готовился к тому, что, возможно, придётся давать отпор, если что-то всё-таки начнётся с их стороны.
И вероятность случайного выстрела тоже не исключалась до самого последнего момента. За своих-то я был спокоен. У нас магазины были только присоединены, патроны — не в патронниках. Но я-то знаю, какие бывают срочники-пехотинцы… Да ещё если вспомнить, что сутки эти двадцать бойцов просидели на морозе в полном окружении… Плюс к этому, из грузин кто-то мог выстрелить, даже просто в воздух. Чтобы ситуация стала полностью непредсказуемой, этого было бы вполне достаточно…
Конечно, очень здорово нам помогли вертолётчики из «двадцатьчетвёрок». Ещё на аэродроме с ними договорились, что если начинается стрельба, то мы попробуем убежать, а они начнут работать. Я не знаю, был ли у них приказ стрелять. Но и по разговору, и по их лицам я понял, что они к такому варианту были внутренне полностью готовы. И, если бы нас начали убивать, они бы точно нас не бросили.
Так что залог этой нашей маленькой в мировом масштабе победы — дерзкий натиск русского солдата. Ведь когда группа в шестнадцать человек за десять минут полностью деморализует больше сотни до зубов вооружённых спецназовцев противника, то по-другому это никак не объяснишь. И я думаю, что тут проявился именно особый характер русского человека. Ни один человек у нас не дрогнул ни на секунду. Все действовали как один: сказано — сделано.
В конце этой истории мне стало даже как-то жалко грузинских полковников. После такой «операции» их военная карьера, скорее всего, резко пошла под откос…
Майор Д.:
— И не могу забыть ещё один случай. Однажды в сердцах перед строем я произнёс фразу, за которую до сих пор самому немного неловко. Я двум бойцам тогда сказал: «Если был бы сейчас восемнадцатый год, а я — комиссаром в кожанке и с маузером, то я вас прямо здесь перед строем бы и расстрелял!».
А вот в чём было дело. Это сейчас можно сказать, что нам повезло, что в Осетии не пришлось воевать по-настоящему. Но ехали-то мы как будто в Грозный 1995 года! И деньги для нас были на последнем месте. Сами мы думали, что будут платить по сто рублей в день, как на полигоне. Однако неожиданно для нас объявили, что мы будем получать по пятьдесят четыре доллара в сутки. Мы и поверили таким словам. Почему бы и нет?.. Но как только в конце августа 2008 года была признана независимость Южной Осетии, эти пятьдесят четыре доллара перестали начислять.
И вот нашлись два товарища, которые начали разлагать дисциплину. Они отказывались идти на задачи со словами: «А что, мы будем воевать за сто рублей, что ли?». Правда, это были пришлые бойцы, они прибыли к нам в самый последний момент. Конечно, я и все командиры их прижали. Но на самом деле возразить-то на это нам было нечего…
По действующим документам, эти пятьдесят четыре доллара выплачиваются военнослужащим, находящимся на территории Грузии. А мы теперь находимся на территории другого государства — Южной Осетии. Старые документы вроде недействительны, новых нет. Сверху велели: «Приостановить выплату». После этого в феврале 2009 года как будто опять сказали: «Пятьдесят четыре доллара подтверждаем». Ребята между собой начали обсуждать, кто какую машину после командировки купит. Но тут снова поступило разъяснение, что да, всё в силе, но только пункт пятый старого постановления отменён. Беру это постановление Правительства РФ № 587 от 12.08.09 года и читаю в пункте пятом: «Военнослужащие… обеспечиваются бесплатным питанием по установленным нормам». То есть питание на этой войне для нас оказалось платным!.. И задним числом решили, что кормили нас всё это время на тридцать восемь долларов в день. Из пятидесяти четырёх долларов вычли тридцать восемь и в результате выплатили нам по шестнадцать долларов в сутки.
А что мы там ели? Кашу овсяную, которую сами же и готовили. А в горах на задачах вообще ели сухпаёк, губя тем самым свои желудки. Да ещё на пять суток забрасывают, а тут туман, непогода… Из-за этого опять двое суток сидим вообще голодные. Видно, за это и вычли…
К счастью, в этой командировке никто из нас не погиб. Повезло и в том, что не было боестолкновений. Но минная обстановка была ужасная. В результате в октябре 2008 года у нас произошёл подрыв. У двоих бойцов — травматическая ампутация ног, третий, слава Богу, временно, потерял зрение.
В Чечне питание было бесплатным. Когда мы на полигоне работаем, питание бесплатное, да ещё и по сто рублей в день доплачивают за то, что мы там находимся. А тут в горах с оружием боевую задачу выполняем, мёрзнем, едим сухпай — и с нас за это ещё и тридцать восемь долларов берут!
Очень обидно, что те люди, которые посылали нас на войну, нас же и обманули. Сам я в разведке Афганистан прошёл, в армейском спецназе — Чечню и Южную Осетию. И я точно знаю, что мы с моими товарищами воюем не за деньги, а за Отечество. Но разве можно бесконечно так беззастенчиво пользоваться патриотическим настроем людей! Ведь знают те, кто принимал решение про эти тридцать восемь долларов, что даже после проявлений ими такого неуважения к своим защитникам, мы, если будет приказ, всё равно пойдём воевать. А тем, кто так бессовестно с нами обошёлся, пусть Господь Бог будет судьёй.
Послесловие
Солдаты и офицеры Вооружённых сил и других силовых структур России в полной мере осознают себя защитниками родного Отечества. Об этом говорит и современное название праздника 23 февраля — День защитника Отечества. Однако у воинского служения есть и духовное измерение. Воин России должен ясно понимать, что, защищая государство, которое сегодня носит название Российская Федерация, он тем самым защищает Святую Русь.
Что же такое Святая Русь? Святая Русь — это наша многовековая Россия. Россия ведь не просто одно из государств, которых на земле около двухсот. Это Богом избранная страна — земля, данная Богом нашему народу в удел. Про русскую землю святой праведный Иоанн Кронштадтский писал, что она — подножие престола Божия. А в праздничном православном песнопении (тропаре) в честь всех святых, в Земле Российской просиявших, звучит прямой завет нашему народу: «Русь Святая, храни веру православную! В ней же тебе утверждение». Хранить православную веру — это ответственная задача, великий крест русского народа. Задача же охранять нашу Родину — священный долг всех братских народов, многие века живущих вместе с нами в России.
До Крещения Руси опорой христианской цивилизации была православная Византийская империя. Тысячу лет она занимала гигантскую территорию, раскинувшись на трёх континентах — в Европе, Азии и Африке. Но в XV веке Византия пала под ударами Османской империи. Именно тогда Россия была избрана Богом для несения особого послушания — хранить православную веру.
В то время наша страна представляла собой небольшое по территории Московское государство. И это государство за относительно короткий, в историческом смысле, период времени приросло таким количеством земли, что заняло шестую часть суши. На нашей территории есть абсолютно всё, что нужно её народам для жизни: бескрайние плодородные поля, чистые реки, озёра. В России есть все полезные ископаемые: газ, нефть, металлы. Сейчас мы именно за счёт этих богатств и живём. Но принадлежат-то эти богатства единственному истинному хозяину — Богу! И именно Богом они даны нашему народу.
За что же нам такая щедрость? А всё это дано нам Богом для того, чтобы мы имели возможность нести своё послушание, свой крест. В чём смысл этого креста? На протяжении всей человеческой истории силы зла непрестанно воюют с Церковью Христовой, пытаются установить на земле свои беззаконные порядки. Уже две тысячи лет они стремятся уничтожить христианскую цивилизацию, чтобы взамен построить свою, антихристианскую.
Здесь уместно вспомнить слова апостола Павла о том, что тайна беззакония «…не совершится до тех пор, пока не будет взят удерживающий…». Многие древние отцы Церкви понимали под «удерживающим» государственную власть. «Одни полагают, что под этим «должно разуметь» благодать Святого Духа, а другие — Римское государство. С этими последними я больше соглашаюсь… Когда прекратится существование Римского государства, тогда он (антихрист) придёт. И справедливо. Потому что до тех пор, пока будут бояться этого государства, никто скоро не подчинится антихристу. Но после того, как оно будет разрушено, водворится безначалие, он будет стремиться похитить всю — и человеческую, и Божескую — власть. Так точно прежде были разрушаемы царства: Мидийское — вавилонянами, Вавилонское — персами, Персидское — македонянами, Македонское — римлянами. Так и это последнее будет разорено и уничтожено антихристом. Он же будет побеждён Иисусом Христом» (Святитель Иоанн Златоуст).
В течение тысячи лет (с IV века до XV века) таким «удерживающим» была православная Византийская империя. А после её падения это послушание «удерживающего» дано Богом православным народам, живущим на территории нашего Отечества. Ещё в XVI веке игумен Спасо-Елеазарова Великопустынского монастыря Филофей писал Великому князю Московскому Василию III: «И ныне глаголю: блюди и внемли, благочестивый Царю, яко вся христианская царства снидошася в твое едино, яко два Рима падоша, а третий стоит, а четвёртому не быти…».
Враги прекрасно понимают, что без уничтожения этого «удерживающего», то есть России, невозможно уничтожить и всю остальную христианскую цивилизацию. Поэтому в нашей истории мы видим бесчисленные попытки одолеть Россию и извне, и изнутри. Смутное время 1612 года, нашествие Наполеона в 1812 году, восстание декабристов в 1825 году, революция и иностранная интервенция 1917 года, фашистское нашествие в 1941 году…
Сегодня мы видим, как в современном мире грех становится нормой и закрепляется уже и в законодательстве многих государств. Сопротивление человека греховным нормам рассматривается как преступление и ведёт к применению репрессивных мер. В мире утверждается порядок, враждебный нормам христианской морали и нравственности. Но становление этого греховного порядка во всём мире невозможно, пока существует Россия, сопротивляющаяся этим процессам. Враги православной веры прекрасно понимают, что без нравственного разложения русского народа и уничтожения нашего Отечества весь мир поставить на колени невозможно. Поэтому бесчисленные попытки одолеть Россию и извне, и изнутри продолжаются снова и снова…
Однако пророческое прозрение преподобного Серафима Саровского о грядущем могущественном единении России с близкими по географии и мировоззрению народами и о её противостоянии силам мирового зла дают нам надежду на провал этих попыток, осуществляемых сегодня некоторыми влиятельными политиками и государствами. Слова преподобного Серафима Саровского вселяют в нас твёрдую надежду: «У нас вера православная и Церковь, не имеющая никакого порока. Сих ради добродетелей Россия всегда будет славна и врагам страшна и непреоборима, имущая веру и благочестие в щит и в броню правды: сих врата адова не одолеют».
России удавалось выстоять в самых трагических обстоятельствах. Вспомним, как в годы безбожной советской власти ценой невероятных усилий народы нашей страны всё-таки сумели одолеть практически всю Европу во главе с Гитлером! Почему же Бог даровал нам эту победу? Ведь советское государство было для Бога чужое. Коммунисты православных верующих не просто гнали. Они верующих убивали. Дело в том, что наш народ даже в тяжёлое советское время всё равно не потерял искру веры в Бога! Русь Святая жила в сердцах простых людей, и они оставались для Бога своими.
А кто для Бога свой? Своим для Бога является тот человек, кто признаёт Бога своим Отцом, Пресвятую Богородицу — своей Матерью, а святых — старшими братьями. И если люди считают себе членами этой семьи, то Бог постоянно печётся о них, как отец заботится о своих детях.
От осознания каждым российским воином своей личной ответственности за судьбы родного Отечества — Святой Руси — зависит будущее России как государства. Без веры в Бога нам сегодня невозможно выстоять перед лицом тяжких испытаний, надвигающихся на нашу страну. «Они надеются на оружие и на отважность, а мы надеемся на всемогущего Бога, Который одним мановением может ниспровергнуть и идущих на нас, и весь мир» (2 Мак: 8, 18).
Протоиерей Димитрий Василенков, кавалер ордена Мужества и ордена Дружбы
О проекте
Мы хорошо знаем имена героев Великой Отечественной, а вот имена солдат и офицеров, которые уже в наши дни встали на защиту Отечества в очень сложное для страны время, практически неизвестны. Наши усилия направлены на то, чтобы исправить эту несправедливость.
В рамках проекта «ОНИ ЗАЩИЩАЛИ ОТЕЧЕСТВО» я собираю свидетельства участников афганской и кавказских военных кампаний, а также документальные фото и видео материалы. Эта работа является зримым выражением нашей глубокой благодарности советским и российским солдатам и офицерам, с честью выполнившим свой воинский долг в Афганистане и на Кавказе.
На основе собранных материалов я выпустил восемь фотоальбомов об участниках войны в Афганистане и кавказских военных кампаний. Затем вышли шесть частей книги «Из смерти в жизнь…», в которых собраны достоверные свидетельства помощи Божией нашим воинам. 25 января 2014 года в Санкт-Петербурге открыт музей «ОНИ ЗАЩИЩАЛИ ОТЕЧЕСТВО», основанный на материалах фотоальбомов и книг.
В настоящее время я готовлю к выпуску следующие издания серии «ОНИ ЗАЩИЩАЛИ ОТЕЧЕСТВО». Подробности в моём блоге . Добро пожаловать!
Сергей Галицкий
Автор серии «ОНИ ЗАЩИЩАЛИ ОТЕЧЕСТВО»




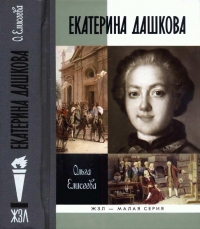
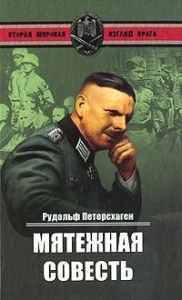

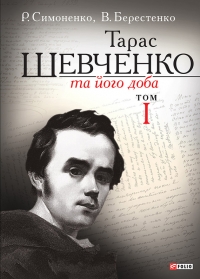
Комментарии к книге «Из смерти в жизнь… От Кабула до Цхинвала», Сергей Геннадьевич Галицкий
Всего 0 комментариев