Катерина Владимировна Гордеева Человек раздетый. Девятнадцать интервью
© Гордеева К.В., 2019.
© ООО “Издательство АСТ”, 2019.
* * *
В книге использованы фотографии Ольги Павловой, Солмаз Гусейновой, Виктора Горячева, Елены Рифеншталь, Андрея Рыбакова, Анны Шмитько, Юрия Роста, из личного архива Светланы Бодровой и агентства РИА Новости
Автор и редакция благодарят за предоставленные материалы интернет-издания Colta.ru, «Медуза», «Правмир», «РБК Стиль», «Такие дела».
Предисловие
Со стороны кажется – ну что такое взять интервью? Ерунда. Вот ты приходишь, спрашиваешь о том, что тебя интересует, человек, сидящий напротив, отвечает, ты киваешь, старательно сочувствуешь, пытаешься понять, задаешь следующий вопрос. Когда вопросы кончаются, все пожимают друг другу руки и расходятся. И интервью готово. Но, разумеется, всё сложнее.
Один важный для меня человек, чьего интервью я добивалась несколько лет, как-то написал мне в ответ на очередную просьбу встретиться и поговорить под запись: «Давай начистоту: я не рискну. И вот почему: ты найдешь ход туда, куда я не хочу, чтобы входили. Но, уверен, я не успею отсечь; когда ситуация станет необратимой, ты уже по уши окажешься в моем “не хочу”. Все герои от тебя выходят раздетыми. Так, что ли. Ты не нападаешь, но не даешь шанса укрыться. Поэтому я предпочту другие площадки, чтобы рассказывать о себе: там будет зло, весело или просто мило, но без ненужных и поворотов, и углублений. Прости, пожалуйста. Скорее, это знак уважения к тебе».
Интервью этого человека, к сожалению, в книге не будет – оно так и не случилось. Много раз встречаясь по разным другим поводам, под запись мы так и не поговорили.
Возможно, мой неслучившийся герой прав. Я представляю себе интервью двойным сеансом психоанализа, после которого каждый из участников уже не будет, не сможет быть собой прежним. Во время такого сеанса становится очевидным, что претворять в жизнь замысел и притворяться – совсем не одно и то же. А мы ведь все понемногу притворяемся, даже самые лучшие из нас. Самые лучшие, думаю, тщательнее и основательнее других. И потому – им страшнее. Их легче ранить.
Многие полагают, будто роль интервьюера в том, чтобы «достать» собеседника: вывести на чистую воду, поймать на несоответствии, загнать в угол.
Я так не думаю.
От себя не убежишь, как быстро ни бегай. Любой говорящий проговаривается, если не помешать, не испугать, не поторопить.
Как правило, я готовлюсь к интервью долго: читаю, выписываю, размышляю. Пытаюсь понять и, что важнее, «прорепетировать». Иногда репетирую наоборот: сама отвечаю на свои же вопросы, как будто я – это тот, кто мне отвечает. Знаю, звучит немного странно.
Я часто вижу свои интервью во сне: те, что уже случились, те, что предстоят завтра, те, которым никогда не бывать. Не было ни единого раза, чтобы увиденное совпало с реальностью. Реальность непредсказуемей любых фантазий, а люди – самое интересное, что есть на свете. Особенно если пытаться понять даже самых запутанных из них. Собственно, в том и состоит профессия интервьюера. Ну, это если спрашивать меня.
Катерина ГордееваДевятнадцать интервью
Интервью первое Светлана Бодрова
Бодрову я знала задолго до того как с ней познакомилась: встречала в коридорах телецентра «Останкино», слышала от общих друзей – Чулпан Хаматовой и Сергея Кушнерёва. Во всех разговорах – Светка. Из разговоров выходило, что она сильная, талантливая и очень гордая. Я слышала о ней так много, что выходило, будто мы и вправду знакомы, дружим. Слышала обо мне, видимо, и она – у нас общий круг. В общем, когда в первый раз я ей позвонила, мы говорили на «ты». Я сказала: нужно, чтобы она дала интервью. Не попросила, не спросила, так и сказала: «Мне нужно, чтобы ты дала интервью». До меня ей звонила Чулпан и тоже, как выяснилось, сообщила без всякой сослагательности: «Ты должна дать Кате интервью».
– Зачем? – спросила меня Бодрова по телефону.
– Чтобы всё, что с тобой происходило, было зафиксировано единственно возможным способом: правдиво, с твоих слов.
Она еще спросила:
– А кому это надо?
– Например, мне, – ответила я простодушно.
Представить, что за пятнадцать лет с того момента, как ее муж, отец ее детей, ее единственная любовь, актер, режиссер, телеведущий Сергей Бодров пропал без вести, Светлана не дала ни одного интервью, я не могла. Но она действительно никому ничего не рассказала. Интервью, о котором мы только что условились, должно было стать первым. Но почему-то мне это не приходило в голову.
Если честно, я шла говорить не о Бодрове, а о другом Сергее – Кушнерёве, последнем романтике российского телевидения, бывшем главном редакторе телекомпании ВИD, создателе программы «Жди меня», моем кумире. Но вот я вошла, мы сели с Бодровой на кухне, от смятения перешли на «вы». И я спросила:
– Как вы познакомились с Сережей?
– С каким? – переспросила она.
Я уточнила: «Речь о Кушнерёве». И тут же стало понятно: мы будем говорить об обоих.
Квартира Бодровой кажется как будто недостроенной. В разговоре выяснится: не кажется, так и есть. Эту квартиру они с Сергеем купили за несколько месяцев до того, как Бодров улетел снимать фильм «Связной» в Кармадонское ущелье. И пропал без вести. Переезжала Светлана уже без мужа. С двумя маленькими детьми, Олей и Сашей, на руках.
Кое-где ремонт так и не начался. Кое-где – так и не закончился. Но уютно. На стенах – картины Светланы, она рисует. В гостиной портрет Бодрова. Не такой, какие обычно висят в домах погибших. Другой. Как будто папа и муж вышел в магазин и скоро вернется.
Мы, разумеется, сидим на кухне. Первые час-полтора еще вскакиваем открывать форточку для каждой сигареты. Потом плюнем, перестанем отвлекаться на ерунду. Кухня в облаке дыма. На Свете черная водолазка. Она делает ее светлую кожу еще светлее, глаза – ярче. И придает разговору какую-то окончательную неслучайность: надо расставить всё по своим местам, записать, запечатлеть все истории такими, какими они на самом деле были. Из первых рук. Из ее рук.
[1]
– На тридцатилетии телекомпании ВИD, которое отмечалось в начале октября 2017 года, вас не было. Почему?
– Меня пригласили, но я отказалась прийти. Не считаю для себя возможным после всего случившегося.
– Речь о передаче «Жди меня»?
– В том числе.
– Вы проработали в программе четырнадцать лет и уволились из нее вместе с создателем «Жди меня», ее главным редактором и главным редактором телекомпании ВИD Сергеем Кушнерёвым. С вами ушла большая часть команды. Можно ли говорить, что с этого момента «Жди меня» – уже другая программа?
– Не знаю. По крайней мере, ко мне эта программа больше не имеет никакого отношения.
– Вы видели «Жди меня» на НТВ?
– Да. Но комментировать не хотелось бы. Очень больно. Помните, когда убили Влада Листьева, все проекты, созданные им, начинались с титра «Проект Влада Листьева». Так вот, «Жди меня» надо начинать с того, что это «Проект Сергея Кушнерёва». Это честно, это правильно, это дань уважения человеку, за счет бесчисленных идей, таланта и бессонных ночей которого сейчас работают эти люди: произносят слова, им придуманные, пользуются всем тем, что он придумал, – я имею в виду огромный проект «Жди меня» – Кушнерёв отдал его не по доброй воле: у него его детище отняли. А теперь пытаются всех убедить в том, что сохранилась какая-то преемственность, что всё в порядке. Нет. Не в порядке. И нет никого из нашей старой команды в новой «Жди меня», включая ведущих. Но в базе, которая осталась, два миллиона писем тех, кто ищет друг друга. Эти люди ни в чем не виноваты. Поэтому я, конечно, смотрела: мне важно знать, что происходит и будет происходить с программой, в которой я проработала столько лет.
– А в ВИDе вы сколько работали?
– С 1991 года. Так получилось, что я окончила Московский институт геодезии, картографии и аэрофотосъемки, а в стране был полный развал, непонятно, куда идти. В глубине души я всегда мечтала снимать кино, но, наверное, даже не посмела бы тогда произнести это вслух. Я металась по Москве в поисках работы: какие-то советско-американские предприятия, кооперативы, что-то еще. И тут звонит приятель и говорит: «В программу “Взгляд” администратор нужен. Ты не хочешь пойти?» Я дар речи потеряла. Потому что тогда я, конечно, как и вся страна, фанатела от телевидения. Это во-первых. Во-вторых, у меня была подружка Наташа Бодрова – вот ведь какая судьба, да? – ее мама, тетя Таня Бодрова, до сих пор работает на Первом канале, а тогда работала на молодежном канале радиостанции «Юность». И мы с Наташкой бегали к ней в «Останкино». И это был другой, волшебный мир: останкинские коридоры, кофе в буфете в граненых стаканах, миндальные круглые пирожные и маленькие пирожные с грибочками. Это всё завораживало. Иногда, замерев в каком-то из этих останкинских коридоров, я думала: «А вдруг я тоже здесь буду работать?»
Так что когда мой приятель позвонил, я прямо оторопела: работать во «Взгляде»? Да это же мечта! Речь ведь о том самом «Взгляде», ради которого вся страна замирала по пятницам у телевизора. И я побежала со всех ног. Тогда всё это еще относилось к молодежной редакции Гостелерадио СССР, у меня до сих пор хранится удостоверение с золоченой надписью! А пятница была отдана программам телекомпании ВИD – «Музобозу», «Взгляду», «Полю чудес» и другим. У ВИDa тогда уже было много программ. Было принято, что руководитель каждой программы прикипал к административному составу, который с ним работал. Мы пришли одновременно с Ромой Бутовским[2]. Когда нас стали оформлять в штат, надо было определиться, в какой именно ты программе, и Рома сказал: «Я хочу во “Взгляд”». А со мной вроде как всем и так было понятно: я пошла в «Музобоз». Это была моя стихия. Я проработала в этой программе с четвертого выпуска до самого последнего.
– Телевидение девяностых совсем не похоже на нынешнее?
– Ой, нет, это просто несопоставимо. То телевидение для меня прямо любовь. Такой атмосферы и свободы, как тогда, не было никогда. И возможности состояться такой больше никогда не было. Представьте: мы имели возможность своими руками создавать новое телевидение, потому что старое на наших же глазах развалилось.
– Карьеры – из администраторов в корреспонденты и режиссеры или из монтажеров в ведущие – это ведь тоже про телевидение девяностых. Кажется, тогда в телецентр мог прийти кто угодно с улицы и получить шанс.
– Конечно! К тому же нам подфартило: мой учитель Иван Демидов[3] отправил нас с Ромой учиться. Тогда на Шаболовке существовал Институт повышения квалификации работников телевидения. И мы учились и монтажу, и тому, как устроен режиссерский пульт, и самой профессии.
– Вы ведь еще делали «Акул пера», так?
– Конечно. Я иногда даже думаю с ужасом, что я сама, своими руками взрастила эту желтую прессу в нашей стране. Но было так: в конце ноября пришел Иван Демидов: «Вот, Свет, надо такую вот какую-то программу нам сделать, чтобы журналисты сидели в студии, вопросы, герой…» Всё как-то ни шатко ни валко, ничего конкретного. Я говорю: «Ну, подумаю». А он, уже выходя из аппаратной, произносит: «Свет, я забыл тебе сказать. В эфир выходим второго января».
– Вышли?
– Вышли, конечно. Первым героем был Валерий Леонтьев. И всё получилось! Тогда иначе не могло быть. Это была какая-то счастливая смесь невозможного фанатизма и любви к профессии: никакой личной жизни, все живут с зубными щетками на работе, для всех работа – это дом родной, а никакого мира за пределами телецентра как будто не существует. Мы не то чтобы горели на работе. Мы просто этим жили и были счастливы. Хотя и ругались, и ссорились, и умирали от недосыпа. Иногда я даже не могу поверить, что я своими глазами видела такое телевидение почти двадцать семь лет тому назад, что всё это со мной было. Представляете, у меня с 1991-го до 2014 года была только одна запись в трудовой книжке: телекомпания ВИD.
– А как вы в программу «Жди меня» пришли? Как и кем она была придумана?
– Для меня все началось со звонка Кушнерёва: «Светка, а ты не хочешь делать со мной замечательную программу “Жди меня”?» И я говорю: «Хочу». – «Тогда приезжай прямо сейчас. Мы готовим съемки». Съемки были назначены уже через два дня. Эта программа в самом начале называлась «Ищу тебя». Ее придумали Андрей Разбаш[4] и журналистка Оксана Найчук. Несколько выпусков в прямом эфире вышли на канале РТР. Кушнерёва в программу позвал Разбаш. Но на РТР что-то не получилось. Найчук оставила за собой название «Ищу тебя». А Кушнерёв стал программу допридумывать. «Жди меня» в том виде, в котором все ее знают, впервые выйдет в эфир в 1999 году на Первом канале.
– Как сам Кушнерёв попал в ВИD?
– Он пришел в ВИD из «Комсомольской правды» в 1992-м или в 1993-м. При этом ВИD же базировался не в «Останкино», а на улице Лукьянова. Там были монтажки, в которых посменно монтировали и «Взгляд» и «Музобоз». Я, собственно, монтировала свой «Музобоз». И взглядовские меня страшно бесили: они монтировали ночью и постоянно задерживали аппаратную. Расклад был такой: мы же шоу-бизнес, крутыши, а эти – журналисты со всей своей политикой и правдой жизни, ну их! И мы всё время друг друга поддевали в этой очереди на монтаж. Помню, после того как они взяли Сережу Бодрова, я стояла над ними, когда они монтировали, и говорила: «Кого это вы взяли? Он как-то так говорит, что его не смонтируешь, – вот вы и сидите так долго». Мне отвечают: «Это артист».
– Вы до знакомства с Бодровым разве не видели его на экране?
– Нет. Причем за несколько недель до нашего знакомства мне в одном простеньком видеопрокате на проспекте Мира ребята, которые как-то скатывали все последние новинки и у которых всё всегда было, вдруг предлагают: «Посмотрите, “Брат” вышел, наш фильм, очень хороший». Я говорю: «Я наши фильмы не смотрю». Ну не смотришь – и не смотришь, ладно.
– И «Кавказского пленника» не смотрели?
– Нет. Зато «Кавказского пленника» посмотрел Сережа Кушнерёв. Он тогда был главным редактором «Взгляда». И позвал Бодрова. Вначале в эфир, а потом в кадр.
– То есть посадить Бодрова в кадр, сделать ведущим – это было решение Кушнерёва?
– Ну конечно, да. Сперва во «Взгляд» пригласили Сергея Владимировича[5] и Сережу как гостей. Прямо во время эфира у Кушнерёва глаза загорелись, и он решил позвать Сережу ведущим. Он как-то почувствовал, что Бодров из нового поколения, он герой этого поколения – вот это Кушнерёв в нем разглядел. У него был потрясающий талант – сразу видеть человека. Они после того эфира разговорились, пошли куда-то в бар, там долго продолжали разговор. Потом созванивались, встречались. Серега [Бодров] не сразу решился. Ну как-то был, по его словам, не готов. Но Кушнерёв же умеет заводить своими идеями, он же страшно увлеченный! В общем, уговорил. И Бодров сам загорелся. И они уже как сцепились, так и не расцеплялись – на работе, после работы всё время что-то придумывали, обсуждали: «А давай так, а давай так?» Они мгновенно оказались на одной волне.
Знаете, когда в фильме Юрия Дудя[6] я услышала своими ушами, как Александр Михайлович Любимов[7] рассказывал, как «заметил этого молодого», меня это возмутило. И маму Сережину это тоже возмутило. Человек на голубом глазу говорит: «Я его заметил, я его увидел, я его пригласил». Нет! Никакого отношения к приглашению Бодрова во «Взгляд» Любимов не имеет. Они никогда не были друзьями, у них никогда не было теплых отношений. Скажу больше: когда в нашем доме, в нашей семье случилась трагедия, Саша Любимов не позвонил ни мне, ни маме Сережиной. Не предложил помощь и не спросил: «Света, как ты?» Хотя он с готовностью участвует во всех фильмах про Сережу, представляясь его большим другом.
Друзей – их вообще очень мало. Когда все кому не лень про моего Сережу делают фильмы на разных каналах, меня поражает количество людей, мне незнакомых, которые выдают себя за друзей Сережиных. Может быть, они когда-то раньше были друзьями? Не знаю. Но пока мы жили с Сережей, в нашем доме появлялись регулярно только четыре человека: Сергей Анатольевич Кушнерёв, Сергей Михайлович Сельянов[8], Алексей Балабанов и еще Володя Карташов, художник, который погиб вместе с Сережей. Всё. Сейчас остался только Сельянов, с которым мы встречаемся, к сожалению, очень редко. А Балабанова уже нет. И Сережи Кушнерёва тоже нет.
– А как вы познакомились?
– На самом деле, и с Кушнерёвым, и с Бодровым мы познакомились одновременно в 1997 году. Мне, как одному из лучших работников телекомпании ВИD, пообещали отпуск в любой точке мира, где захочу. Я выбрала Ниццу. А потом они Ниццу зажали и говорят: «Взгляд» едет на Кубу, они будут работать, а ты – отдыхать. Садясь в самолет, я ненавидела «Взгляд» и всех этих людей, с которыми мне придется почему-то провести свой отпуск. Ну и я им не понравилась. Кушнерёв потом вспоминал: «Фифа какая-то в очках вся из себя». Но в самолете мы с Кушнерёвым неожиданно разговорились. Разумеется, про телевидение. Я, конечно, про своих «Акул пера», что хочу менять формат, что-то добавлять. Он все больше слушал. Потом он мне рассказал, что тогда подумал: ну да, вроде не дура, можно и поговорить. А лучший друг Кушнерёва – Бодров, у них общий «Взгляд», бессонные ночи, которые они в спорах и разговорах проводили на даче Кушнерёва в Валентиновке. И в самолете они рядом сидели. Но, к несчастью, во время полета пилотам сообщили, что у Кушнерёва в Москве умер отец, очень известный московский нейрохирург. И Кушнерёв вынужден был первым же рейсом улететь обратно в Москву. А Бодров остался.
И вот там, на Кубе, мы вдруг как начали с ним разговаривать… Я почему-то прекрасно это помню: мы зацепились в домике Хемингуэя друг за друга. И дальше говорили, говорили не переставая: о себе, обо мне, о нем. Он потом мне в одном письме написал: «Мы с тобой как два брата-близнеца, которых разлучили тридцать лет назад». Мы, знаете, были как неотлипшие какие-то друг от друга, можно так сказать? Говорили друг с другом так, как будто до этого молчали всю жизнь.
– То, что этота самая любовь, вы оба поняли сразу и одновременно?
– Знаете, я пыталась стенки какие-то строить, конечно. Я-то привыкла жить одна, я была взрослая – тридцать лет, мне казалось, что я никогда уже не выйду замуж и никогда у меня не будет детей; я была уверена: в моей жизни есть и будет только одно – работа. И я этим защищалась. Но Серега не отпускал. После Кубы мы с ним практически не расставались.
Хотя нет: сразу по возвращении из Гаваны мой Сережа должен был с Сережей Кушнерёвым поехать на рыбалку на Дон. Они давно договаривались. На целых две недели. Там, куда они ехали, не было связи. И вдруг мне на пейджер от Бодрова приходит сообщение. Очень теплое, личное, нежное такое. И я думаю: «Ну почему? Ну ведь если есть связь, что же он, не может позвонить мне?» Потом оказалось, что это Петя Толстой был там с ними на рыбалке, но вернулся раньше. И Серега дал ему вот такое поручение. Но я же не знала! Скучала, конечно: только вроде встретились – и расстались зачем-то. И вот тут-то я и пошла в свой видеопрокат на проспекте Мира: «Ну давайте мне уже этого “Брата”, о котором вы говорили». Они: «Ты ж не хотела смотреть». – «Ну, не хотела, теперь захотела». Взяла я кассету и, пока его не было, посмотрела ее, наверное, раз сто пятьдесят пять. Потом он приезжает. И мы уже не расстаемся, всегда и везде вместе. Как-то вечером я ему предлагаю: «Ой, у меня такие ребята классные есть тут в одном видеопрокате. Пойдем выберем что-то, посмотрим». Мы с ним заходим. У ребят челюсть отвисает, и они на все вопросы отвечают односложно. «Есть чего посмотреть?» – «Ничего нет». – «Ну а что-то новенькое, интересное?» – «Ничего нет вообще». И Серега говорит: «Хороший, действительно, у тебя видеосалон, богатый выбор». И только он вышел – они на меня набрасываются: «Ты зачем его сюда привела? Нас же посадят теперь!» Это же были времена, когда фильмы подпольно записывали. Уже на улице мы с Серегой поняли, какая дикая картина у них сложилась в голове: сперва я отказываюсь смотреть «наше» кино, потом требую «Брата», а потом прихожу к ним с главным героем. Боже, как же мы ржали с Бодровым тогда.
– А Кушнерёв? Он стал вашим общим другом или так и остался Сережиным?
– Поначалу в моей жизни был только Бодров. Он заполнил собой всю мою жизнь. Но мы, конечно, общались с Сережей [Кушнерёвым]. Я уже успела побывать в его Валентиновке, где они с Серегой [Бодровым] так любили целыми вечерами, ночами напролет что-то придумывать.
Как-то мы с моим Серегой в Валентиновке у Кушнерёва крепко разругались. Это было самое начало: он со своим характером непростым, у меня тоже характерец не самый покладистый. Я хлопнула дверью, прыгнула в машину – я же крутышка: шоу-бизнес, машина, мобильный телефон. И я от них – вжух! – умотала. Мне потом Сережа рассказывал, как Кушнерёв вдруг говорит: «Сережа, ты не хотел бы на Свете жениться?» А Бодров отвечает: «Хотел бы очень. Она не хочет». И весь наш уже серьезный роман, по сути, развивался в Валентиновке. Потому что мы каждый день после съемок, после каких-то дел приезжали туда. У Сережи в этом доме даже была своя комната. И мы подолгу всегда засиживались. Мы все были молоды, с горящими глазами, одной группы крови.
Но Кушнерёв, когда мы только поженились, подревновывал Серегу малость. Мы же тогда еще не работали вместе. А у них все проекты, все мечты общие, и из-за меня, выходит, у них меньше оставалось времени на ночные посиделки в Валентиновке. Но они всё равно урывали себе время. Помню, в ночь известного урагана 1998 года я осталась у мамы на даче, а Бодров с Кушнерёвым – в Валентиновке. И когда полетели все эти деревья, меня такой ужас охватил! Я была беременна нашей старшей дочерью Олей и думала: «Господи, наверное, Сережа там переживает за меня!» А мобильные тогда не везде ловили. Я еле дождалась утра, чтобы доехать до ближайшей точки, где была связь. Звоню Кушнерёву: «Серега, ты передай, чтобы Бодров не переживал, у нас всё нормально». Он говорит: «А чего случилось-то?» Я: «Так. А у вас был ураган?» – «Ураган? Какой ураган? Ну, у нас свет отключали ненадолго. Мы как раз за компьютером сидели, придумывали там кое-что. И еще думаем: какого черта свет выключили! Ну, свечку зажгли». Только он трубку положил, выходит на крыльцо – а у него там вековая елка лежит. В десяти сантиметрах от дома упала! А они сидели в своих идеях и ничего не заметили!
Короче говоря, и они вдвоем, и мы втроем сидели в Валентиновке у Кушнерёва и говорили до бесконечности о проектах, о планах – обо всем! И наш с Серегой [Бодровым] роман неотделим от этих разговоров. Именно на этом фоне и именно с подачи Кушнерёва мы с Сережей решили, что свяжем свою жизнь надолго. А с Кушнерёвым с этих самых дней мы были друзьями. Самыми близкими, наверное, друзьями. До самого последнего дня его жизни – 27 февраля 2017 года.
– А потом вместе работали в «Жди меня» – и вместе оттуда ушли.
– Да. И я хочу сказать, что мы никогда бы не ушли из «Жди меня». Мы бы и делали эту программу до последней возможности. Мы ее любили. Это была больше чем просто программа. Особенно для Сережи [Кушнерёва]. Не знаю, с чем сравнить, сравнение с ребенком какое-то глупое… Это была его жизнь. Он придумал потрясающую систему поиска по всему миру потерявшихся людей, алгоритм, при котором вот в этих двух миллионах писем два ищущих друг друга человека находились бы за две минуты. Можете себе представить? И когда сейчас я слышу, что Александр Михайлович Любимов говорит в кадре: «Мы», «Мы думали, как искать», я вообще не понимаю: кто вот эти «мы»? У меня такое ощущение, что я все эти четырнадцать лет, наверное, на Луне где-то была или на Марсе. И как-то пропустила участие Александра Михайловича в этой истории. Но нет, я сидела в «Останкино», в аппаратной, рядом с человеком, который создал всё это на моих глазах и у которого в жизни не было ничего важнее и значимее «Жди меня». Я видела, как Кушнерёв это придумывает, я видела результаты его бессонных ночей, реализацию его задумок, о которых он даже, может, и не рассказывал, но «Жди меня» – это была его воплощенная мечта, которая жила и развивалась.
– В пресс-релизе новой «Жди меня», которая теперь выходит на НТВ, фамилии Кушнерёва нет.
– Любимов в первом выпуске программы произносил в эфире фамилии Кушнерёва и Бодрова, который, между прочим, к «Жди меня» не имел отношения. Но зачем-то надо вот ему было прикрываться этими именами. Зачем-то надо выдавать себя за друга Бодрова. Хотя, повторю, они не были друзьями. Знаете, после некоторых событий, думаю, для Бодрова было бы оскорбительно, если бы Любимова называли его другом.
– О чем идет речь?
– Я расскажу только один эпизод. Балабанов начал снимать «Брата 2». Должны были снимать в 1998 году, но не нашли деньги. Помню, как мы встречались – я, Сельянов и Сережа – с Любимовым и с Ларисой Синельщиковой[9], которая тогда уже работала в ВИDе, и просили их помочь с деньгами. Сельянов, помню, стучал по столу: «Это будет народное кино!» Но денег на съемки не было. Сельянов их нашел только в 99-м. В том же году, еще до съемок «Брата 2», Сережа Бодров принял решение уйти из «Взгляда».
– Почему?
– Потому что ему надо было дальше развиваться, что-то делать, не останавливаться. Он, конечно, хотел снимать кино, писать сценарии, писать книги. Он понимал, что телевизионная рутина затягивает.
Сережа – человек очень свободолюбивый. А на телевидении полно каких-то обязательств. Когда нет развития, тебе кажется, что ты топчешься на одном месте и у тебя дальше ничего не происходит. В один прекрасный день ему всё окончательно надоело, и он решил уйти. Кушнерёв очень глубоко переживал его уход. Но они как-то это решили между собой. Моя позиция была такой: «Сережа, что ты ни сделаешь – я тебя во всем поддержу». Серега [Кушнерёв] его, конечно, уговаривал, какие-то приводил аргументы, это был их мужской разговор, не знаю какой, не буду говорить. В итоге Кушнерёв всё понял и принял. Но в руководстве ВИDа уходом Бодрова были недовольны. Даже мне звонили из телекомпании.
– Кто звонил?
– Помню, что звонила Лариса Синельщикова: «Уговори его». Я ответила: «Это даже не обсуждается. Какие уговоры могут быть? Он взрослый человек, который самостоятельно принимает решения».
Был недоволен и Любимов. Наверное, он понимал, что «Взгляд» в основном смотрели из-за Бодрова. Его это очень обижало, я думаю. Это было видно, например, когда он быстрее Сережи спешил сказать фразу «Все только начинается», хотя Кушнерёв написал ее специально для Бодрова, это была Сережина фраза.
Мне кажется, с некоторой завистью Любимов относился к Сереже еще и потому, что понимал: их время (того «Взгляда» 1987 года) прошло. Поколение выросло, а Бодров стал символом нового поколения, молодым героем: вышел «Кавказский пленник», вышел «Брат».
И тут как раз съемки «Брата 2». По сценарию Лёши Балабанова братья в самом начале картины приходят в «Останкино». Балабанов придумал, что они должны прийти в программу «Взгляд». Логично. В роли ведущего хотели снять Любимова. Он согласился. Пообещал и с организацией съемки помочь, и студию «Взгляда» дать. К тому времени «московский» период фильма был уже почти доснят. Сцена во «Взгляде» чуть ли не последняя, потом они должны были ехать в Америку. А за день до съемок из «Взгляда» звонят Балабанову и говорят: «Вы знаете, всё отменяется. Студии “Взгляда” у вас не будет, Любимов сниматься отказывается». Это была месть. Мелкая, гадкая, которая больше всех ранила Лёшу [Балабанова].
Всё происходило на моих глазах. Балабанов, когда приезжал в Москву, всегда останавливался у нас. Мы жили в Раменках: маленькая квартирка, на кухне вместо стола – коробка из-под телевизора, посуду мыли в ванной. И я помню бедного Лёшу, совершенно потерянного, как он по кухне ходит вокруг этой коробки. Он даже не кричал. Он просто был раздавлен. Он не мог понять: как, как можно так предать, как можно отменить всё в последний момент, почему договоренности ничего не значат? Его оскорбило именно человеческое отношение. Студия не сгорела, ничего не произошло. Просто отказали.
И тогда Балабанов вдруг на полном серьезе, глядя в глаза Бодрову, сказал: «Я не буду снимать кино». Стал звонить директору картины, чтобы покупали обратные билеты в Питер. У меня эта сцена всегда встает перед глазами, когда Александр Михайлович [Любимов] публично говорит о своих друзьях Балабанове и Бодрове.
– Но сцена в «Останкино» в «Брате 2» есть. Хотя в ней нет Любимова.
– Когда Балабанов собрался уезжать, я его буквально за рукав схватила: «Лёш, ради бога, подожди, пожалуйста, я тебя прошу. Ну не один же он на телевидении работает. Сейчас мы что-нибудь придумаем быстро». Он: «Нет – и всё». Мы с Бодровым сидим возле этой коробочки в ступоре и не понимаем, что делать. Но тут вспомнили, что на свете, к счастью, есть Ваня Демидов. Ему, по-моему, звонил Сельянов. Ваня без вопросов согласился и сам сняться, и студию дать. А все люди, которые должны были по сценарию быть на площадке, – это те, с кем я работала в программе «Канон» на том же ТВ-6, такое было ток-шоу о религиозных вопросах. Помню, как я звонила всем своим «боевым» товарищам, и никто не отказался, никто денег не попросил: «Свет, тебе чего надо-то?» – «Мне надо, чтобы вы снялись в хорошем кино». – «Ну ладно, давай».
Своего звукорежиссера, администратора, ассистентов, всех операторов, Сашку Жуковского великого – всех вытащила. Лёша был так счастлив, аж глаза вытаращил. Вот так и я, и все мы попали в фильм «Брат 2». Не так, как говорили потом, что в кино жену Бодрова сняли. А из-за того, что случилась такая ситуация. И все пришли и снялись у Балабанова. Лёша был очень тронут. Вдруг уже на площадке говорит: «Кто у вас тут на всех кричит обычно?» Демидов засмеялся: «Ну догадайся». Балабанов: «Свет, ты можешь на них сейчас наорать, когда они войдут?» – «Легко!» Командуют: «Мотор!» Бодров с Пироговым влетают в студию, и я как заору: «Здесь прямой эфир! Вы что! Сколько вас ждать?» Серега останавливается, спрашивает: «Свет, ты чего кричишь-то?» Я отвечаю: «Я артистка!» В общем, первый дубль испортили. Сняли со второго дубля, хотя первый был более естественным.
Всю эту мизансцену Лёша, конечно, на ходу придумал, этого не было в сценарии. Он всех нас снимал в благодарность за то, что мы его выручили. А мне даже дал слова: я за пультом сижу и говорю свои обычные команды. Ему очень понравилась фраза: «Саш, не режь голову ему». Он потом оставил ее в монтаже. А в титрах мы значились как «люди, сыгравшие самих себя». Тогда у меня еще была фамилия Михайлова.
– Вам фильм понравился?
– Мне всегда нравилось всё, что делает мой Сережа. Понимаете, мы с ним были на одной волне, я его поддерживала во всём этом. И всегда и во всём им гордилась. Помню, когда он диссертацию защищал, я вышла и говорю ему: «Я тобой, как Родиной своей, горжусь, Серега!» А ему там в комиссии говорят: «Жена на вас так смотрела! Невероятно…» А я просто каждую секунду понимала, какое мне выпало счастье: какой невероятно глубокий и талантливый человек рядом со мной.
Знаете, я теперь понимаю: мы так много могли бы нашим детям дать вдвоем. Я одна не в состоянии это сделать. Мне от этого очень тяжело. Тяжело, что у меня нет этих ежедневных часов на кухне с ним, когда мы могли до утра говорить, говорить, говорить. Могли молчать точно так же. Ехать в машине и молчать. Или дома находиться и молчать. Иногда я вижу, как люди не умеют молчать друг с другом, а мы с ним могли. Не разговаривали, но это не значило, что мы не хотим разговаривать, мы всё равно вместе, у нас внутренний между собой диалог. И наш сын Саша – он такой же, очень похож по характеру на Сережу. Очень. Даже в движениях иногда: когда он начинает кривляться или танцевать, меня прямо током пробивает, потому что я вижу Сережу. Как-то на генном уровне всё передалось, вплоть до характера. И я понимаю, что если бы они с Сережей сейчас были вместе, насколько тонко они друг друга чувствовали бы!
– Бодров после «Брата 2» стал снимать сам потому, что больше не хотел сниматься?
– Вначале был сценарий «Морфия». Он думал, какой сценарий написать, и я ему посоветовала «Морфий», поскольку Булгаков – мой любимый писатель, а «Морфий» – такое многоуровневое произведение: история любви, история падения и этот лейтмотив постоянного бега, когда герой бежит из больницы, от себя, а там уже революция во всю Ивановскую. Я говорю: «Попробуй». Он увлекся и очень хороший сценарий написал. Но не готов был «Морфий» снимать в тот момент, говорил, что это должна быть глобальная картина. В итоге Лёша [Балабанов] снял. Но это не тот фильм, который был задуман, хотя Сережина фамилия стоит в титрах, но это уже было, когда его не стало. После «Морфия» появились «Сестры». Мы для них в Питере вместе локейшены выбирали, натуру, я ему помогала. Он привозил материал, мы вместе отсматривали, я давала даже какие-то советы.
А потом появился «Связной». На уровне идеи. Это началось, когда Серега снимался в «Востоке – Западе»[10]. Там, на съемках, он познакомился с двумя такими полубандитами, ребятами из Дагестана, насколько я помню. Они скрывались за границей. Он, когда звонил мне оттуда, рассказывал, как ему интересно их слушать. Серега вообще любил слушать людей, он обожал истории из чьей-то жизни. Он Нину Ивановну, мою маму, всегда упрашивал рассказать что-нибудь про послевоенные годы, бабушку мою, когда еще жива была, расспрашивал про жизнь, любил старушек слушать. Так вот, в Болгарии, где снимали «Восток – Запад», эти полубандиты рассказали ему, как они убегали, как прятались, про какую-то реально существующую колдунью, которая им повстречалась. И Серега за ними все записывал. Так возникла идея картины «Связной». Там даже героев зовут Армен и Ильяс – так реально звали тех ребят. Он писал очень долго, вымучивал этого «Связного». Он ему был дорог.
Помню, как он мне дал его прочесть в первый раз. И у меня такое чувство было, знаете, я про себя подумала: «Как у этого совсем еще мальчика столько всего сразу помещается в голове? Какой он талантливый! Какое мне выпало счастье». Вроде мы рядом, какая-то бытовуха окружает, но в то же время у меня в руках оказалось произведение, которое представляет его совсем в другом качестве, – со сложными конструкциями и глубоким проникновением в суть многих вещей, жизни, характеров людей. Всё это переплетается. И я читаю и понимаю, что я соприкасаюсь с человеком невероятного таланта и ума. А он рядом со мной ведь живет! Это трудно объяснить толком, но когда у тебя идет обычная жизнь, даже пронизанная отношениями, любовью, наполненная детьми, ты всё равно не всегда можешь до конца оценить счастье, которое тебе судьба подарила, – быть рядом с таким человеком. А еще я горжусь, что он всегда мне говорил: «Если бы не ты, я, может, не снял бы, не написал». Да, я, конечно, подталкивала его заниматься своим делом. И, дописав сценарий «Связного», он сказал: «Я сниму это так, что мне не стыдно будет перед тобой».
Там еще в сценарии был такой персонаж – афганец Лёха. Бодров никак не мог выбрать актера на этот характер. Сам сниматься не хотел. Но я, когда прочитала сценарий, сказала: «Эта вот роль – твоя, твоя же!» И уговорила его там сняться всё-таки. А он стал уговаривать меня пойти к нему на эту картину вторым режиссером. Потом к этим уговорам подключилась тяжелая артиллерия – Сельянов. Он понимал, что тут всё, как в «Жди меня», где я без слов чувствую, чего хочет Кушнерёв. На «Связном» я смогу понимать Серегу [Бодрова] c полувзгляда. На площадке на такой сложной картине ужасно важно, когда рядом люди, которым не надо ничего долго объяснять, которые могут без лишних слов делать всё тобою задуманное. В результате Бодров с Сельяновым меня уговорили.
И я уволилась из «Жди меня». Серега был в шоке, Кушнерёв. Я уволилась, несколько выпусков вышло без меня, а потом программа ушла на повтор, потому что Кушнерёв никак не мог свыкнуться с мыслью, что программу будут делать без меня. А в августе родился наш с Бодровым сын Саша. Я хорошо помню, как мы едем в машине из роддома и звонит Кушнерёв: «Поздравляю, Светка!» А потом говорит Сереге: «Ну, когда встретимся?» Бодров отвечает: «Слушай, я сейчас уезжаю на съемки в Северную Осетию. Как вернусь из Владикавказа, так и встретимся». Это был последний их разговор. После рождения Саши мы две недели побыли дома. Потом Серега отвез нас на дачу и уехал на эти съемки. Я прямо как сейчас вижу: он садится в свой этот любимый «лендровер дефендер» огромный и говорит: «Я из аэропорта сразу к вам». Это последняя его фраза. А я его провожаю. Знаете, он как прилетел в мою жизнь, как птица, так и улетел.
– Кто был рядом, когда всё случилось?
– Приехал Сережка Кушнерёв. Приехал и сказал: «Свет, возвращайся, пожалуйста, в “Жди меня”». И вот 20 сентября всё случилось, а 5 ноября я уже пошла на съемки.
– Иначе бы вы не выжили?
– Во всех смыслах не выжила бы. Нам ведь еще и не на что было жить. Мы перед отъездом Серегиным купили квартиру. Тут были голые стены. Двое детей. Надо как-то их кормить, надо деньги зарабатывать, надо жить. Но я не помню этих месяцев. По-моему, я вообще ничего не соображала. Я даже не понимала, что всё, что я остаюсь ни с чем, что всё кончено.
– Кушнерёв летал в Осетию?
– Нет. Я летала каждые выходные. И знаете, когда в разных фильмах и передачах осетины говорят, что на уровне правительства, страны им никто не помогал, то это не так. Там когда уже собирались всех спасателей разогнать, не было никакой техники, не было никакой поддержки и телефон молчал – вот это тоже очень страшно, когда телефон замолчал, уже всё, никто не верит, не говорит ничего… Тишина. Знаете, как-то всё было на грани. И мне Сережка Кушнерёв говорит: «Тебе надо, наверное, позвонить Эрнсту. Только у него может быть выход наверх». На уровень президентов республик, которые могли отдать команду продолжать искать, – кто из нас мог выйти? Сережка добыл мне телефон, и я позвонила Косте Эрнсту. Я звонила в забытьи уже каком-то, в отчаянии, совершенно не разбирая, какой день недели, который час. Я ему, рыдая, сказала в трубку: «Я тебя прошу как женщина, как жена, как мать. Я умоляю тебя, помоги!» И Костя, надо отдать ему должное, говорит: «Света, я помогу. Сейчас праздники, они закончатся, и я сделаю всё, что будет в моих силах». Потом оказалось, что я звонила ему вечером 31 декабря. Но я тогда не очень это понимала.
– Эрнст помог?
– Да. Он мне перезвонил и сказал: «Шестого января там будет техника». И техника приехала: экскаваторы, тракторы, всё, что требовалось. Про это никто обычно не говорит. И сам он не говорит. Но так было. Я потом часто звонила ему, иногда прямо с горы, оттуда, из Осетии. И он связывался с Шойгу, с другими министрами. И они помогали, выделяли, посылали. Водолазов, спелеологов. Он почему-то об этом всегда молчит. А я никогда прежде не давала интервью, вот никто и не знает.
– Вы с ним встречались в это время?
– Он вызвал меня сразу, когда всё случилось. Был потрясен тем, какая у меня зарплата, повлиял на то, чтобы ее подняли хоть немного, чтобы я могла выживать. До самого последнего дня поисковой операции он был на связи, звонил, спрашивал, помогал. Не хотел верить, что это конец.
В это поверить было невозможно. Очень больно. Знаете, когда мы привезли Сережины личные вещи из Осетии, я разбирала их. И в сумке лежала совсем потрепанная записка, которую я ему писала еще в Петербурге, когда он снимал «Сестер». У нас еще Саши не было, была только Олечка. Там в конце было написано: «Помни, что два человека на этой Земле любят тебя по-настоящему: я и Олечка». И я нашла эту записку в его сумке… вынести это было невозможно.
– Вы часто писали друг другу?
– Да. Мы и по телефону каждый день говорили, и всегда писали, всё время: записку на кухне, какое-то коротенькое письмо. Или длинное, если в разлуке. Когда он уезжал, допустим, на «Восток – Запад», я ему каждый день писала письма и он мне каждый день писал письма. И мы менялись, когда он приезжал. Я их перечитывать до сих пор не могу. А вначале даже доставать из коробок было невозможно.
Еще помню, как наш компьютерный гений Лёша Бартош улетал на съемки «Последнего героя» отвозить кассеты. Узнав об этом, я накатала тут же Бодрову огромное письмо. И Лёша полетел. Прилетает обратно в Москву и говорит с порога: «Слушайте, Бодровы, вы чокнутые, так нельзя!» Я: «Лёша, что случилось?» А он: «Я приехал на “Последнего героя”, всё хорошо, сидим, болтаем с Бодровым и Кушнерёвым. И тут я вспоминаю: “Ой, Серега, тебе Светка письмо передала”. – “Да что же ты молчишь, где оно? Отдай! Раньше не мог сказать?” Схватил письмо и ускакал с ним. И теперь со мной не разговаривает». Я говорю: «Так, Лёх, что-то долго ты со мной говоришь. А Серега-то письмо мне передал?» – «Да». – «Так давай же, ну что ты стоишь, давай скорее, ты что, дурак, что ли, Лёха?» И он развел руками: «Вы, Бодровы, точно чокнутые. Бери свое письмо, отстаньте от меня».
– А как вообще появилась идея «Последнего героя?» Это же первое такое масштабное реалити-шоу на российском телевидении.
– У «Последнего героя» был рейтинг пятьдесят. Кажется, этот рекорд до сих пор не побит. «Последний герой» в том виде, в котором он покорил страну, появился на свет тоже в Валентиновке у Кушнерёва. У меня, как сейчас, перед глазами картина: наша дочка Оля маленькая совсем, бегает вокруг нас в валеночках. А мы с двумя Серегами вперились в экран, смотрим Survivor, который вышел в эфир за два года до нашего «Последнего героя», Кушнерёв где-то нарыл кассету на английском языке: одна серия, другая. Оля в этих валеночках уже замучилась бегать, собачка кушнерёвская, Фунтик, тоже умаялась, они сидят где-то у нас в ногах, а мы оторвать глаз не можем. И вот тут, конечно, у них с Бодровым засела мысль: мы должны это сделать. Потом была еще великолепная идея «Игра в жизнь», она не воплотилась. Хотя я разбирала Сережкин архив, пересматривала карточки, нашла прямо расписанную программу. Еще был проект «Большая мечта», совершенно прекрасный; тоже не осуществился.
– Кушнерёв, наверное, первый и последний российский продюсер, который сохранил веру в то, что телевидение, касающееся человека, трогающее его за душу и живущее вместе с ним, – это и есть национальная идея.
– Да, конечно. Так и есть. Недаром про «Жди меня» один журналист написал когда-то: «Нация объединяется по понедельникам», – такой популярностью и такой социальной значимостью обладала эта программа. Это всё вместе: любовь к людям, кропотливый труд, бессонные ночи и преданность делу. Кто поверит, если я скажу, что Кушнерёв собственноручно отвечал на письма, которые приходили в «Жди меня»? Иногда меня это даже бесило. Ну представьте, он мне говорит: «Светка, там женщина написала одна, спрашивает, какую музыку ты положила в таком-то эфире. Ты можешь написать ей название, а лучше даже прислать трек?» Я ему: «Серег, ты чего, обалдел, что ли? Я чего, буду сейчас все эфиры перелопачивать и каждому, кто захочет, музыку присылать? Я же монтирую, у меня работа есть». Он так голову поднял, посмотрел на меня и сказал: «Свет, это надо сделать». Это же уважение к зрителю! Еще со времен «Взгляда» у них с Бодровым была такая идея – когда «Взгляд» помогал потерявшимся людям встречаться в ГУМе у фонтана.
И Кушнерёв Бодрову это же внушил. Они с Серегой придумали ответ на письмо мальчика одного, тот написал про старшего брата, который мечтает играть на трубе, – Бодров приехал к нему под окна с духовым оркестром, и ему подарили трубу. Тогда начался проект с Дедом Морозом из «Взгляда», которому можно было написать и который мог исполнить желание, приехать и подарить подарки, – этим Дедом Морозом был Бодров. Еще помню одну историю, когда во «Взгляд» Сереге [Бодрову] пришло письмо от одной женщины: «Вы – кумир моих сыновей. Так получилось, что у младшего украли мотоцикл, а старший в армии. И младший ходит, кулаками грозит: “Я брату скажу, он приедет и за этот мотоцикл убьет всех”». Женщина пишет: «Что мне делать? Это же неправильно». Ну, Серега прочитал – и прочитал. А Кушнерёв говорит: «Надо ответить». И Сережа лично отвечал этой женщине, писал ей, ее сыну.
Наверное, никто не поверит, но, будучи главным редактором «Жди меня», Кушнерёв сам монтировал выпуски программы на все те страны, где она выходила. Я монтировала всегда наш основной, московский, выпуск на Первый канал, а Серега сидел в соседней аппаратной и монтировал для Украины, Белоруссии, Казахстана, Армении, Молдавии… Он же главный редактор, мог бы, как обычно это бывает на телевидении, сидеть в кабинете за дверью, к нему бы входили со стуком, а он пробегал бы верстку глазами. Но Кушнерёв сидел в монтажке и в аппаратной вместе со всеми, мы что-то обсуждали, ругались, орали друг на друга.
– Ссорились?
– Да. Даже не разговаривали иногда. Тогда писали друг другу письма. Но он запросто мог позвонить в три часа ночи и начать как будто после запятой: «Светка, ты знаешь, вот этот момент, в котором мы сомневались, мне кажется, надо вот как сделать». Он так это говорил, как будто был уверен, что я в эту секунду сижу перед телефоном и жду его звонка. Так было всегда, все эти четырнадцать лет. Он оставил «Жди меня» только однажды: когда запускался «Последний герой».
Я хорошо помню это время: 2001 год. Нам с Серегой [Бодровым] негде жить, потому что мы продали старую квартиру в Раменках и уехали жить в Кудрино, где мне от бабушки с дедушкой досталась земля, и я поставила там дом, скорее такой летний. Но делать нечего, мы туда перебрались вместе с маленькой Олей, Сережей и моей мамой Ниной Ивановной. И тут запускается эта их авантюра, «Последний герой». Никто не понимает, чем всё это кончится, денег нет, проект огромный. А мы с Кушнерёвым вообще-то ваяем каждую неделю «Жди меня». И тут он говорит: «Светка, я уезжаю на “Последнего героя”, ну, на пару недель, на запуск». А то, что вести «Последнего героя» будет Бодров, – это даже не обсуждалось, словно было решено с самого начала. Мы с ним вдвоем придумывали ему имидж: рубашки бегали покупали, придумывали, как их завязывать. Мы болели этой идеей, как в лихорадке все жили. И вот в конце концов мы собрались вечером, и Кушнерёв заявляет, что едет на съемки. «Но, Светка, “Жди меня” выходить должна как часы, – говорит. – Ты не переживай, это дней десять, максимум две недели, и я вернусь». Вначале я и вправду не переживала: у нас много наснято материала было, я сижу монтирую, программа выходит в эфир. Неделю его нет, десять дней. Звоню: «Ты приедешь?» – «Да-да-да, вот буквально собираюсь». Две недели нет его, три. Программа выходит, я монтирую, мы выходим в эфир. Опять пишет: «Я еще на чуть-чуть останусь?» – «Да, конечно, оставайся». В результате остался он, конечно, на весь срок, не мог бросить. А «Жди меня» была на мне полностью, за что он был страшно благодарен.
Они вернулись через полтора месяца, и Кушнерёв опять ушел в монтаж «Последнего героя». И мы его не видели почти. Только однажды он вдруг приехал (его Валентиновка неподалеку от нашего Кудрина) с монтажа – не к себе, а к нам. Я как увидела его, говорю: «Господи! Ты как еще живой?» Мама моя сразу стала кормить его: щи, котлеты с гречневой кашей. А он такой уставший, что даже говорить не может, только повторяет: «Ой, как хорошо, как хорошо. Только мне на монтаж завтра к шести утра, спать не буду». Но мы как-то уложили его. Наступает утро. Я встаю рано. Смотрю – спит. Потом уже и Серега [Бодров] встал, времени – полдень. Я говорю: «Сходи посмотри, что там с Кушнерёвым творится. Спит? Не буди его. И телефоны все поотключай, пусть выспится человек, невозможно же так». Я прикинула, что у них есть до эфира еще время, никуда не денется этот монтаж. В общем, спал он долго. Выходит в валенках на крыльцо: «Светка! Это что, правда? Мне Бодров сказал – уже два часа дня!» Я ему: «Правда. Успокойся. Всё ты успеешь». И он вдруг стал такой довольный, что он выспался, что он с нами. Мы еще куда-то даже съездили вместе с Серегой и Олечкой. И дальше уже он помчался работать опять. Причем они же молчали до самого конца и даже мне не говорили, кто в этом «Последнем герое» выиграл.
– При этом вся страна была уверена, что дело происходит в прямом эфире.
– Да. Это тоже уникальный талант Кушнерёва – сделать так, что зритель верит. Вот представьте: мы едем в деревню с Сережей на «лендровере дефендере». Все сотрудники ДПС по пути уже знают, что это наша машина. Кушнерёв вечно ржал над нами: «Зачем вам автобус школьный?» Ну вот нравилась Сереже эта военная машина, дико холодная и неудобная. Я еще потом, года три после всего, что случилось, на ней ездила, не могла решиться продать. Но тогда еще никто не знал, что будет. 2001 год, мы едем, дэпээсники нас видят, тормозят: «Ага, Бодров, значит, ты не там сейчас? Когда улетаешь-то обратно?» Он: «Да не улетаю я». – «Не улетаешь, значит. Тогда говори, кто победил?» Он: «Не могу я сказать, ребят, ну правда». – «Права отберем!» – «Ну не могу я, я слово дал». Следующий день, уже все ржут: «Отберем права, говори». Каждый день останавливали, но Серега не сказал. У него вообще были смешные отношения с сотрудниками ДПС. Как-то Серега нарушил что-то, его останавливают. И дэпээсник говорит: «Серега, красный свет – стой, зеленый – иди». Это фраза из «Брата 2».
– И отпустил?
– Отпустил. К нашим программам как-то так относились люди – с нежностью. У Кушнерёва в «Жди меня» налажены были связи с МВД, медиками, полицией, патрулями, кем угодно. Нам все всегда шли навстречу. Стоило произнести: «Жди меня», и случалась какая-то магия. Все помогали. Всегда. Это было в прямом смысле слова народное телевидение. И люди это чувствовали и отвечали взаимностью. Я даже, стыдно сказать, Сашку Жуковского, оператора, подучила. Его всё время останавливала ДПС, он жаловался даже: «Еду на съемку, меня тормозят, и начинается». А я ему говорю: «Жуковский, ты говори, что едешь снимать “Жди меня”». И он приезжает после первого же поста и говорит: «Слушай, работает. Сразу отпустили. Никогда бы не поверил».
– И почему вы с Кушнерёвым осенью 2014 года ушли из программы?
– Потому что программу у нас к этому моменту уже отняли.
– Каким образом?
– Произошло то, что я называю рейдерским захватом. Шеф-редактор программы Юлия Будинайте, которую Кушнерёв привел из «Комсомолки», и Александр Любимов[11] за спиной у Кушнерёва решили, что вполне смогут делать дальше программу без него.
– То есть как? Как это произошло?
– У меня нет ответа. Я не могу сказать, что для Будинайте так же, как для меня, как для Сережи, «Жди меня» была делом всей жизни. Она была шеф-редактором, который раздавал задания корреспондентам, но никогда не появлялся на съемках. Зачем и почему ей вдруг понадобилось возглавить «Жди меня», зачем это было надо Любимову, я не знаю. Но это был заговор, о котором Кушнерёв ничего не знал до последнего момента. Они хотели сместить Сергея Анатольевича с должности главного редактора телекомпании, отобрать программу. Это было непросто сделать, ведь у Кушнерёва были двадцать пять процентов акций ВИDа.
– А у кого были остальные семьдесят пять процентов?
– Я не знаю полного расклада. Но основным пакетом владел Александр Михайлович Любимов. И он хотел стать полноправным владельцем компании. Он не подразумевал в компании наличия Сергея Анатольевича Кушнерёва, потому что понимал, что это человек с характером, очень честный человек. И Любимов решил от Кушнерёва избавиться. А Юлия Будинайте, видимо, решила, что сделает «Жди меня» и без помощи Кушнерёва. И сделает даже лучше, чем он.
– Как технически всё это происходило?
– Я ехала на работу, когда мне позвонил Кушнерёв: «Света, я увольняюсь, я вынужден уйти». – «В смысле?» – «Я узнал о том, что за моей спиной Саша Любимов хочет поставить другого человека на место главного редактора и руководителя “Жди меня”. Как ты понимаешь, я не считаю возможным остаться ни в программе, ни в телекомпании, если происходят такие вещи».
Вы представляете, он узнал об этом в одну секунду, почти случайно. С ним никто не поговорил, никто не обсудил ничего. Разумеется, что-то может не нравиться, могут быть претензии и к программе, и к руководителю. Но, наверное, такие вопросы можно решить при встрече?
– А Любимов с Кушнерёвым не встречались?
– Нет. С Сережей никто не встречался. Его увольнение приняли. А вопрос с акциями решился буквально на моих глазах. Мы стояли с Кушнерёвым после одной из последних съемок в курилке. К Сереже подошел помощник Любимова, вручил ему пакет документов со словами: «Подпишите». Я бы не рассказывала, если бы это не произошло прямо при мне. Я спрашиваю: «А что это такое?» Кушнерёв: «Не знаю». Мы вышли из телецентра, пошли к Останкинскому пруду, открыли пакет. Это были документы на подпись об отказе от двадцати пяти процентов акций ВИDа, которые принадлежали Кушнерёву.
– На каком основании?
– Не было основания, это был добровольный отказ. Наш коммерческий директор и я стали уговаривать Кушнерёва этого не делать. Я спрашивала: «Ты же можешь этого не делать? Можешь не отдавать?» – «Свет, я ввязываться в это не буду». Кушнерёв не был человеком бизнеса, ему не нужны были деньги. Он не из-за денег делал телевидение. Он любил свое дело, хотел им заниматься, развивать эту программу, запускать новые, преподавать в университете, учить молодых журналистов, ему это нравилось. Он не хотел воевать с Любимовым.
Я теперь иногда даже жалею, что уговорила его позвонить Любимову. «Надо всё равно поговорить. Так не может быть, Сереж, ну как это вот тебе в курилке дали документы с отказом от акций?» Он набирал несколько раз, Любимов не отвечал. Но дозвонился всё-таки. Они договорились встретиться. Встреча заняла пять минут. Я его ждала. Любимов сказал ему: «Сереж, ты же всё понимаешь, всё по-честному». И положил на стол две тысячи рублей. Сережа с усмешкой добавил: «Представляешь, я еще пятьдесят рублей ему остался должен. Мои акции стоили тысячу девятьсот пятьдесят рублей». Вот так, без боя подписал все эти документы, и всё. И у него всё забрали. Через несколько месяцев у Сережи случился первый инсульт. У человека отобрали дело его жизни, смысл жизни. Кушнерёв не знал, как жить не работая. И это, конечно, был страшный удар. Повторный инсульт, в 2017-м, стоил Сереже жизни.
– Вас тоже уволили?
– Нет, я им такой возможности не предоставила. Я написала заявление об уходе сразу после этого разговора с Кушнерёвым, как только доехала до работы. Я вам честно скажу: я же не из-за Сережи даже уходила. Мы все взрослые люди, а когда у тебя двое детей, которых надо кормить, ты на баррикаду с флагом особенно не пойдешь, правильно? Я подала заявление об увольнении потому, что понимала, что никогда не буду работать с этими людьми. Потому что это бездарные люди, которым эта программа по большому счету не нужна. Они не будут вкладывать туда ни душу, ни сердце, возиться с программой столько, сколько мы возились. Ну вы только представьте себе, что мы после каждой съемки собирались – ведущие «Жди меня» Игорь Кваша, Маша Шукшина, я и Кушнерёв, обсуждали эти истории, ругались, что-то придумывали. Мы это любили. Мы, представляете, страшно гордились своей работой. Тем, что можем помогать людям найти друг друга. Особенно в нашей стране, так перепаханной войной, репрессиями, лагерями.
– Не возникало ощущения привыкания или выгорания? За четырнадцать-то лет в эфире?
– Что вы! Каждую историю мы помнили, бесконечно всё это переживали. Всегда интересовались, как там дальше всё сложилось, звонили, поддерживали связь. Это не какой-то холодный подход современный к телевидению, скажем так, технократичный. Мы этим жили. И нам казалось, что это будет дальше продолжаться. Может быть, как-то по-другому, лучше, круче. Мы хотели менять кое-какие форматные решения, хотели попробовать уделять больше времени самому процессу поисков, показывать зрителю, как мы ищем, где, думали сделать это в жанре детектива. Куча идей была. Но мы по-прежнему делали «Жди меня» сердцем. И, было дело, ревели в аппаратной.
– Можете вспомнить, когда такое случилось в последний раз?
– Да. Это был 2013 год, декабрь. К нам пришли дедушка с бабушкой. Очень старенькие, но очень хорошо выглядящие и очень похожие: брат и сестра. Перед тем как они пришли, я читала сценарий. Но сценарий – это одно, а тут вдруг дедуля начинает рассказывать: «Я родился в 1916 году». И у всех в аппаратной: «Господи, вот это космос! При Николае Втором!» В общем, ему девяносто шесть лет, бабуле, его сестре, – девяносто четыре. А искать они пришли свою родную сестру, которую потеряли в 1925 году. Так получилось, что в голодные годы у них умер отец. Сестра отца, тетка, предложила свою помощь – забрать на время самую младшую девочку. И мама согласилась: голод. И вдруг семья вот этой вот тети вместе с малышкой исчезает. Больше они никогда со своей сестренкой не виделись. А через столько лет приходят к нам. И начались поиски во главе с Кушнерёвым, который разрабатывал эту тему.
– Нашли?
– Да, Катя, нашли.
– Где?
– Ее нашли в Иране. На момент съемок ей было девяносто лет. Так вышло, что семья тетки, в которую она попала, своих детей не имела. И они увезли эту девочку, выдавая за свою дочь, куда-то в Среднюю Азию, оттуда – в Турцию. Там она вышла замуж за дипломата и попала в Иран. И вот, знаете, у меня стоит перед глазами картинка, как они подошли друг к другу, все очень похожие, одинакового роста. Обнялись. И прижались головами, все трое. Студия встала. Мы с Кушнерёвым в аппаратной замерли. Мне надо кнопки на пульте переключать, а слезы капают. Они достают фотографию свою единственную, где они все втроем. И говорят: «Спасибо вам!» И тут вдруг такая гордость, вот прямо до дрожи, тебя пробирает за то, что ты делаешь, чем занимаешься. И чувствуется масштаб страны. И счастье такое большое – за всех. Помню, я повернулась к Кушнерёву и говорю: «Серега, спасибо тебе, это невероятно». Он создал невероятный проект, конечно, невероятную историю.
– Как он жил, оставшись без этой работы?
– Как он жил? Он почти ни с кем не мог обсуждать то, что случилось. Ни в коем случае не хотел своим одноклассникам, университетским друзьям и просто друзьям за пределами телевидения, которых у него было очень много, рассказывать об этих своих переживаниях. Потому что многого же не объяснишь. Особенно людям, которые в этом не варятся, очень трудно объяснить, что потеряно, без чего невозможно жить. Сережа глубоко переживал и страшно. Мы с ним, когда встречались, всё время скатывались в обсуждение «Жди меня», потому что это часть нашей жизни, большая часть жизни. Я ему как-то говорю: «Скажи честно, Серега, ты видел хоть один выпуск после того, как мы ушли?» – «Нет, Светка, нет, не видел». – «И я не смотрю тоже».
Ну, это больно было. И все разговоры про это болезненны. И потом этот инсульт, тяжелое состояние. Он не хотел, чтобы его таким видели, не хотел верить в то, что он больной человек. Поэтому в больницу могли приезжать только я, дети, которым он бесконечно радовался, и Лёшка Бартош. И я почему-то запомнила, как на девятый день в реанимации он наконец смог разговаривать. И когда первый раз он мне позвонил таким слабым голосом: «Светка!» – ой, у меня слезы градом. И я говорю: «Ну ты-то хоть меня не бросай. Я прошу тебя, пожалуйста!» Он же, понимаете, остался один такой, который связывал меня с Сережкой моим. С ним мы много про Сережу говорили всегда.
И он действительно, не на словах, понимал, что я абсолютно живу этим, что в моей жизни Сережа – это последний мужчина, который был, и никого больше в моей жизни не появилось ни мысленно, ни физически, никак. Что бы ни писали обо мне в газетах, как бы им ни хотелось какую-то новость получить. Этого не понять тому, кто не знал, что это такое, когда в твоей жизни был такой мужчина. Это счастье, которое, думаю, многие женщины не проживают за всю жизнь, какое я прожила за вот этот небольшой период. И если у тебя такое было, то ты через всю жизнь пронесешь это, ты будешь это хранить.
Я об этом, наверное, только с Кушнерёвым и могла говорить. И тогда просила его меня не бросать. И он ответил: «Не брошу, Светка». Когда он оправился, мы, помню, приехали к нему на дачу – я, Лёша Бартош, Чулпан Хаматова, все с детьми, такой хороший день был и вечер, мы много хохотали, гуляли.
Реабилитация Сережина как-то достаточно быстро прошла. Потом он зацепился за идею книги[12] и начал ее писать. Первый экземпляр подарил нам с детьми, там много про моего Сережу, Бодрова. Эта книга – фантастическая работа. Огромное количество материалов, такие тонкие вещи, такие истории пронзительные, которые только Кушнерёв мог выцеплять. И я его попросила как раз начать писать сценарий документального фильма. Он говорит: «Я даже некоторые уже вещи придумал, которые ты сможешь сделать. Ты сейчас меня поймешь». Мы даже обсуждали уже детали. Не успели.
– Чем вы занимались после ухода из «Жди меня»?
– Где только не скиталась. Даже поработала на телеканале Совета Федерации, потом на НТВ, еще где-то. Сейчас на Первом канале. Но в этом смысле мне даже как-то легче было: я просто тупо искала работу, потому что у меня дети, мне нельзя долго находиться в творческих поисках. Мне надо зарабатывать, чтобы их кормить. С десятью тысячами пенсии по потере кормильца и семьей, рассчитывающей исключительно на твою зарплату, особенно работу выбирать не приходится.
– Вам не предлагали пойти в новую «Жди меня» на НТВ?
– Нет. Это невозможно. Я знаю, Маше[13] звонили, предлагая пойти теперь уже на НТВ в «Жди меня». Она сказала, что будет работать только со старым составом. Теперь ведь в программе совершенно новые люди: вместе с нами ушли прекрасные редакторы и корреспонденты, ушли и ведущие. Понимаете, «Жди меня», созданная Кушнерёвым, – это не только программа или там команда единомышленников была, это была семья. У него такая способность была – объединять вокруг себя потрясающих людей. Так я познакомилась с Галиной Борисовной Волчек, так в мою жизнь вошли Игорь Владимирович Кваша, с которым мы дружили до его последнего вздоха, Маша Шукшина, Миша Ефремов, Чулпан Хаматова, тоже ставшая членом этой семьи, близким человеком, про которого ты знаешь, что ты в любой момент позвонишь и тебя поддержат.
– А как Чулпан появилась в «Жди меня»?
– Началось с того, что она вела «Другую жизнь»[14], в которую ее притащил Серега [Бодров]. Так они все передружились. И когда встал вопрос, что Маше Шукшиной надо уходить в декретный отпуск рожать близнецов, Кушнерёв сказал: «Только Чулпан». Мы очень боялись, что она не согласится. Но как она могла не дать согласия нам с Сергеем Анатольевичем? Она согласилась. И, знаете, сидя в аппаратной, я подглядывала какие-то эпизоды, совершенно фантастические, которые с ней происходили в студии, она меня каждый раз поражала: вот кто-то сумочку забыл из гостей, она бежит по всем трибунам, прыгает через ступеньки: «Сумочку! Сумочку забыли! Вернитесь». Лучше нее никто не разговаривал в программе с детьми. Не знаю, как у нее это получалось, но шло, конечно, от сердца. Она – это было видно, это чувствовалось – сердцем переживала все истории, которые ей приходилось рассказывать. Иногда ей это совсем тяжело давалось. Это ведь не сыграешь! И вот она находила слова, конечно, мимо сценария, к кому-то подсаживалась, гладила по коленке, обнимала, иногда и плакала. И человек к ней прижимался, как будто оказывался под какой-то защитой. Мы с Серегой ее обожали.
Безумно жалко этих времен. Жалко дела всей жизни. Потому что люди, которые пришли теперь, – они же ничего своими руками не создали, они работают на базе созданного Сергеем Анатольевичем. И не собираются ничего развивать, никуда двигаться.
А это значит, что не будет реализована его мечта – сделать всемирную сеть поиска людей. Он уже почти соединил концы с концами, там оставалось доработать только. У него была абсолютная статистика того, сколько людей теряется во всем мире, было представление, как их искать. Он был болен этой идеей. Мы собирались расширить географию «Жди меня». С нами были согласны работать страны Балтии, мы сделали телемосты из Риги, Лондона и Китая с компанией CCTV. И представляете, во время этого телемоста с Китаем искали родственников Григория Кулишенко, нашего летчика, который во время Японо-китайской войны совершил подвиг, защищая границы Китая, и у них считается национальным героем: ему поставили памятник, у которого принимают в пионеры. И оказалось, что это дедушка Кушнерёва. А он мне никогда не рассказывал. Вне работы он был очень застенчивым и мягким человеком.
– Когда Сергея Кушнерёва не стало, я подумала о том, что из жизни ушел последний романтик нашего телевидения, который думал о зрителе и любил его. И любил свою работу не потому, что это власть или деньги: просто любил человек телевидение.
– Людей, вот так «больных» телевидением, наверное, больше и нет. Мы какие-то мастодонты. Бодров некоторые вещи наши смотреть не мог, иногда слезы наворачивались, но всеми историями интересовался. И он взял одну историю про медсестру, которую искали через «Жди меня». Хотел снять следующим фильмом после «Связного»: там медсестра наших раненых прятала в подвале захваченного немцами села. Она рассказывала, что когда выпустила их, несколько недель не видевших солнца, пришел немец. За гусем пришел. И видит во дворе четырех перевязанных раненых солдата.
– И что он?
– Молча взял гуся, положил на стол десять марок и ушел. Эта история страшно зацепила Сережку моего. Эта медсестра приехала к нам в «Жди меня» искать хотя бы кого-то из этих раненых солдат. Через какое-то время (они же понимали, что немец будет молчать только до поры до времени) она их всех потихоньку вывела в лес.
– Вы кого-то из них нашли?
– Кушнерёв этим занимался, одного нашли, уже старенького. Серега [Бодров] потом просил Кушнерёва какие-то детали у этой уже пожилой женщины выяснить для фильма, подробности.
– Я хорошо помню, что у Кушнерёва в кабинете на главном месте стояла фотография ваших детей, Оли и Саши. Он с восторгом всегда о них рассказывал.
– Дети его любили очень. Он был крестным Оли и Саши. И он их обожал. Всегда приезжал на дни рождения, всегда поздравлял. В последний год Оля очень сблизилась с Сережей. Призналась ему, что собирается поступать в театральный институт. И он очень поддерживал ее в этом решении, о котором больше не знал никто: ни моя мама, ни Сережин папа, ни Сережина мама. Никто! Для всех был журфак МГУ. А Серега с Олей наяривали по театрам! Ей очень нравилось с ним разговаривать, у них было много общего, и она очень тяжело восприняла его уход из жизни, очень тяжело.
Оля вначале поступила на подготовительные курсы во МХАТ, а потом, весной, когда заканчивала одиннадцатый класс, поступала во все театральные вузы, даже в Ярославль ездила. Прошла по конкурсу в МХТ, Щепку и ГИТИС. Но выбрала ГИТИС. Я переживала, конечно, страшно! Даже вела свой дневник, никак не могла дождаться, когда уже всё закончится. Сидела тут на кухне одна: Саша на байдарках в лагере, Оля сдает экзамены, конкурс. Помню, она звонит часов в одиннадцать вечера: «Мама, я поступила!» И я как зарыдаю. И стала всем сообщать: своей маме, Сережиной, Сергею Владимировичу Бодрову. Он в ответ: «Как в ГИТИС?» Я говорю: «Вот так решила». Ох, а как Кушнерёв счастлив был! И после поступления они продолжили свои походы по театрам. Он перезнакомил ее со всеми. Это уже было новое поколение «Современника» во главе с Шамилем Хаматовым, братом Чулпан. И теперь уже они собирались у Сереги на даче в Валентиновке. Он обожал молодых, он наслаждался этим общением. Сам давал много, и они его любили очень, ребята. Ему было с ними так легко, так весело, так они были интересны ему, а он был для них центром притяжения. Я только спрашивала его всё время: «Кушнерёв, как у тебя здоровья хватает?» Он прищуривался так в ответ: «Хватает». И он всегда был на связи. Всегда отвечал на сообщения.
Собственно, я поняла, что что-то не так, когда написала ему сообщение: «Надо посплетничать». И он вдруг не ответил. Я стала звонить: один день, второй. Сразу почувствовала, что что-то произошло: Сережа не выходит на связь. В январе 2017-го у него случился второй инсульт. Так получилось, что я первая из наших всех, из всех друзей об этом узнала, потом каждый день звонила его сестре Насте, узнавала, как он себя чувствует, и после разговора с ней сообщала всем по цепочке о его состоянии, ребятам из театра, из нашей команды «Жди меня». Все очень сильно переживали за него. Мы до последнего надеялись…
Знаете, Катя, меня поразило, сколько людей, сколько Серегиных друзей пришли с ним проститься. Как же он умел дружить, сохранять отношения. Поразительно! Пришли совсем молодые артисты, студенты и бабушки из «Комсомолки». Те, чья жизнь с ним как-то пересеклась, все его любили. Вечер памяти был в «Современнике». Молодые актеры посвятили ему спектакль, который играли в этот день. Я встала и сказала: «Давайте не будем больше плакать, Сережа был очень веселым человеком, и слезы его расстраивали. Пусть это будет настоящий, полный жизни театральный вечер, как он любил». И они пели, было много стихов и песен. И Галина Борисовна [Волчек] была, почти до утра досидела, и Чулпашечка, все. Пришел даже Костя Эрнст. Обнял так меня и сказал: «Ну что? Бросили тебя твои мужики». Я говорю: «Да. Никого не осталось теперь у меня». Он сказал: «Я не брошу». Сейчас и с Олей, и с мамой мы часто ездим к Сереге Кушнерёву на кладбище. Иногда я езжу одна, когда становится невмоготу и хочется поговорить. Еду, думаю, как бы я с ним хотела посоветоваться, пожаловаться, что вот с работой что-то сейчас неважно, то, это. Подхожу к его могиле и как будто прямо слышу его голос: «Привет, Светка».
Я выключаю диктофон. Мы сидим и курим, переводя дух. Потом не выдерживаем и звоним Чулпан: рассказать, что мы встретились и поговорили. Чулпан в какой-то заснеженной гастрольной гостинице, сонная. «Чулпашечка? Солнышко! Привет, как ты? Мы тут с Катей. Катя, смотри в телефон, – мы опять перешли на ты, – Чулпашечка, мы поговорили, я столько наговорила». Чулпан молча улыбается. У нее, в заснеженном гастрольном городе, три часа ночи. Мы прощаемся. Листаем Светин телефон. Там фотографии: Чулпан на даче у Кушнерёва с маленькими дочками Асей и Ариной. Там же – старшая дочь Бодровых, Оля. Это – еще до гибели Бодрова. А вот маленький Саша Бодров. Это – после гибели. Вот младшая дочь Чулпан, Ия, на той же даче. И следом – фотографии брата Чулпан, Шамиля. С гитарой. Рядом с Кушнерёвым. Тут же – Света и Чулпан. Вот другая папка: Света и Бодров в Венеции; Света и Бодров на какой-то вечеринке в Питере, Балабанов поет под гитару; Света и Бодров на круизном пароходе ВИD; Бодров и Кушнерёв в студии «Взгляда» – другая жизнь.
Последние снимки: растерянные артисты «Современника» в черных репетиционных костюмах на вечере памяти Сергея Кушнерёва в малом зале театра «Современник». 2017 год. Среди артистов – Чулпан, ее брат Шамиль, дочь Сергея и Светланы Бодровых, Оля.
На экране зала, где идет прощание, мелькают вперемешку все кадры из телефона Бодровой – случайные, сделанные на бегу, чудом сохранившиеся – к смерти не подготовишься. На радостном кадре – Бодров и Кушнерёв о чем-то спорят под тропической пальмой – слайд-шоу обрывается. Быстро мелькает черное поле. И всё начинается сначала.
Я выхожу из квартиры Бодровой, сажусь в такси, не выдерживаю, перезваниваю ей: «Ты как?» Она плачет: «Я никогда столько о нас не говорила. Я не думала, что мне одновременно так тяжело и так важно будет поговорить».
Интервью второе Андрей Кончаловский
В 2012-м британский журнал Sight&Sound опубликовал список любимых фильмов русского режиссера Андрея Кончаловского. Вот он:
«Четыреста ударов» Франсуа Трюффо, 1959 г.
«Восемь с половиной» Федерико Феллини, 1963 г.
«Аталанта» Жана Виго, 1934 г.
«Наудачу, Бальтазар» Робера Брессона, 1966 г.
«Огни большого города» Чарли Чаплина, 1931 г.
«Фанни и Александр» Ингмара Бергмана, 1982 г.
«Крестный отец» Фрэнсиса Форда Копполы, 1972 г.
«Семь самураев», Акиры Куросавы, 1954 г.
«Дорога» Федерико Феллини, 1954 г.
«Виридиана» Луиса Бунюэля, 1961 г.
Трудно себе представить другого такого русского режиссера, в чьем списке не было бы ни одного фильма соотечественников, но в советской и российской киноистории не было также никого, кто, как Кончаловский, смог бы уехать в разгар брежневского «застоя», в 1980-м, в США и стать не эмигрантом с тяжелой судьбой, а автором суперуспешного блокбастера «Танго и Кэш» (1989) с Сильвестром Сталлоне и Куртом Расселом в главных ролях. До этого в СССР были сняты его «Первый учитель», «Дворянское гнездо», «Сибириада» и «История Аси Клячиной» – золотая коллекция! В 1990-е Кончаловский вернулся на родину. За это время СССР развалился, страна стала называться Россией. Кончаловский снял – снова в Америке – громкий мини-сериал «Одиссея», а потом на несколько лет замолчал. В те, последние годы догорающего двадцатого века, Кончаловский – народный артист РСФСР – самый либеральный и самый прозападный из русских режиссеров.
Он критикует Голливуд и «Оскар», разочаровавшись, по сути, в американском кинематографе, но уверенно говорит о том, что единственно верный путь развития России – европейский. А сама Россия – Европа, никакая не Азия.
А потом – возможно, постепенно, хотя со стороны кажется, что довольно резко и неожиданно, – позиция режиссера меняется. Все чаще Андрей Кончаловский вслух рассуждает о «скрепах», говорит об особом русском пути, ругает Запад.
Как и почему сын поэта Сергея Михалкова и художницы Натальи Кончаловской, брат режиссера Никиты Михалкова изменился? Что случилось? Причем тут кино? Эти вопросы задавал себе каждый, кто уважал Андрея Кончаловского и восхищался им. Задавали и недруги.
Всё это время мне казалось, что должна быть какая-то поворотная точка, что-то по-настоящему важное, перевернувшее его мировоззрение, позволившее отказаться от прежних взглядов и принять новые. Но повода спросить – не было. В 2016-м Андрей снял фильм «Рай», которому аплодировал стоя зал Венецианского кинофестиваля. Андрей Кончаловский получил «Серебряного льва» за лучшую режиссерскую работу.
«Рай» – картина о Второй мировой войне. Три главных героя – русская аристократка-эмигрантка, участница французского Сопротивления Ольга (Юлия Высоцкая), француз-коллаборационист Жюль (Филипп Дюкень) и высокопоставленный офицер СС Хельмут (Кристиан Клаусс) – в поисках личного рая на фоне миллионов страдающих и умирающих в аду на Земле жертв войны. «Рай» оказался поводом для встречи с Кончаловским. А значит – возможностью задать все копившиеся годами вопросы, многие из которых действительно и вечные, и риторические: кто мы такие, куда мы идем. Зачем?
[15]
– «Рай» произвел на меня огромное впечатление. Я понимаю зрителей, которые стоя аплодировали вам в Венеции.
– Спасибо.
– Среди организаций, причастных к созданию «Рая», значится Министерство культуры России. Думаю, для него это – очень хорошее вложение. Никогда еще деньги, ассигнованные на пропаганду, не тратились с таким умом: по-европейски, блестяще сделанная картина рассказывает миру о важности и величии русской идеи. Таким был изначальный замысел?
– Министерству культуры, вероятно, будет лестно услышать ваше мнение. Мне трудно рассуждать в таких категориях и говорить о каких-то интересах. Всё-таки, когда подступаешь к материалу, не рассуждаешь о смыслах, которые могут проявиться в процессе создания. Не думаю, что произведение искусства исходит из каких-либо интересов, кроме желания воплотить то, что «примстилось» художнику. Вы же не спрашиваете композитора, например, какую идею он хотел раскрыть, в чем пытался убедить мир, потому что музыка – это музыка.
– И это никогда не мешало композиторам творчески высказываться по разным актуальным – в том числе и политическим – вопросам. Но речь о «Рае». Ваш фильм затрагивает сразу несколько очень болезненных для разных стран и культур тем: Холокост, французское Сопротивление, избранность русских как спасителей и освободителей всего человечества.
– Всё то, о чем вы говорите, – это уже конечный результат фильма. Такая задача в самом начале не может быть поставлена. Процесс создания в определенном смысле – это нащупывание тропинки в абсолютной темноте. В темноте можно наткнуться на тему фильма. А тема какая? Это не Холокост, не судьба француза, не судьба немца и не судьба русской женщины. Тема «Рая» – это универсальность зла и его соблазнительность. Замысел, конечно, начинается с каких-то более простых, материальных вещей, деталей и зацепок разного рода. Всё это вырастает в определенный конгломерат идей, историй и проблем. Одно наслаивается на другое. Или не наслаивается… и тогда художник может признать свою ошибку.
«Рай» для меня очень важный опыт рассуждения об амбивалентности злодеяния – это немного иная тема, чем тема Холокоста. Зло не обязательно воплощается в образе монстра. Это может быть умный, образованный, талантливый…
– Любящий Чехова…
– Да, любящий Чехова, аристократичный, красивый, удивительно цельный человек. Для меня очень важно, что он вступает в эту мутную реку зла и течение его несет. В этом смысле на меня очень подействовал роман «Благоволительницы» Джонатана Литтелла, который попался мне тогда, как раз когда я готовился к «Раю». Я этот роман смаковал со всех сторон.
– И еще, наверное, «Банальность зла» Ханны Арендт?
– Нет, это я не читал. Еще на меня большое впечатление произвела книга «Скажи жизни “Да”» Виктора Франкла, австрийского психиатра, который провел в Освенциме три года. Но, по правде сказать, у меня никогда не было желания теоретизировать о смысле своих произведений. Однако есть одна вещь, которая для меня очень важна: полфильма три героя «Рая» прямо говорят со зрителем – в форме монолога. Монологи – самое ценное для меня в картине. Если бы не было монологов, не было бы этого фильма. Был бы какой-то другой.
– Монологи – то, как они выглядят, кем и как произносятся, – это режиссерское решение или всё было придумано еще на стадии сценария?
– Они были с самого начала. Иногда мне приходила безумная мысль оставить в картине только монологи. И всё. Самое интересное в фильме – слушать исповедь этих трех человеческих существ. Оказывается, и так можно. Никогда не думал.
– У «Франкофонии» Александра Сокурова, так же, как и «Рай», затрагивающей тему Сопротивления и коллаборационизма, во Франции были проблемы с прокатом: МИД выступил против показа в Каннах, министерство культуры и даже Лувр чуть ли не отреклись от картины. Выяснилось, что французы не вполне готовы к обсуждению этих тем посторонними.
– Саму картину Сокурова я, к сожалению, пока не видел, но очень жалею, что жюри так обошлось с ним в Венеции[16]. Очень несправедливо. Я убежден, что всё, что Сокуров делает, – это обязательно произведение кинематографа – в том смысле, в котором его понимал Робер Брессон.
Что до французов, то, во-первых, у них есть нормальная цензура. Я это знаю, сам сталкивался. В свое время я пытался снять там картину про араба, который становится джихадистом. Идея простая: живя рядом с французами, можно стать джихадистом. Но снять такое нельзя, разумеется, потому что там – цензура. Во-вторых, французам крайне неприятно ворошить свое собственное прошлое. И это было совершенно правильное решение де Голля – закрыть все дела коллаборационистов на шестьдесят лет. Архивы открываются только сейчас, когда они все уже умерли. Знаете, почему де Голль принял такое решение? Потому что понимал, что нельзя раскалывать общество. Пол-Франции же были коллаборационистами, да если уж начистоту, бо́льшая ее часть.
– Вы действительно считаете это правильным? То есть в переносе на нашу почву, беда не в том, что в 1991-м, во времена разгрома КПСС и развала СССР, не было люстраций, а в том, что вообще стали рассказывать правду о тех, кто сажал, кто доносил, кто расстреливал?
– Любая история имеет амбивалентные смыслы и гораздо более глубокие причинно-следственные связи, чем просто набор злодеяний каких-то ублюдков. Собственно, об этом и мой фильм.
Что касается разгрома КПСС, то нельзя назвать это удачным политическим решением. Нельзя забывать, что коммунистические идеи были воплощением чаяний большого количества людей. Эти люди истово и искренне в них верили. Я даже думаю снять фильм про секретаря низовой партийной организации в каком-нибудь забытом году прошлого века. Это же были нормальные, честные люди. Их, конечно, что-то не устраивало, но шестидесятые годы – после десталинизации – не были для них хорошим временем. Они не могли ничего сделать против, так сказать, логики, возникшей во времена хрущевизма, но они не мечтали о том, чтобы их жизнь и идеалы облили грязью. Наступило другое время: все идеи, в которые они верили, были опорочены, и на Сталина повесили все грехи, ответственность за которые должны были нести те, кто начал десталинизацию. Ну и что дальше? Что, все стали хорошими? И в подъездах перестали гадить? И выбрасывать мусор в окно перестали? Ну это же смешно.
Ментальность народа не меняется в связи с тем, что вдруг решено покончить с прошлым. К тому же покончить с ним невозможно. Берите пример с Китая: культ Мао Цзэдуна никогда не был развенчан, а страна движется вперед.
– Мне не хотелось бы брать пример с Китая и жить, как в Китае. А вам?
– Я предлагаю вам не жить в Китае, а решать политические проблемы так, как они. Решать политическую проблему в архаической стране – совсем другое дело, нежели решать ее в Югославии или где-нибудь еще в Восточной Европе.
– А мы живем в архаической стране?
– Мне кажется, огромная часть нашей страны живет в архаической системе ценностей. У нас язычество переплетено с коммунизмом, а коммунизм – с православием. И любое правительство в России, в том числе нынешнее, – это правительство социально ориентированного государства.
– В каком смысле?
– В том, что оно чувствует себя обязанным кормить людей, которые не хотят много работать и зарабатывать, а вполне довольствуются малым. Сложно заставить людей вопреки их воле заниматься бизнесом. Дело не в том, что кто-то не дает, а в том, что не надо это русскому человеку. И бизнес, и свобода эта пресловутая большинству не нужны. Было бы надо, взяли бы как миленькие. Свободу же не дают, свободу берут! А людям это не нужно. Надеюсь, вы понимаете, что мы с вами говорим о нации, а не о гражданах в пределах Садового кольца.
– Мне кажется, довольно рискованно решать за целую нацию.
– Решать трудно, но понимать необходимо. Надо как-то понимать, где мы живем и в какую сторону стоит смотреть. Мы не сможем изменить национальную ментальность, не поняв ее.
– Это похоже на трансформацию риторики Путина, который в начале своего президентства заявлял о европейских ценностях, о России как части Европы, потом всё меньше говорил об этом, а сейчас и вовсе не говорит.
– На мой взгляд, вы неправильно воспринимаете то, что произошло. Россия действительно пыталась войти в европейский ареал. Такова была идея Путина, который, конечно, самый большой в стране европеец по своим убеждениям. Но Запад отверг Россию, отверг Путина, потому что мы им не нужны сильными, а нужны разваленными, как во времена перестройки: замечательная страна с полным говном вокруг и нищей армией. Путин это понял. И другого выхода, кроме как строить армию и искать союзников на Востоке, у него не осталось.
– Вам такой поворот по нраву?
– Я раньше был западником и тоже думал, что у России один путь – на Запад. Теперь убедился, что нет у нас такого пути. И слава Богу, что мы, двигаясь в этом направлении, сильно отстали. Потому что Европа на грани катастрофы – это, кажется, совершенно понятно. Причины катастрофы в том, что, как оказалось, нельзя во главу угла ставить права человека. Права человека могут рассматриваться только в соответствии с его обязанностями. Они отказались от традиционных европейских, а значит христианских, ценностей.
– Вы действительно считаете, что Владимир Путин – европеец?
– А вам так не кажется? Скорее всего, потому что вы не анализируете всю траекторию его президентства. Да – и по складу ума своего, и по опыту жизни в Европе. Я думаю, что у него, когда он возглавил страну, были определенные идеи, которые очень видоизменились под давлением внутренних и внешних обстоятельств. Он пришел в абсолютно разрушенную страну, и ему в управление досталась гигантская архаическая масса людей, которые настроены к государству враждебно – в силу системы своих приоритетов. Его усилия прежде всего были направлены на предотвращение распада. Я вообще представить себе не могу, как ему всё это удалось.
У Путина, как у западника, как у человека, который прекрасно говорит по-немецки и знает мировую культуру, конечно, были иллюзии, что России надо возвращаться в Европу. Но в Европе ему сказали: «А вы кто такой вообще? Мы вас не ждали». И «Мюнхенская речь» Путина[17] – это результат колоссального разочарования Путина в своих идеях относительно Европы и понимания того, что жить предстоит в той части света, которая далека еще от гражданского общества. Это всё сложнейшие проблемы, которые, конечно, нам с вами за пределами Садового кольца не видны, но руководить страной без этого понимания невозможно.
– В моей логике за этим «пониманием» приходит желание «просвещать». И тут уже к вам вопросы.
– Что вы имеете в виду под «просвещать»? Грамотность? Дело в том, что мысли-то всё равно остаются архаичными, в пределах «кто не с нами, тот против нас», в пределах деления на белое и черное. Модернизация средств общения меняет скорость общения, но не его уровень. Мой вывод вам не понравится: мы не Западная Европа и не будем ею, и не надо стараться.
– Когда вы это поняли? Каким образом произошла перемена: до какого момента вы были очень близким, например мне, по духу Кончаловским…
– …а когда стал Михалковым?
– Да. Спасибо, что вы сами это произнесли.
– А вы возьмите свою головку в руки и подумайте лет двадцать – и вы тоже изменитесь. Думающие люди нередко меняют свою точку зрения. Не меняются только идиоты. А на меня очень сильно повлияла моя жизнь на Кенозере, где я снимал «Почтальона»[18], – жизнь с людьми, которые гармоничны во всем, что они делают, которых не касаются ни Владимир Путин, ни Владимир Познер, ни «надо расплатиться за прошлые грехи», ни вообще что-либо из нашей бурлящей жизни. Они живут в полной архаике, в каком-то удивительном мире своей шекспировской гармонии. Или даже античной трагедии.
– В чем это проявляется?
– Они никуда не стремятся. Их не загонишь ни в капитализм, ни в частное предпринимательство. Конечно, там есть, что называется, «крутые», но это не класс буржуазии, который динамичен и который чувствует ответственность за страну. Буржуазии никогда не было и пока еще нет. И это тоже одна из проблем российской истории – через нее не надо перепрыгивать.
– Выходит, раньше вы были либералом, а потом сходили в народ и вернулись оттуда совершенно новым человеком. Так?
– Не прикидывайтесь такой наивной. Зачем так упрощать? Я снял три фильма в русской деревне, я живу в этой стране и знаю мой народ – очевидно лучше вас, хотя бы потому, что на сорок лет вас старше. И постепенно убедился: чтобы изменить страну, надо изменить ментальность. А чтобы изменить ментальность, нужно изменить культурный геном. А чтобы изменить культурный геном, надо сначала его разобрать на составные части вместе с величайшими русскими философами – то есть понять причинно-следственную связь, которая в нашей стране до сих пор не изучена. И только потом уже решить, куда нам идти.
Наивно думать, что всеобщая грамотность изменит человека. Например, бизнес в нашем представлении – это воровство. Из-за Садового кольца это неочевидно, но это так. И еще. Там, за кольцом, за Москвой – совсем другие ценности у людей: они хотят, чтобы государство их оставило в покое. А это значит, что они не граждане, а население. И миллионы россиян – это население. О каких гражданских инициативах мы говорим?
– Мне кажется, население становится гражданами именно благодаря просвещению.
– В каких вопросах вы хотите просвещать?
– Как минимум, в вопросах собственной истории. Через шестьдесят лет после XX Съезда КПСС в России ставят памятники Сталину. И вопрос о том, кто он – кровавый диктатор или эффективный менеджер, всё еще предмет общественной дискуссии.
– Обсуждение Сталина, Ленина или даже императора Александра не имеет никакого значения. Если мы хотим думать о том, как двигаться вперед, надо прежде всего понять, что за культурный код у русской нации. Всё кругом меняется, и только он не изменился за последнюю тысячу лет.
– Что это за культурный код?
– У нас крестьянское сознание. У русского человека добуржуазные ценности: «своя рубашка ближе к телу», «не трогай меня, я тебя не трону», «ой, на выборы идти – зачем это нужно; придется пойти, потому что придут и погонят, а то и накажут». Крестьянское сознание – это отсутствие желания принимать участие в жизни общества. Всё, что за пределами интересов семьи, в лучшем случае вызывает равнодушие, в худшем – враждебность. Возникновение буржуазии в Европе породило республиканское сознание. А республика – это общество граждан. В России республиканское сознание было всего в двух городах – Псков и Новгород. Всё, больше никогда и нигде. Впрочем, и эта колыбель была задавлена.
– Традиции «задавливания» как раз из тех, что аккуратно соблюдаются в нашей стране из века в век. Едва что-то новое, свежее поднимает голову, как раздается звонкая оплеуха: сюда не ходи, с этим не экспериментируй, таких-то чувств не оскорбляй. Мы живем во времена ренессанса доносов и торжества цензуры.
– Честное слово, от ваших мыслей у меня уши вянут. Судя по вашим вопросам, вы не знаете, что такое настоящая цензура и доносительство. Я лично сожалею, что нет цензуры. Цензура никогда не была препятствием для создания шедевров. Сервантес во времена инквизиции создавал шедевры, Чехов писал в прозе всё то, чего не мог из-за цензуры написать в пьесе. Вы что думаете, что свобода создает шедевры? Никогда. Шедевры создают ограничения. В творческом плане художнику свобода ничего не дает. Покажите мне эти толпы гениев, которых жмет цензура? Да нет таких.
– Вот наглядный пример: из-за цензуры год назад был закрыт спектакль «Тангейзер» Кулябина.
– Что главное в опере? Музыка. А режиссура второстепенна. Режиссер в опере – это слуга композитора, дирижера и солиста. Культурный режиссер не имеет права переделывать сюжет. Это называется «самовыражение за счет гения». Напишите свою оперу, отыщите современного композитора, который ее напишет, и делайте что хотите. Но брать Вагнера, на мой взгляд, – это кощунство. Но у этого талантливого мальчика получилось всё замечательно! Он теперь в Большом театре спектакли ставит. И это цензура? Это старая мулька: сделать скандал, чтобы стать знаменитым. Ничего тут нового нет.
– Но на него написали тонну доносов. Мне казалось, что страсть к стукачеству – в прошлом для нашей страны. Нет?
– Если зрители возмущаются, какое это стукачество? Просто им некуда пойти, чтобы выразить свое возмущение. А если спектакль создается, чтобы спровоцировать возмущение, то это как раз та реакция, которой художник добивался.
Дело, на мой взгляд, совершенно в другом: к сожалению, культура у нас, в широком смысле этого слова, кончилась, режиссеров нет. Ведь, если разобраться, что такое режиссура? Это обилие художественных ассоциаций, колоссальная культурная база, без этого ничего нет, всё остальное – прикол. Так вот, у нынешних наших молодых режиссеров приколов полно, а художественных ассоциаций ноль. В этом беда, а не в какой-то там цензуре. Это всё подмена понятий. Как и модные нынче обвинения в переписывании истории, сокрытии правды… За последние двадцать лет было столько написано так называемой правды, которая не оказывалась правдой. И знаете почему? Потому что история очень субъективна. И нельзя сказать: вот во времена разоблачений писали только правду, а сейчас только врут. Нет. Истина в истории вообще не может торжествовать, потому что история трактуется всегда согласно тому, кто ее трактует. А объективная история – это огромная иллюзия. Очередная. Ну, мы живем иллюзиями.
– Ни у кого же нет никаких сомнений в том, что Гитлер – это кровавый преступник. В преступлениях нацизма никто не сомневается. Чисто арифметически: Сталин убил сопоставимое количество людей, причем своих.
– Да.
– Но сейчас этот вопрос в России опять оказывается спорным.
– А если вы возьмете китайского императора XIII века, в мавзолей которого ходят китайцы, то он убил четыреста тысяч человек за две недели. И я спрашиваю: «А вот он же убил?» Они говорят: «Убил, да, но он же часть нашей истории. Мы ходим к его могиле».
Вот кто-то там из наших певцов, по-моему, говорил: «Для меня история началась в 1993 году». Это, конечно, замечательно, только очень смешно. История никогда не начиналась – она живет в нас всё время, но она является частью субъективного видения. И никто не может претендовать на объективность. Конечно, понятно, когда тиран убивает людей, то это катастрофа определенная и кровавая. И, конечно, Гитлер – это безумный человек, но не забывайте, что за него проголосовала бо́льшая часть Германии.
– Почему нацизм и Гитлер как идеология запрещены во всем мире, а сталинизм и Сталин процветают в нашей стране?
– Вы хотите, чтобы это было запрещено?
– Я хочу, чтобы понимание преступлений сталинизма и Сталина было частью государственной идеологии.
– Значит, вы тоже за цензуру – только ту, которая устаивает вашу точку зрения. Может, дело в том, что сейчас появляется поколение людей, которые не знают, каким Сталин был. Но это неграмотные люди.
– Вполне грамотные. Говорят, что, может, Сталин кого-то и убил, но при нем промышленность заработала, индустриализация была проведена, войну выиграли.
– Но это тоже исторические факты. А если это есть [то, о чем вы говорите], так это только подтверждает тот факт, что цензура необходима. Будет цензура – будут правила. В том числе и ограничивающие идеологическую пропаганду. Понимаете, я имею в виду цензуру настоящую, естественную, ту, которая везде есть. Она существует в Америке, существует в Европе, в Ватикане. Андре Жид, по-моему, сказал: «Когда искусство теряет свои цепи, оно превращается в прибежище химер». Так и с идеологией. Словом, цепи нам нужны. Терять их ни в коем случае нельзя.
– Я бы хотела вернуться к «Раю». Там в финале фраза: «Мы русские, с нами Бог» звучит почти дословно и не подразумевает никаких рефлексий: мол, так и есть, научно доказано. Вы действительно считаете, что это могло бы быть нашей национальной идеей внутри страны и, скажем, нашей рекламной кампанией на Западе?
– Такой лобовой фразы в фильме нет. Героиня говорит о природе человеческого самопожертвования, это и есть суть ее жизни. Весь опыт этой картины для меня новый. Должен сказать, что моя новая биография как режиссера началась с прошлой картины, с «Почтальона Тряпицына». А «Рай» – это вторая картина в моей биографии, где я по-другому понимаю свою роль кинематографиста или художника.
– По-другому – это как?
– Пытаюсь понять законы кино, которые не открыты. Это иллюзия, будто мы знаем, как делать кино. Какие-то поиски были у сюрреалистов, у Бунюэля в наивные двадцатые годы. Но потом Бунюэль стал очень глубоким и перестал формально искать другие смыслы. Вот и я пытаюсь разобраться в этом новом киноязыке, пока еще не помер.
– А прежде, выходит, не разбирались? Не хотели или надобности не было?
– Каждому же художнику свое отпущено. И в этом смысле я счастливый человек, потому что мне повезло иметь возможность учиться: музыке, живописи, пониманию культурных кодов каких-то европейских категорий и всего того, что я могу иметь в виду, когда делаю сегодня фильм. Это отличает меня от молодого поколения, у которого мало стимулов, чтобы учиться. Все ушло в интернет, там теперь есть все ответы. Это плохо потому, что лишает человеческий мозг метода дедукции.
– У вас же у самого есть страница в фейсбуке, которую вы довольно активно обновляете, а я, например, с большим удовольствием читаю.
– Есть чуть-чуть, да. Но это в основном рассказы о живописи, культуре, истории. Я стараюсь, чтобы было интересно. Но мои визитеры – это, как правило, либо мое поколение, либо пытливые люди, скажем так, за пятьдесят.
Но мы отвлеклись, а я хотел бы закончить: отказавшись от того, что я делал прежде, я стал иначе относиться к кинематографу как к искусству звука и образа. Я вдруг понял, что звук и образ – это достаточные ингредиенты для создания симфонии, понимаете? Только звук и образ. Без излишеств.
– Монологи, на которых построен «Рай», – это монологи людей, на несколько мгновений задержавшихся между миром живых и миром мертвых. Тончайшая штука, которую редко кому удается показать без пошлости. Это с одной стороны. С другой – пограничное состояние человека, находящегося между двумя мирами, довольно трудно вообразить, не имея личного опыта. История вашей дочери Маши, которая уже несколько лет из-за трагических последствий автомобильной аварии[19] находится в пограничном состоянии, изменила вас?
– Знаете, это война. Ну как на войне живут? Выживают. И улыбаются, и пьют вино, и танцуют под гармошку у костра. Но это не отменяет войны. Вот так я живу, так мы живем в нашей семье. Строим планы, надеемся на выздоровление дочери – наука движется в этом направлении очень активно. Да, у нас есть какие-то надежды всегда, и они меняются. Это нормально. Это часть жизни. Надо жить. Надо работать. Надо строить планы. Надо искать смысл своей личной жизни.
– Вы завершили в Театре Моссовета постановку чеховской трилогии, которую планировали. И появились слухи, что вы теперь этот театр и возглавите. Есть такая возможность?
– Не думаю. Я вообще не руководитель, но планы, связанные с театром, у меня есть, конечно. Я хотел бы теперь сделать трилогию по Шекспиру: комедия, трагедия, фантазия. Посмотрим, как получится. Но было бы красивым завершением: Чехов, Шекспир – этого достаточно. Хотя нет, античные авторы. Это необходимо, чтобы понять, как ты ничтожен перед лицом этих гигантов. Я люблю такие ощущения. Они позволяют как-то приблизиться к понимаю масштаба вечности.
Интервью Кончаловского почему-то произвело эффект разорвавшейся бомбы. Самые разные люди в самых неожиданных местах подходили ко мне со словами: «Вот это да! Мы такого от него не ожидали!». Возможно, определенную роль сыграло и то, что интервью это вышло в издании «Медуза», которое традиционно считается либеральным. На одной из телепередач мы встретились с женой Андрея Сергеевича, актрисой и телеведущей Юлией Высоцкой. Пока шла подготовка к записи, она спросила: «Вы не знаете, почему именно это интервью все так обсуждают, почему именно оно вызвало такую бурную реакцию, он ведь никогда не прятался и не таился, а всегда говорил, что думает? Что вдруг случилось?» Я пожала плечами. Возможно, читателей обескуражило нежелание Кончаловского нравиться. Возможно – несоответствие ожиданиям: вроде же либеральный режиссер, по сути своей жизни и по стилю – чистый европеец, а говорит о посконном патриотизме, крепостном праве и кольце врагов.
Но мне до сих пор кажется, что и недоумение, и негодование были чрезмерными, а возможность спокойно и подробно поговорить с человеком иных, отличных от твоих взглядов – счастливой. И нет, Кончаловский меня не разочаровал: великий режиссер, он по-прежнему автор своих выдающихся фильмов. Если бы была возможность снова побеседовать с Андреем Сергеевичем о его меняющихся взглядах, я бы не отказалась. Жаль, что он редко дает интервью.
Интервью третье Мария Парфёнова
Маша – рыжая и, кажется, всегда веселая. При абсолютной физиономической схожести с отцом, грандиозным тележурналистом и телепросветителем Леонидом Парфёновым, темпераментом Маша, скорее, пошла в маму, журналиста и телеведущую Елену Чекалову. Ничего в Парфёновой-младшей не выдает принадлежность к касте детей-мажоров, тех, кто вырос в звездных и обеспеченных семьях. Разве только – очень легкая, не угловатая, но спокойная и уверенная манера поведения со знакомыми и незнакомыми людьми. Так бывает у тех, кто не был травмирован в детстве. Или, будучи травмированным, сумел все недопонимания пережить и переосмыслить. Честно говоря, я никогда не задумывалась, из какой категории – Маша. До тех пор пока однажды не прочла новость: Мария Парфёнова вместе с Марией Пиотровской, другой дочерью известных родителей[20], учредила Ассоциацию родителей и детей с дислексией. В коротком пресс-релизе по поводу появления новой организации было сказано: «Для Парфёновой проблемы дислексии – это личная история». Так началось это интервью.
– Став соучредителем Ассоциации родителей и детей с дислексией, ты во всеуслышание объявила, что ты сама и есть – человек с дислексией. Я тогда в первую очередь подумала о твоих родителях.
– Не обо мне?
– Прости, но первое, что я подумала: вот два суперизвестных, суперуспешных журналиста, работа которых – писать и говорить. А для их ребенка устное и письменное выражение своих мыслей – неразрешимая проблема. Что они должны испытывать? Как справляться?
– Если честно, справлялись они не очень: к моей дислексии и дисграфии прилагались дискалькулия и легкая форма синдрома дефицита внимания; при освоении любых знаковых систем – букв, цифр, нот – возникали трудности. Так еще и никакой усидчивости! Но знаешь, я бы хотела сразу оговорить: сейчас ни слова не будет сказано в осуждение моих родителей; это будет рассказ о нашем совместном пути и наших победах. Ни учителей, ни родителей я не осуждаю нисколько, они просто не понимали, с чем мы все столкнулись.
Смотрим друг на друга. Пауза. И тут мне становится ясно, насколько всё, что было сказано до этого, и всё, что будет сказано после, может отрикошетить по всей ее семье. Формально – сенсация: дочь известного журналиста Парфёнова страдает (или страдала) дислексией, а человек, чья профессия – слово, не понимал, как с этим справиться. Но разве профессия, образ жизни или качества, свойственные одному человеку, автоматически переносятся на другого, пусть даже родного и близкого? Становится понятно: согласившись на интервью, Маша рискнула семейными отношениями. И чем дольше мы будем говорить, тем выше риски. И ей от этого – страшновато. Поэтому коротко прошу:
– Поясни.
– Мои родители понятия не имели, что со мной такое, что нужно делать и как себя вести. Ситуацию усугубляла моя «чудесная» учительница начальных классов, которая регулярно сообщала – а за ней, как попки, повторяли другие учителя, – что вот такая, как я, просто не может «быть дочерью своих талантливых и умных родителей». И до девятого класса я была почти уверена, что меня удочерили.
– То есть как?
– Ну а как? Вот у меня есть, допустим, мама, которая выросла в по-советски авторитарной семье, где у нее практически не было шансов не быть отличницей. И она стала отличницей. И была нацелена исключительно на образцовую карьеру, на идеальную биографию, включавшую и детей. У меня – папа, ты сама понимаешь, известный и очень талантливый журналист…
Но ладно папа с мамой. У меня бабушка написала примерно каждый второй русско-английский и англо-русский словарь в СССР и откорректировала его! И вдруг вот у такой бабушки такая внучка.
Я не могу себе представить, что бабушка переживала, когда столкнулась с моей дислексией-дисграфией еще и на английском: говорить-то я говорила, причем прекрасно, а писать не могла вообще. Если бы не бабушка, уверена, я бы никогда не выучила ни одного иностранного языка. Но она со мною мучилась и была довольно терпеливой, с мамой она была куда жестче.
– Бабушка понимала, что с тобой?
– Не думаю. Она просто меня любила, и у нее было безграничное терпение.
– Что в твоей детской памяти – главное переживание?
– Ощущение стигмы. Это когда ты знаешь и каждую секунду помнишь о том, что все вокруг тебя – могут, а ты – нет: писать или считать, работать в одном темпе с классом, определять время, знать, сколько дней в месяце, или стихи учить – неважно. Ты ничего из этого не можешь так, как могут другие. Но именно по этим параметрам твои самые главные люди продолжают сравнивать тебя с кем-то, чаще всего с тем, кого ты знаешь, что особенно больно. Потому что это сравнение всегда не в твою пользу.
И ты постоянно чувствуешь разочарование взрослых по поводу того, что у тебя не получается то-то и то-то, что прекрасно получается у всех – вообще всех – детей. И вот эта любимая фраза многих родителей, и в том числе моих: «Чем мы это заслужили?» – наверное, одно из самых сложных переживаний в моем детстве. Я понимала, что приношу маме боль, но ничего не могла с этим сделать.
– А мама?
– И мама не могла. Хотя именно мама, моя родная мама, прочла мне вслух каждый мой школьный учебник вплоть до пятого класса. Представляешь?
– Нет.
– Она не очень понимала, зачем и почему она это делает, но – и, знаешь, это, наверное, главное – она, в отличие от многих вокруг, была совершенно уверена, что я не ленюсь, и знала, что я занималась больше всех в классе. Она меня любила во всех проявлениях и самыми разными способами пыталась помочь.
Я сейчас, возможно, приведу не самый корректный пример, если скажу: когда ты физически недееспособен, возможно, тебе труднее всё дается, но твой недуг заметен, очевиден и тебе, и окружающим. А когда ты сам не видишь, что с тобой не так, когда другим кажется, что это просто тупость, лень или, я не знаю, ЗПР, – это самое страшное: ты не способен себе объяснить, почему ты не можешь залезть на дерево, когда все могут, почему ты не можешь ровно писать в линованной тетрадке, когда все – вот же, пишут прекрасно!
– Это разве одно и то же: залезть на дерево и писать в прописях, не выходя за пределы линеечки?
– Любимый пример у нас в Ассоциации. Представь себе картину: перед учителем животные разных типов: коты и морские котики, львы и мышки, лисы и обезьяны. И учитель всем этим разным говорит: «А сейчас, чтобы провести тестирование, я попрошу всех вас на скорость влезть на дерево». Но как они будут измерять, кто быстрее, если некоторые просто не умеют лазать по деревьям? И почему от детей не ожидают, что они будут одинаково хорошо, как Репин, например, рисовать, но все должны к концу первого класса овладеть каллиграфическим почерком?
– Значит, твои проблемы начались в школе?
– Да нет, в детском саду всё уже было понятно – меня выгоняли отовсюду. Знаешь, сейчас я понимаю, что до школы была совсем неконтролируемой. Я кусалась и порой била детей, не давала малышам в группе спать во время тихого часа, я снимала шерстяную юбку – она кололась – и ходила в одних колготках – полный набор того, что называют девиантным поведением. Даже на месте не могла усидеть. Постоянно привлекала к себе внимание, выкрикивала ответы, перебивала, и никакие занятия в саду не удерживали моего внимания хотя бы на какое-то время – это вызывало бурную реакцию воспитателей и выливалось на голову родителей, вызывая ответную, в мою сторону, реакцию, превращая нашу жизнь в замкнутый круг всеобщих мучений.
– Что говорили воспитатели?
– Обычный набор: асоциальная, ленивая, необучаемая… Это мягкий вариант. Я до сих пор, когда слышу, как взрослые люди – вроде бы педагоги с высшим образованием – говорят, что ребенок ленится, хочу взять за руку и сказать: «Да запомните уже, наконец, что до одиннадцати лет – до периода тинейджерства – дети не могут, просто не умеют лениться!» Все эти дети, про которых учителя говорят, что они тупые и ленивые, они тоже хотят прийти домой с хорошей оценкой, красивым рисунком, слепленным колобком или ровно написанными буковками – как у всех, но у них не получается. И никто их, как тех, других, не хвалит, их – наказывают.
– И у тебя так было?
– Было по-разному. Но ты представь просто, что мои родители должны были едва ли не ежедневно слушать про своего ребенка, что он тупой, невоспитанный, неспособный и ленивый. И совсем никто не говорил им, как мне помочь. Поэтому в ход шли изматывающие занятия до ночи, жесткая дисциплина и суровые наказания.
И я не знаю, чем бы всё кончилось, если бы однажды, когда я училась в третьем классе, в нашей жизни не появилась одна-единственная учительница, чудом попавшая в эту жуткую государственную школу, которая сказала маме: «Забирайте Машу отсюда. Я уверена, что у нее дислексия, я о ней читала. Я не знаю, кто ей поможет в нашей стране, но ей точно не место в государственной школе. Надо искать частную, где к ней найдут индивидуальный подход, по крайней мере, по каким-то предметам».
– И тебя забрали?
– Да, меня забрали. В моей государственной школе – это было время реформы образования, перехода на одиннадцатилетний цикл – меня отказались переводить из третьего класса в пятый, потому что «она не потянет» – такие были комментарии. И вот тут появилась эта замечательная учительница, читавшая про дислексию. Проблемы это не решило. У нее ведь не было при себе «инструкции по использованию» ребенка с дислексией, но слово, которое она произнесла, – это уже было что-то.
Меня перевели в школу «Золотое сечение», где мне повезло: сейчас я понимаю, что около шестидесяти процентов учеников в нашем классе имели те или иные формы трудностей обучения. И это было очень круто в том смысле, что я оказалась в среде, где и учителя, и дети понимали, что все мы разные и это – здорово. А еще в такой среде над тобой меньше смеются, если ты что-то делаешь не как все или даже хуже всех. Тут я полюбила ходить в школу.
А потом случилось чудо. Казбек-Казиева Мария Марковна, преподаватель из Европейской гимназии, которая занималась со мной русским языком. Благодаря Марии Марковне я сдала ЕГЭ по русскому языку на четверку. И это было настолько невероятно, что мой отец сказал: «Я не верю. Они перепутали результаты, или мама тебе купила этот экзамен».
– Неужели купила?!
– Мама? Да никогда в жизни бы мама не купила мне никакого экзамена. Я сама написала русский язык на четверку, и это была одна из самых громких побед в моей жизни.
– Что конкретно эта Мария Марковна с тобой проделала, чтобы ты достигла таких успехов?
– Ну во-первых, она не была уверена ни в том, что я отстающая, ни в том, что я ленюсь – то есть не следовала ни одному из распространенных стереотипов нашего образования. Она придумывала для меня самые разные способы освоения правил русского языка и расширения словарного запаса: понятные таблички, необычные задания, рифмы. А еще у нее была куча терпения. Именно тогда я поняла, что могу намного больше, и это было новое, потрясающее ощущение.
Ты понимаешь, какое количество таких детей, как я, могли бы раскрыть себя, проявить, если бы к ним умели найти подход? Потому что это, конечно, пока преувеличение, но ученые, изучающие дислексию, заявляют, что «дислексия – это дар», они пишут статьи про то, как удивительно устроен мозг людей с дислексией или другими трудностями обучения, какие преимущества это может дать обществу. В мире уже существуют программы поддержки для людей с трудностями обучения, начиная с нулевых классов, где оказывают не только помощь в освоении чтения, письма, счета, но и развивают их нейропреимущества. Когда учитываются образовательные потребности каждого ребенка, у всех есть шанс на академический успех и возможность раскрыть свой талант.
– Как это работает?
– Самая распространенная в мире помощь, закрепленная законом, – это специальные условия для сдачи экзаменов и соответствующие критерии оценки. В Штатах, в Британии, во многих странах Европы и даже Азии детям с дислексией предоставляют 20–30 % дополнительного времени на экзамене, который, если им надо, они могут писать в отдельном классе или на компьютере. А у нас в школе до сих пор сдают чтение на скорость! А это для таких учеников ужасный стресс, который всё усугубляет.
– Поэтому ты училась за границей?
– Я училась за границей потому, что мои родители понимали, что только там знают, что такое обучение человека с дислексией. Например, в моем лондонском университете был disability centre – бесплатный центр поддержки студентов с дислексией и другими особенностями развития. Там при поступлении можно было пройти диагностику и получить комплексную поддержку, включая нужные условия для сдачи экзаменов. Это мне очень помогало. В России, боюсь, меня ждал бы очередной раунд унижений. И я бы никогда не написала работу, которую опубликовали в научном журнале.
– А ты написала такую, которую опубликовали?
– Да. Расскажи ты об этом моим учителям в началке, они бы в жизни не поверили. А я окончила университет и получила научный Bachelor of Honours. Это была тотальная победа. Потом я получила очень престижную работу.
– Твое первое место работы после университета – «Михайлов и партнеры». Тебя туда взяли по блату?
– Блат был в том, что резюме через мою подругу попало на стол HR-менеджера этого коммуникационного агентства. Дальше был месяц собеседований, тестовых заданий, потом меня взяли, сначала ассистентом, потом менеджером – как сейчас понимаю, в самый правильный для меня отдел, отдел PR. У меня был мощный опыт и крутые коллеги-учителя, интересные проекты, возможность проявлять свои сильные стороны. После окончания моего испытательного срока состоялась традиционная беседа с начальством для оценки моей работы. Жалко, не сохранилось видео этой беседы – мне кажется, это был момент рекордного повышения моей самооценки.
Я не выдерживаю, привожу примеры из своей жизни: я не могу слушать радиопередачи и подкасты: не воспринимаю информацию на слух, очень медленно, раз в десять медленнее мужа и друзей, читаю. Я постоянно забываю вещи – в аэропортах, магазинах, автобусах – везде. Постоянно опаздываю. Маша кивает и улыбается. Я рассказываю историю: мой старший сын Гоша вертится в самолете с телефоном в руках, спрашивает: «Мама, где север?»; мы пытаемся по полетной карте определить – где. Гоша снова вертится, чертыхается; в конце концов спрашиваю его: «А зачем тебе север?», отвечает: «Тут написано, что для продолжения игры необходимо подключиться к северу»; слово «сервер» он читал так быстро, как читают дислектики, буква «р» – пропала. Я вдруг чувствую себя на приеме у психолога и рассказываю Маше обо всех проблемах сына в школе – об агрессии учительницы, связанной с тем, что ему всегда надо больше времени на выполнение задания, о невозможности сосредоточиться, но при этом – о замечательных способностях, которые проявляются в занятиях один на один. Маша показывает мне несколько тестов, говорит, что торопить детей с дислексией нельзя, антипедагогично. Говорит о приемах и способах помощи таким детям. Ловлю себя на том, что теперь беру это интервью еще и для того, чтобы его прочла Гошина учительница, чтобы прочли родители таких детей, как мой сын. Чтобы было полезно.
– Когда ты поняла, что хочешь помогать таким, как ты, детям с дислексией и их родителям?
– Поняла-то я это довольно давно. Но видимо, нужно было время, чтобы сложился определенный пазл. Зная свой характер и свою биографию, я отдавала себе отчет: если займусь трудностями обучения в России, ничем хорошим это не кончится, скорее всего, дислексию объявят каким-нибудь западным выдуманным синдромом, а меня с моим фондом – иностранным агентом[21]. Максимум, на что я надеялась, – создать консалтинговую компанию, которая привозила бы в Россию западных специалистов и помогала частным школам выстраивать программы поддержки. Но без комплексных решений, включая законодательные проекты, систему не изменить. Так что хорошо, что я не начала действовать по «своему» плану и не потратила время зря. Потому что потом я встретила Марию Михайловну Пиотровскую, и всё встало на свои места.
– В каком смысле? Как вы познакомились?
– Ты не поверишь: мы вместе давали интервью журналу «Татлер».
– Смешно.
– Да нет, всё было предельно серьезно: журналисты обратились ко мне с идеей посвятить дислексии номер детского приложения «Татлер». Я ответила, что на их месте не делала бы из дислексии тему номера, потому что тогда журнал никто не купит. Меня внимательно выслушали, отыскали мне в пару Марию Пиотровскую, проинтервьюировали еще нескольких специалистов Ассоциации родителей и детей с дислексией – получился хороший материал. А потом Ассоциация пригласила меня на деловой завтрак.
– Деловой завтрак дислектиков? Звучит как начало сценарной заявки какой-то комедии.
– Ну нет, в этом нет никакой комедии. Завтрак как завтрак. Но для меня он оказался поворотным моментом в жизни: мы лично познакомились с Пиотровской, вцепились друг в друга, и уже никто не смог нас разлучить. Так мы стали вместе работать.
– Мария Пиотровская тоже страдает дислексией?
– Нет, но у нее есть дочь – тинейджер с дислексией; чтобы помочь своей дочке, Маша бросила успешнейшую карьеру финансиста и углубилась в изучение трудностей обучения.
– Но еще до этого ты стала первым – и пока что единственным в России – дислектиком с каминг-аутом. Как это повлияло на отношение к тебе людей?
– Ты знаешь, почти никак, кроме того, что огромное количество таких же, как я, людей с дислексией или родителей детей с трудностями обучения почти круглосуточно обращаются ко мне с вопросом, как быть и что может помочь. Как вариант, спрашивают, что помогло мне.
– Что ты отвечаешь?
– Рассказываю о своем опыте, о том, что меня – нас всех – спас индивидуальный подход к обучению в частной школе и в музыкальной школе. О том, что вплоть до университета у меня всегда была поддержка максимально толерантной к трудностям обучения среды, что в Москве было непросто. Что я освоила языки, искусства и неплохо сдала госэкзамены.
Короче, мы победили. Вот этим опытом победы я готова делиться. И очень круто, что я уже не одна – в последний год немало успешных людей, родителей сделали этот, как ты выражаешься, каминг-аут.
Но было бы еще круче, если бы количество каминг-аутов известных людей о дислексии в их семьях вдруг выросло в разы. Я мечтаю, чтобы о своей дислексии открыто говорили политики, многие из которых подходят ко мне и потихоньку делятся своими секретами, артисты, журналисты, известные общественные деятели. Потому что пока все эти откровения не носят публичного характера.
Я недавно чуть не разрыдалась, когда один очень известный и влиятельный олигарх сказал мне на ушко, что у него и у всей его семьи дислексия. Спрашиваю: «А можно о вас в интервью рассказать?» – «Что ты, что ты», – замахал руками. И это обидно. Дислексия – это не стыдный диагноз. Это особенность, с которой даже интереснее, как мне кажется, жить, но пока нам надо сделать так, чтобы люди с такой особенностью были приняты обществом.
Это сильно бы облегчило жизнь нашей Ассоциации. Потому что проблемы и решения у всех людей с трудностями обучения разные, а схожее у нас одно – это засевшая в памяти реакция взрослых на наши трудности и жуткие фразы, которые передаются из поколения в поколение и застревают в мозгу.
– О каких фразах речь?
– «Будешь так писать/читать – будешь улицы подметать», «Смотрю в книгу – вижу фигу», «Читай/пиши внимательно!», «Ты просто ленишься, я знаю, ты можешь», «Ты мало занимаешься дома», «Даже Петя в первом классе может написать это без ошибок», «Я буду ставить тебе двойки за грязь в тетради, и ты быстро научишься». Всё это загоняет проблему глубже и глубже и никак не способствует ее решению. Ребенок не знает, что с ним не так, не понимает, что у него особые образовательные потребности, что у него есть право на другое отношение к нему и к его трудностям. Ребенок не может знать, что его учитель некомпетентен, раз не видит типичных «логопедических ошибок», а его семья – одна из миллионов неосведомленных семей, раз вслед за учителем повторяет: «Надо больше заниматься!»
Ребенок действительно начинает считать, что он «хуже всех» и «ни на что не годен». И мотивация – даже самые ее капельки – пропадает: «Я всё равно никогда не смогу это сделать», «Я занимаюсь, учу, а всё равно не могу». И после каждого родительского собрания такой ребенок будет обещать, что станет лучше учиться, и при этом чувствовать, что только подводит всех вокруг. Кстати, если говорить о моей семье, то знаешь, чем они мне помогли больше всего? Они всё время подчеркивали, что у меня есть другие победы.
– Например?
– Как только они видели, что меня что-то увлекает, что мне что-то хотя бы минимально нравится, они вбухивали туда все возможные силы, средства и прочее – вплоть до возможности оказаться на бродвейской сцене, например.
– Ты мечтала о Бродвее?
– Если по-честному, то поначалу это была несвершившаяся мамина мечта: петь и танцевать. Но меня эта история захватила, и я по сей день чувствую потребность играть и петь.
В детстве, когда у меня начинали проявляться способности такого рода, мама очень воодушевлялась: так в моей жизни появлялись самые разнообразные, иногда даже невероятные занятия типа фламенко. Короче говоря, что угодно, лишь бы «Маше было интересно».
– Надолго хватало?
– Когда как. Интереса к фламенко хватило на полтора года и пару севильян – совсем не про мой темперамент танец: там сложная работа рук одновременно с чечеткой. Но эта история стала важным рубежом: за то короткое время, что я им занималась, окончательно поняла, что мне тяжело в группах, я не могу сконцентрироваться, не успеваю, у меня свой темп – где-то медленнее, где-то, наоборот, быстрее. Вот тогда мы как раз вступили в эру бесконечных индивидуальных занятий: иностранными языками и фортепиано с вокалом.
– Объясни, как именно это помогало?
– Я была защищена. Вокруг меня была создана среда, в которой у меня был свой план, учитывающий мои индивидуальные «трудности обучения»: способности, потребности, умения и неумения. Это позволяло не зацикливаться на том, что мой результат не похож на чей-то другой, и подводило к пониманию того, что приближенность моих результатов к чьим-то другим или к каким-то стандартным – не самая важная штука в жизни.
– Теперь, когда ты всем этим занимаешься профессионально, можешь по-научному объяснить, что на самом деле такое «трудности обучения»?
– Это нейропсихологические особенности развития, которые есть у каждого пятого человека на Земле. Они проявляются крайне индивидуально и в разной степени. Большинство людей полагают, что дислексия (и ее производные типа дисграфии, дискалькулии и так далее) сводится к неумению читать и писать, но это не так. Люди с дислексией сталкиваются и с другими сложностями.
Очень важно понимать, что трудности обучения никак не связаны с их низким IQ. Наоборот, считается, что у таких людей активно задействовано правое полушарие, им под силу видеть нестандартные решения или у них высокий EQ (эмоциональный интеллект), развитое образное мышление и другие преимущества, которые надо применять и развивать дальше.
Как правило, у ребенка с дислексией слабые организационные навыки, есть проблемы с выполнением последовательных действий, есть сложности с определением времени на часах, такие дети часто путают дни недели или времена года. Еще бывает так, что ребенок с дислексией быстро устает при чтении, может тереть глаза, держать слишком близко книгу, путать и пропускать буквы, а иногда даже пропускать слова, перепрыгивать предложения или абзацы. Дело просто в том, что у ребенка или взрослого с дислексией чтение оказывает в четыре-пять раз больше нагрузки на мозг, чем у нейротипичного – то есть обычного – человека.
– Хорошо, теперь давай простыми словами.
– Попробую. Смотри, у нас, людей с дислексией, развито образное мышление, а значит, мы запоминаем, как написано каждое конкретное слово. Когда мы читаем слово, мозг ищет его в «словаре», и если не находит, то мы пытаемся распознать порядок букв и подобрать фонетическое значение. В итоге, когда мы сталкиваемся с незнакомым текстом, то, как правило, вначале просто не можем понять, в каком порядке стоят эти буквы, а тут еще надо звуки правильные подобрать!
– Я сейчас себе представила. Ужас.
– Вот именно. А теперь представь, что пока ты пытаешься это сделать, над тобой стоит учительница и орет: «Ты что, Гордеева, совсем тупая (обленилась, ничего не соображаешь, не хочешь, как все, работать, одно простое предложение прочесть не можешь)?» А потом она же – эта учительница – при тебе говорит твоим родителям, что ты читаешь совсем мало слов в минуту и вообще не тянешь. В этот момент лучше умереть, честно.
Потому что нет рядом никого, кто скажет тебе, что всё это ерунда, что двадцать, а то и больше процентов людей вокруг тебя видят и слышат с какими-то отклонениями от того, что принято считать нормой. И что гениальность – это тоже отклонение от нормы.
У детей с трудностями обучения есть проблемы со скоростью обработки информации и запоминанием: трудно строить сложные предложения с законченной мыслью. Люди с дислексией лучше запоминают информацию, если она представлена в виде наглядных примеров или историй, а не абстрактных рассуждений. Дети с дислексией, скорее всего, будут лучше помнить, кто и что подарил двоюродной сестре на день рождения два года назад и что на ней в этот день было надето, чем свое расписание уроков. Они совершенно точно знают, как устроен круговорот воды в природе или двигатель внутреннего сгорания, но им сложно писать на одной линейке все буквы одинакового размера или решать примеры «в цепочку».
А ты знаешь, что сказки Ганса Христиана Андерсена, у которого также была дислексия, в свое время отказывались печатать из-за огромного количества ошибок и плохого почерка? И вот этот плохой почерк, как и рассеянность или неуклюжесть, в людях с трудностями обучения пытаются перевоспитать или исправить с помощью дисциплины, совершенно не понимая, что это невозможно.
– Но послушай, сторонники дисциплины скажут тебе: это обычная распущенность. Мне так говорят, например: я раза два в месяц теряю все свои документы и всегда находится добрый человек, который скажет, что надо просто быть внимательнее и взять себя в руки. И я тоже думаю: пора бы взять. Но ничего не выходит. Я – человек с трудностями обучения или просто без навыков самодисциплины?
– Знаешь, Мария Пиотровская только недавно поняла, что у нее самой (а не только у дочки) есть трудности обучения, когда я обратила ее внимание на то, что она постоянно, когда что-то пьет – чай или морс – на себя проливает, не может освоить велосипед, регулярно допускает ошибки в СМС и письмах, часто задевает плечом косяк двери, да и вообще ее движения полны всяких неуклюжестей.
– И что это значит?
– Это значит, что у нее пространственно-моторные проблемы. Мы начали копаться в ее детстве, спрашивать ее папу, Михаила Борисовича Пиотровского, и поняли, что да, действительно, у нее в детстве были проблемы с завязыванием шнурков, с заучиванием стихотворений и другие признаки трудностей обучения, которые вовремя скомпенсировались в том, что касается чтения. То есть с чтением проблем у нее нет, но сохранились другие.
– Значит ли это, что мы теперь будем таким образом оправдывать любые странности?
– Мы просто теперь сможем назвать всё своими именами. Это мы не распущенность оправдываем, это мы помогаем человеку – и окружающему его обществу – принять себя и понять свои особенности, а также найти помощь, если она требуется. На сайте нашей Ассоциации перечислены признаки трудностей обучения, в соцсетях и статьях мы часто о них пишем, и в ответ к нам нон-стоп обращаются с просьбой порекомендовать профильного специалиста, репетиторов, школу с толерантным отношением к таким трудностям и кучей других вопросов. Мы всем помогаем, насколько нам позволяют ресурсы, и каждый раз слышу от родителей: «Спасибо, когда я об этом узнала, жить стало легче, оказывается, мы не одни такие».
– Много ли людей к вам обращаются?
– Очень! И не только родители, даже студенты и взрослые просят: «Помогите мне научиться читать. Я до сих пор не могу, и мне стыдно признаться друзьям и собственным детям…» И это не значит, что люди пытаются с нашей помощью оправдать свою леность, нет.
Это просто способ научиться жить со своими особенностями и принять себя таким, какой ты есть: дети, которые не вписываются в методические руководства и «мешают учителям» в школе, потом вырастают во взрослых, уверенных, что они мешают всем на свете. Это чувство никуда не уходит…
Ты постоянно чувствуешь, что опять кому-то портишь статистику или имидж компании, что ты виноват. И хочешь, чтобы тебя простили, например, за орфографическую ошибку в релизе или описку в отчете. Это очень тяжело.
– Что за два года существования удалось сделать вашей Ассоциации?
– Два года – очень мало, если ты занимаешься развитием образовательного проекта. Но что нам объективно удалось, так это заложить фундамент для самостоятельного развития системы поддержки неуспевающих детей на федеральном уровне. Ассоциация – это инициативная группа социальных деятелей, представителей науки, культуры и бизнеса, которые разрабатывают современные системные проекты. Мы, как мостики, соединяем экспертов и организации, которые должны взаимодействовать для того, чтобы ситуация менялась по всей стране и на всех уровнях, а не только в тестовых школах или хорошо финансируемых регионах. За два года работы мы собрали вместе лучших наших ученых и разработали программы просвещения родителей, учителей и профильных специалистов.
Наши эксперты прочитали сотни лекций в Москве, Питере, Казани, Грозном – везде, куда приглашали. И мы поняли, что нужно развиваться в двух направлениях: максимальное просвещение, в том числе и онлайн, и взаимодействие с государством на федеральном уровне.
– Какому проценту людей с трудностями обучения можно помочь?
– Что значит – какому? Всем. Каждому. Потому что если ребенок до школы будет диагностирован, то он, может быть, даже никогда не узнает, что у него есть «проблемы»: ему вовремя назначат необходимые занятия, а родителям и учителям расскажут, как такому ребенку помогать. Это и просто, и сложно, но помочь можно только так. У детей с трудностями было бы намного меньше трудностей, если бы в стране активно начали развивать мультисенсорное обучение.
– А что это?
– Обучение через тот тип восприятия, который близок ребенку. «Скажи мне – и я забуду, покажи мне – и я запомню, дай мне сделать – и я пойму» – по-моему, это Конфуций. Но самое главное – не демонстрировать ребенку своего разочарования, не показывать, как вам тяжело с ним, как вы страдаете от его неудач, как это делает большинство родителей неуспевающих учеников.
– Твои родные со временем стали терпимее к твоим особенностям?
– Ты себе не можешь представить, как я начала радоваться, когда мой родной папа перестал, скажем так, резко реагировать на то, что во время семейного обеда всегда, при любых обстоятельствах я что-то переворачиваю, бью или случайно проливаю на стол.
– Он как-то объяснил это?
– Нет, просто стал терпимее к моей неуклюжести и рассеянности. При этом я понимаю, что «стал терпимее» – это очень просто сказать, а стать терпимее – трудно, особенно такому организованному человеку, как папа. Это ведь действительно раздражает, когда человек постоянно что-то забывает, теряет или ломает. Папу, который сам предельно аккуратен, конечно, всё это бесило. И вдруг – он расслабился. Знаешь, какое это счастье, когда ты понимаешь, что тебя приняли! В первый раз, когда отец промолчал при виде очередного перевернутого мною бокала, я замерла. Сижу, жду реакции, а он: «Мусевич, ну чего ты?» И я такая: «Пап, это самая крутая реакция, которая у тебя была в жизни на мою неуклюжесть: “Мусевич, ну чего ты?”»
– Папино принятие больше связано с тем, что он устал с тобой бороться и понял, что тебя не переделать, или с тем, что он работал над собой: читал, изучал диагноз?
– Я постоянно родителям про трудности обучения читаю или рассказываю. Но папа, скорее, относится к людям, которые считают, что это выдуманное оправдание для тех, кто не может взять себя в руки. Мне кажется, он до конца в диагнозы не верит.
– А мама?
– У нее другая крайность: она всё читает, всем интересуется, но любую информацию всегда переводит на себя. «Ну конечно, я плохая мать, если я не смогла тебе дать то, дать это…» – говорит она, если мы обсуждаем какие-то современные способы адаптации детей с неуспеваемостью. Если же я начинаю, например, рассказывать ей про то, что дислексия и дисграфия часто развиваются у детей в бедных и социально неблагополучных семьях, потому что они не имеют доступа к людям с развитым словарным запасом, мало читают, мало видят нового и так далее, она возмущается: «Но у тебя же не было такого!» То есть она до сих пор очень сильно рефлексирует, что сделала что-то не так.
– Ты тоже так считаешь?
– Нет, я так не считаю. Я считаю, что у меня была лучшая поддержка, учитывая обстоятельства, в которых моя семья столкнулась с моими проблемами.
– Ты маме об этом говоришь?
– Конечно. Я много раз с ней это обсуждала. Но как только мама в очередной раз понимает, что в моем детстве у нее не было достаточных знаний о том, как надо общаться с таким, как я, ребенком, ей становится обидно, она бушует. Поэтому я, если честно, стараюсь сейчас поменьше ее посвящать в новые методы поддержки и рассказывать про то, что Ассоциация делает, чтобы она лишний раз не разочаровывалась. Ей и так досталось сполна.
Родители ведь всегда сами – пострадавшая сторона. Школа, эта сложившаяся система, пугает их рассказами о будущем, ругает, что ребенок не такой, как остальные, и в конце концов переносит на них всю ответственность. Тех, кто способен спокойно и уверенно противостоять такому, – единицы. Помнишь историю про [изобретателя Томаса] Эдисона, которого выперли из школы с запиской, что он идиот и школа отказывается его учить, а мама прочла ему эту записку вслух так, что выходило, что он гений, а в школе просто нет таких талантливых учителей, чтобы ему соответствовать? Сколько таких мам?
Сколько вообще людей, которые понимают, что мы имеем дело с особенностью восприятия информации, генетически заложенной, как цвет глаз или волос. Что такая же особенность есть, к примеру, у Билла Гейтса или Тома Круза. Ее обладатель, скорее всего, будет более креативен, чем другие дети, а возможно, даже вырастет гением. А может, и нет. Но главное – эту особенность нельзя изменить воспитанием. А вот испортить жизнь ее обладателю можно легко.
Это интервью, опубликованное в интернет-издании «Правмир» 18 марта 2019 года, произвело эффект разорвавшейся бомбы. Его прочли больше миллиона человек. Комментарии и письма, присланные мне – а их было больше тысячи, – стали настоящим коллективным каминг-аутом, возможностью выговориться для людей, прежде думавших, что с ними или их детьми что-то не так. Не имея возможности спросить каждого о разрешении на публикацию, я приведу лишь некоторые, подписав инициалами:
Елена П. У каждого человека своя история, свои особенности и свои боли. Одна из моих «болей» схожа с чувствами Марии Парфёновой, дочери известных и талантливых родителей. Постоянное ощущение, что ты не дотягиваешь до высокого уровня членов своей семьи. Окружение, которое транслировало, что как «такая, как я» могла родиться у таких умных людей. Зачем я это пишу? Затем, чтобы те, кто сейчас сталкивается с похожей ситуацией у своих детей, знали такие слова, как «дислексия» и «дисграфия». Знали, что с этим можно и нужно работать.
Дмитрий Б. Я, конечно, когда-нибудь напишу о том аде в который можно попасть в школе: о том, как можно остаться там на второй год при почти стопроцентной посещаемости, о том, как идешь туда, а домой возвращаться не хочешь, о том, как «Бородино» Лермонтова можно учить наизусть всю ночь, но ничего не запомнить и вообще ничего не понять, о том, как с первой парты ты смотришь на доску, на которой тебе что-то пытаются изобразить и объяснить, но ты ничего вообще не понимаешь, о том, как читаешь параграф несколько раз, а каждый раз кто-то невидимым ластиком стирает его в настоящем времени, о том, как голову там разрывает от того, что у всех всё выходит, а у тебя нет. И о том, как в 29 лет ты всё еще стесняешься своего почерка и записную книжку стараешься не держать открытой, когда кто-то рядом, а на любой поздравительной открытке просто рисуешь сердечко, а ниже подпись. О том, как вообще не сломаться и зацепиться за что-то важное и интересное для тебя. Я напишу когда-то об этом и многом другом – благодаря этому интервью с Машей. Я больше не боюсь.
Татьяна К. Я практически рыдала над прочитанным. В этом ужасе школьной системы я и моя дочь живем уже пару лет. Как отличница в прошлом, я прошла все стадии от недопонимания, гнева, принуждения, самобичевания, депрессии, апатии, смирения до попыток как-то адаптироваться к этому.
Ольга В. Как мама такого ребёнка могу подтвердить, как это трудно пройти с ним все школьные испытания. Нужно изменение на общественном и, может быть, даже на законодательном уровне, чтобы все учителя понимали, что такое дислексия, и знали, как себя вести с такими детьми. Дополнительное время на тестах – это физиологическая необходимость. И обязательно запретить оскорбления таких детей и давление на их родителей со стороны учителей. У меня уже целая копилка перлов, от которых волосы дыбом.
Натан И. И я человек с дислексией! Сколько слез было пролито в школе, когда все мои усилия и старания так и не вознаграждались правописанием и чтением «на время». А изложения и диктанты были сущим адом! В восьмидесятых никто не знал про дислексию. Какое счастье, что я могу сейчас помочь моим детям! Спасибо за материал.
Вера П. Обнимаю вас очень, у моего сына диагностировали дислексию неделю назад, теперь это не просто мои догадки. Стало и легче и тяжелее одновременно. Спасибо вам за рассказ.
Елена Д. У моего младшего была дислексия, но мы тогда и слова такого не знали. Когда ему было 7 лет, одна очень уважаемая учительница, доктор наук и всё такое… сообщила нам с мужем, что он умственно отсталый и его надо отдать в спецшколу. Спасли нашего сына два фактора – во-первых, мы с мужем прекрасно видели, что сын у нас вполне нормальный и даже более чем, например, он с раннего детства очень смешно умел шутить сам и прекрасно понимал юмор, или он замечательно справлялся с лего, или он умел организовать детей на увлекательную ролевую игру и при этом определённо был лидером в детской компании. То есть мы прекрасно видели, что он не умственно отсталый, поэтому «специалист» был послан на фиг. Ну и во-вторых, мы озаботились поиском хороших учителей, и нам повезло – примерно с третьего класса нам наконец попалась замечательная, умная и добрая учительница, очень молодая и без всяких регалий – она поддержала нашего сына и нас, подход у нее был исключительно индивидуальный и это в обычной школе. Это я сейчас понимаю, тогда я думала, что ребёнок просто подрос и выправился. А потом я его перевела в чудесную 91-ю школу, и там всё стало окончательно налаживаться. Но поскольку дислексия, естественно, не проходит, как грипп, то он постоянно занимался дополнительно с многими прекрасными учителями. Сейчас он очень успешен, но время от времени пишет, например, «завтрО».
Светлана Б. Мне ставили четверки по русскому из жалости и уважения к усилиям. И у меня все трое детей дислексики. Хотя трудно не поддаться тому, что «дисциплины не хватает», уже смотрим на всё по-другому. Спасибо, девочки, за интервью.
Интервью четвертое Наталия Солженицына
Встреча назначена в Доме русского зарубежья Александра Солженицына. Снаружи метет снег. Все входящие приносят с собой по сугробу – на голове и плечах. Топчутся у гардероба. Снег тает, и каждый оказывается в луже. Народу внутри немного, но здание – не мертвое: анонсы выставок, афиши каких-то встреч и семинаров. Она не сказала, где конкретно мы встретимся. Хожу по этажам и заглядываю в комнаты: «Вы не подскажете, где кабинет Наталии Дмитриевны?» – «А это кто?». Потом окажется, что никакого кабинета – а я представляла: будет большой, основательный, с креслом, картинами на стенах и столом, отражающим окружающую красоту, – у нее нет. Мы будем беседовать в холле.
Она входит в туфлях-лодочках на небольшом каблуке, в шубе. Снег на плечах точно того же оттенка, что и ее волосы. Она говорит тихо. Иногда – морщится, если вопрос не касается мужа. Но мы говорим о муже. Правда, она называет его по имени-отчеству и не дает мне никакой возможности сделать шаг в сторону от официального повода нашей встречи: [в 2018 году] Александру Исаевичу Солженицыну сто лет.
[22]
– Нормальная цифра с точки зрения читателей, литературы, масштаба истории. Но вы были любимы и любили конкретного, живого человека. Значит, цифра должна и пугать, и отдалять от живой памяти.
– Нет. Меня не пугает и не отдаляет, все эти цифры кажутся условностью. Александр Исаевич был довольно необычным человеком во многих отношениях, в том числе физически. Он был энергичен, силен, молод, невероятен – очень долго. И невозможно было представить ни его старости, ни того, что ему может быть сто лет. Так было довольно долго.
Но потом он заболел. Болел последние пять лет жизни. Но и тогда он выглядел раненым воином, понимаете? Да, старый воин, но ранение – временное: если бы не оно, он был бы так же готов к жизни и битве, ко всему. Так казалось. В девяносто лет его не стало. А мне скоро будет восемьдесят – выравнивается возраст. Но я его помню таким, каким он ушел, он для меня не стареет. Это не связано с цифрами.
– Большие цифры вытесняют живую память: образ великого писателя застывает, покрываясь бронзой.
– Для кого-то – бронзой. Для кого-то – глиной. Бывает и грязь. Он весь облеплен легендами и ярлыками, среди которых есть вполне доброжелательные, но всё равно не слишком правдоподобные, а есть и злонамеренные. Вы правы, если в бронзе застывает неверный образ – это большая проблема, но она создалась не благодаря Солженицыну, а из-за обстоятельств его жизни, из-за КГБ, который целенаправленно запускал клевету, ложь без возможности публично ответить, – в конечном счете всё это стало частью «бодания теленка с дубом». При бодании с таким дубом теленок вынужден быть суровым, а когда-то и казаться суровее, чем был на самом деле.
Но он бывал и другим! В надежном месте, с друзьями, про которых мы точно знали, что они – друзья. Вот тут он шутил, улыбался, смеялся. Но этот образ не стал публичным, к сожалению.
– Друзей, которые его таким видели и помнят, – много?
– В России было очень много. На Западе гораздо меньше. Но и там друзья у нас тоже были. А в России одних только «невидимок», перечисленных в «Теленке», – сто пятнадцать человек. Это много! Это всё люди, с которыми были личные контакты.
– Именно друзья, не соратники?
– Разделения на друзей и соратников тогда не было. Друзья того времени были вовлечены в его работу или осведомлены о ней. С ними он разделял дело всей жизни – донести до людей ту реальность, которая была скрыта, преступно спрятана людоедским режимом.
Мне хочется, чтобы на столе между нами стоял чайник и чашки, чтобы мы пили чай. Чтобы она мне – улыбнулась. Но она предельно строга. Сидит на краешке стула с ровной спиной. И тон ее, и манера поведения не подразумевают никакой личной истории между нами. Я переживаю, что интервью не получится. Или получится – формальным, еще одним пресс-релизом масштабного празднования векового юбилея Солженицына.
Но видно, все мероприятия, что проходят в год столетия ее мужа, для нее – не формальность и не «череда». Каждое – как будто ее личное письмо к нему. Вот, например, выставка в Царицыне «Писатель и тайна».
– Смысл этой выставки – предостережение. «Не ходите, дети, в Африку гулять»: посмотрите, что режим делал с людьми, и давайте вместе построим жизнь так, чтобы никогда больше ни одному пишущему человеку в России не понадобилось делать похоронки и захоронки того, что он пишет.
– Многое ли из того, что Солженицын не смог запомнить или спрятать, было утеряно безвозвратно?
– По счастью, немногое. В лагере бумагу и пишущие средства давали два раза в год, когда по распорядку разрешали писать письма домой. В остальное время разве только случайный клочок попадется. Но даже если умудриться записать на нем какие-то строки, хранить это было нельзя.
Когда он вышел из лагеря в казахстанскую ссылку, то должен был регулярно отмечаться в комендатуре, без разрешения не мог выезжать за границы поселка. Именно тогда всё сочиненное и запомненное в лагере он записал, из головы вынул и положил на бумагу. Но времени и сил ему едва хватало. У него была двойная школьная нагрузка, он жил один, а помощи ждать было неоткуда: отец погиб еще до рождения сына, мать умерла в 44-м, когда он на фронте воевал, жена не дождалась и вышла замуж за другого. Ему было всего тридцать четыре года. И тут его настигли метастазы рака. Вот только он даже не знал, что у него рак!
– Это как?
– Ему вырезали опухоль в лагере, но злокачественная она или нет, он не знал, этого хирург, делавший операцию, не сказал. Самого хирурга на следующий день этапом выслали из лагеря. Он только крикнул в окошко: «Я твой анализ послал в Омск. Запомни!» Он запомнил, но не понял и не знал, зачем это нужно. Но, когда болезнь вернулась, слова хирурга пригодились. В «Раковом корпусе» описана история его исцеления.
– И в этой же ссылке начинается история восстановления и сохранения всего того, что Солженицын решил записать. Как это стало возможно?
– В ссылке он рано вставал и уходил в школу: преподавал физику, математику, астрономию и вел разные кружки. Он любил преподавать, любил школу, она была для него спасением. Но в его отсутствие опер мог зайти в хибарку, осмотреть вещи, найти записи. Надо было их прятать. На учительскую зарплату через некоторое время он смог купить фотоаппарат. Много снимал окружающую жизнь, стариков, детей, колючки степные, что угодно. Фотографировать ему нравилось. Но главное было приучить людей к тому, что он всегда с фотоаппаратом, такой вот увлеченный любитель-фотограф. На самом же деле фотоаппарат был ему нужен, чтобы переснимать рукописи. Пленку ведь легче прятать! Пересняв написанное, он сжигал оригиналы. Поэтому рукописных оригиналов его ранних работ не существует: ни поэмы «Дороженька», ни пьес, ни «В круге первом», который он начал писать в Кок-Тереке. Ни одной рукописи до «Ракового корпуса» не сохранилось. Позже он сам перепечатал все тексты с пленок, так что все ранние вещи теперь существуют в виде авторской машинописи.
Но, знаете, ведь были и другие, более поздние, потери. В 65-м году КГБ устроил обыск у одного из его друзей, точнее, у человека, которому этот друг без ведома Александра Исаевича доверился и у которого держал часть рукописей. А среди них был и «Пир победителей», откровенно антисоветский. С этого момента, с 65-го года, власть окончательно сочла Солженицына врагом, не-ис-пра-ви-мым. Что справедливо. Он действительно был непримиримым врагом большевистского строя.
– Но он – один из немногих, кто вышел из этой схватки победителем. И в творческом смысле, и в духовном.
– Хорошо, что вы так думаете. Хотя, мне кажется, это несколько преждевременно. Да, он вышел победителем той системы, которая владычествовала тогда. Но сказать, что наша страна в своем нынешнем состоянии преодолела страшные стигмы, которые оставил коммунизм, нельзя. У нас они вполне еще цветут.
– В чем вы видите их проявление?
– Откройте интернет – посмотрите, сколько там сайтов неокоммунистических, неокомсомольских. Молодые и старые люди мечтают о возвращении прежнего.
– Распространенность этих идей и их влияние всё же значительно меньше тех, что исходят от правящей сегодня партии и разнообразных ее ответвлений.
– Ошибаетесь! Это вообще нельзя сравнивать. Единороссы – то ли партия, то ли клуб, то ли вообще неизвестно что. От них мало что зависит, и мало чем они управляют в стране. А между тем коммунистические идеи реют всё настойчивее, и они опасны тем, что дают ложные ответы на совершенно справедливое негодование людей. Это негодование имеет под собой почву, и не только у нас в стране, где угодно: вся Греция теперь разгуливает под красными знаменами. Какая-нибудь Нигерия тоже разгуливает! Это, кстати, в корне противоречит расхожему на Западе мнению, что коммунизм – порождение русских. Александр Исаевич с этим постоянно спорил, спрашивая: так вы против коммунизма или против России как таковой? Но – «угодило зернышко промеж двух жерновов» – на Родине он не устраивал коммунистов и на Западе не угодил: его сочли русским националистом, поскольку он защищал историческую Россию, говоря, что нелепо считать камбоджийский, или вьетнамский, или еще чей-нибудь коммунизм порождением Ивана Грозного. Но его оппоненты настаивали: коммунизм – русская практика, он органичен имено для русского народа. Вроде как русские – такой отдельный рабский народ, который хочет над собой кнута и для которого только такой способ устройства жизни и возможен. Вполне расистский взгляд.
– С тем, что в России довольно многие скучают по сильной руке, не поспоришь.
– Да, русские, будучи в высшей степени и многогранно талантливым народом, к сожалению, мало способны к самоорганизации. Вероятно, это следствие природных свойств и исторических особенностей. Пространства огромные, климат суровый. Выживание на таких просторах и в таком климате требует, наверное, более жесткой организации, чем каждый человек хотел бы над собой учредить. В северных странах, в Англии, Норвегии, Швеции, как мы знаем, сохранились королевы и короли. Да, они теперь не управляют политической жизнью. Но это не просто рудимент, зачем-то они своим странам нужны.
– Вашу мысль можно продолжить таким образом, что раз где-то хороша монархия, то, возможно, каким-то странам зачем-то нужен и очень подходит коммунизм.
– Нельзя продолжить таким образом. Коммунизм никому не подходит, в его идее заложен обман. Он декларирует и обещает такое равенство, которое невозможно. Люди рождаются неравными. Делать их равными, следуя коммунистической логике, означает: каждому, кто над строем возвышается, отсекать либо ноги, либо голову. И достаток у людей не может быть равным, потому что один способный, а другой неспособный, и обстоятельства у всех разные.
Правильное равенство – это равенство перед законом. Такое действительно необходимо каждому родившемуся человеку. И оно должно быть обеспечено. Но уж при коммунизме справедливого суда ждать не приходится, это наша недавняя история доказала.
Коммунизм вообще – страшная штука, он требует от людей не только дисциплины, физического подчинения, всех сил, ума, таланта и неустанной работы. Нет. Сверх всего этого коммунизм требует душу. В этом различие тоталитарной власти и авторитарной: тоталитарная требует еще и душу, авторитарная – только подчинения.
– То есть выбирая из двух зол…
– Это даже смешно – выбирать! Они рядом не стояли. Тоталитаризм – это значит не просто молчать, зная, что твоего невинного брата, или соседа, или друга закатали, но еще и аплодировать на общем собрании и кричать: «Собаке – собачья смерть!» И быть одного со всеми мнения, а другое нигде никогда не высказывать. Такого ни в какой Англии, ни при каком Кромвеле не было – нигде не было.
И сегодня многие наши трудности – из-за родовых пятен семидесятипятилетнего тоталитаризма, который одних растлил, в других вселил позвоночный страх, и это в нескольких поколениях. Но и это не все: он исказил историю и спрятал ее от нас, не допуская никаких дискуссий по существу. С момента разгона сто лет назад Учредительного собрания до сегодняшнего дня у нас не было и нет настоящего парламента.
– Справедливости ради: и последний Съезд народных депутатов 1991 года, и Дума первых созывов девяностых подразумевали, как тогда говорили, плюрализм. Дискуссии там велись жаркие.
– Только не о главных вопросах государственного устройства и национального бытия. Да и то было недолго. Нынешняя Дума и ее депутаты не представляют общественного интереса. От них за редким, частным исключением – кому-то помочь с жильем или лечением – ничего не зависит. Это тупик.
– В 1994 году, когда вы с Солженицыным возвращались в Россию, была надежда на то, что всё будет иначе. Никто не мог представить себе, что вместо логичного движения вперед будет сделан шаг назад.
– Вполне можно было представить. Не бывает исторического развития по прямой, всякое развитие идет петлями. А петля на каком-то этапе имеет обратное направление движения.
– Вы в это верите?
– Это не вопрос веры, это факт. Посмотрите на Польшу или Чехословакию, да где угодно – там тоже история сделала петлю: избрали опять коммунистов, просто у них коммунисты немного другие.
– Но у нас-то не избрали. Наоборот, сделали все, чтобы в 96-м не избрать.
– В 96-м и у нас избрали. А сделали всё, чтобы это скрыть, не признать. И мы видим, как участвовавшая тогда в манипуляции с выборами «говорящая» и близко стоявшая к власти часть общества всё дальше и дальше отрывается от неговорящей части. На ней огромная ответственность.
– А сама власть, выходит, опять ни при чем?
– Власть всегда при чем, всегда больше ответственна, чем рядовые люди. У власти бо́льшая возможность маневра, чем у общества. И хотя бы только поэтому власть всегда виновата больше. И Николай Второй больше виноват в революции, чем противостоявшее ему общество. Но общество тоже виновато! Виновато в расколе, который длился полтора века и не поддавался никаким разумным компромиссам, виновато во взаимном пафосе разрушения.
Так и сегодня. Во всем, что может плохого произойти, власть будет виновата больше. Но от этого никому не легче, и это не снимает ответственности с нас как граждан.
– Вы часто говорите о губительной силе раскола и необходимости общих переживаний, которые бы нас объединяли. А что считать точкой окончательного раскола? Крым?
– Что вы! Мы давно в расколе, со времен Гражданской войны. Как раз Крым был – для огромной части общества – возможностью пережить общие чувства. Откололась в тот момент совсем небольшая часть. Для большинства же Крым был общей позитивной эмоцией, на которую власть какое-то время очень опиралась.
Потому что прежде опираться особо было не на что: в девяностые под тяжестью внезапных перемен общество атомизировалось, люди перестали поддерживать друг друга, помогать, каждый вдруг начал выживать сам по себе; дети стали упрекать родителей, что у соседей вон квартира-машина, потому что «их отец правильно жил и сумел устроиться», а мы вот всё по-старому, потому и в нищете; люди перестали ходить друг к другу в гости. Перестали знать друг о друге и хотеть что-то знать. Слава богу, эта ушибленность проходит постепенно. И обретается понимание, что одними деньгами счастья не купишь. Как-то возвращаемся в человечество постепенно. Но ироническое выражение «за державу обидно» на самом деле имеет вовсе не ироническую подоплеку, это чувство по-прежнему не утолено. Поэтому Крым и был воспринят так бурно-радостно: это было ощущение справедливости, потому что, конечно, Крым – это Россия. Исторически он чей угодно – турецкий, греческий, хазарский, но не украинский! Это уж каждому ясно, в том числе нормальным украинцам. Другое дело, что юридически это было сделано, очевидно, с нарушением правил. Но эти нарушения были заложены в момент распада СССР, в девяностые годы. И кстати, Солженицын об этом тогда говорил публично. И Ельцину писал письмо (оно опубликовано и известно), что разделение страны по ленинским границам может очень тяжко сказаться в близком будущем. Ведь эти границы были искусственно нарезаны в 1922 году большевиками из соображений сохранения своей власти. И поскольку мы от этой власти уходим, то мы не должны считать эти границы священными и не можем признавать их без юридических оговорок. Это просто опасно!
Тогда на него вся наша интеллигенция окрысилась невероятно, и первой Елена Георгиевна Боннэр, царствие ей небесное, закричала: «Что вы, что вы! Сейчас невозможно даже шепотом такое произносить. Замолчите, Солженицын! Замолчите, потому что это может привести к югославскому варианту».
Не прошло и двадцати лет, как Россия вернула Крым под ликование своих граждан. Да, были нарушения международного права. Но кто в этом разбирается из граждан? У нас граждане в собственных счетах не разбираются, какое уж тут международное право. К тому же оно в мире нарушается то и дело. Сейчас Турция вторглась в Сирию, нарушив всякое право, и ни Америка, и никто, кроме Сирии, не называет это агрессией.
Ей звонит сын. Она улыбается. Она – умеет улыбаться. По разговору понятно – это Игнат[23]. Тот, что пианист и дирижер. Понимаю по тому, что она спрашивает, как прошел концерт. И голос у нее меняется. Обсуждают детей и планы на вечер. Кладет трубку. Извиняется.
Мимо проходят люди, интересуются, как найти какой-то кабинет, где находится туалет. Она отвечает. Третья из проходящих мимо наконец признает Солженицыну и предлагает продолжить интервью у нее, например, в кабинете. Наталия Дмитриевна отказывается: «Мы здесь и так довольно уютно устроились».
– В день рождения Солженицына, в день его столетия, в Москве была открыта мемориальная доска на доме, где вы жили, где родились все ваши «солженята» – трое, один за другим, сыновей, где в 1974 году Александра Исаевича арестовали и откуда его выслали. По идее, там же должна быть открыта мемориальная квартира?
– По идее, да. Но с этим много трудностей.
– Вы помните ту вашу повседневную жизнь в бытовом плане?
– Разумеется.
– В деталях?
– В каких-то деталях, да, тоже.
– Что это за детали?
– Ну, скажем, ящичек, который стоял у нас в прихожей, с гуталином и щетками, которыми мы действительно чистили обувь. Но в ящике было двойное дно, куда мы засовывали те рукописи, над которыми Александр Исаевич в данный момент работал. Много рукописей дома хранить было невозможно, всё хранилось у друзей, по разным адресам. Но нужное для работы было при себе, и, если все уходили из дома, мы не оставляли их открытыми на столе. У нас было два таких ящичка, он еще из ссылки их привез.
– Из сегодняшнего дня вся эта конспирация может показаться…
– Удивительной?
– Скорее, преувеличенной.
– Нет. Она не была преувеличенной. Если бы это было найдено [в ссылке], он тут же получил бы второй срок. Сразу, понимаете? Потому что он писал на лагерные темы, а при советской власти это считалось антисоветским занятием. И из второго срока он, возможно, не вернулся бы. Но главное – погибла бы сама работа. И это волновало его больше всего. И позже, в наши совместные годы, прятали от обыска еще не опубликованные работы. Обыски же то у одних, то у других были постоянной реальностью.
– Насколько вы сами тогда свыклись с чувством постоянного страха?
– У меня не было страха вплоть до самой развязки. А в 1973-м и начале 1974-го угрожали уже прямо – и Александру Исаевичу, и семье. Стало страшно за детей. Шла серьезная травля. У нас даже сохранились записки с прямыми угрозами, опускали в почтовый ящик.
– Кто это писал?
– КГБ, конечно.
– То есть не соседи?
– Ну что вы, какие соседи? В это время вокруг уже были нормальные люди, которые, скорее, переживали за нас. Кто-то не боялся и поддерживал, а кто-то, конечно, боялся, но находил способ выразить сочувствие. И таких – по крайней мере в Москве – было большинство. Но вот вы спросили: было ли страшно? Понимаете, мы были готовы – и он, и я – к самому худшему повороту событий. Если не быть готовым, нельзя ступать в брод. Было ясно, что всё может кончиться очень плохо. В этот момент ты решаешь: либо продолжать, либо отступать. Отступать – это всегда смертельный номер. Если такой мощный враг чувствует слабость, он дожует тебя. И дожует очень быстро. Значит, путь был только один: идти до конца. При этом «конец», как вы понимаете, определяем не мы. Наш вклад – это твердость и готовность к концу. И вот когда они ощущают эту готовность идти до конца, наша позиция становится очень сильной.
Разумеется, тогда мы никаких теорий не строили. Исход был во многом вопросом личных качеств и умения владеть собой. Если у тебя «заячье сердце», выход один: скрепить сердце разумом и идти вперед. Если тебе это удается, то ты даже больший герой, чем тот, у кого не «заячье сердце», кто и с самого начала не так уж боится.
У нас обоих, наверное, было не «заячье сердце». Но я понимала, что его могут убить. Что всё может кончиться трагически.
– Неужели ни разу не дрогнул у вас голос попросить его замереть, затаиться? Четверо маленьких детей – аргумент.
– Что значит «затаиться»? Не писать? Но всё уже было написано: и «Архипелаг», и «В круге первом». Да, написано втайне, но еще до «Архипелага» они сочли его врагом. А «Архипелаг» – это просто голова на плаху.
И что значит «не пиши»? Это просто смешно, потому что он не мог не писать, он для этого, очевидно, был рожден. Это – во-первых. Во-вторых, это ничего бы не изменило. В-третьих, наш союз с самого начала был построен именно на том, что мы одинаково понимали задачу: не самому сохраниться, а сохранить написанное. Донести до людей. И он – писал. А я устраивала всё это хранение, чтобы у него голова была свободна.
– Вы влюбились в него сразу по-женски, без оглядки? Или сперва было понимание, что это великий писатель?
– Как в писателя я, конечно, в него влюбилась ровно так же, как многие, кто прочитал в ноябрьском номере «Нового мира» за 1962 год «Один день Ивана Денисовича». Мне было сразу понятно, что это огромный писатель. Но мы не были знакомы. Хотя удивительным образом с разницей в двадцать лет у нас были довольно похожие обстоятельства детства: достаточно суровые, закалившие и сформировавшие каждого. Но к моменту нашего знакомства я довольно мало реального знала о лагерях. Разумеется, я знала о том, что они были, но, как и почти все, я не знала, как на самом деле жили заключенные. Вот этот внутренний быт лагеря был неизвестен. При том что мы с бабушкой много лет отправляли посылки в лагерь моему арестованному деду, а его уже не было на свете.
– В годы реабилитации, кажется, выяснится, что он умер от инфаркта?
– Да. Будучи атлетического здоровья, он умер в лагере в 1943 году. А сидел с 1938-го. Потом написали – от инфаркта. Может, еще от чего-то. Важно, что его уже не было, но нам об этом никто не сообщил. И мы собирали ему посылки, но почему-то отправляли не из Москвы: видимо, бабушка боялась; ездили электричками за сто километров. Тяжело, голодно жили (три женщины: бабушка – неработающий инвалид, мама и я), собирали непортящиеся продукты, зашивали ящик в мешковину, писали чернильным карандашом адрес и ехали, чтобы отправить дедушке. А его уже не было. Но ни одна посылка не вернулась.
Дедушкин арест вкатился в жизнь семьи черной шаровой молнией, но как шла потом его лагерная жизнь, мы плохо представляли. Александр Исаевич был именно тем человеком, который такую жизнь описал. И дальше я читала всё солженицынское, что появлялось в «Новом мире» и в самиздате: и «В круге первом», и «Раковый корпус», и, конечно, была влюблена в него как в писателя. Но это неправильное слово: «влюблена». Я понимала, что он – колоссальное явление литературы и жизни нашей. А познакомила нас Наталья Ивановна Столярова, наш общий близкий друг.
– Как это получилось?
– Александр Исаевич жил в Рязани, но наезжал в Москву, ему нужны были исторические книги и материалы для работы, и нужно было хранить написанное, где-то держать рукописи и рабочие наброски, которых становилось всё больше. Нужны были друзья, которые бы разгрузили его и как-то помогли в этих заботах. Я была одной из тех, кого в помощь ему нашла Наталья Ивановна. И всё произошло стремительно: я впряглась в работу, он мне дал как раз перепечатывать «В круге первом». Я нашла там неточности по линии истории партии, что его очень поразило (а я их нашла потому, что еще в школьные годы с большим интересом читала стенограммы съездов, оставшиеся от деда). И началась очень интенсивная работа и мощное сотрудничество, которое скоро перешло в бурный роман.
– Вы отдавали себе отчет в том, что это та самая любовь – на всю жизнь?
– Не думаю, что я себе это так проговаривала. Но, безусловно, это была именно та любовь, от которой рождаются дети. И которая детьми не кончается.
– У вас восемь внуков от четверых сыновей. Вы часто говорите с ними о дедушке?
– Пятеро из них помнят Александра Исаевича, они его застали. Нет особой нужды как-то специально говорить о дедушке, но вся атмосфера нашей жизни им пропитана.
– Вы хорошая бабушка?
– Плохая. То есть я хорошая бабушка в том смысле, что когда я нахожу на них время, то польза от этого немалая: за несколько лет мы с ними поставили вместе «Ромео и Джульетту», «Двенадцатую ночь», «Сирано де Бержерака» Ростана разучили, но пока не довели до представления. Я сама сокращаю пьесы исходя из величины «труппы», мы разучиваем роли, ставим спектакль. Но я – «работающая бабушка» и занимаюсь с внуками лишь тогда, когда удается быть вместе. А Александр Исаевич был хорошим отцом: он занимался с сыновьями каждый день. Каждый день один час был «школьный»: он обучил сыновей алгебре, геометрии и тригонометрии, физике и астрономии.
– Кричал?
– Нет. Не было нужды. Они были такие дети, на которых – по крайней мере ему – не надо было повышать голос. Я и кричала, и сердилась. Но я касалась другой стороны жизни. К тому же я убеждена, что родительский гнев имеет огромное воспитательное значение. Только важно не делать его обыденным, потому что маленькие дети в такую минуту думают, что всё кончено – они навсегда лишились родительской любви. И это колоссальная трагедия и встряска. И в этот момент можно многое в их понимании и поведении повернуть, исправить. Но, конечно, если это случается часто, то это уже не инструмент.
Все наши мальчики рано выучились читать и вообще рано выучились занимать себя сами: у меня не было времени, я много работала, а никаких телевизоров или других «удержателей внимания» не было. Но были диафильмы, которые мы вместе смотрели каждый вечер. И каждый из детей боролся за то, чтобы именно ему поручили читать подписи. Степа [1973 года рождения] сидел всегда унылый, потому что он был самый младший и понимал, что, когда дорастет до того, что ему поручат читать, старшим уже не будет интересно. Но вышло не так: мы семьей еще смотрели диафильмы, когда подписи уже бегло читал Степа.
– Сколько было мальчикам, когда вас выслали из СССР?
– Степану было шесть месяцев, Игнату – полтора года, старшему из «солженят», Ермолаю, – три года и два месяца. Моему старшему сыну Мите было десять.
– Каждый из «солженят» очевидно успешен в своей области. А это совершенно разные области: урбанистика, управление, музыка. Как вы растили детей, как направляли?
– Мы никогда не направляли их проповедями и нравоучениями. Такого не было даже в мыслях. Но они никогда не видели ни меня, ни Александра Исаевича в безделье. Мы всегда работали. Само собой, безо всяких слов разумелось, что праздность – состояние недолжное, что человек должен постоянно что-то делать для других. Жить только для себя безнравственно. Когда мальчики подросли, я им говорила в полушутку: «Не страшно, если жена будет некрасивая или даже глупая (конечно, лучше, чтобы и красивая, и умная). Страшно, если она будет ленивая и злая». Но, если серьезно, самой главной задачей в изгнании было сохранить русский язык. Они же были младенцами, когда нас выслали, и вокруг них сначала был океан немецкого, а потом – океан английского языка. С этой задачей мы справились. Не только наши дети, но и все внуки говорят, читают и пишут по-русски.
– После смерти Солженицына в общественном сознании вы остались будто ответственной и за себя, и за него. Часто ваши высказывания интерпретируют в духе «вот так бы сказал Солженицын».
– Я категорически не согласна и никогда не отвечаю на вопрос: «А что бы сказал Александр Исаевич?»
– Но ваши ответы так интерпретируют.
– Это уже на совести интерпретирующих. К тому же это и объективно неверно: мы в жизни с ним так много спорили, часто не соглашались. То есть, как он пишет, «позывы к бою у нас всегда сходились» – это правда. В кардинальных, стратегических вещах мы были согласны. Он, например, спрашивал: «Ну и что мы сейчас будем делать?» Я говорю: «Не ввязываемся в драку. Ждем!» Или наоборот: «Надо вступать в бой немедленно». Но по тактическим вещам мы, бывало, расходились. Он был выдающийся стратег, но не столь одаренный тактик.
Однако никакое мое знание Александра Исаевича не позволяет мне за него отвечать на вопросы или додумывать, фантазировать на тему «что бы он сказал». Хотя, разумеется, некоторые вещи я знаю наверняка.
– Например?
– Я совершенно точно знаю, что, увидев, как горят покрышки на Майдане в Киеве в 2014 году, он бы умер. Если бы он до тех пор дожил, он бы умер в ту же ночь. Его дед Захар по материнской линии – украинец. Любимый дед, который погиб в ГПУ в 1932 году, единственный, в общем, мужчина в его жизни (отца не было, другого деда тоже не было). Для деда Захара Саня – обожаемый внук. И Солженицын сохранил память о нем и обо всем, что дед говорил. Александр Исаевич любил украинский язык, Украину. Но никогда не считал украинцев полностью сформировавшимся, отдельным народом, прежде всего потому, что признак народа – это развитая культура. У украинцев изумительные песни, изумительное то, изумительное се, свой быт. Но развитую словесную культуру, литературу им еще предстоит создать. Потому что, кроме Леси Украинки и Тараса Шевченко, ничего пока не создано.
– Ну а как создать, если не оторваться?
– Может, необязательно и создавать, необязательно отрываться? Это две ветви одного народа когда-то. Однако теперь уже – ради Бога: оторвались, создавайте. Но совершенно неправильно, для того чтобы выработать свою культуру, топтать ногами ту, из которой вырос. Они это делают. Необходимость топтать предшественников – верный знак небогатой ветви.
– Считаете ли вы, что части проблем, которые обрушились на постсоветское общество, можно было бы избежать, если бы в 1991-м была не просто распущена, но и запрещена КПСС, а коммунистическая идеология получила государственное осуждение с последующими люстрациями?
– Я считаю, что моральное осуждение коммунизма и запрещение Коммунистической партии были необходимы. Но это не было сделано. Что же касается люстраций, этот вопрос гораздо сложнее, чем кажется. Потому сложный, что в нашей стране преступный коммунизм не только убивал своих граждан, но и развращал тех, кого не убивал.
Множество людей фактически принимали сторону палачей, доносили на соседей, предавали друзей – и не потому, что родились плохими. Они были отравлены этой идеологией либо запуганы до потери себя. И вот это преступление, эта порча и калечение душ изуродовали общество. Когда в девяностые открыли архивы и люди могли видеть следственные дела своих близких, некоторые выходили оттуда больными, разрушенными, потому что оказывалось, например, что дружеская семья, которая была вроде действительно дружеской и помогала детям, сама же и участвовала в доносах и тем самым в гибели их родителей. Люди были поставлены в невыносимые условия. Население было растлено. В нашей стране люстрация могла бы стать концом вообще всех.
– Не думаю, что люстраций не было только по этой причине.
– Но их не было. И действие этого подкоммунистического растления продолжается. То, до какой степени у наших людей засверкали «баксы» в глазах и затмили всё остальное, – это тоже последствия многих лет лишения самых обычных бытовых вещей. И это стирает всякие границы, в том числе и нравственные, заставляя выбирать не профессию, которая развивала бы призвание, не дело, которое несло бы пользу, а деньги, которые якобы решают всё. Это ужасные травмы долгого коммунизма. Из-за них мы и капитализм плохо строим. Он у нас хуже, дичее, чем в Восточной Европе, где коммунизм властвовал в два раза меньший срок.
– Когда в 1991 году сносили памятник Дзержинскому, толпа так и осталась на площади, а в здание Лубянки не вошла, документов, которые там хранились, на божий свет не вынесла. Поименно никого из преступников преступниками не назвали.
– Если помните, в то время, когда люди разрушали Берлинскую стену, в Штази жгли документы.
– Ничего такого про Лубянку мы не знаем. Туда никто не пытался войти.
– А если бы и вошли, я думаю, в нашем случае КГБ был защищеннее, чем Штази.
– Мне кажется, момент, когда общество могло изменить будущее, просто говоря о прошлом в полный голос, всё же был. Но его целебность была упущена.
– То десятилетие искренних надежд на светлое будущее было еще и временем фатальных ошибок, которые допустили люди, ставшие в то время капитанами, лидерами страны и общества. Они оказались плохими психологами и никакими не лидерами, потому что лидер обязан уметь видеть мир, в том числе и глазами тех, для кого он – лидер. А они, придя к власти или к полувласти, в упоении новыми возможностями решили, что весь народ знает столько же, сколько они, все читали тот же самиздат, что и они, все, разумеется, хотят перемен, так сказать, по умолчанию. Это было совсем не так. В первую очередь надо было заниматься декоммунизацией, во вторую – созданием реального рынка и конкурентной среды; они же занялись залоговыми аукционами, в результате чего мы и оказались там, где оказались.
– Но выбора становится всё меньше. Путин, например, у власти без малого двадцать лет. И кажется, что конца и края этому нет. Как это можно менять?
– Спокойная, без коллизий, смена власти – это объективно самая трудная задача любой молодой демократии. Да и в зрелой демократии бывает негладко – смотрите, как уже целый год бьется в конвульсиях внутренняя жизнь в США, оттого что кандидат элит проиграл выборы. Но всё равно выборы – это основной инструмент смены власти. Я, например, всегда хожу на выборы. Даже если результат ясен. В предвыборном процессе можно хотя бы познакомиться с альтернативными идеями, если они есть у претендентов. Досадно, что сейчас нет у нас реальных программ, которые публиковали бы партии и их кандидаты. Нечего обсуждать!
– Программы публикуются.
– Да, навстречу выборам. И их никто и не читает. А я вот – читаю. И это по большей части программы «за всё хорошее», за прекрасный результат, но не предлагающие конкретных путей для воплощения их в жизнь. Печально.
Но есть еще местные выборы, которые сейчас во многом даже важнее. И на местах очень даже есть за кого голосовать. Последние московские выборы тоже это показали: есть несколько округов, где выбрали людей, которые реально будут работать, а не для галочки стоять. И на местном уровне уже появляется большая линейка кандидатов, из которой можно выбрать достойных людей. Так ты не поленись, заранее прочитай, кто он, где, что собирается делать, пойди на встречу с ним, расспроси. Это мы можем и должны, это в нашей компетенции. Мы можем повлиять на местные власти, на организацию ежедневной жизни там, где мы живем. Увы, этого люди в массе своей не делают. И это тоже растление со времен советской власти: все привыкли, что от них ничего не зависит, так, значит, и делать ничего не надо. Пусть за нас решают. А зря.
– Вы говорите про граждан. А что должно перемениться на государственном уровне?
– Я не знаю, что нужно и что до́лжно делать на государственном уровне. Это мне не по уму. Но я знаю твердо, что прямая и необходимая задача, стоящая перед каждым, кто хочет своей стране лучшего будущего, – это хорошо воспитывать детей. Своих детей. Воспитывать из них свободных людей, потому что государство всегда старается в первую очередь воспитать послушных граждан, не доставляющих хлопот. Но без свободных людей никогда не будет ни нормального парламента в стране, ни вообще свободной страны. Значит, надо учить детей быть даже в условиях любой несвободы максимально свободными. И с честью, с совестью, с достоинством стараться распространять такое умение вокруг себя. Это просто непреложная задача каждого из нас. Задача трудная, требующая напряжения всей жизни. Не то что я повоспитываю два года, пять, а потом в школу отдам, а через десять выдайте мне, пожалуйста, гражданина. Нет. Так не сработает. И особенно сейчас, когда школа тоже вся в конвульсиях разного рода, а в общественной жизни, контролируемой государством, всё еще масса неизжитых манер публичного и личного поведения из страшных лет нашего прошлого. Словом, эта задача очень трудная, очень личная, очень понятная каждому. Но не каждому понятно, как ее исполнять. Многие хотят сразу участвовать в перестройке государства, и мало кто – в перестройке сознания людей, которые в государстве живут. Но эта перестройка – как раз то, что нам нужнее всего. И на это больше всего времени и уйдет: вырастить свободных и разумных граждан.
Поверьте, это гораздо важнее любой политической задачи. И, в отличие от нее, – выполнимо. Это тот посильный личный вклад, который каждый способен внести в переустройство общества, а тем самым и государства. Многие обманывают себя, пытаясь не соприкасаться с действительностью, сбежать в частную жизнь, в обывательские развлечения или интеллектуальные игры. Но не могут тебя вовсе не касаться ежедневные проблемы, которые касаются твоих соотечественников, тех, кто живет рядом. Мол, кто-то за всё отвечает, а я буду только предъявлять претензии или брезгливо отворачиваться. Самоуправление, которое так необходимо нашей стране, начинается как раз с личного участия. В том же, что такое самоуправление необходимо – и даже более, чем что бы то ни было другое, – у меня сомнений нет. Его надо постепенно выстраивать. Такой огромной страной, как Россия, невозможно управлять исключительно централизованно, из Кремля.
– Мне казалось, что у вас есть возможность непублично встречаться с президентом. И, что важнее, Путин к вам прислушивается.
– Это чистый бред. Никакой подобной возможности у меня нет. У меня нет ни прямых телефонов, ни других возможностей для прямых контактов. С определенным вниманием и интересом Владимир Владимирович, насколько я могу судить, относился к Александру Исаевичу.
– Можно ли сказать, что Путин прислушивался?
– Не знаю.
– Насколько, по-вашему, власть обязана прислушиваться к просвещенному меньшинству?
– Что обязана делать власть, я не знаю, пусть сама думает. Но я абсолютно не разделяю чистоплюйства, которое свойственно людям, так часто повторяющим: «Мы с этой властью рядом не сядем и ни о чем договариваться не будем».
– Вы считаете – можно договориться?
– Нужно пытаться. У нас страна с огромным количеством тяжелых изъянов, которые можно и нужно исправлять. И многие из них исправить помимо власти невозможно. Но теперь не тоталитарный режим, слава Богу.
– Глобально ничего не переменилось.
– Давайте же правильно оценивать исторический момент: да, мы живем в стране, изуродованной язвами. Однако принципиально эти язвы исправимы, в чем опять же и состоит разница между авторитарным и тоталитарным режимами: из автократии есть выход в демократию (это доказано много раз историей, которая на наших глазах совершалась). Из тоталитаризма выйти почти невозможно. Слава перестройке – мы вырвались. Никого больше не расстреливают, и многое стало мягче. Да, в авторитарной стране и институты соответственно авторитарные, и нет полной свободы прессы: у нас она неполная, урезанная (кстати, не без самоцензуры прагматичных журналистов). Но никто больше не прячет в стол того, что пишет. И есть интернет, при котором существенные ограничения информации невозможны.
– Может, и так, но мне кажется гораздо более важным то, что в стране есть политические заключенные, заказные дела, очевидное слияние церкви и государства, отсутствие свободы слова, сверхъестественная коррупция и общая духота. Это неполный список.
– Всё это очень плохо. Но самое неконструктивное – считать виноватыми во всем всех, кроме себя. Тут и нашей вины немало. Мы позволили, чтобы так было.
– Как не позволять?
– Не устраняться, не сидеть сложа руки. В конце концов, власть и население – сообщающиеся сосуды. С нами делают ровно то, что мы позволяем с собой делать.
– Исходя из этих соображений вы пошли на открытие памятника князю Владимиру?
– В том числе.
– В либерально настроенной части общества это вызвало протест.
– Что поделать. Когда я решала, идти или нет, меньше всего меня интересовала реакция либерально настроенной части общества. Я пошла для того, чтобы в присутствии первых лиц сказать на всю страну, что нельзя заметать под ковер память о нашем прошлом, что не будет чистой обстановки и мы не выстроим нормального, здорового общества, если не будем помнить о темных страницах нашей недавней истории. Согласитесь, дорогого стоит в их присутствии это сказать.
– Если они способны услышать и понять смысл сказанного, то да, дорогого.
– Дорого совсем не потому. Я обращалась не к властям, а к согражданам, которых краснознаменные лидеры всё чаще призывают к патриотизму типа «гром победы, раздавайся», а о поражениях, мол, забудем, это «ослабляет дух народа». Недаром Зюганов в печати выразил возмущение моей речью. Выходит, тут либерально настроенная часть общества с ним совпала.
– Вы говорили о том, что открывающийся памятник — «не просто еще одно украшение столицы, но и вызов каждому из нас: как мы выглядим на его фоне?» Потом вы говорили «о преображающей силе христианства» на примере князя Владимира, а в конце – о том, что нам следовало бы «уважать свою историю. Гордиться свершениями народа, его героями и его праведниками. Но это также значит иметь честность и мужество осудить зло, не оправдывать его и память о нем не заметать под ковер, чтобы не было видно». Как вы думаете, какие из этих слов были неверно поняты теми, кто вас осуждал?
– Не знаю, как можно неверно понять и что возразить на эти слова. Предполагаю, что те, кто возмущался, и не слушали, и не прочитали того, что я сказала. Они возмущались самим фактом, притом возмущались хором. Никакой отдельный, разумный, внятный голос не раздался. Как ни странно, людей, у которых сильно́ стадное чувство, никак не меньше в образованщине, чем среди простого народа. Один не прочел, но громко возмутился, другие за ним повторяют. Это несерьезно и не повод сколько-нибудь огорчиться или задуматься.
– Многих ли друзей из среды либерально настроенной интеллигенции вы растеряли за это время, со многими ли расстались?
– Ни с кем из тех, с кем я дружу, расставаться не пришлось, слава Богу. А те люди, на которых вы указываете, – с ними я незнакома, для меня это стадный глас.
Конечно, приятнее, если все тобой довольны, и менее приятно, если чем-то недовольны. Но когда недовольны тем, что сами себе придумали, – это пустое. Гораздо ценнее то, сколько людей мне говорили потом: «Спасибо за то, что мы увидели лицо Зюганова (его крупным планом показывали по телевизору в репортаже об открытии памятника), который стоял напротив и готов был сожрать вас с потрохами, как Полкан». Потому что это всё было против них.
– То есть вы всё еще сражаетесь с коммунизмом?
– Да. И вам советую. Мы должны все знать и помнить, осуждать содеянное – и только потом прощать. И это именно те мои слова, которые процитировал президент, открывая Стену скорби. Те самые слова, по поводу которых Людмила Михайловна Алексеева возглавила петицию, что их надо изменить.
– В чем суть конфликта?
– Эти слова были напечатаны в «Российской газете». Они получились как формула: «Знать, не забыть, осудить. И простить». Я считаю, что это именно тот набор действий и та их последовательность, которые нам сейчас необходимы. Но тут раздался возмущенный хор: «Как это? Кому это дано право прощать государству? Не простим!»
Милые мои, у вас либо слух извращенный, либо сознание! Не о государстве речь! Не государству простить – друг другу простить, той половине, или четверти, или трети, или шестой части общества, которая участвовала в посадках и расстрелах. Друг другу простить, понимаете? Иначе как мы дальше жить будем вместе? Мы с людьми живем, а не с властью. Власть никто из нас ни прощать, ни любить не обязан, и никто никогда ее не любит. И не нужно ее любить. Никакую, даже хорошую.
– Насколько вам кажется трагической ситуация, в которой кто-то кого-то не смог, а потом и не успел простить?
– Иногда это действительно трагедия.
– Всё чаще прямо на глазах кто-то уходит из жизни, не успев простить, быть прощенным, не успев договорить или что-то доделать. Меня лично это очень всегда задевает. Как, впрочем, и необходимость жить изо дня в день, осознавая собственную смертность и смертность дорогих мне людей. Вы боитесь смерти?
– Нет. Совсем не боюсь. И у меня была возможность в этом убедиться: в начале 1995-го, год не прошел, как мы вернулись в Россию, у меня предположили рак, обнаружили при компьютерной томографии огромную опухоль, но сказали, что для точного диагноза надо ждать профессора, он вернется из командировки через три дня и даст заключение. Александр Исаевич как-то сразу поверил в этот рак. Я тем более. И все эти три дня, пока не приехал профессор, я прощалась с жизнью совершенно серьезно. Почему-то у меня не было надежды, что он приедет и меня от этого диагноза освободит.
– О чем вы думали в эти три дня, какой итог подводили?
– Смешно сейчас вспоминать, но у меня было такое освобождающее чувство, что наконец-то я отдохну. Потому что я чувствовала себя бесконечно уставшей: я всю жизнь много работала, и много трудностей, и много детей, годами спала по четыре-пять часов, огромное напряжение. И было такое неправдоподобное чувство, что вот я сейчас отдохну. Не могу сказать, что оно было счастливым. Было жалко мальчиков, жалко маму, потому что это ненормально, когда ребенок умирает раньше матери. Его [Солженицына] было жалко оставлять. Но вот этот тихий эгоистический голос: «Я уже сполна отработала. До свидания», – он звучал. И не было страшно.
– Всё обошлось?
– Да. Это оказался не рак. И сейчас не боюсь. Другое дело, что до смерти надо успеть сделать то, что я ему обещала.
– Речь о полном собрании сочинений?
– Оно не будет полным, конечно. Полное – это далекое будущее. Полное включало бы всю переписку и многое другое, чем мы только начали заниматься. Но это нормально. Для писателя время, когда надо издавать полное собрание сочинений, наступает через много лет после смерти. С ухода Солженицына прошло только десять. А наследие огромно. Поэтому то, что сейчас выходит, – это, разумеется, не полное собрание сочинений. Но оно настолько большое, насколько мы с ним вместе планировали. Это тридцать томов.
– Двадцать уже вышли.
– Да. Значит, нужно составить, подготовить и издать еще десять достаточно сложных томов, которые нуждаются в точной и внимательной подготовке текста, а желательно и комментировании. Именно этим я и занята. Это работа, которая должна быть сделана обязательно.
– Она вам тяжело дается?
– Наоборот. Это единственное, что я люблю. Из всего, что я обязана делать и что процентов на восемьдесят состоит из того, чего не любишь, но считаешь необходимым, двадцать процентов – это любимое дело. И я к нему через восемьдесят процентов обязательств прорываюсь. И очень бы хотелось успеть.
Но страха нет. Я не боюсь смерти. У меня с ней связано довольно странное манящее чувство, возникшее, когда я была совсем молодой студенткой: после смерти мы будем всё знать. Знать всё безумно хочется: знать вперед то, что мы не можем знать при жизни, знать назад – что было задолго до нас, знать, что происходит с нашими родными. И еще мне кажется, что и после смерти мы будем также загружены, у нас также будут задания. Кому какое достанется – знать не можем. Это только предстоит постичь. Но я уверена, что ни покоя, ни нирваны, ни какой-то неподвижной белой пустыни не будет. Вот в каждое мгновение мы наполняем обе чаши весов нашими поступками и мыслями, и к концу земной жизни мы в этих чашах собрали, можно сказать, полный материал, все показания на себя для Страшного суда. И если считать, что дальше ничего невозможно изменить, что всё дурное, что ты сделал – кому-то позавидовал, кого-то обокрал, солгал, изменил, – перевесило чашу твоих добрых поступков, то выходит – всё! Страшный суд ты сам над собой совершил, и это точка! Но Суд-то вершим не мы, а Судья, и он милостив. Не может быть, чтобы после смерти нам не было позволено хоть как-то поправлять то коромысло, те чаши, тот суд, который заработали сами себе при жизни. У нас будет какая-то возможность движения, вверх или вниз. И какая-то деятельность.
И я не боюсь смерти. Не тороплю ее, но и гнать не буду. И мне интересно. Только успеть бы выполнить всё, что обещала Александру Исаевичу.
– Вам очень его не хватает.
– Да.
– Родство душ подразумевает постоянный диалог. Смерть как будто обрывает его на полуслове.
– Не совсем так. Я иногда могу с ним говорить. Не на все, но на некоторые темы, которые и прежде нас обоих волновали. Я прямо слышу, что он мне отвечает.
– Как вы называли мужа дома?
– Саня.
– Вы никогда не говорите так в публичной речи: в интервью, в воспоминаниях всегда – Александр Исаевич.
– Это естественно. Я редко вообще говорю о нашем внутреннем. И даже если рассказала сейчас о чем-то личном, это всё равно не выставляет на всеобщее обозрение, не нарушает сакральности того общения, которое между нами на самом деле было.
Ей снова звонят. Ее ждут. Семья – дети и внуки. Дома по случаю приезда Игната будет большой семейный ужин. Она прощается, говорит, что пора заканчивать, больше нет времени. «Мы и так здесь просидели гораздо дольше, чем я рассчитывала». Договариваем на бегу. Но тут она вдруг останавливается: «Хотите, я покажу вам нашу “Ромео и Джульетту”?» Еще бы. Конечно. Мы раскрываем ноутбук прямо на подоконнике лестничного пролета пустеющего здания. И, согнувшись пополам, полчаса с умилением смотрим детский спектакль, разыгрываемый в большой и светлой комнате деревенского дома Солженицыных. Спектакль, в котором участвуют все внуки Солженицыны, спектакль, который Наталия Дмитриевна поставила сама. И вот теперь – она действительно улыбается.
Интервью пятое Любовь Аркус
За год до интервью
«Я за рулем», – говорит Аркус, и я опрометчиво радуюсь: на улице ветер и снег и хочется немедленно в укрытие. Тащиться к метро или вызывать и ждать такси – не хочется. Пригибаясь, семеним по набережной канала Грибоедова к маленькой машине Аркус, с сугробом, надвинутым на лобовое стекло. Она садится за руль, я – рядом. Гном – так давным-давно все вокруг называют помощницу Аркус, Иру[24], – на заднее сиденье. Гном достает навигатор и набирает адрес, но я не придаю этому значения. Мне надо поговорить с Аркус.
– Почему ты не хочешь дать мне интервью?
– Просто не хочу. Не время. Не знаю. Зачем? О чем мы вообще будем говорить, Катя?
– О тебе.
– Это не предмет для разговора. О чем ты будешь спрашивать?
– Для начала спрошу, например, о твоем львовском детстве.
– Мое львовское детство?
Аркус отворачивается от дороги и смотрит на меня долго и удивленно.
Метет снег. Машина едет прямо в бок троллейбусу. «После моста через пятьдесят метров – съезд направо», – сообщает Гном с заднего сиденья. Аркус оборачивается к ней и уточняет: первый съезд или второй. Бок троллейбуса так близко, что я отчетливо понимаю – эта поездка станет одной из самых памятных в моей жизни.
В последний момент троллейбус трусливо освобождает дорогу.
Аркус не замечает ни моего ужаса, ни троллейбуса. В конце моста она действительно поворачивает направо, подрезав какой-то «Бентли». Тот безутешно сигналит на обочине. Аркус курит.
– Мое детство. Я туда иногда – всё чаще – мысленно возвращаюсь. Но там, видишь ли, всё невозвратимо. Не восстановимо: нет моей молодой мамы. Нет моей бабушки. Нет моих прекрасных кузенов, моих родственников, маминых подружек.
– Ты помнишь маму такой, из детства?
– Думаю, с каждым днем, который проходит с момента маминой смерти, всё отчетливее и яснее в моей памяти будет проступать мама моего детства – ты правильно выразилась.
– Какая она?
– В платье с блеклыми зелеными цветами, в босоножках, ремешки которых перетягивают тонкие лодыжки ее полненьких ножек, в белых клипсах и бусах, которые она почему-то называла кораллами. Мама в моей памяти всегда смеется, она радостна, вокруг нее – наша, львовская, богема: ее друзья-журналисты, ее одинокие подружки, которые болтают, обсуждая всё на свете: что-то бытовое, книжки, романы.
– Ее подруги, кто они?
– Поколение шестидесятниц, у которых были романтические представления о жизни. Они все искали любви.
– Ты – такая?
– Я – ребенок шестидесятников, бесконечно в мамино и папино поколение влюбленный, задвинутый на этом времени.
«Это же не интервью?» – уточняет Аркус, когда мы резко перестраиваемся на Гороховой из крайнего левого ряда в крайний правый. «Через триста метров второй съезд направо», – сообщает, повторяя навигатор, Гном. Аркус опять оборачивается к ней, чтобы сказать «спасибо, поняла». Машину заносит. Я закуриваю и не отвечаю. Мало ли, в конце концов, почему у меня включен диктофон.
«Детство – это мир, где всё замешано на любви, – записывает мой диктофон голос Аркус. – Но у меня прямо в центре этой любви трагедия: ранняя смерть папы, с которой я никак не могла и не хотела смириться. А потом на семью, одна за другой, стали обрушиваться другие смерти».
Теперь мы едем медленно. И я ее рассматриваю: на щеке пляшет солнечный зайчик – отразившееся от обледенелого стекла бледное петербургское солнце. Я думаю о том, как, наверное, холодно и неуютно было этой Любе Аркус из Львова начинать жить в этом городе Ленинграде. Но это не интервью. И спросить напрямую нельзя.
– Расскажи о своей семье.
– У меня была не одна семья. С одной стороны – мамина, очень патриархальная еврейская семья, с другой – папина, русская, харбинцы, – говорит Аркус, к моему облегчению лихо паркуя машину в сугроб.
– Харбинцы во Львове – откуда?!
– Прадедушка по отцовской линии был крестьянином из крепостных, окончил Московский институт инженеров транспорта и поехал работать на Китайскую военную железную дорогу с моей прабабушкой, на которой женился против воли родителей. Она была из полтавских мелкопоместных дворян, а он вот – крестьянин. У них было шестеро детей и двухэтажный каменный дом в центре Харбина. Они жили в Китае, когда началась революция. Их младшая дочь, моя бабушка Люба влюбилась в большевика и сбежала с ним в Россию, на Дальний Восток, строить новое советское государство. Тогда прабабушка собрала всех детей и поехала за ней, а прадедушка сказал, что ноги его там, где революция, не будет. И остался в Харбине.
Дедушку в 1937-м расстреляли в Хабаровске, а бабушку там же арестовали, и она провела почти всю оставшуюся жизнь в лагерях. Арестовали и всех мужей ее сестер – семья оказалась перекалечена, а моя прабабушка собирала внуков по детдомам всей страны. После войны семья «собралась» во Львове: кто-то вышел из лагерей, кто-то не дожил. Папе моему было двадцать пять лет, когда он встретил мою маму. Обе семьи – русская и еврейская – были против этого брака. В маминой семье я была «гойским» ребенком, а в папиной – нехристью.
Ко всему этому прибавь няню – адвентистку седьмого дня, которая меня страшно любила, но с утра до вечера прочила мне погибель во время Страшного суда. Конечно, все они меня по-своему очень любили. Я везде любимая была, но везде – не такая, как все. Любимая, но паршивая овца в стаде.
К тому времени, как я уже стала сознательным ребенком, умерли мои дедушка и бабушка, умер папа, и мы остались вдвоем с мамой. Мама была обворожительной детской женщиной. Она была очень красива, она окончила факультет журналистики, у нас в доме собиралась богема, играл во всю мощь магнитофон «Днепр» и танцевали беззаконные пары. Всё это, с точки зрения чрезвычайно буржуазного окружения, выглядело совсем нереспектабельно.
– Ты это понимала?
– Конечно, нет. Мама была моей любимой подружкой. Мне кажется, что уже в свои девять-десять лет я была взрослее ее.
Мы сидим и курим в машине. Я – потому, что после этой экстремальной поездки нет сил выйти, Аркус – чтобы не курить на морозе.
– Как в твоей львовской жизни появилось кино?
– Всё детство я ходила в кинотеатр имени Щорса, и меня завораживало само зрелище. Зажигался экран, и на нем появлялись Медный всадник или Рабочий и Колхозница. Если ни то, ни другое, значит, будет французская комедия, что тоже хорошо. Или фильм про индейцев – а это просто замечательно. В прокате был набор из двадцати названий, которые варьировались: «Не промахнись, Ассунта!», «Вперед, Франция!», «Большая стирка» и «Большая прогулка» с Луи де Фюнесом и Бурвилем. Еще «Верная Рука – друг индейцев». И советское кино. Сначала было это, и мне всё нравилось без разбору. А потом уже выискивала вместе с мамой то, что идет третьим-четвертым экраном.
Помню, как на такси мы с ней ездили на «20 дней без войны» Германа – это был единственный вечерний сеанс в ДК связи. Если бы я могла, я бы тогда, наверное, жила в кино. Но еще были книжки. Огромная библиотека – мамина, бабушкина и папина, очень много книг. Читала я, как и смотрела, тоже безо всякого разбору.
– Что ты читала?
– Читать меня научил мой двоюродный брат Адюня, с которым мы вместе росли. Он был старше меня на шесть лет, и он мне читал. С его голоса я помню Тома Сойера, «Остров сокровищ» и Оливера Твиста. Такие толстые книги я тогда не могла осилить и потому без него читала, например, про маленького Володю Ульянова, тонкие, с картинками. Брат надо мной смеялся и отбирал у меня их.
Я тогда не понимала почему – очень любила Володю и всю его семью: вот эти Маняша, Аня, Саша, Дмитрий… Глубоко переживала рассказы «Секрет» и «Вранье». Потом читала про пионеров-героев. Страшно переживала по поводу того, что я бы не выдержала пытки.
В том, что фашисты будут меня пытать, сомнений у меня почти не было. Поэтому я всё время себя испытывала: пыталась руку сунуть в огонь, что-нибудь порезать. Мне снились кошмары, в которых я рассказала, где партизаны. Я просыпалась и принимала решение, что нужно что-то делать срочно в плане закаливания, создавала какие-то тайные организации, изобретала шифры, которыми мы переписывались в классе, придумывая план по спасению Ленина.
– Какой это был класс?
– Первый или второй, наверное. Потом чтение стало, конечно, другим. Все собрания сочинений, всё, что можно было найти дома, у друзей и в чудесных львовских букинах, как мы их называли. Хотя привычка читать всё подряд осталась у меня до сих пор.
Аркус чиркает зажигалкой. Мы всё же курим на морозе. Мимо к алкогольному ларьку идут напряженные люди. Скрипят дверью, ненадолго пропадают среди бутылок с цветными этикетками. Выходят, бодро звеня покупками в непрозрачных пакетах. И многообещающе пропадают в надвигающейся мгле. В декабре темнеет быстро, в Питере – особенно. Алкоголь здесь – привычное средство примирения с действительностью. Неизбежное, как климат.
Я иду за Аркус по темной лестнице с никогда не понятной питерской нумерацией квартир. Вспоминаю один из первых ее текстов в «Сеансе». Номер, кажется, 1992 года был посвящен 1960-м «из-под стола». То есть, выходит, Любиному львовскому детству в том числе. Среди множества поразительных текстов о Ленине, Че Геваре, Чапаеве, милиционере, вражьих голосах и голосе Левитана, «Битлз», Джоне и Джеки Кеннеди, улыбке Кабирии, портрете Хемингуэя, Хрущеве и Гагарине был текст Аркус, называвшийся «Солженицын». Он заканчивался так: «Я до сих пор помню абсолютно все наименования мороженых с их ценой: семь копеек фруктовое, девять молочное, одиннадцать – маленькое эскимо, тринадцать – крем-брюле… Но до сих пор не могу вспомнить и ума не приложу, кто и когда объяснил мне и объяснял ли вообще, что Солженицын не Пушкин какой-нибудь и о нем нужно молчать в школе».
– Откуда у тебя в доме взялся Солженицын?
– Потому что такое бывало у нас в доме. Я Бродского прочитала в шестом классе – слепые копии синими буквами на папиросной бумаге. Я его стихи помню наизусть с этих страничек. А прекрасные книги его, изданные за последующие десятилетия, почти не открываю.
Львов, только после войны присоединенный к Советскому Союзу, был важнейшей точкой на карте неофициальной культуры. Львовский театр, в котором я фактически выросла, первым в стране поставил «Утиную охоту» и Петрушевскую! Я увидела Людмилу Стефановну впервые, когда училась в восьмом классе. Однажды она задрала юбку и продемонстрировала всем свои рваные колготки со словами: «Вот, посмотрите, как живут советские драматурги!»
– А как ты попала в театр?
– Я туда пришла на спектакль «Точка зрения» по Шукшину. По-моему, в стране его ставили только в двух театрах. Я была так им впечатлена и решила, что мне срочно надо к этим людям. Как-то нашла гримерки на четвертом этаже. Открыла дверь, увидела очень много людей, хаотично передвигающихся в небольшом пространстве, много дыма, потому что курили все. И раздраженного человека, который повернул голову и спросил: «Так! А тебе что, девочка?»
И тут я произнесла фразу, которая, в сущности, меня там оставила. Я сказала: «Вот я и пришла». Сняла куртку, повесила на вешалку, поставила сумку и села. Я была в школьной форме, с косами, а разговаривала, как и сейчас, басом. Немая сцена. Все замерли как будто в полурапиде. А потом начали ржать. Эту фразу потом использовали во всех капустниках театра много лет. И они бы меня тогда выгнали, конечно. Но им нужно было к 30-летию Победы ставить «В списках не значился», а значит, нужна была Верочка, сестра Плужникова.
И этот раздраженный человек – как выяснилось потом, самый главный! – сказал: «О, пожалуйста. Сама пришла». Так я и осталась. Пропадала там, практически бросила школу… Кать, ты можешь убрать этот блядский диктофон?
Я убираю. Мы смотрим на снег за окном: из-за теплого света в комнате кажется, что небо снаружи – синее. Внутри Аркус на натянутом поверх стены экране показывает снятые материалы фильма про Аллу Демидову. Демидова читает «Поэму без героя», концентрируясь, как сама говорит, на ядовито-зеленой надписи «ВЫХОД» в зрительном зале Санкт-Петербургской филармонии.
– Когда ты доделаешь фильм?
– Не знаю, не спрашивай. Катька, я так устала, – говорит Аркус.
И я не знаю, верит ли она, когда я пытаюсь сказать ей, что даже эти несколько смонтированных минут – грандиозны. Она молчит и расстраивается: «Времени ни на что нет, Катька. И сил нет. А ответственность есть», – говорит Аркуc. И, как будто пытаясь ввести меня в круг своей ответственности, обводит глазами стол с пепельницей, полной окурков, экран с застывшими ангелами Исаакиевского собора, окно с круглой луной, шпиль Петропавловской крепости, который, по правде говоря, отсюда не видно, но он есть; редакцию журнала «Сеанс», полуподвал Центра «Антон тут рядом», где под потолком качается на нитке белая птица с синими глазами, которую склеила девочка Нина, мастерскую Центра, где на только что обожженной глиняной кружке сохнет надпись: «Я времени не теряю. Время бесконечно. Времени вообще нет».
За полгода до интервью
Идет дождь. Стоим под козырьком и ждем, когда он кончится. У нас нет сил. Мы только что говорили о нашем погибшем друге, режиссере Саше Расторгуеве: когда-то Аркус приложила все усилия к тому, чтобы вытащить невероятно талантливого Сашу из Ростова-на-Дону в Петербург. Теперь Сашу убили в Центральной Африке. Идет дождь.
– Саша родился в 71-м году, – говорит Аркус, высовывая ладонь из-под козырька. Ей в руку падают сразу несколько капель. – Я хорошо почему-то помню как раз лето 1971 года: всё время шел дождь – я была в Паланге. Там была такая стеклянная библиотека на берегу речки. Мне было одиннадцать лет. И я прочитала всего Тургенева: приходила и брала том за томом.
– Ты любила Палангу?
– Это – рай моего детства. Я ждала его весь год, этого мгновения, когда ты приезжаешь в Палангу. Дорога длинная: Львов, день в Вильнюсе, до Паланги на автобусе, потом место, где койки сдают. Потом: «Мама, можно?» – по деревянному настилу между соснами нужно было вбежать на гору, и тогда, с горы, открывалось оно: это серое, всегда бурлящее море. Наверное, не всегда был шторм, но я помню именно шторм. Это море из детства, которое единственное для меня до сих пор – море.
– Я с таким всегда подозрением смотрю на людей, чье детство прошло у холодного моря. Мне кажется, вы – другие.
– Знаешь, было какое-то лето, когда мама меня повезла на Черное море. Оно было в сто раз теплее, спокойнее, у него не было такого бьющего в нос запаха. Но оно не было родным. Вот это вот слово «родной» – это, наверное, главное в наших отношениях с Расторгуевым.
– Болит?
– Болит. Представляешь, наш первый телефонный разговор продлился часов восемь или больше. Это был 2007 год. Потом полгода по нескольку таких разговоров в день, вдогонку письма. Огромные. Или в одну строчку. И еще эсэмэски. Он приезжал за это время дважды, но главными были телефон и письма.
Мы по телефону читали Мандельштама, пели «Не для меня придет весна» и «Переведи меня через Майдан». Я записывала рецепт ростовской ухи. Страшно ссорились. Орали друг на друга.
– Из-за ухи?
– Из-за кино. Болевые наши точки – это отношения героя и автора в документальном кино, а также слово «реальность». Однажды он написал эсэмэс: «Люба, родная. Вчера кричал, прости. Родной человек – это больше, чем близкий. Ты знаешь это». Я знала. Он был родной, и всё в нем было родное. Его дар, его ум, его ор, его мат, его тяжесть, его нежность, его «социально неприемлемое поведение», его фильмы, его тексты – даже больше, чем фильмы. Он был не согласен на имитацию ни в чем. Он был помешан на этой чертовой «реальности», до которой хотел добраться любой ценой – не жалея ни себя, ни своих героев. Готов перепахивать горы бессмысленного шлака, чтобы добраться до момента истины – в человеке. Он был…
Она трет мокрую ладонь о сухую. Молчим. Я знаю, мне надо поговорить с Аркус про Сашу и книгу о нем, про ее фильм о Балабанове, про журнал «Сеанс», про Центр «Антон тут рядом», про ее блокадный фильм, про реформу ПНИ [психоневрологического интерната]. Но совершенно ясно, что это всё – потом. Хочется начать с самого начала. Попробовать отмотать туда, откуда она, Люба Аркус, началась.
– Когда ты уехала из своего Львова в 1980-м поступать во ВГИК, ты рассчитывала вернуться или уезжала навсегда?
– Я во ВГИК поступала три раза: я была никто, девочка из ниоткуда без связей и знакомств. Не поступила первый раз – и вернулась во Львов. Не поступила во второй. А на третий раз меня валила вся кафедра – по русскому, по литературе, – но меня невозможно было завалить. Я была готова ко всему.
– Ты хотела быть режиссером?
– Нет, что ты, я понимала, что на режиссуру меня не возьмут. Поэтому выбрала киноведение. Я очень много знала: покупала книжки по кино, переписывала их, делала таблички, карточки.
– Как ты выжила, переехав в Москву?
– Мне кажется, я тогда умерла, – говорит Люба.
И мы останавливаемся. Ей надо сейчас говорить, глядя на меня. На ходу такое не скажешь.
– Я думаю, – говорит Аркус, – что люди умирают и рождаются несколько раз за жизнь. И когда ты умираешь, с тобой умирает весь твой мир. И только потом, много времени спустя, ты понимаешь, что он никуда не делся.
Она говорит, а мне кажется, что мы сами с ней больше не на проезжей улице, остановились и мешаем людям пройти. Мы летим, как персонажи картин Шагала, над третьим – не Москвой и не Львовом – городом, в котором каждому, решившемуся жить, требуется немножко умереть.
– Впервые я это поняла, когда совсем заболела мама, – говорит Аркус. – В ее страшной болезни наступил этап, когда она перестала быть собой. Это была мама, но уже не мама. Тогда я поехала в Палангу, внезапно, совсем одна. Это было после завершения монтажа фильма «Антон тут рядом». Был такой момент – одна жизнь закончилась, а другая еще не началась. Шла по улице, узнавая каждый дом, каждый магазин, кафе, кинотеатр. И вдруг я увидела, что по противоположной стороне идет моя молодая мама. Поверь, это было гораздо реальнее, чем всё остальное, – я была менее реальной, чем она. Я всё вспомнила: ее прическу, платье, босоножки, нитку с бусами на шее. Мир, который умер, казалось, невозвратимо, вдруг вернулся ко мне – оказался на расстоянии вытянутой руки. Намного ближе, чем можно было себе представить.
– Ты по себе, той, скучаешь?
– Я скучаю по той своей маме, по курилке театра «Гаудеамус», в которую врывается Озеров перед спектаклем и сначала орет, а потом зовет на сцену, всегда одними и теми же словами: «Дети. С Богом». По нашему облупленному дому кинематографистов в Репино, где уже никто не живет, только мы с Алексеем Юрьевичем Германом, его женой Светой и нашими собаками. Где мы в сотый раз смотрим «Андрея Рублева», и Герман чешет пузо и огорченно говорит: «Ну что, Любка, после такого можно снимать?» По тому, как мы с подругой Надей, женой Лёши Балабанова, ищем его по ночам в Петербурге, и, знаешь, Катя, ведь всегда находим! По Сереже Добротворскому и нашей с ним, например, Риге, куда мы приехали на фестиваль «Арсенал» и однажды перепели хор шведских священников за стеной в гостиничном номере.
– Выходит, тех, кого ты любишь, уже больше там, чем – здесь.
– Не говори так. Грех жаловаться. Здесь и сейчас есть мои дети. Как ни крути, Катя, на каком-то самом глубинном уровне дети всё равно главное.
– Ты хорошая мать?
– Когда родилась Нюша, у меня была маниакальная «мамашина» идея, одна из самых вредоносных, кстати, – чтобы у нее всё было, чего у меня не было. Чтобы всё было «не хуже, чем у других девочек» из моего детства. Хотела, чтобы с ней всё было по-другому.
– Твоя дочь похожа на тебя?
– Моя Нюша – кандидат наук, успешный молодой ученый, мать семейства. Ее дети, мои внуки Миша и Левушка, – это главное мое счастье. Живут они в Москве, каждые две-три недели я езжу в Москву забрать их на выходные.
– То есть они – в Москве, а ты одна – в Петербурге?
– Здесь, в Петербурге, у меня своя семья. Это моя редакция, мои ученики.
– «Сеанс» всегда был семьей?
– Так не задумывалось, но так получилось. И из него главные сотрудники и главные авторы навсегда не уходят, за редчайшими исключениями.
– Откуда в твоей жизни взялась Гном?
– Гном написала мне письмо в 2012 году, после просмотра фильма «Антон тут рядом». Таких писем в тот год я получала очень много, не успевала отвечать. Но через полгода, когда я уже начала создавать Фонд [ «Выход в Санкт-Петербурге»], написала ей. С тех пор мы всегда вместе. Без нее не было бы ничего: ни Фонда, ни «Сеанса», ни «Блокады». Ира потрясающий фотограф и оператор, а потому всегда «за кадром». В общем, здесь у меня тоже «мои» есть: дети и ученики, которые тоже мои дети и моя семья. Это – великое счастье.
За три месяца до интервью
– А ты понимаешь, что именно ты переменила вектор истории с обезболиванием в Питере?
– Кать, я тут ни при чем. Этим занимаются другие люди, – бурчит Аркус.
Она не в настроении: дурацкое самочувствие, экстремально короткие световые дни, миллион дел, на которые нет времени. И Блокада. Точнее, фильм о Блокаде: человек, который однажды по-серьезному ввязывается во что-то, связанное с изучением Блокады, уже никогда не будет прежним. Я не знаю, что задумывала снять Любовь Аркус. Но знаю, что, погрузившись в эти материалы, она сняла болезненный и сложный детектив про несколько секунд кинохроники и их автора, зафиксировавшего боль, отчаяние и бессилие, – единственного кинохроника страшной зимы 1941/42-го.
Всю зиму Аркус сидит в архивах, смотрит обрывки кинопленок, сверяет, сопоставляет, расспрашивает, разузнает. И сама не замечает, как огромная свинцовая усталость наваливается на нее, потому что всех ее других обычных дел – Фонд, журнал, Центр – никто не отменял.
– До истории с болезнью и болью твоей мамы считалось, что с обезболиванием в Питере все о’кей, чиновники знают все проблемы и держат их на контроле. И доказать обратное лично у меня не получалось.
– До моей мамы была Ринаточка, мама Антона[25]. Сюжет обезболивания и паллиативной помощи появился в моей жизни летом 2010 года, когда у меня на руках оказались они оба – Антон и Рината, у которой был рак. Ей сделали две трансплантации, наступила ремиссия, она помолодела, похорошела, расцвела. И вдруг я услышала из ее комнаты на даче сдавленный крик. Сделали КТ, обнаружилась опухоль на крестце.
Лето, аномальная жара, помнишь, когда в Подмосковье леса горели? В Питере не горели, но было жарко. Больница Ринаты – в коллективном отпуске «на проветривании», и Песочная, и 31-я больница тоже. И районный онколог в отпуске. И скорая не обезболивает, нет назначения. Мы с Костей Шавловским возили ее по городу, от дверей к дверям. Рината кричала, скорчившись на заднем сиденье машины.
В онкодиспансере на Березовой собрались тем летом, мне кажется, все больные со всего города. Вот когда я увидела подлинный ад. Больные, их родственники, огромная очередь в регистратуру, к каждому кабинету, у входа на улице. Им все хамят. Все отфутболивают. И нас отфутболили. Только после звонка Алексея Юрьевича Германа через неделю Ринату взяли в стационар. Как мы эту неделю прожили, я не знаю.
Потом, спустя несколько лет, заболел мой близкий друг, в сущности родственник, Владимир Валуцкий. Классик. Автор более шестидесяти фильмов. Муж Аллы Демидовой. И что ты думаешь? Пока было лечение, всё ничего. Но когда наступила четвертая стадия, метастазы везде, организм на химию не отвечает, он оказался медициной брошен – так же, как и Рината. Разницы нет. Я писала письма врачам, умоляла их просто прийти к нему. Они отвечали мне, что не знают, чем помочь. Если бы не Нюта, не Первый хоспис, я не знаю, что бы мы делали. Ему, задыхающемуся, наладили дыхание, обезболили, успокоили.
– Мама была потом?
– Потом. Знаешь, когда она умирала, приходил из поликлиники врач, который даже не смотрел на нее, а смотрел куда-то вбок или в окно и скучным голосом говорил: «А что вы хотите? Она умирает». На это я отвечала: «Я хочу, чтобы ей было легче». «Как ей может быть легче, когда она умирает?» – спрашивал меня врач.
Но до этого я полтора месяца ежедневно была в Первом московском городском хосписе со своим другом Володей Валуцким, видела, как там всё устроено, и знала, что можно сделать, чтобы человек не мучился или мучился гораздо меньше. Врач из поликлиники говорил: «Мы можем предложить вам больницу». – «А что будет в больнице?» – «Ничего. Просто вам будет легче». Но я не хотела, чтобы мне было легче. Я хотела, чтобы легче было маме. И друзья доставали мне лекарства, а Диана Владимировна Невзорова[26] ежедневно по телефону инструктировала меня и сиделку обо всех тонкостях ухода за умирающим человеком.
И я никогда этого не забуду. Но когда мама уже ушла, я подумала о том, что было бы со мной, если бы я не была Любой Аркус, а была бы учительницей начальной школы или водителем трамвая и у меня бы не было таких друзей?
– Ты привлекла к проблеме внимание, что хотя бы немного сдвинуло ее с мертвой точки.
– Не надо преувеличивать мою роль: история с моей мамой стала примерно таким же триггером для ситуации с паллиативной помощью в Петербурге, как и трагедия семьи контр-адмирала Апанасенко, самоубийство которого глобально сдвинуло с мертвой точки историю с обезболиванием в стране. Не само самоубийство, а родственники, которые не молчали, и Нюта Федермессер, действия которой стали гораздо более эффективными.
Моя роль только в том, что я устроила первую пресс-конференцию по теме обезболивания – вместе с Нютой, Леной Грачёвой, Таней Друбич, Ильей Фоминцевым, с участием врачей и чиновников. А проект «Паллиативная помощь в Петербурге» – это заслуга фондов «Вера» и «АдВита» и конкретно Нюты Федермессер и Кати Овсянниковой. А ты всё время пытаешься добраться до моего личного, ты хочешь через это посмотреть на всё, чем я занимаюсь, да? Я так не хочу. И поэтому я не хочу интервью.
Мы идем по снегу, глядя вперед, перед собой. Это важно: улицы этой зимой такие скользкие, наледи так много, что только и слышишь, как кто-то в очередной раз сломал руку или ногу или просто упал в этом Петербурге 19-го года. 2019-го.
С другой стороны, пес его знает, что на этих улицах творилось двадцать – двадцать пять лет назад. И уж точно в это время никто не вел разговоры ни про людей с аутизмом, ни про обезболивание. Я советуюсь с Аркус:
– Согласись, многие вопросы, которые нам сейчас кажутся наиважнейшими, еще двадцать лет назад, в девяностые, даже не возникали. Просто не были сформулированы: ни про обезболивание, ни про аутизм. Или же они не возникали потому, что в нищей стране все были озабочены лишь проблемой собственного выживания?
– Ты думаешь, дело только в деньгах? – оборачивается она, остановившись. – Я так не считаю. Лёша [Балабанов] сделал «Брата» такого, какого сделал, – по вынужденности, а если бы у него были бы бо́льшие возможности, не знаем, получилось бы или нет. Не было денег тогда в стране на кино, а тем более – у независимой студии, которая была про искусство, а не про распил. На задворках «Ленфильма» Лёша с Михалычем [Сельяновым] сидели в небольшой комнатке друг напротив друга, как каменные истуканы, – это и называлось «Компания СТВ». Иногда они цокали языком, качали головами и кивали друг другу, на что – непонятно. Когда я приходила, кто-то из них дружелюбно говорил: «Садись». Я садилась. Через долгую паузу спрашивала: «Парни, давно молчим?» Примерно в это время появился «Брат», который был снят за две копейки. Уверена, что немыслимая энергия фильма – это их энергия невозможного преодоления.
– Как в твоей жизни появился Балабанов?
– За него замуж вышла моя подруга Надька[27]. И он мне поначалу ужасно не понравился – я решила терпеть его ради Надьки. А потом я посмотрела «Счастливые дни» и решила, что Лёша – гений. Кстати, «Брата» я поняла не сразу. После премьеры на «Кинотавре», когда зал встречал аплодисментами слова про «гниду чернож**ую», я, что со мной бывает, ослепла от гнева и наехала на них с Сельяновым страшно. Балабанов молчал. А Сельянов сказал: «Любаня, иди, опомнись. Мы на тебя не сердимся». Через три года Лёша мне позвонил, попросил посмотреть монтаж «Реки» – фильма, на съемках которого у него погибла актриса Туйара Свинобоева, игравшая главную роль. А потом был Кармадон. После «Реки», и тем более Кармадона, у нас с Балабановым была уже не просто дружба, а настоящее братство.
– Сельянов решил стать продюсером именно из-за Балабанова?
– У меня есть фотография, сделанная в тот момент, когда Сельянов решил стать продюсером. Он ведь хотел быть режиссером и был им. Какое-то время был и тем и другим. А потом сделал выбор.
– Я люблю и «День ангела», и «Духов день» его с Шевчуком. Как думаешь, если бы он продолжал, он был бы хорошим режиссером?
– Я думаю, что Сережа был не меньшим режиссером, чем Балабанов. Он сделал свой выбор в пользу Балабанова. Он никогда этого не скажет. Мне иногда кажется, что сейчас, когда Лёши нет, он вообще разлюбил кино – ему стало неинтересно.
– В каком-то смысле ты ненастоящий кинокритик и киновед: ты вовлечена в отношения с режиссерами и артистами, со сценаристами и продюсерами, что, разумеется, мешает тебе быть объективной. Но ты еще и режиссер. Это реально совмещать?
– Кать, знаешь, я уже давно не понимаю, кто я. Один фильм, даже хороший, – это еще не режиссер. Человек, который делает журнал о кино тридцать лет, но давно не пишет в него тексты, – это не кинокритик. А человек, который основал первый в стране Центр помощи взрослым людям с аутизмом, но по-прежнему, как и десять лет назад, ни в чем не уверен и никакие методы помощи не считает эффективными, – это опять неизвестно что. Я постоянно ничего не успеваю и всегда перед всеми виновата.
Мы стоим в промозглом коридоре питерского университета за несколько минут до начала встречи Аркус со зрителями. Я ногтем ковыряю лед на стекле, Люба хлопает себя по карманам, нащупывает сигареты. В помещении нельзя курить. Она просто хочет удостовериться: пачка на месте. Когда она захочет, пойдет и покурит.
В каком-то смысле делать то, что хочешь, – это и есть свобода. Но Аркус устроена таким образом, что она хочет как будто слишком многого. И по-детски расстраивается, если что-то вдруг получается не так, как задумано. Тогда она возвращается и переделывает. Тратит все силы, убивается, но добивается того, чтобы дело было сделано лучшим из возможных образом.
Я смотрю на нее и думаю, что вот это неумение жить вполсилы однажды ее угробит. Еще – вспоминаю о том, что за то время, пока Аркус вытаскивала Антона, будущего главного героя своего первого документального фильма, из ПНИ, она три раза лежала в реанимации. Высокая ли это цена за свободу Антона? Высокая ли – за фильм? Достаточная ли, чтобы потом, вслед за фильмом, появился Центр «Антон тут рядом», где людей с аутизмом и другими ментальными особенностями обучают ремеслу, умению общаться, заботиться о себе, короче, жить как все. Где для таких людей созданы театр, оркестр, летние лагеря, мастерские, квартиры сопровождаемого проживания. Первым жильцом первой такой питерской квартиры стал, кстати, Антон из фильма Аркус. Всё закольцовывается.
Правда, неизвестно, стоит ли это еще трех раз, которые с тех пор Аркус оказывалась в реанимации. Я смотрю на нее и думаю о несоразмерности этой маленькой женщины ее привычки ввязываться во всевозможные битвы добра со злом, ее непрекращающегося кашля и дел, которые она взялась делать. И Аркус тоже думает о несоразмерности.
– Я вот всё время думаю о несоразмерности труда: даже плохой режиссер тратит на фильм два года минимум, а бывает, что и три, четыре, пять. А критик на статью? Критик – от двух часов до нескольких дней. Ну несколько дней – это критик-перфекционист. Как это можно соизмерить? Годы адских мучений, сомнений – получится или нет. И какой-то человек, который сел, расчехлил ноутбук и написал заметку.
Ты знаешь, Катя, у меня в разное время были разные учителя. Но главным была всё-таки Майя Иосифовна Туровская. Я еще во Львове ее книжки почему-то переписывала в тетрадку. В чем был смысл этих действий, я не понимаю до сих пор, но переписывала аккуратно, страницу за страницей. Меня абсолютно завораживало, как устроены ее тексты. Они были не про кино и не про театр. Майя сама в предисловии к одной своей книге написала: «Киновед, как и всякий пишущий человек, пишет о жизни».
Когда я с третьего раза поступила во ВГИК, очень быстро поняла, что профессии меня тут никто учить не будет. Киноведческий факультет был таким пансионом благородных девиц. Со мной учились прекрасные, воздушные девочки из хороших и статусных московских семей. А мне надо было профессию. И однажды я нашла в справочнике Союза кинематографистов телефон Туровской и позвонила ей из телефона-автомата, который был установлен в общежитии.
Она очень удивилась этому звонку и сказала, что никого никогда не учила и не намерена заниматься этим в дальнейшем. Но я была настойчива, и когда я предложила ей в обмен за обучение свои услуги как машинистки, курьера и домработницы, она рассмеялась и сказала: «Ну хорошо. Вы можете ко мне приходить и показывать то, что вы пишете. Мы будем это обсуждать, но не более того».
Спустя короткое время она стала моим настоящим учителем и моей второй мамой. Майя научила меня самому главному – как устроен текст. А через него – как устроена мысль, ее драматургия. А через это – как устроено любое понимание чего бы то ни было, если ты хочешь его добыть или хотя бы отчасти добыть, сколько сможешь. Она вообще научила меня этому понятию – добыча, то есть огромный труд по проникновению во что-то. А далее – по тому, как всё это собрать и пересобрать.
Я не говорю, что у меня всё это получается, а говорю про интенцию, которой она меня научила. Про то, что во всем нужно сверхусилие. Про то, что если ты хочешь добиться хотя бы малого, ты должен замахнуться на что-то очень большое. Про то, что профессия – это пот и кровь, а потом уже всё остальное. У Майи были еще очень важные технологические уроки, которые я потом старательно и дословно передавала своим ученикам.
Аркус вдруг поднимает голову и беззащитно спрашивает: «Это не интервью?» Мы идем, скрипя снегом, по тихому Петербургу. Туристы с хохотом и визгом катаются по замерзшей Фонтанке. Хочется – как они. Но у Аркус встреча в Фонде, потом летучка в журнале. Потом надо заехать в Центр – там кто-то читает лекцию в пользу «Антон тут рядом». И мы идем вдоль набережной, скрипя снегом, посматривая на туристов.
– Как ты переехала в Ленинград?
– Ленинград был для меня бесприютным, стылым городом. Это было в самое макабрическое советское время, на фоне бесконечных похорон генсеков. Я вышла замуж за гениального человека, Олега Ковалова, киноведа и диссидента, впоследствии режиссера. Мне было двадцать два года.
Из его рук я прочитала всего Солженицына, «Верного Руслана» Владимова, «Весну в Фиальте» Набокова. Но главное, что Ковалов оказался тем человеком, который мог ответить на все мои вопросы к миру. А вопросов у меня было множество. Олег работал на «Ленфильме» редактором. Позвал его туда Илья Авербах. И поначалу всё было хорошо. Но даже для сверхлиберального «Ленфильма» он со своими высказываниями и редакторскими предложениями был абсолютно неудобоварим.
Однажды на худсовете по поводу фильма «Уникум» Виталия Мельникова в присутствии всегдашнего соглядатая из обкома партии Олег, в ответ на критику фильма, вдруг стал доказывать всем присутствующим, что фильм прекрасный, а смысл его в том, что советский народ – спит. «Это оппозиция», – жарко объяснял Ковалов собранию к ужасу режиссера. Побелевший Виталий Мельников спросил на выходе у главного редактора студии Фрижетты Гукасян: «Откуда у нас взялся этот стукачок?»
Завершением карьеры Ковалова стала история с фильмом «Скорбное бесчувствие» Сокурова – после решения закрыть картину и положить ее на полку он отправился в самовольную командировку в Госкино, доказывать тамошним начальникам, что Сокуров гений, а закрывать картину – преступление. Его, конечно, не пустили дальше приемной, но на студию позвонили. И Ковалов был уволен.
Потом мы скитались, снимая какие-то углы и комнаты. Денег не было вообще, а у нас с Коваловым родился ребенок. До начала перестройки, когда всё изменилось, оставался год. Мы прожили его, абсолютно не видя своего будущего, как будто в каменном мешке. Тогда невозможно было себе представить, что Олег сделает прекрасные фильмы, у меня будет журнал, у нас появится дом.
– До переезда в Ленинград ты была литературным секретарем писателя Виктора Шкловского. Как это на тебя повлияло?
– Ты хочешь, чтобы я ответила одним словом? – Аркус смеется.
Разумеется, о Шкловском надо делать отдельное интервью. Но она мне никакого не дает. В этих обрывках разговоров приходится, извернувшись, включать диктофон и спрашивать обо всём понемногу.
– Да, – говорю с вызовом. – Вот попробуй, знаешь, сформулировать в одном предложении.
Задумывается. Смотрит куда-то в сторону. Радостно взмахивает рукой.
– Шкловский написал в «Zоо» одну фразу: «Все хорошие слова пребывают в обмороке». Я ее всё время вспоминаю. Потому что мы живем в такое время, когда слова больше не означают того, что мы в них вкладываем. Очень трудно прорваться к реальности, нужно победить клише слов и образов, которые перестали что-либо означать. Реальность больше не описывается теми словами, которые были хорошими и правильными еще тридцать лет назад. Они как будто испортились, стали фальшивыми – как в анекдоте про фальшивые елочные игрушки, которые ничем не отличаются от настоящих, просто не радуют.
«При Шкловском такого не было», – пытаюсь пошутить. Аркус смотрит на меня, как на дуру.
– Как вы познакомились с Германом?
– Мы с Коваловым поднимались по лестнице главного корпуса «Ленфильма», и вдруг я услышала дикий вопль. Даже не вопль, а рев: «Жидовня, жидовская морда, выходи, блядина, я убью тебя!» В разных вариациях этот текст повторялся, хорошенько сдобренный отборным русским матом. Это был мой первый визит на «Ленфильм». Я проработаю здесь всю жизнь, но еще об этом не знаю. Пока у меня преддипломная практика.
О «Ленфильме» я знаю, что это тихое, камерное и уютное, самое интеллигентное место на свете. Услышав рев, я замираю. Ковалов дергает меня за руку: «Пойдем». Я шепотом спрашиваю: «Олег, кто это?» Совершенно невозмутимо Ковалов отвечает: «Это Герман». – «А на кого он так кричит?» – «На Арановича», – спокойно отвечает Ковалов. И добавляет: «Ты не волнуйся, это почти каждый день происходит». – «А где Аранович?» – «Заперся в туалете».
Оказывается, именно в этот момент Герман впервые увидел фильм Арановича «Торпедоносцы», в который Аранович, не будь дурак, пригласил всех актеров Германа, собранных им по провинциям для фильма «Начальник опергруппы» – таким было первое название фильма «Мой друг Иван Лапшин».
«Лапшин» был снят и лежал на полке. А «Торпедоносцы» готовились к победоносному шествию по киноэкранам страны. Для Германа было очень важно, что у него сыграли неизвестные актеры, у которых не было никакой экранной биографии до «Лапшина». Поэтому он, конечно, обиделся на своего друга Арановича. Впоследствии они помирились, еще поссорились и еще помирились. Всё это происходило очень бурно и на глазах у всей киностудии.
Потом, когда я уже работала редактором на студии, Герман меня заметил и отметил. Я почему-то страшно его забавляла, ему нравился мой смех. Иногда он приходил в объединение, широко распахивал дверь и так специально вылупливал на меня глаза. Если не удавалось сразу же этим вызвать мой смех, то он показывал мне палец. Я покатывалась, и он уходил страшно довольный собой.
Они с директором студии и впоследствии моим очень близким другом Александром Голутвой вызвали меня и предложили ехать от студии на Высшие режиссерские курсы. Знаешь, Катя, в этот момент я по-настоящему заплакала. Это же была главная мечта моей жизни. Но я должна была отказаться – впервые после долгих мытарств у нас была комната в коммунальной квартире, зарплата, у Нюши были детский сад и детская поликлиника. У меня были семья и ответственность и не было никаких сил начинать всё сначала. Мне было двадцать семь лет, а ощущение было такое, что ничего нового по-настоящему быть не может.
Герман, и я это помню, как будто это было вчера, сказал: «Любка, ну ты – чисто клоун. Покажешь палец – смеешься. Скажешь слово – плачешь. И всё басом». Потом у нас с Германом было еще много чего: долгие поездки в Репино, его фильмы, мой журнал «Сеанс», в котором он всегда принимал активнейшее участие.
– «Сеанс» был очень режиссерским журналом. Вы поддерживали Германа, вы защищали Сокурова. Что было вначале: дружба или журнал?
– Сначала была жизнь. Сокуров снял фильм «Одинокий голос человека», который запрещали и хотели смыть. И который абсолютно перевернул все представления о современном кино не только у меня, но и у всего нашего поколения. Когда Ковалова уволили с «Ленфильма» за защиту Сокурова, я помню, как мы втроем – Олег, Саша и я – едем в метро, переходя с ветки на ветку, и Сокуров рассказывает нам, что за ним – слежка. Они разговаривают друг с другом, а я болтаюсь рядом.
Вообще-то мой диплом – о Сокурове, но я даже боюсь вступить с ним в разговор. А на станции «Василеостровская» я вдруг говорю: «Саша, вы знаете, я не знаю как, почему, но, поверьте мне, всё будет скоро совсем иначе, вы будете снимать много-много фильмов, и вы будете знамениты на весь мир». Они оба посмотрели на меня, как на полную идиотку. И что-то там такое каждый из них сказал, чтобы я не сомневалась в своем идиотизме. Я часто напоминаю об этом Сокурову теперь, когда мы о чем-то спорим.
Кстати, диплом о Сокурове у меня во ВГИКе не приняли, был большой скандал. И Ковалов за две ночи настучал какой-то текст, теоретический, с большим количеством никому не понятной терминологии, которым я и защищалась. И вот, Кать, как я могу относиться к Сокурову как к объекту анализа? Как я могу анализировать Германа?
За месяц до интервью
– Ты сняла фильм «Антон тут рядом» – и начала делать Центр. Ты понимала, что это уведет тебя от кино Бог знает куда?
– После фильма я оказалась на территории, где совсем другие законы – не такие, как в обычной мирной жизни. Потому что я прожила эти годы съемок с родителями, которые не отдали своих детей в интернаты. И доподлинно сама поняла, что это такое – такие дети, как Антон. И насколько преступна система, которая их уничтожает. Когда ты оказываешься на этой территории, нужно засунуть свои страхи и логику обычной жизни подальше, она здесь не работает.
Я говорю и понимаю, что это всё звучит как будто слишком красиво. Но никакой красоты в этом нет. Приступы малодушия накрывают тебя постоянно, страх никуда не делся, а чувство вины становится главным фоном твоей жизни, потому что сколько бы ты ни сделал, это всегда будет каплей в море. Вот есть это море – и есть ты. Ты никогда не сможешь выполнить задачи, которые стоят перед тобой. Но ты должен стараться. И никогда не ждать благодарности. И не допускать мысли, что ты живешь правильно и что ты молодец.
– Сейчас, спустя несколько лет, что для тебя важнее – Фонд, «Сеанс» или кино, которое ты должна снять?
– Хочешь меня убить – повтори этот вопрос.
«Между человеком социальным и человеком сокровенным»
Интервью
Где-то там, далеко на юге, в апреле распускаются листки, расцветает вишня или абрикос – что на юге цветет первым? В Санкт-Петербурге в апреле кое-где еще лежит снег. В этом году весна – ранняя. И с сухим хрустом ломается лед в Фонтанке. Ломается и плывет к Неве. В воде, если это солнечный день, обязательно отражаются дворцы, но главное – небо. Если поймать угол, то кажется, ты между синим и синим – между небом и водой – в прекрасном нигде.
2 апреля 2019 года, в день информирования об аутизме, в Санкт-Петербурге была переменная облачность. И иногда синее небо действительно отражалось в воде. По улицам города между тем двигались люди, ритмично стучавшие в барабаны. В синих шарфах, синих накидках, а одна из них – Любовь Аркус – с написанным синим плакатом #СТОППНИ. В этот день Любовь Аркус согласилась дать мне интервью.
– Плакат #СТОППНИ – он тебе зачем? Ты занимаешься помощью детям и молодым взрослым с аутизмом. На тебе Фонд, Центр, «Сеанс» и два несделанных фильма.
– Мы идем, чтобы сказать, что мы – есть. Мы это делаем каждый год. И, кажется, какое-то количество людей про нас узнали. Но события последних месяцев меня убеждают в том, что нам оставили этот наш крошечный островок – ходите, стучите, трепыхайтесь там как-то, – но во внешнем мире всё делается для того, чтобы нас не было.
– Вас – в смысле Фонда?
– Нас – в смысле нас. Да, я не человек с аутизмом, у меня нет таких родственников. Но это уже моя социальная среда, это мои люди, поэтому я говорю «мы».
– Но со стороны кажется, что всё, наоборот, прекрасным образом развивается. В некоторых местах даже чиновники теперь вместо «аутисты» говорят «люди с аутизмом».
– Да, говорят. Но моя почта завалена письмами из Томска, Оренбурга, Иркутска или Вологды с просьбой помочь. Этим людям я отвечаю: мы работаем только в Санкт-Петербурге. И, даже если вы приедете в Санкт-Петербург, мы вряд ли вам сможем помочь. У нас всего два центра, это около шестидесяти подопечных. И всегда – не меньше трехсот-четырехсот человек в очереди.
Мы ничего не можем делать для маленьких детей, за исключением того, что у нас есть программа для родителей детей-дошкольников, которая прекрасно работает, но это капля в море.
– Едва появилась тема аутизма, стали говорить о том, что такие центры, как «Антон тут рядом», должны быть по всей стране, что работа должна вестись системно. Ведется?
– Нет. Система как не работала, так и не работает. Дело не в том, что она неповоротлива, она просто стоит на месте. Иногда мне кажется, что мы превращаемся в какую-то витрину. На нас кивают, нас показывают, чтобы скрыть, что в стране на самом деле ничего нет.
– Но ведь планировалась целая федеральная программа помощи людям с аутизмом и другими ментальными особенностями.
– Нет. Не так. Благодаря усилиям НКО у министра труда и соцзащиты Максима Топилина появилась программа реформы системы психоневрологических интернатов. Но она не началась. Хотя радужные ожидания были такой силы, что всем показалось – началась.
– В чем идея реформы?
– В том, чтобы в существующую систему психоневрологических интернатов больше не поступали новые люди, чтобы постепенно, как во всем мире, создавалась альтернативная система.
– Как выглядит альтернативная?
– Это малонаселенные дома, допустим для десяти человек, в небольшой удаленности друг от друга, – чтобы их могла патронировать группа специалистов, которая одновременно работает на несколько таких домов. Параллельно должны открываться социальные квартиры для людей, которые, как наши ребята из Центра «Антон тут рядом», не могут жить одни, даже если они кандидаты физико-математических наук. У нас всего три такие квартиры в Питере – это ничто.
– Сколько помещается ребят в таких квартирах и как они функционируют?
– Не больше четырех человек. У каждого – своя отдельная комната. С ними посменно живут сотрудники Центра. Все ребята работают. Они ходят в защищенные мастерские или, кто может, работают на внешнем рынке.
– Это дорого?
– Мы давно просчитали финансовые показатели: это дешевле, чем психоневрологический интернат. Да, на входе это требует инвестиций. Но в дальнейшем, говоря на их языке, «подушевое» финансирование в разы меньше, чем в казенной системе. Но самая главная проблема молодых людей с ментальными особенностями – это отсутствие работы со смыслом. В ПНИ они гниют заживо, а в таких квартирах – могут жить.
– Какая связь между Центром «Антон тут рядом» и реформой ПНИ?
– Топливом для пуска ракеты по имени Центр «Антон тут рядом» был мой панический ужас перед ПНИ и перед тем, что там опять окажется Антон. А также ребята, с родителями которых я уже дружила. И если вдруг Центр закрывается по каким-то причинам – заканчиваются деньги, со мной и Зойкой[28] что-то случается, все наши студенты рано или поздно могут оказаться в ПНИ.
– Но любой здравый человек скажет, что психоневрологические интернаты, которых тысячи по всей стране, одним махом расформировать невозможно.
– Это не быстрый процесс, идиотов нет. Вместо строительства новых интернатов, на которое, как выяснилось, правительство выделило пятьдесят миллиардов рублей, нужно было направить эти деньги на реальную реформу. Да, мы понимаем, что существующие интернаты никуда не денутся, их одним махом не сотрешь с лица земли, как бы ни хотелось. Но строить точно такие же новые – преступление.
– Но деньги уже выделены. И выделены именно на это.
– А кроме этого произошло очень много разных других вещей: вышел закон о реабилитации детей-инвалидов, который делит их на категории от перспективных до – ты просто вдумайся! – бесперспективных. Если ребенок бесперспективный, ему не положена никакая реабилитация: если это опорник – не положена коляска, если ДЦП – не положена никакая физиотерапия, если когнитивные нарушения, он не понимает обращенную к нему речь – никто не будет с ним заниматься и пробовать что-то исправить. Бесперспективный ребенок, точка. Дальше система будет действовать, исходя из определения «бесперспективный». Но кто это решает?
А потом жизнь «бесперспективного» ребенка устраивается так: ПМПК (психолого-медико-педагогическая комиссия) определяет образовательный маршрут ребенка. Сидят три каких-то человека и, глядя только в бумажки, сообщают: ваш ребенок необучаем. Те, кто принимают решение, ничего не знают про этих детей, и они при этом уполномочены ставить ребенку эту печать: «В утиль».
– Что, по логике системы, происходит с бесперспективными детьми?
– Они направляются в ДДИ, детский дом-интернат, а как повзрослеют – в ПНИ. Это система казенных учреждений, на которые выделяются огромные деньги. Система ПНИ постепенно снимает с государства обязанность индивидуально заботиться, защищать, лечить каждую отдельную семью, каждого отдельного ребенка, ментального инвалида, или просто инвалида, или просто старика. И выходит, что недееспособные члены общества сгружаются в коллекторы для всех сирых и убогих, «бесперспективных».
А вокруг каждого учреждения этого бездействующего государственного милосердия – огромная паутина мелких интересантов: строители, поставщики питания, поставщики лекарств. Это огромный бизнес.
– Я думаю, нефтяной бизнес всё же прибыльнее будет.
– Не знаю. Но могу сказать, что на Антона в 2010 году, это мне известно точно, из госбюджета уходило пятьдесят тысяч рублей, и на его пенсионный счет, который никогда не мог быть активирован, падало каждый месяц еще пятнадцать тысяч. А Антон лежал на панцирной кровати на голом матраце – не потому что ему не дали белье, а потому что он его сбрасывал и никто не стелил обратно, ему давали еду, которую Антон при его зверском аппетите не доедал, потому что есть это было невозможно. Никаких лекарств Антону не полагалось, кроме галоперидола.
Когда я его забрала, у него была чесотка и огромный гнойный мешок под зубом. Он кричал, но никто не понимал, почему он кричит. А даже если бы он сказал, что у него болит зуб, то хотя там на тысячу двести человек и числился один стоматолог, его никогда не было на месте, не говоря уже про терапевтов, гастроэнтерологов, лоров и прочих врачей.
А теперь давай с тобой просто составим все звенья: пятьдесят миллиардов на строительство новых ПНИ – раз, принят закон о детях-инвалидах, где выделены «бесперспективные» дети, которым дорога – в казенное учреждение, – два. И третий пункт – обращение петербургских психиатров в Законодательное собрание с просьбой внести изменения в Закон о психиатрической помощи.
Если изменения будут приняты, то психиатрическая помощь может стать недобровольной и оказываться даже без согласия родственников. И это значит, что ребятам, которых мы обучили по специальным методикам передвигаться по городу самостоятельно, больше так делать нельзя: кто-то позвонит и сдаст бригаде. Мне кажется, что всё это звенья одной цепи, целью которой является оптимизация «недееспособных».
– Ты уверена, что хотела бы сейчас ввязаться в битву против ПНИ, что у тебя хватит сил на это?
– До недавнего времени я искренне считала, что нужно создавать какие-то места и вещи, которые противостоят тьме, и энергию нужно тратить на это. Что больные дети не могут ждать, когда система изменится, они умрут завтра, если у них не будет денег на трансплантацию костного мозга, люди с аутизмом уже завтра попадут в ПНИ, пока мы будем протестовать против положения вещей в стране. Я считала, что нужно работать, а не митинговать. Вот сейчас, после введения определения «бесперспективный» и после миллиардов, выделенных на строительство новых ПНИ, у меня впервые возникла мысль о том, что надо бороться прямо сейчас.
– Как ты себе это представляешь?
– Встать в одиночный пикет.
– Смешно.
– Это, конечно, отчаяние, я просто не знаю, что еще я могу сделать.
– Взять в заложники министра Топилина.
– Если серьезно, Кать, я не хотела бы брать Топилина в заложники. Я хотела бы любого из чиновников, который тормозит реформу (а ведь мы по-настоящему не знаем, кто ее тормозит), запереть на один день в интернате на общих основаниях: прогнать через санприемник, чтобы в перчатках синих вертели его голову, отобрали у него все его личные вещи, бросили на эту койку, сделали укольчик и оставили там одного, не дав выйти покурить, если он курит, не спросив, какая у него диета. Дали бы с утра эту гнилую капусту с обрезками жира. Называли бы его на «ты» и, конечно, пригрозили бы ему психушкой, если бы он очень интеллигентно и вежливо спросил, почему всё это с ним происходит. Сказали бы: «Знаешь, куда у нас отправляются те, кто много лишних вопросов задает? Сейчас поедешь в надзорную!»
Я думаю, он вышел бы оттуда другим. Но есть тонкости. Вот, предположим, перевоспитается один, выйдет и станет топить за реформу вместе с нами. Но ведь вокруг-то живут люди. Вот эти обычные люди, которые пишут мне в фейсбуке: «Это что же вы предлагаете: психи что, теперь среди нас ходить будут?» или «Что, на этих стариков надо жизнь положить, а свою уничтожить? Мы же не можем жить с таким человеком в доме. От него – воняет». Эти люди страдают отсутствием эмпатии, и мне кажется, что это болезнь века.
– А по-моему, это просто – этап. В XX или тем более XIX веке достоинство людей с особенностями вообще не было предметом обсуждения. То есть мы всё-таки сделали шаг вперед.
– У меня как-то был разговор с потенциальным инвестором Центра, который спросил: «Их можно вылечить?» – «Нет». – «А зачем тогда тратить деньги, я не понял». И мои объяснения, что эти люди могут умирать в интернате, а могут жить полноценной жизнью, уже не работали. Слишком тонкие материи для деятельного сочувствия.
Одно дело – купить ребенку жизнь. А другое – вкладываться в человека с ментальными особенностями, чтобы он жил и не подох на ссаной койке в интернате или в изоляторе с решеткой на окнах. Это вложение другого типа, от него другая отдача.
– И как это изменить?
– Главная проблема – не только государство считает, что так правильно и так надо, но и общество. По большому счету государство не может делать ничего, что в обществе не одобряемо. Инклюзию тормозят мамы обычных детей, которые пишут жалобы, устраивают скандалы. И от своих стариков хотят отказаться тоже обычные люди. И «психов среди нас» не хотят видеть обычные люди, а не какие-то монстры. Это не только социально приемлемо, но и социально одобряемо. Это и есть агрессивное большинство.
– То есть тупик?
– И да, и нет. На самом деле мир ребят с аутизмом и их родителей – это наше зазеркалье. Сегодня у нас всё больший разрыв между человеком социальным и человеком сокровенным: рождается сокровенный человек, такой, каким его задумал Бог, проходит социальную адаптацию, то есть взросление. А потом социум всё больше требует от него соблюдения каких-то правил и условностей: сократить, убрать, спрятать этого своего сокровенного человека. И разрыв теперь такой большой, что иногда сокровенный человек с социальным просто не знакомы, не знают друг друга.
У людей с аутизмом сокровенное – тотально, оно не оставляет места для социального. А так называемые «нормальные люди» страдают расстройством привязанности, одно из следствий которого – дефицит эмпатии. То есть у «нормальных людей» социальный человек побеждает и вытесняет сокровенного. Но он же, этот сокровенный человек, никуда не делся. Надо его просто разбудить. Он же там, внутри. Тут рядом.
Я слушаю ее и вспоминаю, с чего на самом деле начинался фильм Аркус «Антон тут рядом», познакомивший меня с ней, познакомивший миллионы моих соотечественников с темой аутизма и – шире – с тем, что люди вообще неодинаковые и это – не опасно. Вспоминаю, как задели меня слова, которые произносит Аркус: она говорит, что благодаря Антону узнала себя, что прежде она забыла, кто она такая, увлекшись социальным порывом состояться, заработать денег, осуществить свои желания. «Я забыла, кто я, – говорит Аркус и продолжает: – И вот мне подставили зеркало».
Очевидно, что Антон – и дорогой ей человек, и важный для нее фильм, и Центр, и всё, хорошее и плохое, что было после, – это больше, чем просто герой фильма, случайно задевший за живое подросток, чем (дурацкое слово!) подопечный. Антон погрузил Любовь Аркус в мир, где люди сокровенны и не имеют никакой социальной оболочки: не понимают, что такое карьера, деньги, успех, не умеют кривить душой, интриговать, им это неведомо и недоступно – в принципе, в этом-то и заключается нарушение развития. Антон – причина и повод, побудившие Аркус создать в своем холодном Санкт-Петербурге маленький островок, где грань между такими, как Антон, и другими – безболезненная, невидимая и дружелюбная.
Но островок оказался утопией: тот, кого она пыталась уберечь, рано или поздно должен будет столкнуться с внешним миром; тот, кто не попал под ее опеку, неизбежно попадет под каток государственного милосердия. От него как спасешься?
Аркус курит. Солнце с луной одновременно стоят в зените петербургского неба. Оно сереет и медленно гаснет. Через пару месяцев в городе будут стоять белые ночи.
Интервью шестое Кирилл Серебренников
«Я бы хотел, чтобы меня отпустили, потому что я не виноват. Те обвинения, которые мне предъявлены, кажутся абсурдными и невозможными. Я честно много лет работаю в России, я делаю спектакли, я снимаю фильмы. В данный момент я нахожусь в стадии производства, мне надо снимать фильм, мне надо выпускать спектакль в “Гоголь-центре”. Мне нет смысла никуда убегать и воздействовать на кого-либо: два месяца с момента обысков я не пытался скрыться и всегда по любому звонку следователя являлся на допрос, где бы я ни находился. Никакого препятствия следствию с моей стороны не было. Я со следствием активно сотрудничал и говорил правду, которую я знаю. Она заключается в том, что проект “Платформа”, конечно, был, деньги, выделенные на него государством, полностью на него потрачены. Я им очень горжусь, все люди, которые работали в проекте, работали самоотверженно и честно. И никакие случаи злоупотребления и злонамеренного использования средств мне не известны. Я художественный руководитель этого проекта, моя работа была сделать так, чтобы проект произошел как яркое и мощное произведение современного искусства, яркое и видное событие в России и за рубежом. Так и случилось, этому есть огромное количество доказательств. Я не собирался никуда уезжать.
Всё, что у меня есть, – это родители, маленькая квартира и дело, которое я люблю. Я честный человек. Прошу высокий суд разрешить мне работать», – говорит режиссер Кирилл Серебренников 23 августа 2017 года из-за решетки клетки Басманного суда. На нем наручники. В руках – пакет из «Азбуки вкуса». Дурацкий.
За час до этого начальник судебных приставов, он тоже Кирилл, орет на весь коридор, полный людей, пришедших поддержать Серебренникова: «Шаг вперед, два шага назад! Шаг вперед, два шага назад». Я на секунду закрываю глаза, и мне кажется, этот окрик, его суть, смысл, форма и содержание – точнейшая метафора происходящего.
Самого свободного режиссера страны, самого свободного человека из тех, кого я знаю лично, проводят через душный, полный людей коридор, заводят в клетку, щелкает замок. Те, кому удастся пройти в зал заседаний, попробуют пожать Кириллу руку, обнять его через решетку или просто дотронуться. Но пристав кричит: «Не прикасаться! Не разговаривать!» Захлопывается дверь. Начинается заседание.
Я тупо смотрю на Кирилла за решеткой. И трусливо стараюсь не встретиться с ним взглядом. Потом понимаю – тут все стараются не встретиться с ним взглядом. Страшно. И что заплачешь – страшно. И что его взгляда – не выдержишь. Тоже страшно.
Почему-то есть странное чувство вины: вот он за решеткой, а конкретный ты (или все вы, кто здесь сидит или стоит на улице) ничего не сделал, не спас и не защитил.
И тут я вспоминаю, как радовалась тому, какой броский заголовок придумала нашему с Кириллом интервью. Это интервью стало последним его интервью на свободе. Оно называлось: «Одиночество – самое сложное и мощное испытание, которое выпадает человеку». Суд приговаривает Серебренникова к домашнему аресту, который продлится без малого два года.
Но в апреле 2017 года мы, разумеется, этого не знаем. Мы встречаемся в курилке Латвийского национального театра в Риге, где только что блестяще прошла премьера спектакля Кирилла Серебренникова «Ближний город» по пьесе литовского драматурга Марюса Ивашкявичюса. Это его четвертый спектакль в Риге. Мы смеемся, что тысячу лет назад я брала у него интервью о ростовских спектаклях и даже писала на них рецензии. Потом мы оба, один за другим, перебрались в Москву, потом я работала на НТВ, а Кирилл ставил спектакли в самых важных московских театрах, набрал свой курс в Школе-студии МХАТ, возглавил театр, на сцене которого его ученики стали звездами. А сам театр, «Гоголь-центр», превратится в центр театральной Москвы. Смотреть там спектакли станут люди, прежде никогда не интересовавшиеся театром и даже не бывавшие в нем. Но Серебренникову удастся создать театр, в котором не упрощают, чтобы быть понятным, но любят – именно любят – каждого зрителя. Первые пять лет существования «Гоголь-центра» показали, что эта любовь – взаимна.
Любовь – наверное, главная тема исследований режиссера Серебренникова. О чем бы он ни рассказывал, это почти всегда история о любви: к стране, к человеку, к делу. «Ближний город», спектакль, поставленный по пьесе драматурга Марюса Ивашкявичюса, – это тоже история любви. Любви, которую невозможно сохранить. Но, показывая это, Серебренников героев жалеет. Спрашиваю: почему?
[29]
– А почему не жалеть? Их жалко. И не потому что, как ты говоришь, перед ними только ад и ад, а потому что действительно выхода нет. Его в принципе не существует в театре. То есть он есть, но лишь в одном месте: где написано «выход» и в темноте горит лампочка. Так же и в реальности: выход – это вы сами, то, что вы думаете про ваши жизни, про свои входы и выходы.
Для театра неопределенность – это главное вещество. Зыбкость и неточность – энергия, из которой делается искусство. Если всё прибить гвоздями и окончательно определить, то допущения «а если бы», «а что будет, если», которые и подразумевают неопределенность, перестанут существовать. И не будет возможности будоражить воображение зрителя.
– Будоражить воображение – не значит помогать искать ответы.
– Театр – не путеводитель. И не инструкция к чайнику. Он не рассказывает, как быть в сложной ситуации. Это политики любят направлять, указывать и поучать, а театр помогает заглянуть туда, куда самому заглянуть страшно.
– Еще бывает театр, который просто и добротно развлекает.
– Бывает, но от развлечения тоже нет выхода. Все эти светы в конце тоннеля, которые показывают в развлекательном и ободряющем театре, – это же обман, фейк. Такого не бывает. И мне лично кажется, что так обманывать зрителя, так ему врать, – еще хуже и еще больнее.
В нашем случае театр порывает с лицемерием. И ставит перед зрителем достаточно ясное, чистое и совершенно не кривое зеркало. В нем зритель видит себя. И если он и ужасается, то ужасается не тому, что на сцене происходит. Он ужасается себе любимому. Вот так это устроено.
– Ты предлагаешь зрителю принять мир, в котором больше нет никаких якорей, удерживающих человека от шага в бездну. Ничего теперь не абсолютно: ни добро, ни зло, ни работа, ни успех, ни семья.
– Формально у главных героев есть семья, даже в общем хорошая семья. Но она, конечно, никакой не якорь. Потому что бездны теперь столь глубоки, что никакой якорь на дно не может встать, понимаешь? Ты больше нигде и ни в чем не можешь почувствовать стабильность. Якорь же нужен для ощущения уверенности, а ее нет, потому что мир находится в ситуации вихря и бешеного напряжения, – ничто, похоже, его не спасет. Спрятаться – негде. В результате ты не можешь быть нигде и ни с кем, кроме как один, сам с собой. И вызов состоит в том, чтобы выдержать это одиночество. Это дано не каждому. Одиночество – это самое сложное и мощное испытание, которое выпадает человеку. Люди пытаются притвориться, что его нет, с помощью разных технологий, одна из которых – семья. Но и это – иллюзия.
Рано или поздно всё приходит к одиночеству. И к способности человека быть честным и сильным в этом одиночестве. И в результате [можно] узнать, кто ты: если существо, с которым ты наедине, представляет интерес или какую-то ценность, то тогда с ним, то есть с самим собой, можно оставаться, не испытывая боли и страха; если это исчадие ада, саднящая рана, пороховая бочка или радиоактивный отход, то, конечно, быть рядом невыносимо. Вот и все. Так что ответь сперва себе на вопрос: кто ты.
– Рига теперь замерла в ожидании твоей пятой постановки. Говорят, она будет о латышских стрелках.
– Да. Мне предложили подумать, что объединяет Россию и Латвию. И я сказал: «Ну, конечно же, латышские стрелки». И они сказали: «О, интересно».
– Интересно, хотя немного страшно в плане перспектив реализации замысла.
– Давай серьезно: что еще так объединяет Россию и Латвию, если не Эйхманс[30], Лацис[31] и латышские стрелки? Пьеса соткана из разных источников, но в основе – поэма Александра Чака, которая была в советское время запрещена в Латвии, ее даже не переводили до сегодняшнего дня на русский язык. Я ее чуть-чуть читал по-английски. И создалось ощущение очень мощной эпической поэзии.
Никакого спектакля не случится. Через полтора месяца начнется «Театральное дело»: ранним утром 23 мая 2017 года оперативники в масках, направленные Следственным комитетом России, ворвутся в квартиры нескольких бывших и нынешних сотрудников «Седьмой студии», в том числе к основателю студии, художественному руководителю «Гогольцентра» Кириллу Серебренникову. Во всех квартирах, а также в театре «Гоголь-центр» (где артистов и сотрудников театра станут удерживать без объяснения причин в театральном зале в течение нескольких часов) проведут обыски. Серебренникова допросят в качестве свидетеля и отпустят под обязательство о явке к следователю. По версии следствия, руководством «Седьмой студии» с 2011-го по 2014 год были похищены бюджетные средства, выделенные государством на развитие и популяризацию искусства. Размер похищенного по версии следствия будет всё время меняться – от шестидесяти до ста с лишним миллионов рублей.
По первоначальной версии следствия спектакли, которые должны были быть поставлены на выделенные государством деньги, поставлены не были. Например, следствие утверждало, что спектакля «Сон в летнюю ночь» не существовало. В ответ адвокаты Серебренникова и, что важнее, зрители приводили аргументы: афиши, рецензии и видеозаписи спектакля. Но ничего этого следствие не приняло во внимание. Спустя полгода разбирательств ко всему прочему был арестован рояль, участвовавший в постановке.
А несколькими месяцами раньше, 22 августа 2017 года, был арестован Кирилл Серебренников. В Петербурге, где проходили съемки фильма «Лето» о дружбе рок-музыкантов Виктора Цоя и Майка Науменко.
Во время этих его съемок мы встречались. Я почему-то посекундно запомнила эти два дня. 20 августа 2017 года, Санкт-Петербург. Мы ужинаем: мой муж Николай Солодников, наш любимый друг, писатель Людмила Улицкая, режиссер Кирилл Серебренников, его помощница Анна Шалашова, драматург Марюс Ивашкявичюс. Мы только что побывали на острове Новая Голландия, где смотрели концерт пианиста и композитора Кирилла Рихтера. Музыка Рихтера нарастала вместе с северным ветром. Тучи синкопами двигались по небу. В один миг всё достигло апогея: ливануло. Мгновенный, беспросветный, неостановимый питерский дождь. Из толпы зрителей на сцену бросаются молодые парни, разворачивают над роялем, виолончелью и скрипкой зонты, куртки и дождевики. Так концерт заканчивается. Я тогда еще подумала – это какой-то знак. Но не успела додумать – какой. Концерт закончился.
Дождь лил стеной. Приходилось перекрикивать и шум дождя, и ресторанную музыку, когда мы, наконец, добрались до ужина. Все разговоры крутились, правда, вокруг дурацких оговорок: если получится, если всё будет хорошо, если всё обойдется. «Театральное дело» уже существовало, но весь его масштаб и все возможные последствия еще никому не были очевидны. Мы выходили курить под дождь, и Серебренников ставил мне треки рэпера Хаски, которым тогда очень увлекался: «Черным-черно, черным-черно, черным-черно», – пел Хаски. А я уговаривала Кирилла хотя бы на время уехать из страны. Он взрывался: «Почему я должен ехать, если ни в чем не виноват?! Я работаю и делаю, что могу, на благо своей родины. Это преступление? Я никогда ни копейки чужой в карман не положил!» Я кивала. Разговор менял направление – к делам, проектам, фильмам, балетам и операм. Кирилл рассказывал, каким будет балет «Нуреев», какими – «Маленькие трагедии», каким – фильм «Лето».
Прощались часа в три ночи. Дождь так и не перестал. Мы с Колей, Улицкой и Марюсом должны были ехать в свою гостиницу. Серебренников и Шалашова – идти пешком, через подворотню, в свою. Прощались через чугунные литые ворота. Мы все – с одной стороны, Аня и Кирилл – с другой. На прощание Улицкая поцеловала Серебренникова через решетку ворот. «Сцена из фильма», – сказала я. «Это какой-то знак», – заметила уже в такси Улицкая. Но тогда мы так и не додумали – какой.
Меньше чем через сутки, поздним вечером 22 августа, оперативники задержат Серебренникова в номере санкт-петербургской гостиницы, куда он вернется после очередного съемочного дня «Лета». Наденут наручники, посадят в микроавтобус с темными стеклами и девять часов будут везти в Москву. Всё это я вспомню в августе, пытаясь заставить себя рассмотреть Кирилла за решеткой, в зале судебных заседаний номер двести какой-то Басманного суда. И буду вспоминать наше с ним интервью – последнее интервью на свободе, полное предчувствий и предзнаменований, в которых мы не отдавали себе отчет.
– Кем ты себя считаешь: ростовчанином, россиянином, евреем, русским?
– Ты знаешь, а я не могу себя идентифицировать по национальному признаку. Я себя, скорее, определяю по языку. Язык, на котором я работаю, думаю, разговариваю, – русский. И это главное. Хотя во мне нет ни капли именно русской крови.
Кроме того, мне кажется, что национальная концепция, в принципе, устарела. Так же как и религиозная. Это всё прошлое. Раньше люди определялись по подданству и по вероисповеданию. В XX веке произошла такая мощная диффузия, что теперь, в XXI веке, человек определяем другими параметрами: где ты платишь налоги и на каком языке говоришь и думаешь. Всё остальное – просто пережитки.
– Кстати, в Ростове-на-Дону, где мы с тобой родились и выросли, где в последний раз – двадцать лет назад – я брала у тебя интервью, национальный вопрос уже был размыт. Как минимум, из-за того, что национальностей вокруг было несколько десятков – запутаешься. Тем не менее из Ростова ты совершил побег в Москву.
– Да не было никаких побегов, Катя, клянусь тебе! Передо мной в юности не стояла задача куда бы то ни было, в том числе и в Москву, уехать из Ростова. Впрочем, я и театром не собирался заниматься.
– Я всегда была уверена, что ты поехал в Москву за возможностями именно в области театра.
– Слушай, мой последний спектакль в Ростове назывался «Женитьба», он вышел на сцене ростовского ТЮЗа. И на него ходили толпы обезумевших подростков, которые кидались друг в друга и в артистов алюминиевыми банками из-под пива и орали. А мы с художником [Николаем] Симоновым ходили по залу, били их по голове и шипели: «Суки, заткнитесь!» Это был театр детской скорби. И у меня после этого с театром – как отрезало. Я продолжал работать там, где мы с тобой раньше работали вместе, на ростовском телевидении. В 1998 году я получил «Тэфи», а потом меня пригласили на «Авторское», то есть в Москву.
– Тогда российское телевидение – на пике. Это действительно «важнейшее из искусств» в стране.
– Да, в 1990-е телевидение действительно было искусством. До какого-то момента там можно было создавать совершенно невероятные вещи. Я на ростовском телевидении делал телеспектакли, арт-программы, если помнишь, у нас был МАРТ – «Молодежная артель ростовского телевидения», для которого я сделал одну работу, вошедшую в антологию европейского видеоарта. А вскоре телевидение стало максимально коммерциализироваться и упрощаться. И всё сломалось.
– Как это произошло, когда – ты можешь вспомнить?
– Это началось в 1995–1996-м.
– То есть после убийства [телеведущего Владислава] Листьева и установления диктатуры рекламы?
– Да. Просто в регионы это докатилось позже: нам стали сокращать вещание. Вначале регионы этому сильно сопротивлялись. Но как? Тем, что мы делали, нельзя было заполнить весь объем регионального эфира. В итоге бо́льшая его часть отдавалась под бесконечные баяны, посиделки с местными деятелями в бессвязном формате, каких-то чтецов, снятых на VHS.
Москва стала «выжимать» их из эфира, а освободившееся время забирать себе. Поначалу мы даже радовались, потому что всю эту допотопную херню смотреть было невозможно. Но постепенно центр забрал себе весь эфир, оставив Ростову только дециметровый канал, на котором я работал к тому времени «местным Дибровым»: у меня были каждодневные часовые эфиры, приходили гости, была жизнь. А потом и это схлопнулось.
– Думаешь, это такой хитрый план: убить региональное вещание, чтобы всё важное инициировалось только из центра?
– Да нет. Был план как можно быстрее заработать как можно больше денег. Главная же битва тогда шла за рекламные блоки до и после новостей. Всё остальное – гори синим пламенем. Это никого не волновало – вот тогда я и поехал в Москву. Но я сразу сказал Анатолию Григорьевичу Малкину, хозяину АТВ, что я занимаюсь искусством, а вот это всё – ваши «Времечки» и прочая скукота – мне неинтересно.
– И Малкин согласился?
– Да. У меня был проект «Уроки русского», для него мы снимали с Аллой Демидовой многосерийный фильм «Темные аллеи». И это было действительно художественное вещание. И на это, представь себе, давали деньги. Это был 2000 год. В 2001-м всё закончилось и началась эпоха большого гламура на ТВ. Художественное вещание, какие-то эксперименты, что-то некоммерческое уже вообще никого не интересовало. Только бабки.
– А в театр как раз пошел воздух?
– Театр, чтобы ты понимала, тогда никому на хрен не был нужен. Он не рассматривался никоим образом как медиа.
– Ты думаешь, театр стал медиа только потому, что умерло телевидение?
– Телевидение не то чтобы физически умерло, нет, оно сдохло сущностно, по идее. То телевидение, которое сейчас вещает из ящика, полностью оторвалось от жизни и к реальной картине мира не имеет никакого отношения. Это не кривое зеркало, это вообще не зеркало, там нет никакой амальгамы. Это какая-то взвесь из чуши, вранья и насилия. Таков финал пути, который начался с эпохи больших денег и большого гламура 2000 года.
– В 2000 году о деньгах в театре даже смешно было говорить.
– Их совсем тогда не было, поэтому можно было не просто всё, а всё – в кубе. Первое, что мне предложили в театральном плане в Москве, – сделать читку в Центре драматургии Казанцева и Рощина. Я сделал. Мне говорят: «А спектакль давай сделаем?» Это был «Пластилин». С него всё и пошло.
– Успех телевидения девяностых и двухтысячных во многом объясним новой кровью, которая хлынула туда после отмены цензуры и смены поколений. Отступили люди, не умевшие говорить без бумажки и воспринимавшие ТВ исключительно как «массового агитатора и пропагандиста», а не как способ просвещения и реализации смелых художественных замыслов. Каким был в тот момент российский театр?
– Он был в глубочайшем кризисе. В начале двухтысячных в театре начала происходить смена поколений. Представь, все артисты, которые работали в спектакле «Пластилин», были или никому не известными, или безработными: Марина Голуб, Толя Белый, Вика Толстоганова, Виталий Хаев, Андрей Кузичев, Дима Ульянов… Их никуда не брали! Все труппы были утрамбованы какими-то пожилыми народными артистами.
– Всё-таки московские театры всегда были забиты публикой. Нельзя сказать, что кризис, о котором ты говоришь, остро чувствовался снаружи. Но пришли молодые режиссеры твоего склада и сказали: кризис. И тогда это стало очевидным.
– Театр осознал необходимость смены крови на молодую где-то в начале 2000-х. Знаешь, для чего мы были нужны? Для смены поколения зрителей. Залы действительно были забиты, но в театр не ходила молодежь.
– Вот те ребята из ростовского ТЮЗа, которые кидались банками?
– Да. Они же подросли, но в театр им было идти неинтересно. И главный вопрос 2000-х – как сделать так, чтобы их поколение, новые зрители стали ходить в театр. Тут появились условные «мы». И наши спектакли действительно повлияли на то, что появилась публика помоложе. И тогда впервые применительно к театру стали произносить слово «модный».
– Когда тебя впервые назвали «модным режиссером»?
– После «Откровенных полароидных снимков» [2002], и сначала меня это страшно раздражало. Ведь «модный» – значит, сегодня ты модный, а завтра… Временное такое определение, на сезон. А потом смотрю: один год – я модный, второй – модный, третий… Это уже не просто модный, это уже как Лагерфельд, черт побери! Ну, о’кей.
– Ты можешь четко определить, когда театр стал важной частью жизни российского общества?
– Это эффект последних нескольких лет. «Медведевская оттепель».
– Меня всегда удивляет этот термин. Когда говорят «медведевская оттепель», я думаю, ну какая оттепель? Ведь по большому счету было всё то же самое.
– Не буду спорить, согласен. Но для себя я этот период определяю как время, после которого случились протесты 2011–2012 года.
– Я помню, как мы с тобой оказались рядом на акции «Белое кольцо»[32]. Мы стояли, взявшись за руки. И спроси ты меня тогда: а зачем ты пришла, не уверена, что смогла бы ответить. Хорошо, что сейчас все эти вопросы задаю тебе я, а не наоборот.
– Я постараюсь ответить за нас обоих честно и понятно: у тех, кто выходил на улицу зимой 2011/12, у нас с тобой была какая-то иллюзия, что мы не говно, что нас надо учитывать, что мы хотим отмены выборов, которые были не выборами, а подтасовками, что мы хотим перемен. Хотели. Потому что в итоге всё вышло наоборот. За одним исключением. Мне кажется, самый важный эффект от нашей бурной политической жизни той зимой – возможность узнать о взглядах друг друга. Вот я никогда не знал, что ты имеешь те же взгляды, что и я. Мы никогда об этом не говорили!
Но вдруг выяснилось, что огромное количество людей думают и чувствуют так же, как я, и эти люди прекрасны: у них хорошее образование, они умны, они занимаются чем-то важным и осмысленным. У нас одна группа крови, одни мысли. Это еще было ощущение себя некой силой. Потому что одиноко быть песчинкой, а тут оказалось: как же нас много. Разумеется, этому очень способствовали социальные сети, где мы начали обмениваться в том числе своими политическими взглядами и мыслями.
– Другое ощущение от Болотной связано с тем, что все эти люди «одной крови» проживают внутри Садового кольца. За МКАДом их почти нет, а в российских регионах – совсем нет. В нашем родном Ростове на митинг протеста вышли двадцать человек. И их всех тихо повязали.
– Совсем не тихо. Тогда арестовали нашего друга режиссера Сашу Расторгуева. И я занимался тем, чтобы его вытащить: я звонил [Федору] Бондарчуку, Бондарчук звонил кому-то из силовиков в Ростове. Мы все вместе спасали Сашу, то есть занимались таким вот гражданским активизмом.
– А потом всё сдулось. Почему?
– От бесполезности. Мы люди мирные, и мы внутри себя не допускаем крови и насилия. Я, как буддист, насилие не могу допустить. И если начнется война, я на войну, конечно, пойду, но буду раненых таскать, а стрелять ни в кого не смогу. Той зимой мы от исчерпанности средств поняли, что мы захлебываемся. Нас мало, а их – много, нам даже точную цифру сказали, восемьдесят шесть процентов. Нам-то казалось, что мы кольцо замкнули, вон нас сколько! Это была иллюзия.
– Кстати, многие потом вспоминали именно «Белое кольцо» как лучшую акцию протеста. Почему?
– Потому что не было никаких ораторов. Знаешь, у меня все эти люди, которые вставали на сцену и что-то там говорили, вызывали раздражение. Даже покойный [Борис] Немцов. Мне казалось, что как только они выходили и начинали выступать, они начинали нас использовать: тебя, меня, нас.
– Это прививка от политической пропаганды, которую мы получили в 1990-е?
– Черт его знает. Из 1990-х я, скорее, вынес совершенно другое: то, что всей этой митинговой демократией, наоборот, можно что-то решить. Всё-таки путч и последовавшая победа «сил добра» над «силами зла» – это был эмоциональный и физический выбор людей: люди вышли, легли под танки и остановили реваншизм. А в 1989-м на митинг на Охотном Ряду вышел миллион человек! А в 1991-м российский флаг через всю Москву несли несколько миллионов!
– Мы на это смотрели из Ростова, по телевизору. И это казалось невероятным.
– Ты смотрела по телевизору, а я, тоже в Ростове, участвовал во всём этом. Я же тебя старше. Я тогда работал на телеканале «Южный регион», который был частным, а на государственном Дон-ТР все камеры опечатали, потому что официально Ростов-на-Дону поддержал путч. И вот мы с моим товарищем Володей Манойленко сперли камеру из склада частного телеканала и пошли снимать всё, что происходило в те дни в нашем городе. Потом из этого сделали фильм «Три дня несвободы», который у нас, даже не отсматривая, взяли в эфир «революционного» Второго телеканала!
Мы шли с камерой по городу, я ногой открывал двери в кабинетах горкома и обкома партии, где не было никого, а во внутреннем дворе летал пепел от сожженных бумаг. Мы брали интервью у людей на улице, а они от нас шарахались. Мы записали тогда интервью [в 1991-м председателя ростовского горисполкома] Владимира Федоровича Чуба. Благодаря этому интервью, его потом сделали губернатором, потому что он дал такое проельцинское интервью, которое добрые люди показали [Борису] Ельцину со словами: «Вот! Он вас всё-таки поддерживал!» А председателя ростовского обкома [Леонида Иванченко] не посадили в тюрьму только потому, что он мне в интервью активно ГКЧП не поддержал, а так, промямлил что-то…
– А ты, значит, ни секунды ни в чем не сомневался. И семья твоя и друзья?
– Да.
– Почему?
– Перестройка, наверное, повлияла.
– Перестройка на всех по-разному повлияла. Для целого поколения вчерашних советских граждан перестройка – это травма.
– Для меня это был свежий воздух. Свобода. Куча новой информации, которая вывалилась мне на голову с перестройкой: я прочитал Платонова, Булгакова, Шаламова и дальше по списку; я поехал за границу в первый раз.
– Как тебе удалось?
– В новой жизни моя повышенная стипендия на физтехе ростовского университета и папина зарплата высококвалифицированного хирурга сравнялись, а потом моя стипендия стала выше. С экономической точки зрения всё это было безумием, конечно, всё трещало и валилось. Но я получал стипендию, плюс какие-то деньги за научную работу, за кружки, в которых преподавал. И я смог выехать за границу в самом начале 1990-х, можешь себе представить? Первое, что я увидел, – Лондон. Я чуть не умер от шока. Потом – Мальта, где у меня случился первый серьезный роман. Потом – Копенгаген, Амстердам, то есть самые невероятные места. Париж, понимаешь?
– Словом, заграница тебе понравилась.
– Я понял: вот она – свобода. И есть шанс, что всё это будет и у нас!
– Это, наверное, ключевой момент: ты выезжаешь за границу, видишь, как там всё классно, но ты не хочешь оставаться, а хочешь, чтобы у нас было не хуже.
– А что тут необычного? Я сразу понял, что да – это мощная культура, невероятное искусство, огромная традиция. Надо возвращаться и делать свою страну мощной и сильной. В общем, Россия будет свободной. Тогда это была самая главная эмоция.
– Многие, описывая свой опыт девяностых, говорят о чувстве униженности.
– У меня такого не было, Кать. Родители, возможно, чувствовали что-то подобное, потому что для взрослых это было травмой: всё, что составляло их жизнь, карьеру, успех и опору, вдруг превратилось в ноль. Мой папа – врач, хирург, поэтому он всегда был востребован. Но он приходил домой и с ужасом рассказывал про закрывающиеся заводы, институты, «ящики». Истории про «ящики» производили на меня наибольшее впечатление, потому что на таком «ящике» я, студент-физик, проходил практику.
«Я его умолял: Кира, иди в медицину, иди в науку, я помогу, я всё для тебя сделаю, всё! А он – нет, ни в какую, только театр. Но школу он закончил с золотой медалью и поступил на физфак. И факультет тоже закончил с красным дипломом!» Папа Кирилла Серебренникова, высокий, статный, очень, как говорят в Ростове, интересный мужчина, Семён Михайлович Серебренников – один из лучших хирургов страны. Он очень гордится сыном. И очень волнуется. Наше с ним интервью записано в феврале 2018 года, в самый разгар «театрального дела»: сын под домашним арестом, впереди – неизвестность, мама Кирилла, Ирина Александровна, еще месяц назад – активная и бодрая женщина, слегла и тяжело болеет. Квартира у Серебренниковых маленькая. Вот и выходит, что пока я беру интервью у Семёна Михайловича, Ирина Александровна находится тут же, в этой же комнате: во время интервью она лежит на кровати с закрытыми глазами – уже несколько дней она не приходит в сознание. Я сижу на краю ее кровати. Семён Михайлович – в кресле напротив, почти вплотную ко мне. Мы смотрим школьные и университетские фотографии Кирилла. Я спрашиваю Семёна Михайловича: могло ли случиться так, что Кирилл не стал бы никаким режиссером, а пошел бы в науку, стал бы, например, физиком-ядерщиком. Качает головой. И горько смеется: «Нет, Катя, нет и нет. Тем летом, после окончания университета, он пошел на практику на секретный завод, где один мой знакомый, серьезный такой человек, был руководителем. И этот мой знакомый потом мне перезванивает: “Пришел твой. В шортах! Но парень толковый, я его взял”. Так Кирюша оказался на заводе, его очень ценили там. А в университете сразу же предложили диссертацию писать. Но вот он походил на этот завод месяц, а потом приходит домой и говорит: “Мамочка, папочка, я делал всё, что вы хотели: поступил, учился, закончил. Но теперь я буду делать то, что я хочу, – я ухожу с этого завода”. Я говорю: “Чего ты, Кирилл? У тебя там все условия!” А он отвечает: “Я не могу жить в тюрьме, там же везде решетки: выйти – время, войти – время, не могу я, папа. Я хочу быть свободным!”» Семён Михайлович замолкает и опускает голову. Вся эта история выглядит зловещей в свете нынешних событий.
Мы сидим в тишине. Слышно, как дышит Ирина Александровна. Я рассматриваю на стене почетные грамоты, дипломы Кирилла, вырезки из интервью, его фотографии. На полке – ТЭФИ, первый ростовский ТЭФИ, привезенный Серебренниковым. И опять мысленно возвращаюсь к нашему интервью, к его последнему свободному интервью.
– Родители, я хорошо это помню, говорили мне: «Никакой тебе не нужен театр! Надо заниматься тем, что сможет тебя прокормить. Вот, иди на военный завод. Это всегда будет нужно стране». Но первыми в той стране закрылись военные заводы. А я зарабатывал на жизнь в кружке самодеятельности. Потом открылись первые частные театры, в Ростове это был театр «Ангажемент», и я принес домой свой первый, кстати, достаточно большой, театральный гонорар. В общем, многое вдруг перевернулось с ног на голову, а в каких-то областях жизни вообще «бесы» полезли из всех щелей.
– Например, «казачьи погромы» в Ростове [в 1993 году]. В нашем дворе посылали к ним гонца «узнать, чего хотят».
– А я до этих погромов, между прочим, делал на Дон-ТР передачу «Казачий круг».
– Кирилл, это сенсация.
– Да. Как ты понимаешь, делать передачу «Казачий круг» с таким не очень славянским лицом, как у меня, было нельзя. И у меня был договор с прекрасной журналисткой Олей Никитиной, что она всё снимает, а я только монтирую. Потому что, если я поеду на съемки, они меня прямо там и погромят. Но потом они погромили полгорода, в частности, общину кришнаитов, с которыми я дружил. Она находилась в Батайске[33]. Мне очень нравилось там бывать, мои родители туда любили приезжать, потому что там была очень вкусная веганская кухня – редкость по тем временам.
Помню, как один из гуру, который к ним приезжал, оказался бывшим артистом из Лондона. У него я увидел первый портативный компьютер, он мне рассказывал про лондонский театр. В общем, мы с ним часами говорили. И вот эту общину разгромили, людей избили казаки. Я сам мог в этой бойне оказаться – я уехал за полчаса до того, как они пришли. После этого я отказался делать передачу про их «Казачий круг» – из принципиальных соображений.
Впрочем, сами казаки тоже как-то ушли на второй план. И больше, по крайней мере в Ростове, они себе такого не позволяли. Видимо, им объяснили, что город специфический, людей «нетитульной» нации здесь сильно больше остальных.
– Кто не еврей, тот армянин…
– Да. И не надо тут такое устраивать. Потому что еще есть такая национальность – криминалитет. И там никто не хотел кипиша. Казакам это как-то объяснили – и они убрались.
– Очень ростовская история. Скажи, свой сериал «Ростов-папа» ты снимал, чтобы объяснить гражданам остальной России вот это, нечто очень тонкое, про наш город? Это объяснение в любви?
– Сейчас я понимаю, что снимал его, скорее, из ложных побуждений. Мне хотелось как-то перебить криминальную славу Ростова. Она мне казалась ужасной. И я говорил всем продюсерам: «Я хочу сделать сериал, где Ростов – папа, а все истории – про любовь». Они отвечали: «Да, да, как интересно». Но выяснилось, что никто не хочет про любовь в Ростове. Все хотят про криминал.
– В известном смысле в Ростове сильна любовь к криминалу. В моей юности у любой девочки из приличной семьи должен был случиться роман с бандитом. А сами бандиты в городе были овеяны каким-то романтическим ореолом. И, что удивительно, они были очень близко. Не где-то там какие-то криминальные авторитеты, а твои соседи, знакомые. Этажом ниже офиса, в котором располагалась ростовская газета «Город N», где я работала в начале девяностых, например, был офис бандитов. И каждый день мы с ними ездили в лифте.
– У меня близкая встреча произошла еще раньше, потому что моя мама была учительницей. И так получилось, что она была любимой учительницей у братьев Сагамоновых, которые потом стали самыми серьезными и известными ростовскими гангстерами. Я их помню вблизи! Они сидели у нас на кухне и уроки делали. Потом кого-то из них убили, кого-то – посадили. Все это, несмотря на шок, было делом привычным. Мы к этому были ближе, конечно, чем москвичи.
– Дождутся ли зрители твоего фильма «Чайковский», в финансировании которого три года назад тебе отказал Минкульт? Или это закрытый проект?
– Он не закрыт. Он отложен до лучших времен. Я по-буддистски к этому отношусь: со временем всё, что нужно, – произойдет, что нужно, – случится. Что не нужно, – не случится.
– То есть сценарий ты менять не будешь?
– Почему же, я буду бесконечно его менять и переписывать.
– Я имею в виду переписывать, идя навстречу министерству культуры, которое высказалось в том духе, что Петр Ильич Чайковский не может быть геем, потому что он – великий русский композитор. А это взаимоисключающие вещи.
– Да, в этот момент я засмеялся. Им мой смех в лицо не понравился. Так закончилась эта история. Ориентация Петра Ильича Чайковского оказалась скрепой.
Нет, это я переписать не смогу. Я против лжи.
– Вфильме «Лето», за который ты теперь взялся, врать не надо. Даже удивительно, что до сих пор никто не экранизировал какой-нибудь сюжет о Викторе Цое. Потому что Цой – это любовь, сила, вера и, конечно, самый главный кумир поколения 1990-х, то есть нашего.
– Ты знаешь, я слушал другую музыку.
– Какую?
– Я был «алисоманом».
– Но правда, как ты решился подступиться к нему?
– Мне очень понравилась история. Очень чистая, очень искренняя. Она о последнем доперестроечном лете. На дворе – финал застоя, время, которое наше с тобой поколение отчетливо не помнит: мы так или иначе застали энергию перестройки, но почти ничего не знаем на собственном опыте про «поколение дворников и сторожей» – нас таких же «протестных», но тридцатилетней давности.
Это поколение потом сметет перестройка – от них почти ничего не останется, но пока на дворе лето 1983 года. Все живы, прекрасны, счастливы. И Майк Науменко, и Борис Гребенщиков, и Виктор Цой. Всё еще только будет, но пока ничего не произошло. Время как будто замерло на минуту, и в этом застывшем времени они занимаются тем, что любят, – музыкой. Такая подвешенность безмятежного счастья.
– Как снимать эту безмятежность, зная, как потом всё закончится?
– Надо уметь забывать финалы, Катя. И я забываю.
Сейчас, в 2019 году, перечитывая это интервью, зная, чем всё обернется, но еще не зная, чем закончится, я пытаюсь угадать за Серебренникова: он сможет забыть этот финал? Или попробует его перепридумать?
Помню, как на закрытии сезона «Гоголь-центра» летом 2017 года, когда уголовное дело уже было открыто, обыски уже прошли, Малобродский[34] уже в СИЗО, а до ареста Серебренникова остается меньше месяца, Кирилл сказал: «Главное, во имя чего мы тут собрались, – это искусство. Искусство и любовь. Всё остальное – вторично. Всё остальное, даже самое горькое, мы не забудем, но – простим». И всё. Ни реваншизма, ни жажды мести. Меня тогда это поразило, как поразит потом способность Серебренникова, отстранившись от внешних обстоятельств несвободы, остаться свободным в творчестве даже под арестом. В 2017 году, уже находясь вначале под следствием, а затем – под домашним арестом, Серебренников выпустил оперу Александра Маноцкова «Чаадский» в Московском театре «Геликон-опера», балет «Нуреев» в Большом театре, снял сложный и потрясающий фильм в Африке «Гензель и Гретель» для Штутгардской оперы, поставил в «Гоголь-центре» «Маленькие трагедии» Пушкина, доделал художественный фильм «Лето». О том, каким будет это «Лето», весной 2017-го мы еще не знали. Но Серебренников – предполагал. В этом предположении о том, какими были Цой и Науменко, разумеется, много личного. Но – опять же – я пойму это потом, ретроспективно.
Кирилл Серебренников: Я хочу снимать про людей счастливых, которые вопреки официальной государственной херне занимались чистым творчеством: сочиняли музыку потому, что не могли не сочинять.
Мне это близко, потому что они практически делали то, что сейчас делаю я, все мы в «Гоголь-центре». Вопреки всему мы делаем современный, живой и антиофициальный театр. Мы занимаемся культурой, которая неприемлема на государственном уровне – так же, как в 1983 году была неприемлема рок-культура.
Российская премьера «Лета» состоялась в «Гоголь-центре». Ну а где еще? Всё было так, как Кирилл Серебренников придумал: тонкая, нервная и нежная история о нескольких очень юных музыкантах и тех, кто им дорог. Все герои – молоды, влюблены, бесконечно талантливы и (мы знаем) скоро умрут.
На этой премьере случилась очень странная штука. Зал на тысячу человек плакал. Не коллективно. Как-то поодиночке. Не прослезился, а именно рыдал. Местами в голос. Никто не встал до тех пор, пока не кончились все, до единого, титры. А потом выходили, цепляясь друг за друга, стараясь как-то незаметно доплакать другу в плечо.
У меня нет объяснения, почему так вышло. Я не могу в точности сказать, по какой причине плакала я, смотревшая «Лето» в третий раз. Никто из тех, с кем я говорила об этой премьере, не сказал ничего, что внятно описывало бы состояние этого вечера. Возможно, мы оплакивали свою юность. Возможно, плакали по своей, и, разумеется, Кирилла, свободе. Может быть, это были слезы о том, чего уже никогда не будет – смелости, молодости, множества открытых дорог. А может, мы плакали по «утраченному времени». По какому-то повороту, который все мы каким-то образом пропустили – и теперь уже назад не повернешь.
– Мне кажется, по сравнению с Цоем, Науменко и БГ образца 1983 года, ты сильно преуспел. У тебя в подчинении целый театр, ты главный театральный трендсеттер страны.
– Ты сейчас про какую страну говоришь? Я же в стоп-листах на некоторых каналах.
– То есть как?
– Про наш театр нельзя говорить. Канал «Культура» отказывается присылать камеры на наши премьеры, даже на самые громкие. Про мой спектакль, в котором, допустим, занят какой-нибудь артист, связанный с Первым каналом, на этом канале будут говорить, не упоминая фамилии режиссера. Я не знаю, какие на то причины – политические или неполитические. Это даже неважно, но это уже давно длится.
– Ты ставишь спектакли в Москве, Вене, Берлине, Риге, Штутгарте, но тебя нельзя показывать по телевизору, ты не признан народным или, на худой конец, заслуженным артистом, не награжден премией?
– Нет, они подозрительно относятся ко мне. Начальство.
– Но они не представляют угрозы для твоего творчества?
– Пока есть возможность работать, я работаю. Это ужасно интересно. В «Гоголь-центр» вложено много сил и, кстати, государственных денег. У нас потрясающая аудитория. Люди приезжают из разных стран мира, где, например, я ставлю спектакли, и спрашивают: «А где вы эту публику взяли, где вы ее собрали?» А я им говорю: «У нас каждый день так». У нас просто суперпублика, лучше нет. И это, пожалуй, сейчас мое самое важное достижение, которое очень хочется сохранить.
– Но это опять же Москва. Что делать людям в Ростове, Казани, Перми, где нет «Гоголь-центра»?
– Я не знаю. Если ты имеешь в виду, можем ли мы им показывать спектакли «Гоголь-центра», то нет, не можем. Нам запрещено гастролировать, государство нас не поддерживает.
Для того-то на самом деле и нужно министерство культуры, чтобы зрители всей страны могли увидеть спектакли, например, «Гоголь-центра». Но министерство культуры не дает денег на нашу гастрольную программу. Другим театрам – дают, а наш – вычеркивают. Нас возят только частные спонсоры на свой страх и риск. И уже на местах им вставляют палки в колеса, срывают гастроли, устраивают провокации. Видимо, чтобы мы не распространяли тлетворное влияние современного театра.
– Ты часто жалеешь, что пять лет назад принял приглашение [главы департамента культуры Москвы Сергея] Капкова и возглавил театр? Что взвалил на себя ответственность не только за то, что делаешь сам, но и за большой коллектив?
– Тогда это было вполне логичным развитием событий. До этого долго шли разговоры, что это поколение «молодых модных режиссеров не хочет, черт возьми, брать на себя ответственность за судьбы нашего великого репертуарного стационарного театра». Не хочет. «Они хотят творить и безответственно порхать. А вот кто будет заниматься вот этим всем хозяйством?» – говорили, поднимая бровь в нашу сторону, старшие товарищи.
И на паре таких дискуссий я сказал: «Да вы дайте! Вы же не даете этот театр никому!» Я действительно хотел попробовать сделать театр как художественный проект. И когда Капков сделал мне предложение, там было несколько вариантов, но единственным, на котором мы сошлись, оказался Театр имени Гоголя.
– Ты действительно считаешь, что метод Капкова – забрать у старых и отдать молодым – был единственно возможным в тот момент для развития культурной жизни Москвы?
– Нельзя было по-другому. И вообще – нельзя. Но дело не в старых и молодых. Старые старым рознь – есть [худрук МДТ Лев] Додин и есть [бывший худрук Театра имени Гоголя Сергей] Яшин. И молодые бывают дебилами. Проблема в ценностях, в выборе пути, в отношениях со временем.
– Существует же традиция, преемственность поколений.
– Посмотри по сторонам, Катя, где и как она у нас существует? У нас со времен Советского Союза высоких руководителей только вперед ногами с занимаемых постов выносят. В нашей стране люди представляют себе сменяемость так: надо ждать еще лет пятьдесят-семьдесят, пока кто-то очередной великий состарится и умрет. Но за это время ты и сам состаришься и хорошо, если не умрешь. Это абсурдно. Тем более если мы претендуем на то, чтобы называться гражданским обществом, в котором законы не родовые, не тейповые, а какие-то другие.
В идеале надо тренироваться говорить «я устал, я ухожу». И однажды уметь это сказать. Но пока так получилось только у одного человека. У Ельцина.
– Ты поставил спектакль «Отморозки». Он в том числе о демонах, которых породила демократическая революция 1991 года. Автор «Отморозков» Захар Прилепин теперь политрук в батальоне на востоке Украины. Можно было предположить, что дело так обернется?
– Спектакль не о 1991 годе, не о демонах, а о поиске справедливости и о подростковом желании за нее умереть. Предположить всё, что «станет с Родиной и с нами», было конечно нельзя. Но Прилепин никогда не скрывал того, что он нацбол, и он в общем-то действует последовательно. И говорит, и пишет то, что говорил и писал всегда. Я к нему по-прежнему отношусь с уважением. Хотя многие его поступки и мысли решительно не разделяю. Единственное, на что я надеюсь, что он не будет убивать людей.
– На войне? Это иллюзия.
– Да. Но мне, как буддисту, хочется в это верить.
– Вы обсуждали с ним это?
– Нет. Я позвал его участвовать в проекте «Похороны Сталина» – он не согласился. Захар Прилепин для меня навсегда останется автором, с которым я работал и сделал один из своих лучших спектаклей.
– Насколько тяжело ты переживаешь раскол, который случился между людьми: прежние приятели теперь не разговаривают друг с другом, не подают друг другу руки?
– Это самое болезненное, что с нами случилось. Это вечный запах гражданской войны, главная болезнь нашей страны. Что бы мы ни делали, куда бы ни шли, блядь, всё время гражданская война получается: маленькая, большая, средняя, на местах или в масштабе города, страны, региона…
– Многие ли люди стали для тебя за это время нерукопожатными?
– Нет. Я себе это запретил. Если не хочешь гражданской войны, задуши эту войну вначале в себе. Это не значит, что я всех люблю, но я всех уважаю. И сочувственно отношусь даже к мерзавцам, полагая, что они совершают гадости, за которые им потом будет либо очень стыдно, либо с ними что-то случится. Вот так примерно я думаю о тех, кто занимается госпропагандой сейчас. Это не может пройти бесследно. Люди в токсической ситуации находятся – за это положено возмездие.
«Кто вас сейчас поддерживает?» – спрашиваю я восьмидесятичетырехлетнего отца Кирилла Серебренникова, Семёна Михайловича, в феврале 2018 года, через полгода после ареста сына. «Меня?» – переспрашивает он. И, кажется, он удивлен. Подумав, отвечает: «Никто. Вот она, моя родная». И показывает на маму Кирилла. Ирины Александровны не станет через несколько дней после этого интервью. Серебренникова отпустят в Ростов из-под домашнего ареста уже после смерти мамы, забрать ее прах. Я спрашиваю Семёна Михайловича: «Вы сейчас часто разговариваете с Кириллом?» – «Как всегда, каждый день, он звонит утром и вечером», – отвечает. «Что вы ему говорите?» – «Мужества и терпения, сынок. Мужества и терпения. Справедливости – не существует».
– Тебя не пугает, что ты, возможно, до справедливого возмездия не доживешь?
– Я об этом не думаю. Я эгоист. Я думаю о себе и о том, чем занимаюсь. И в этом я совершенно не хочу опираться на ненависть. Потому что ненависть – это вовсе не «ярость благородная», как нас учили. Это разрушительное чувство – я эту эмоцию у себя вычеркнул. Я уважительно отношусь к любому живущему существу и не хочу причинить любому существу вред.
– Есть мнение, что, дескать, русский народ в целом, то есть те восемьдесят шесть процентов, о которых мы говорим, довольны тем, что происходит в стране. Довольны властью, медициной, образованием и экономикой. И никакие перемены им не нужны.
– Возможно, что это так.
– Получается, что мы лишние?
– Нет, почему, не лишние. Все большие изменения в мире осуществляются активным меньшинством. Пассивному большинству всегда охота, чтобы ничего не менялось. Только это совершенно не значит, что мы должны перестать стремиться к переменам. Мы должны продолжать делать то, что делаем: ты пишешь честные тексты на темы, которые тебя волнуют. Я ставлю спектакли, которые считаю нужными. Всё. Это то, что мы можем и должны делать.
– Что, если однажды в твой театр с уникальной публикой, с поражающим воображение репертуаром придет государство в лице охранителей морали и скажет: «Что это у вас тут за гнездо?»
– Значит, всё закончится.
– Но как? Это же твой ребенок, тобою выращенный.
– Я знаю, что всё закончится, хоть и стараюсь забывать финалы. Но нельзя забывать, что всё не бесконечно. Вообще жизнь театра – десять лет.
– «Гоголь-центру» в феврале исполнилось пять.
– Да. Значит мы прошли половину пути. Прекрасно!
У этого интервью был «хвостик», который во время редактуры отрезали: эмоционально, упаднически, никакого информационного смысла, читатель бросит читать. Вот как на самом деле заканчивалось интервью Кирилла Серебренникова:
– Что, если однажды в твой театр с уникальной публикой, с поражающим воображение репертуаром придет государство в лице охранителей морали и скажет: «Что это у вас тут за гнездо?»
– Значит, всё закончится.
– Но как? Это же твой ребенок, тобою выращенный.
– Я знаю, что всё закончится, хоть и стараюсь забывать финалы. Но нельзя забывать, что всё не бесконечно. Вообще жизнь театра – десять лет.
– «Гоголь-центру» в феврале исполнилось пять.
– Да. Значит мы прошли половину пути. Закончится всё – это не трагедия. У нас же за жизнь несколько жизней может быть, несколько карьер. Закончится театр, я чем-нибудь другим займусь. Мне было бы очень интересно заняться архитектурой. Правда, это требует большого погружения.
Во время задержания, ареста и судебного разбирательства, пока все цитировали это наше с Кириллом «последнее свободное» интервью, я часто вспоминала именно «отрезанный хвостик». Мог ли он знать? Конечно, нет. Мог предчувствовать? Возможно. Способность знать будущее наперед, но не делать ничего, чтобы предотвратить его, – свойство гениев, людей, которые собой протягивают нить между будущим и настоящим. Об этом, кстати, спектакль Серебренникова «Барокко», полностью придуманный и поставленный режиссером из-под домашнего ареста.
Интервью седьмое Светлана Сорокина
Светлана Сорокина – одна из лучших информационных ведущих 1990-х, трижды лауреат премии ТЭФИ. Возможно, тут можно было бы поставить точку. Но Сорокина – это еще «В круге света» на радиостанции «Эхо Москвы» и «Сорокина» на телеканале «Дождь», это студенты в Высшей школе экономики, это взрослая и красивая дочь Антонина (Тося), это «Болдинские чтения» и самые смешные в мире анекдоты. Сорокина – лучшая рассказчица из тех, кого я знаю. И – одна из самых достойных женщин на свете. Сорокина – это человек, к которому я бегу советоваться по самым разным вопросам. И чьему мнению и вкусу доверяю безоглядно. Я прекрасно знаю, она ненавидит интервью. И я невероятно горжусь тем, что для меня она сделала редкое исключение.
[35]
– Мне кажется, будет правильно, если в самом начале интервью мы обозначим время, которое лично для вас определяется как лучшее и самое продуктивное для телевизионного журналиста, тележурналистики в нашей стране.
– Для меня, наверное, речь идет о 1987–2001 годах. Хотя, по справедливости, еще несколько лет после 2001-го НТВ продолжало жить, дышать, выдавать какую-то отличную от других картинку. Надо признать, это тоже было временем расцвета. Но это уже не моя история.
– Вы были лицом, одним из лиц этого «золотого века». Часто горюете по, скажем так, утерянным возможностям?
– Нет. Я вообще не люблю вспоминать. И не люблю оглядываться. Не тот темперамент. Что было, то было. И слава Богу, что это было в моей жизни.
Все мои жизненные развилки – они очень определенные. Ничего не переиграешь и не переиначишь. Да я и не хотела бы.
– Но есть же люди, в том числе и из вашей прошлой жизни, выбор которых (и профессиональный, и человеческий) не стоил им карьеры. Вы как-то себе самой это объясняете? Ведь со многими из них вы рядом тысячу лет проработали, с кем-то даже дружили.
– Я без истерики смотрю на эти человеческие изменения. Не люблю драматизировать. В конце концов, всегда есть категория людей, которые нужны любой власти. И дело не только в профессионализме, но и в определенной человеческой гибкости, которую они могут проявить. Если мы не так гибки по-человечески и по-граждански, то это наши проблемы. Ну, значит, мы не можем. А есть люди, которые могут. Что тут обсуждать?
Другое дело, что у некоторых из этих людей, уверена, есть свой домашний ад и своя рефлексия по поводу того, что тоже было в их судьбе (например, тогда, когда наша судьба была общей). Мне кажется, у каждого человека есть свой набор переживаний. И, быть может, когда эти люди оглядываются назад, им больно. А может, они и не оглядываются вовсе.
– Если оглянуться как следует, то мы с вами окажемся году, скажем, в 1986–87-м. За окном – Ленинград. А вы – озеленитель, так?
– Не совсем. Мы занимались инвентаризацией исторических садов и парков. Между прочим, я на этом поприще даже сделала небольшую карьеру: стала ведущим специалистом, училась в аспирантуре, собиралась засесть за научную работу. Жила спокойно: работала, ходила в театры, общалась с друзьями, была замужем. Но случилось нечто, совершенно с моей волей или какими-то моими устремлениями не связанное: тридцать лет назад, то есть летом 1985-го, Ленинградское телевидение объявило набор в студию дикторов.
Я телевизор не смотрела. Но об этом мне рассказала моя мама. Мамам все дети кажутся красивыми и умными. Мама спросила: может, интересно? Я посмеялась. А потом о том же самом мне рассказала секретарь директора нашего предприятия, и я ей говорю: ну о чем ты вообще? Но вышло смешно: моя телекарьера – абсолютно ее заслуга. Она без меня послала заявку и мою фотографию на студию. И потом мне уже рассказала, что я «прошла» отбор и теперь должна явиться на какие-то испытания. Я снова посмеялась и уехала отдыхать на юг. Дело было в сентябре.
– И ничего нигде не екнуло?
– Нет. Я замечательно и спокойно отдыхала. Вернулась, и буквально на следующий день мне позвонили на домашний телефон: «Приходите на первое испытание!» То есть это всё – цепь случайностей. Вернись я на день позже – никакого звонка, никаких испытаний. И никаких сожалений! Я ведь не то что не болела никаким телевидением тогда, я вообще не знала, где оно находится. У меня была довольно насыщенная жизнь и без этого.
Мне было двадцать девять лет, а диктору, согласно объявлению, следовало быть не старше тридцати. В общем, я пошла на первый тур. Желающих было человек сто. До сих пор помню одну женщину, которая казалась старше тридцати, но ей, видимо, было меньше. У нее такая интересная прическа была, как будто она просто вынула бигуди и не расчесала волосы. И она сидела и громко рассуждала: интересно, когда будут проводиться эти занятия, потому что с ее загрузкой ей не всякое время подойдет. И я поразилась: надо же, какая самоуверенная женщина – она уверена, что пройдет, и всё, а я – зачем я сюда пришла, что я тут буду делать? Но я как-то прошла первый тур, второй. И мне один знакомый даже сказал: «Можешь гордиться, это уже не позор – дойти до второго тура. На третьем тебя, конечно, срежут, так что можешь не ходить».
– Но вы пошли.
– Тут уж врубился комплекс отличницы: что значит не ходить? Третий тур заключался в том, что мы читали какие-то стихи и что-то говорили на камеру. Испытывающие нас должны были оценить, как мы выглядим в кадре. При этом буквально через неделю по основной работе мне надо было уезжать в долгую командировку. И я ужасно мучилась: соглашаться, отказываться. Вроде это – работа, а это – баловство какое-то, но раз уж ввязалась… И я подошла к режиссеру, который записывал наши испытания, и прямо так говорю: «Знаете, вы мне сейчас скажите, я вообще прошла или нет?» И он ушел советоваться со своими. Они долго обсуждали, потому что брать меня не хотели. Потом я посмотрела пленку и поняла, что у них были за сомнения. Не знаю, сохранилась где-то эта запись или нет – я не хотела бы, чтобы она сохранилась, – но там я сидела, вжав голову в плечи, в платье с воротником-хомутом из коричневого бархата, которое взяла взаймы у сестрицы. Почему-то у меня на нервной почве покривился рот. И говорила я исподлобья. Страшная картина.
– Смешно.
– Я после просмотра этой записи чуть в реке Карповке не утопилась, а вам смешно. Но меня в итоге взяли. И когда редакция информации ленинградского телевидения стала искать новые лица, в частности для программы «Телекурьер», из нашей группы отобрали две пары мальчик-девочка для того, чтобы испытать боем уже в реальных условиях. Кстати, из-за этого я пропустила свадьбу своей московской подруги. И она со мной два года не разговаривала.
– Люди не то что подруг, семьи, детей, жизнь всю кладут на алтарь ТВ, а вы так спокойно рассказываете. Как будто у вас есть какая-то прививка от телевизионной болезни.
– Все события по нарастающей развивались. Тогдашний «Телекурьер» – это по субботам выезжали две бригады на микроавтобусах, один ведущий в одной бригаде, второй – в другой, снимали разные сюжеты субботней жизни города и отсылали эти бобины на студию. Называли это «полуживым» эфиром, потому что всё монтировалось с колес, и вечером передача уже была в эфире. В такой вот субботний рейд взяли меня. Сказали: снимем один сюжет, не получится – в помойку, получится – значит, поучаствуешь. Мне досталось снимать о наборе ребят в Вагановское училище.
– Ну да. Ленинградское же телевидение.
– Я до сих пор помню: когда я ехала в метро на съемку, у меня от страха сводило живот, мне было плохо физически. Я сидела и думала: зачем я это делаю, куда я прусь, нужно развернуться и уехать. Я приехала туда, совершенно не понимая, что делать, а там вестибюль и мамаши раздевают детей: мальчики и девочки, которые идут в балет. Приезжает съемочная группа, и понятно, как смотрит на меня. Они говорят: «Ну чё, хочешь – начинай». У меня иногда бывает, что от страха несет. Вот меня от страха и понесло: я представилась в кадре, потом подвалила к этим ребятам и стала их спрашивать – единственное, что мне в голову пришло, – любят ли они сладкое. И они, зайки, стали колоться и говорить, что они любят сладкое. А потом я их стала спрашивать, как же так – им придется разлюбить сладкое, неужели они к этому готовы? И они очень смешно говорили о том, что «ради искуйства» они готовы даже не есть шоколад. Получилось очень забавно, потом мы добавили интервью с преподавателями, что-то досняли, и получилась такая живая забавная зарисовка. Для меня всё это было – как в тумане. Но, когда закончилась эта съемка и я с каким-то помутненным взором выползла вниз прощаться с бригадой, Толя Ильин, оператор, кстати, очень непростого характера, как потом жизнь показала, он взял и поцеловал мне руку. Я в ошалении на эту поцелованную руку посмотрела, после чего редактор Слава Нечаев сказал: «Ну, теперь поехали на студию». Мы вышли и сели в его «жигули» (группа уехала на автобусе). И это очень смешно – мне почему-то запомнилось, что «жигули» у него были зеленого цвета. Как потом выяснилось, они были кремовыми. Можете себе представить, в каком я была состоянии?
– И наконец заболели телевидением?
– Не знаю, но я стала работать внештатником и болтаться по коридорам телестудии соответственно. Ставок в редакции информации не было. Меня определили в редакцию писем. С тех пор я ненавижу обратную связь с телезрителями, потому что это была перестройка и люди писали письма тоннами. А в моем ведении были самые ходовые редакции: информации и публицистики. По тогдашним правилам надо было все письма читать и на все отвечать. Но не лично, а добиться ответа от редакции, от тех людей, которым, собственно, писали. Я носила эти письма авоськами домой, мы их обрабатывали с мамой, я это делала по ночам, всё еще пытаясь совмещать это так называемое телевидение с нормальной работой. Кончилось тем, что я бросила аспирантуру.
– А ведь у вас могла бы быть нормальная человеческая жизнь.
– К концу 1986 года мне показалось, что я сделала громадную ошибку, потому что никакой перспективы в этой моей телевизионной жизни нет, я работаю раз в месяц на программе «Телекурьер», а в остальное время сижу в отделе писем на крохотной зарплате. Среди женщин, обрабатывающих эти письма. Тогда я еще и разошлась с мужем, который сильно не одобрял мой поход на телевидение. В общем, всё в жизни пошло наперекосяк и я задепрессовала.
– Драматургия, как правило, устроена так, что именно в этот момент в жизни Золушки появляется Фея.
– К началу 1987 года я понимала, что я полный лузер и ничего не удалось. Я шла, опустив голову, по телевизионному коридору и уперлась прямо в режиссера Кирилла Михайловича Шишкина, который совсем недавно начал делать с Невзоровым передачу «600 секунд». И от них только что по своим личным причинам ушла ведущая-девушка. И Шишкин тоже шел, опустив голову. И уткнулся в меня. Мы посмотрели друг на друга. И вдруг он говорит: «О, а ты не хочешь попробоваться в программе “600 секунд”?» – «Хочу!» – «Завтра выезжаем на съемку».
– Это было самое, пожалуй, удивительное время в жизни нашего телевидения. Когда вот еще вчера оно было такое центральное и каменное, а сегодня, прямо на наших глазах, сделалось живым, актуальным, свежим: про меня, про страну, про людей. Как это происходило изнутри?
– Тогда еще не считали рейтинги, но то, что нас все смотрели, – это правда. И я скажу больше: мне кажется, что именно тот период – это короткий золотой век Ленинградского телевидения.
Оно быстрее развернулось. К тому же так вышло, что именно тогда на ленинградском ТВ оказалась критическая масса тридцатилетних, которые уже что-то умели: операторы, режиссеры, ведущие. И мало того что они что-то умели, они реально хотели это делать. И всё совпало. И понеслось! «Телекурьер», «Монитор», «Пятое колесо», «Музыкальный ринг», потом еще передача, которую Максимова делала. А в молодежной редакции – «Открытая дверь», ее «Сквозняк» у нас называли. То есть возникла серия передач на разные зрительские вкусы, и это всё пользовалось безумным спросом, безумным. Ну и «600 секунд», разумеется.
– О, сколько молодых людей того поколения пошло в журналистику только потому, что в кадре первым человеком с микрофоном, которого они увидели, был Невзоров!
– «600 секунд» – это совместный продукт нескольких людей. И всё рождалось на коленке. Ведь что такое изначально шестьсот секунд – это десять минут времени после программы «Время», которые давали на региональные (в данном случае ленинградские) новости. Они обычно начитывались диктором за кадром под видео. Типа «Сегодня первый секретарь встретился…» – никому не нужная и никому не интересная история. И вдруг эти десять минут отдали под что-то новенькое. И сначала была сделана такая клиповая десятиминутка с короткими сюжетами, даже без ведущих. А потом – появились мы, трое ведущих. Почему-то все забывают, что еще Вадик Медведев был ведущим.
Ну и, конечно, что-то в воздухе произошло. Стало можно говорить обо всем. И говорить своим голосом. Цензура умерла прямо на наших глазах, если не сказать руках: у нас в конце коридора был кабинетик, куда нужно было относить эфирную папку, чтобы тебе ее завизировала специально сидевшая там тетенька по охране государственных тайн. Всё это было достаточно формально, а потом нам стало «некогда» и мы решили «не пойдем». А позже оказалось, что этой комнаты уже нет – она растворилась, как в Хогвартсе: только что дверь была – и нету. И вроде как никогда не было.
– Но из «600 секунд» вы ушли.
– Всё стало слишком уходить в политику. А я всегда исходила из того, что делаю городские социальные новости.
– Конфликт?
– Ну да, мы не сработались. Неважно. Я не люблю на эту тему говорить. Во всяком случае, я ушла на более или менее официозную телестанцию «Факт».
Там я стала маяться в ощущении, что я опять не ту развилку прошла. Что всё неинтересно, скука. Но тут в Петербург приехал Саша Гурнов. И передал мне приглашение поехать в Москву на, так сказать, зарождающееся российское телевидение.
– Это было от Добродеева приглашение?
– Инициировал приглашение, разумеется, Олег. Вначале я наотрез отказалась: я же вся такая питерская-питерская, какая Москва? Но на стажировку приехала. Все еще сидели в «Останкино». Это еще не было российское телевидение. Но это был конец 1990 года. Ельцин свое распоряжение о российском телевидении уже подписал.
– Не могу себе представить этого знакомства. С одной стороны, вы – из Петербурга, главная телевизионная ведущая. А с другой стороны, все те, кто вел ТСН. Как вы знакомились?
– Да, уже была программа ТСН и утренняя программа. В утренней программе тогда работали Женя Киселев и Олег Добродеев, а в вечерней – Гурнов, Миткова и Осокин. Я со всеми познакомилась, сделала даже какие-то сюжетики для утренней программы, а один раз – вот анархия, сейчас это вообще представить себе невозможно – меня в глухой ночи выпустили провести один выпуск ТСН. Очень смешно было.
И поскольку я сама вполне случайно попала на телик, какого-то прям пиетета перед ними, наверное, столь же случайно попавшими туда, не испытывала. Познакомились и познакомились, тут же перешли на «ты», поскольку все были одного возраста. Я пробыла свою стажировку и вернулась домой. Вскоре после этого Олег [Добродеев] предложил мне быть ведущей в новостях нового российского телевидения.
И я сказала: «Я не хочу ехать. Давай я буду, ну не знаю, ленинградским корпунктом!» А он ответил, что денег на корпункт у телеканала нет. У меня был последний аргумент: «В Москве мне негде жить». И он сказал: «У нас есть служебная гостиница на улице Ямского Поля». И 8 марта 1991 года я сошла на перрон с одним чемоданчиком, думая, что это временная история – поживу в гостинице, немножко поработаю, потом вернусь в Питер. И всё.
– «Всё» в смысле начало или в смысле – конец?
– Слушайте, я Добродееву сразу честно сказала: я – провинциалка. Больших новостей не знаю и в жизни не делала. Я даже не понимаю, как к этому подступиться. Для меня половина слов, которые в федеральных новостях употребляют, незнакомы, не говоря уже о людях, которых я не знаю. Тут в кабинет зашел какой-то человек, тоже молодой. И Олег нас познакомил: «Это Николай Карлович Сванидзе, он будет возглавлять у нас отдел сбора информации. К нему ты можешь всегда обращаться для того, чтобы он объяснил, кто есть кто, помог сориентироваться и прочее». Ну и, вжав голову в плечи, я стала работать. Коллеги в этом смысле мне были не чета: Гурнов, Ростов и Киселев – они же с иновещания пришли. А сам Николай Карлович, страшно сказать – из института США и Канады! Я не просто чувствовала себя в этой компании случайным человеком. Я всё время боялась, что меня разоблачат.
– Но именно вам тем не менее доверили вести первый в истории выпуск «Вестей» 13 мая 1991 года.
– Ой, это чистая случайность. Дело в том, что мы не знали точно, в какой день будет начало вещания. И мы в рабочем режиме готовили выпуски, чтобы стартануть в день икс. Так получилось, что этим днем оказалось 13 мая. Меня не выбирали на эту должность. Так совпало. И понеслось.
– С конями.
– С конями, да. Нам потом долго писали внимательные телезрители, что они не так запряжены, что художник не знает, как там оглобли располагаются.
Первые месяцы работы в «Вестях» я вспоминаю как беспрерывный кошмар. Главное, что мне пришлось освоить – верстку. У меня же в Петербурге на «600 секундах» был салат «Весна»: сваливаешь всё в кучу, и чем контрастнее сюжеты, тем лучше. А здесь-то должна быть логика какая-то. И именно Добродеев меня однажды выучил раз и навсегда. Одну мою такую версточку Олег Борисыч так разобрал на летучке, таким катком по ней прошелся. И я запомнила логику верстки новостного выпуска на всю жизнь.
– А потом был первый вызов новому российскому ТВ. Переворот в прямом эфире. «Вести» в тот момент всё еще возглавляет Добродеев, а вы…
– А у меня отдельная история. Ровно в эти дни я была в Петербурге: заболела мама, и я уехала решать срочный вопрос с госпитализацией, с врачами. И отключилась от всего. Прекрасно помню, как я узнала о том, что произошел путч: мы приехали встречать поезд из Москвы, которым приезжала моя старшая сестра, чтобы тоже участвовать в эпопее по спасению мамы. И вот мы стоим на перроне, встречаем этот ранний поезд, и происходит что-то необычное: несколько минут никто из поезда не выходит. Оказывается, в это время по радио, которое внутри состава, шли сообщения ГКЧП. И люди стояли в вагонах и слушали. Первой на перрон вышла проводница с перекошенным лицом, потом – пассажиры. Люди со странными лицами тихо и печально шли мимо нас. А сестра сразу спросила: «Вы что, вы знаете, что переворот?» Дальше мы уже побежали в машину, врубили радио, потом я стала звонить Добродееву: «Олег, мне приезжать?» Он говорит: «Не надо, занимайся матерью, если что, я с тобой свяжусь, не приезжай». Я металась по Питеру, занималась мамой, и мне дико мешал путч, потому что все не работали, а говорили о политике, а мне нужно было, чтобы работали и лечили маму.
– А такое с вами было, чтобы профессия побеждала человека?
– Как правило, это было связано с ажиотажем, когда ты очень хочешь что-то выдать в эфир и упускаешь то, что сейчас называется верификацией фактов. Я, например, однажды прямо под Новый год Собчака отправила в отставку, не проверив факты. Собчак потом мне рассказывал, что я испортила ему новогоднее застолье, потому что он всю ночь пытался понять, откуда это?
– В 1991-м всё как-то быстро пришло в норму и воспринималось как победа добра над злом, будущего над прошлым. Но прошло всего два года и наступил 1993-й. И вы – снова в прямом эфире. И что-то надо говорить. Кто решает – что и как?
– У меня воспоминания о 1993-м как о каком-то кошмаре непреходящем. Там всё оказывается труднее и страшнее, чем два года назад. Сейчас уже можно сформулировать вопросы: кто допустил роковую ошибку, почему не случились хоть какие-то договоренности, как дело могло дойти до обстрела парламента? Но вопросы – это сейчас. А тогда – нескончаемый кошмар. Вы же помните, всё началось с «Останкино», с отключения вещания. Наша редакция как раз сидела в телецентре, но меня там не было. Когда оборвался эфир, я тут же рванула на Яму[36]. Надо было готовить выпуск. У нас была возможность выйти в эфир из резервных студий. Редакция туда перебралась: отключать вещание было нельзя! Люди должны узнавать, что происходит.
– Кто-то контролировал, какую информацию давать в эфир, какую – не давать?
– Нет. Это были, что называется, боевые сводки в режиме реального времени. Мы получали информацию по телефону, от наших корреспондентов, которые ездили по городу, от очевидцев, которые звонили в редакцию, из каких-то агентств, с которыми тогда было худо. Мы лепили всё, что приходило, и выдавали в эфир. Без какой-либо другой задачи.
Удивительная штука: когда ты занят, то не концентрируешься особо на опасности. Но помню, в какую минуту я по-настоящему испугалась: когда под окнами раздалась автоматная очередь. И я поняла, что значит выражение – искать пятый угол. Потому что у здания на Яме вся стена – это окна. У нас – второй этаж. И скрыться некуда.
И еще помню, под утро я пошла к сестре на Тишинку, чтобы поспать несколько часов, а потом вернуться на работу. И я легла, закрыла глаза и взмолилась о том, чтобы всё, что вокруг, оказалось мороком, кошмаром, который – я посплю – и рассосется. Так с болезнью бывает, когда после ночи бреда утром спадает температура. Я проснулась под канонаду. Это на Пресне начался бой, началась стрельба. И я рванула на работу и там уже по CNN видела, как стреляют по Белому дому.
– Я знаю людей, которые во время «Норд-Оста» ложились спать с включенным на серое шуршание телевизором, чтобы, если штурм (ведь его станут показывать в прямом эфире), проснуться и мчаться на работу.
– «Норд-Ост» – это особая история. Мы тогда все в обнимку с телевизором, конечно, были. Помню, как я ездила по городу с, разумеется, включенным радио, останавливалась возле магазинов, где продавались телевизоры, забегала туда, чтобы посмотреть картинку происходящего. И я была не одна такая – люди просто вваливались в эти магазины толпами. В любое место, где можно было увидеть, что происходит, они прибегали. И это был отдельный кошмар. Когда сейчас оглянешься, столько кошмаров было!
До 1997 года я отработала в «Вестях». А потом всё закончилось.
– Что случилось?
– Сейчас понимаю: я подорвалась на Первой чеченской войне. Если помните, мы эту войну информационно проиграли – я имею в виду российское руководство. Генеральная линия «мы правы, и мы единственные носители истины» – провалилась. Ее неумело как-то пытались организовать, но не получилось, потому что в тех же «Вестях», где я работала, постоянно появлялись сюжеты о том, как страдает и погибает мирное население, как бездарно проводятся те или иные операции. А я мало того, что пацифист, я с самого начала войны понимала, что это страшная трагедия, которая непонятно чем закончится. С плохими прогнозами просто: они обычно сбываются. Эта война обернулась гуманитарной катастрофой для всех. А у меня, в связи с пацифистским уклоном моих новостных выпусков, просто были неприятности на работе.
– Нервы не выдерживали? Я слышала, вы однажды заплакали прямо в эфире.
– Я даже предполагаю, когда именно: мои коллеги, немецкие журналисты, сняли материал в Грозном про двух мальчишек. Оба были полукровки. И оба остались без родителей: остальных сирот забрала родня, а эти остались жить в развалинах Грозного. В Германии эта история вызвала всплеск эмоций. И мне позвонила продюсер, моя знакомая, и сказала: не хочешь ли ты взять в эфир материалы? Я взяла видео, написала текст и выдала сюжет в эфир. У меня ощущение, что после того как я в эфире этот сюжет увидела, у меня в глазах стояли слезы. А так, чтобы прямо реветь, – ну нет, конечно.
– Это невиданная по нынешним временам свобода: берете в эфир что хотите, сами сюжеты делаете, сами выбираете.
– Мы делали «авторские новости». Я сегодня об этом вспоминаю, и мне так странно, что это вообще было возможно. Но тогда такое было в порядке вещей. Как каждому ведущему казалось, как виделась новостная повестка, так он и делал. И новости мои отличались от того, что делал Флярковский, новости Флярковского отличались от того, что Юра Ростов делал и так далее. Но рано или поздно это закончилось. А потом у меня стали возникать постоянные неприятности и стычки с руководством. Впрочем, руководство тоже всё время менялось: убрали Попцова, потом был Сагалаев, после Сагалаева на короткое время поставили Сванидзе. И вот Сванидзе меня из «Вестей» и выпер.
– Нормальное завершение совместной работы.
– Сейчас я Коле даже благодарна. Тогда он сказал мне, возможно, справедливую вещь: надо перестать самовыражаться в новостях. Он был прав. Время авторства заканчивалось. Наступало другое время. Он мне тогда сказал: «Делай другую передачу, а из новостей я тебя убираю».
– А вы обиделись и ушли?
– А я сказала, что я тогда совсем ухожу. И, кстати говоря, именно тогда Добродеев позвал меня на НТВ.
– Складывается ощущение, что Олег Борисович как-то забегал всё время немного вперед и оттуда всех зазывал в светлое будущее.
– Да. Надо сказать, что года за два-три до этого отношения между «Вестями» и НТВ были уже непростыми и даже трагическими: НТВ встало на ноги, их новости были очень сильными, появилось вот это «Новости – наша профессия». И люди из «Вестей» уходили туда целыми бригадами. Не только потому, что там больше платили. Но и потому, как всё развивалось: престижная, сильная, технически оснащенная и какая-то такая красивая компания, куда было круто уйти. И я помню, как меня добил случай, когда Сережа Морозов[37] уходил. Он был редактором-международником в моей бригаде. Я его очень ценила, потому что он был замечательный, грамотный и прочее. И когда он пришел ко мне и сказал, что он уходит на НТВ, помню, я почти расплакалась: «Мне нечем аргументировать, я не могу тебя уговорить остаться, но я очень расстроена».
– Пройдет несколько лет, и многие из тех, кто ушел в конце 1990-х, снова вернутся в «Вести».
– Потому что туда опять придет Олег, который модернизирует новостную службу РТР и опять позовет ребят за собой. Такой наш Моисей профессиональный: водит за собой народы. Но вот в 1997-м Добродеев позвал на НТВ меня. Причем интересно, что, уйдя из «Вестей», я получила сразу несколько предложений. В том числе, например, предложение вести программу «Время». Ее сделал Саша Любимов, который тогда короткое время заправлял в новостях на Первом канале. И вот тут возник Олег.
– Неужели колебались?
– Я приехала говорить с Добродеевым и сказала: «Что я у вас буду делать? У вас есть новости, которые ведут Осокин и Миткова, там нет необходимости что-либо менять. Мне нет места». Он сказал: «Что-нибудь придумаем». Меня это очень смутило, потому что «что-нибудь» – это так неопределенно. Но едва я доехала от Останкино до Ямского Поля, как Добродеев мне перезвонил: «Я придумал. У нас есть программа “Герой дня”. Там меняющиеся ведущие. А надо, чтобы формат был с определенной историей, под одного человека – ты можешь попробовать». И вот за это предложение я ему страшно благодарна, потому что это были два с половиной года невероятного драйва.
– Сейчас такого жанра на нашем ТВ нет: ежедневное актуальное интервью. Но я и не могу представить, где набрать столько героев.
– Это довольно трудно: каждый день должно быть попадание, должен быть найден нужный человек, тема, вопросы, согласие.
– Неужели у вас вообще не было «консервов»?
– Представьте себе.
– Как вы держались?
– Не знаю. Но я чувствовала себя хорошо. Не вышли мы в эфир только дважды за два с половиной года! Один раз технически не состоялся телемост: пропал сигнал. А другой раз – не поверите – не помню.
– Ваше интервью с Путиным – это уже апокриф.
– Первое интервью с Владимиром Владимировичем я делала, когда он возглавил ФСБ. Он, я знаю, не любил приходить в студию. А мы – очень редко выезжали. Но тут был именно такой случай: мы поехали к нему на Лубянку и там записывали интервью. Оно было, прямо скажем, никакое. Я отлично помню, что он всё время подчеркивал, что он чиновник, а не политик, что он всего лишь выполняет задачу. И я записала это интервью и подумала, что вряд ли он будет моим частым гостем, потому что скучно, неинтересно. Потом, правда, еще пару раз возникали ситуации, когда мне зачем-то нужно было его интервью в должности руководителя ФСБ. И я звонила в его приемную сама. И каждый раз он обязательно сам отзванивал и объяснял, например, почему он не может прийти. Но до премьерства он к нам больше не пришел в передачу ни разу. Тем не менее было ощущение, что он очень внимателен к просьбе журналиста, что и позволило мне на голубом глазу позвонить в приемную в августе 1999 года. До переизбрания Ельцина остается очень мало времени и вполне вероятно, что это – его преемник. И я звоню Кулистикову[38]: «Володя, а не попробовать ли нам позвать Владимира Владимировича?» Ну он мне в своем духе: «Старуха, ты представляешь себе, сколько сейчас людей охотятся за ним и пытаются взять у него интервью, ты это представляешь себе, все с ума посходили! Ну ты, старуха, даешь!» – «Но попробовать-то можно». – «Ну, пробуй, конечно, если тебе не сидится, пробуй».
– Узнаваемо.
– Ну, это – Кулистиков. Короче говоря, я по привычке звоню в приемную на Лубянке, а мне сообщают, что Путина нет на месте. Разумеется, он в Кремле. Я прошу передать мою просьбу. И через короткое время мне отзванивает сам Владимир Владимирович: «Светлана Иннокентьевна, ну вы же понимаете – что я сегодня могу сказать? Как гром среди ясного неба я получил это повышение».
– Что вы ответили?
– Я тогда Путину ответила: «Владимир Владимирович, это вообще моя проблема – что спросить, а что ответить, я думаю, вы найдете». «Ну а какие вопросы?» – спрашивает Путин. Говорю: «Вопросы я придумаю, вы только скажите: вы готовы?» А он: «Ну хорошо, вы можете подъехать ко мне на Лубянку, я сейчас туда вернусь, и мы переговорим с вами». То есть мне надо было приехать без съемочной группы, просто на разговор. Я поехала, по дороге судорожно с редакторами обсуждая, какие вопросы можно предложить, о чем говорить, как всё это организовать и прочее. Мы с ним переговорили: я его всячески пыталась убедить, что это важно – появиться в этот день, что так принято во всем мире: он должен выйти на люди в день назначения. И он сказал: «Ну давайте тогда вечером, часов в восемь, приезжайте со съемочной группой в Кремль». Уже в Кремль.
Из этого интервью я помню только, что я в первый раз столкнулась с этим вот специфическим чувством юмора Владимира Владимировича. Потому что именно в том интервью я его таки спросила: «Что вы теперь скажете: вы политик или чиновник?» И он опять отвечал, что это должность не политика, а чиновника, он по-прежнему настаивает на этом. А в конце я его спросила, а что он будет делать, если опять столкнется, как многие его предшественники, с ситуацией, когда люди выходят на улицы, садятся на рельсы, перекрывают дороги, стучат касками и прочее. И он переспросил: «Так выйдут или сядут?» А я говорю: «Ну, выйдут». – «Тогда сядут», – ответил Путин. Вот это я помню отлично.
– История того интервью – это же еще история про Кулистикова. Удивительного телевизионного начальника: талантливого, умного, хитрого, непредсказуемого, как бы отсутствующего, но всё равно всем управляющего. Какие у вас с ним были отношения?
– Кулистиков был долгое время моим единственным начальником на программе «Герой дня». А надо сказать, что мы своей маленькой командой сидели на другом этаже – вот все на восьмом, а у нас комнатка на седьмом этаже была. И мы всё время как-то отдельно были. И всякие сплетни и слухи, а также идеологические веяния нас обходили стороной. Не могу вспомнить, чтобы какого-то гостя мне «спустили» сверху. И с Кулистиковым было просто: мы с ним сверялись. Он звонил и спрашивал: «Ну, Светлана Иннокентьевна, кто там у нас сегодня?» Я отвечала, например: «Петров». Он: «Ну чего-то слабовато как-то, нет? А чего мы взяли-то его?» Я ему объясняла. Или он меня переубеждал. И мы начинали кого-то другого искать. Иногда он меня поддерживал. Например, звоню: «Володя, я не знаю, что делать, у нас никого нет, уже четыре часа, всё пропало». Он: «Ну ты должна понимать – передачка должна выйти в эфир». Вот это вот любимое его выражение было.
Помню, как-то я решила позвать в эфир Лукашенко. Был как раз период, когда Лукашенко очень верил, что две страны объединятся и он будет президентом. Но НТВ он не любил, а тут приехал в Москву по делам государственным, и мы решили попробовать его зазвать. Долго разговаривали с пресс-службами и вроде договорились. И я говорю накануне Кулистикову: «У нас завтра должен быть Лукашенко». – «Старуха, ты понимаешь, Лукашенко – очень специальный человек. Он может кинуть в последний момент, к нему Евгений Алексеевич аж в его резиденцию приезжал, целовал траву и уходил домой. Он может всё что угодно, поэтому готовьте резерв, Лукашенко у тебя не будет, в этом можешь даже не сомневаться. А уж чтобы приехал сюда, в “Останкино”, в студию – да не будет этого! Ну, Света, ну ты вообще». На следующий день смотрим, спецслужбы зачищают всю площадку от машин перед семнадцатым подъездом. Я звоню Кулистикову: «Володь, вроде как зачищают всё». Он: «Даже не обращай внимания – как зачистили, так и снова вернут, не-не-не, не будет Лукашенко». – «Володь, к нам приехала служба безопасности, проверяет тут студию, коридоры, ходят». – «Да ну, перестань, им просто делать нечего». – «Володя, Лукашенко идет по коридору!» – «По какому коридору?!» – «По нашему коридору!» – «Да ты что?!» И дальше проход торжественный Лукашенко, сзади которого идет посольство в полном составе, куча охраны. И Лукашенко у меня был в эфире. Но самое смешное было после, потому что потом Лукашенко сделал мне предложение стать его личным пресс-секретарем.
– Эх, как по-другому могла бы сложиться ваша жизнь.
– Могла. Но не сложилась. Я отказалась. А он говорит: «А ты что, меня не проводишь, что ли?» И вот мы идем этой толпой с Лукашенко по коридору, сзади куча народа, люди, случайно выглядывающие из кабинетов, тут же назад втягиваются. Выходим из семнадцатого подъезда, а под крыльцом в то время жила собака, у которой родились щенки. И вот один щенок телепает поперек крыльца, а мы с Лукашенко, значит, торжественно выходим. И тут же один из охранников кидается, хватает щенка за шкирку и отбрасывает в сторону. Я немедленно встаю в стойку: «Да что ж такое, чем щенок-то помешал?!» А Лукашенко на меня оборачивается и так говорит, прямо глядя мне в глаза: «Та яму ш не больно!» Никогда не забуду.
– Мне кажется, единственный, кто к вам не приходил, – Горбачёв. Так?
– Я с Горбачёвым делала интервью для документальных фильмов. Одно из наиболее запомнившихся – после смерти Раисы Максимовны. Мы как раз делали фильм «Первая леди», потому что было понятно, что Раиса Максимовна угасает, уходит. И когда фильм был почти готов, ее не стало. И было понятно, что нужно сделать интервью с Горбачёвым. И было безумно трудно его уговорить. Но я как-то уговорила. И интервью состоялось. И, помню, мы с ним разговаривали, разговаривали, а в конце, я уже закончила практически, он вдруг говорит: «А вы знаете, ночью тут раздается звонок по телефону, я беру трубку – а там ее голос». И слезы в глазах. Это был очень тяжелый и очень сильный момент.
– Зачем вы пошли в ток-шоу?
– Опять обстоятельства. В 2000 году ушел Добродеев.
– Опять Добродеев!
– Ну да. На его, освободившееся, место пришел Женя Киселёв. И у него получилось очень много дел: «Итоги», административная колоссальная нагрузка, а еще ток-шоу «Глас народа». И он понял, что ему не потянуть столько. Как-то раз я пробегала по коридору, мы столкнулись, и он спросил, не хочу ли я попробовать вести «Глас народа». Я согласилась. И вела его весь этот трудный период – зима 2000/2001-го, когда громили НТВ, – и мы превратились в какую-то площадку безумия.
– Маленькая Болотная площадь.
– К началу 2001 года мы уже были в блокаде: к нам перестали ходить более или менее властные люди, которым появление на НТВ могло испортить карьеру. И шли одни и те же. И темы одни и те же. И общее состояние дикое.
Я, кстати, до сих пор, что бы ни случилось, хорошо отношусь к Герману Грефу. Он пришел ко мне в одну из самых последних программ, причем он был министром. И мне сказали, что он вроде бы согласился прийти в «Останкино», мол, он самостоятельный человек и принял такое решение. А в последний момент – вот у нас вечером ток-шоу в прямом эфире, а днем я еду на работу, сама рулю своими «жигулями», и вдруг мне звонит редактор и говорит: «Слушай, кошмар, Греф отказался». Помню, я тут же въехала носом в сугроб. Трясущейся рукой набрала приемную Грефа, попросила меня с ним соединить. И он, замечательный человек, не отказался со мной говорить, взял трубку и стал объяснять мне честно, что ему сейчас нехорошо идти на НТВ. А было уже не просто «нехорошо», был апогей! Конец зимы 2001-го. И я чуть ли не зарыдала в трубку. Говорила, что я умоляю его, что могу сейчас выйти и встать в сугроб на колени и просить, чтобы он пришел. Он как-то засмущался, видимо, живо представил себе эту картину. И сказал: «Ну хорошо, я приду». И пришел.
А мне потом администратор рассказывал, что бедный Греф сидит в переговорной с кем-то из гостей, смотрит в телевизор, который показывает наши сумасшедшие энтэвэшные новости, и говорит: «Господи, что я тут делаю, зачем?» Но не ушел.
– А потом начнется: опять приедет Добродеев, люди с портретами пойдут на одну сторону улицы Академика Королева, потом на другую… Переломанные судьбы, разрушенные телеканалы. И памятник той эпохе в виде нынешнего телевидения. Про которое, например, нельзя сказать, что оно непрофессионально.
– Разумеется, нельзя. Кто вообще сказал, что нынешние «Вести» сделаны непрофессионально? Они профессиональные, но перед ними стоит совершенно другая задача.
– Но смотришь их и кажется, что времени, о котором вы рассказываете, не было. Вас – не было.
– Ну я, слава Богу, помню, что я была. И никто уже ничего не вымарает и не вычеркнет. Плакать о прошлом – бессмысленно. Но и делать вид, что ничего такого в моей судьбе не было, я не стану. За всё, что было, – благодарна. А остальное – время рассудит.
Интервью восьмое Алексей Уминский
Русская православная церковь теперь часто попадает в скандалы, а «православная общественность» активно вмешивается в деятельность светских институтов. Один из главных посредников нашего времени в конфликте между верующими и прочими гражданами – священник Алексий Уминский, миссионер и популяризатор церкви в медиа и социальных сетях, духовный и душевный друг очень многих потерявшихся в повседневности людей – так можно сухим официальным языком объяснить появление в этой книге интервью отца Алексия Уминского. Но если нужно объяснять, значит – объяснять не нужно.
Ближе к полудню перед алтарем храма Святой Троицы в Хохлах вдруг появляется просто – в белую рубашку и джинсы – одетый лысый парень. Берет в руки гобой. Закрывает глаза и играет сонату Бенедетто Марчелло ми бемоль минор. Витиеватая барочная музыка заполняет пространство храма, но не полностью: то тут, то там слышится шепот, и даже голоса, вот – покатилась по полу стеклянная бутылочка, кто-то кашлянул, кто-то вовсе заплакал, всхлипывает. Но гобой не останавливается, а на шумящих не шикают. Всё в порядке. Это – праздничный пасхальный концерт для подопечных детского хосписа «Дом с маяком». Лысый парень с гобоем – церковный звонарь Вася Семёнов, слушатели концерта – в колясках, детских и инвалидных. Их мамы – люди, которым редко удается выйти из помещения, где обычно лежит прикованным к кровати их ребенок. Этим мамам вообще редко удается не думать о самом страшном, о том, что их ребенок – умрет.
Но сегодня в храме мамы улыбаются. И они, и их дети – счастливы. После Васи с гобоем к алтарю выходит Симен, мальчик с синдромом Дауна. Он играет на ксилофоне. Звук у ксилофона тонкий, пронзительный, дети прислушиваются. Постепенно в храме даже наступает тишина, как на обычном концерте.
Всё происходящее снимает на мобильный телефон настоятель храма Святой Троицы в Хохлах, отец Алексий Уминский, выпускник романо-германского факультета пединститута, хиппи, учитель французского, кинолюб, итальянофил и страстный путешественник. На нем праздничная красная одежда. Сегодня Пасха. До концерта отец Алексий служил праздничную литургию, во время которой произнес проповедь, настолько меня потрясшую, что не могу перестать о ней думать. Так и думаю весь концерт. Музыка помогает думать.
Концерт быстро заканчивается – то ли он действительно был недлинным, то ли время пролетело. И все присутствующие вперемешку – обычные прихожане и те, кто специально по субботам приезжает в храм из детского хосписа «Дом с маяком» – садятся за трапезу. Видно, что люди хорошо знают друг друга. Прежде отец Алексий ездил в паллиативные отделения Москвы и как волонтер, и как священник. Потом стал привлекать к поездкам прихожан. Потом вместе с прихожанами построили удобный пандус для инвалидных колясок. И вот теперь раз в месяц, в субботу, в храм приезжает хоспис. В происходящем нет ни пафоса, ни казенщины. Только свет и радость. Никто не говорит никаких речей, но без всяких речей ясно: этим людям здесь хорошо. Как, наверное, и должно быть хорошо в храме. Иначе – зачем туда идти?
[39]
– Сейчас человека окружают так много людей, готовых его поддержать: психологи, психиатры, коучеры, наконец. Иногда кажется, что для священника почти не осталось места. Как вы сами определяете свою роль?
– Роль всё же одна и та же. В этом смысле ничего не меняется. И две тысячи лет назад люди ходили к психологам, терапевтам, прорицателям и колдуньям с гадалками. Но у священника была совершенно другая задача: свидетельствовать об истине, приводить людей ко Христу, молиться за них и разделять их скорби. Ничего не изменилось.
– Но человек ищет наставления, напутствия, жалости и сострадания, в конце концов. Словом, того, что может дать и священник, и кто-то из конкурентов.
– Дело священника – свидетельствовать о Христе, что значит наставлять, напутствовать и отделять хорошее от плохого. И бороться со злом в самом себе, конечно.
– Мне кажется совершенно непосильным для человека в наши дни груз ответственности, когда говоришь: «Вот это вот так, а это не так. Это черное, а это белое. Это простится, а это не простится».
– Если бы я знал, чем будет моя жизнь сейчас, я бы, наверное, не решился на этот путь. И причина как раз в мере ответственности, которую необходимо на себя брать. И так страшно брать. Страшно!
Знаете, хорошо быть дьяконом. Красиво. Ходишь в прекрасном стихаре, призываешь людей к молитве: «Миром Господу помолимся», участвуешь в богослужении, носишь подрясник и красивую рясу. Всё так же, как у священника, только без всякой ответственности: сплошная красота и благолепие. Но вот ты стал священником. И самое в этом трудное – большое искушение руководить по-человечески.
Имея духовную власть, подчинить себе тех, кто от тебя зависим: подчинить своему взгляду на мир, своему личному чувствованию добра и зла. И лишить человека свободы.
– Многие как раз под этим понимают христианскую добродетель «послушания».
– И в этой подмене тоже кроется большое искушение. Послушание ведь часто подменяется нежеланием жить в свободе и нести ответственность за свои поступки и решения, перекладывая ее на кого-то, кому «послушен». С другой стороны, апелляция к послушанию дает возможность апеллирующему пользоваться людьми безответственными: они становятся сверхуправляемыми, и их можно использовать, как хочешь.
– Это вопрос разницы отношений: перед вами паства или стадо, да?
– В том числе да. Но с моей точки зрения, это чисто сектантский, гуруистский подход. От него не застрахована ни одна религиозная система в мире. Здесь главный вопрос для священника в том, сможет ли он как-то выстроить свою жизнь без этих подмен.
Перед рукоположением в священники я беседовал с епископом, который принимал у меня ставленническую исповедь – это такой экзамен совести, когда ты должен очень глубоко исповедоваться за всю свою жизнь. И он сказал мне слова, которые я запомнил на всю свою жизнь: «Помни, Бог гордых противится. А смиренным дает». У меня ушло некоторое время на глубинное понимание этих слов. О том, что смирение – это не значит, что человек ничего вокруг себя не видит, не слышит, ничего никому не говорит и поэтому не действует. То есть, смиряясь перед всем и всеми, как бы и не живет. Потому что зачем это всё тогда?
Смирение – это когда слово твое всегда следует за словом Евангелия, а мысли – за той заповедью, которую Христос говорит. И это очень сложный путь. Ведь человек так устроен, что вечно хочет себя показать, выдвинуть себя на первое место. И это так мило, так понятно и так приятно, что иногда незаметно вдруг оказывается, что ты думаешь, будто говорит Христос, а на самом деле Христос давно молчит и смотрит на тебя с удивлением, а говоришь всё время ты. Это огромное искушение для священника.
И со мной это время от времени происходит, наверное. А в юности, если честно, происходило довольно часто.
Жизнь в тревожном состоянии. «А вот я сейчас так себя показываю или всё-таки мне хочется, чтобы люди о Христе что-то узнали?» – это для священника самое главное и важное, чтобы не за собой вести людей, не себя всё время транслировать, не свои какие-то ужимочки другим являть, а научить людей через свой собственный опыт или просто через помощь, совет и указание: «Вот туда смотри, попробуй сам найти Христа». С ним подружиться. С ним в конечном итоге сродниться.
– Но при этом любой, даже такой сознательный и «тревожный» священник, – это часть большой системы, которая очень похожа на политическую.
– Да, спору нет.
– Значит, каждое свое слово вы, так или иначе, должны соизмерять с тем, что вот вы служите Богу, но работаете всё же в церкви.
– Ну нет. Я всё время служу. И Богу, и церкви. Я не могу отнестись к своему священству как к работе. Я работаю как журналист – вот это я работаю. Я работаю как преподаватель. Но остальное – служение. Вот тут ничего не сделаешь.
– Хотите сказать, что в этом служении вы не ограничены рамками того, как устроена церковь? Можете высказываться как угодно по каким угодно вопросам, в том числе и во время проповеди?
– Мне, по крайней мере, ничто это не запрещено. Нет никаких внешних запретов или дисциплинарных норм, которые бы возбраняли мне говорить то, что я думаю и считаю важным. Но, разумеется, если я буду открыто проповедовать осужденную ересь или ереси, которые идут вразрез с догматами нашей Святой Церкви, то я нарушу клятву, которую давал при получении священнической хиротонии. Это да.
Но я понимаю прекрасно, что вы имеете в виду: все мы живем в таком взаимосвязанном обществе, где все друг от друга зависят. Священник зависит от священника-настоятеля, который выше его по рангу, потому как служат-то они служат, но зарплату всё равно получают, так? Священник зависит от своего правящего архиерея. Правящий архиерей зависит от Синода и от патриарха. Все в какой-то такой не только иерархической, но и человеческой зависимости пребывают. Бывают случаи, когда настоятель может так прищучить какого-нибудь бедненького священника, что ему жить не захочется. Бывают – и нередко – случаи, когда правящий архиерей может задавить любого священника, запретить его в служении, если ему что-то не понравится. А для священника быть запрещенным в служении – это лишиться всего на свете сразу.
И поэтому в каких-то случаях такие странные человеческие отношения внутри церкви выходят на первый план: священник вынужден где-то молчать, чего-то бояться, каким-то образом, может быть, даже льстить тому, от кого зависит его внешняя человеческая судьба. И речь не об абстрактном священнике. Возьмем хотя бы меня: я служу священником двадцать пять лет, я настоятель московского прихода. Мысль, что у меня это может кто-то отнять, для меня совершенно невыносима.
Мы сидим с отцом Алексием Уминским в гостях у фотографа Юрия Роста. На Уминском – широкополая черная шляпа, которую он постоянно меняет на другую – кургузую, с красным помпоном. На кухне Рост жарит картошку с грибами, отец Алексий, раскачиваясь в кресле, нахваливает ро́стовскую грибную водку: «Юра делает ее такой, какой никто в мире не умеет делать. Она едва ли не вкуснее чачи!» – подмигивает Уминский. Он недавно вернулся из поездки в Грузию. Смотрим на его телефоне видео джем-сейшена, который затеяли в Тбилиси Уминский со своим коллегой, грузинским священнослужителем отцом Александром Голдавой. Видеопросмотр прерывает звонок. «Да, Машенька! Машенька, у нас такой хороший вечер, мы у Юры. Приходи скорее. Ивана бери с собой. Обязательно!»
Кладет трубку. Улыбается. «Это Маша. Сейчас будут». Матушка Мария, жена отца Алексия Уминского и их сын Иван будут с минуты на минуту. «Как раз к картошке!» – сообщает Рост из кухни.
Спрашиваю Уминского: «Как Грузия?» Откидывается в кресле. Зажмуривается и читает по памяти стихи Давида Самойлова.
Отвези меня в Грузию! Здесь я хочу умереть. Но сначала хочу поглядеть со скалы над Сигнахи На долину, где осень кует виноградную медь И стоят полукружием горы, надвинув папахи. В Алазанской долине пои меня местным вином, Я потом буду долго жевать золотую чурчхелу. Увези меня в Грузию, друг, приведи меня в дом. Только здесь я сумею отдаться последнему делу. Только здесь, где однажды запели Шота и Важа, Только здесь, где стояла препона всевластью ислама. Только здесь, где судьба доведет меня до рубежа, Только в Грузии, здесь, и начнется последняя драма. Пусть я буду дыханием хóлмов ее освежен. Пусть я буду объят, опоен ее долей и волей, Византийскою нежностью тонких грузинских княжон И медлительным вежеством добрых крестьянских застолий. Отвези меня в Грузию! Здесь я хочу умереть. Здесь, с друзьями, окончится вдруг ощущенье чужбины. И еще я хочу, и еще я хочу посмотреть Со Сигнахских высот в глубину Алазанской долины.В желтом и оранжевом свете, неровном из-за дыма сигарет, которые курит хозяин дома, отец Алексий выглядит героем старого английского фильма про благородство, мудрость и отвагу. Сообщаю ему об этом. «Ну что вы, что вы. Я просто московский хиппи».
– Как может хиппи стать священнослужителем Русской православной церкви?
– Вы, Катя, не поверите, но путь русского хиппи – это естественный путь в церковь.
Мой взгляд падает на гигантское каменное яйцо. На яйце размашисто написано «ХВ». Христос, стало быть, Воскресе.
– Ваш почерк? – спрашиваю отца Алексия.
– Мой, конечно, мой, – отвечает не смутясь. – Это яйцо динозавра.
– Разве можно красить на Пасху яйца динозавра?
– Вот и Юра Рост с тем же вопросом пришел ко мне в храм на прошлую Пасху, принеся это огромное окаменевшее яйцо. И тут я подумал: нигде в Типиконе не написано, что нельзя освящать яйца динозавра. Да и вообще: оно же – яйцо, символ зарождения жизни, к тому же – древней, никто ж не отменял эволюцию. Словом, мы красиво написали на нем «ХВ» – Христос Воскресе, – освятили, и теперь оно тут лежит у Юры. Хорошая история. Важно ведь чувство, с которым ты совершаешь то или иное действие, с каким сердцем ты это делаешь, во что веришь. Так?
– По-человечески это очень и очень понятно. Но как человек с такой жизненной позицией, с таким живым и блестящим умом, образованный и красивый внезапно выбирает вот этот путь: стать священником. Кажется, вы, с вашим темпераментом, должны были об этом не раз пожалеть.
– Я ни разу не пожалел. Хотя, конечно, это кардинально отличается от того, как я себе представлял жизненный путь. То есть не так. В самом начале я ничего себе не представлял. Просто в юности, в 1988 году, я однажды пришел в Псково-Печерский монастырь. И попал на службу, которую служил отец Иоанн Крестьянкин. И вот он выходит на проповедь в своих очочках с тетрадочкой, потому что он, несмотря на свою святость уже прижизненную и опыт духовной жизни, готовился к каждой проповеди. Вот он начинает проповедовать. И… И дальше что-то произошло. Я вдруг отчетливо понял, что я вот так хочу быть священником! Я не понимаю, откуда эта мысль во мне родилась, но вдруг она явственно прозвучала и в сердце, и в голове. Понимаете? Я оттуда вернулся к своему духовнику, рассказал о том, что пережил, и он мне сказал, что он долго от меня ждал этого. И это меня совершенно поразило.
– Всё же очень неожиданное решение для молодого человека.
– Абсолютно. Я никогда об этом не помышлял. И вдруг как какая-то вспышка, озарение. И полное понимание того, что это – мой путь. А у меня при этом – ни семинарского опыта, ни семинарского образования, ни-че-го.
– И это конец восьмидесятых – начало девяностых, да?
– Да. И я начинал служить в 1990-е годы, когда церкви отдавались массово, священников не хватало и кого только не рукополагали. Оглядываясь сейчас на это время, с ужасом вижу картину: мы, молодые священники, были просто пушечным мясом. Вы не представляете, какое количество из нас, рукоположенных в тот период, потом были запрещены в служении, бросили священство, ушли из церкви… Понимаете, мы стали священниками на высокой романтической ноте, но совсем не были подготовлены ни нравственно, ни морально, ни богословски. А это девяностые, сложное время, когда не просто никто ничего не понимал, а когда жизнь священника – это одновременно и страшная, ужасная, безнадежная нищета, и противостояние всему миру. Это храмы, превращенные в туалеты. Это люди, тоже превращенные в туалеты. И зловоние такое, с которым человек вообще не может справиться: священники, мои друзья, сходили с ума, срывались, отчаивались.
Думаю, мы не были готовы лицом к лицу столкнуться с реальным миром, с людьми, которые к нам шли.
Не все из нас были рукоположены в центральных городах, где приходы состояли сплошь из интеллигенции. Да и интеллигенция в те годы была ого-го какая – советская; с такими вывертами, с такими знаниями и с такой путаницей из религии, оккультизма и эзотерики в голове, что так, с наскоку, не распутаешь.
– И вас куда отправили?
– В Каширу. Это сто первый километр от Москвы, понимаете? Ни одного вообще трезвого мужчины на приход. Мне тридцать лет. Я только-только рукоположился, у меня только-только родился ребенок. И вот матушка идет с одной из женщин, которые в церкви помогают, по городу Кашире с коляской, в которой малыш, и эта баба Галя говорит моей Машеньке: «А вот тут вот муж жену топором убил в этом доме. А в этом доме жена мужа отравила. А здесь сын отца топором зарубил». И прогулочка такая по всему городу. Маша возвращается, у нее волосы дыбом и слезы в глазах. «Поехали отсюда, поехали, пожалуйста. Мне здесь страшно жить». А куда мы поедем?
Если честно, то тяжелейший крест оказался. Для меня эти три года в Кашире – это почти вся моя жизнь. По времени – меньше жизни, которая оказалась впереди и которая была прежде. Но по опыту, по переживанию и по тяжести – гораздо больше.
– Чему вас эта жизнь научила?
– Жалеть людей. Знаете, ведь, говоря по чести, кем я пришел туда? Тридцатилетним московским интеллигентиком с завышенным пониманием о себе и с такой же меркой к людям. Ох, сколько я дров там наломал в первое время. И как они меня вытерпели, эти несчастные женщины каширские, как я их за это благодарю, как люблю! Они меня научили самому главному и самому простому: вначале надо просто понять и пожалеть. А остальное – потом. Я сейчас думаю, что с этого на самом деле всё во мне нормальное и начиналось.
– И сейчас – то же? Сейчас такие же смущенные временем люди приходят? И тоже: понять и пожалеть?
– Очень разные люди приходят теперь в храм. Когда приходят молодые люди – их много, они приходят с огромным количеством вопросов непонимания мира и себя. Они совершенно дезориентированы: немыслимое количество информации, уйма правд и истин – взаимоисключающих. И люди теряются, отступают…
Другие приходят люди с непониманием Бога после пережитой трагедии. И их очень много. То есть, понимаете, есть люди, для которых вопрос потери близкого и пережитой трагедии настолько болезненный, что они исключают его из повседневной жизни, но продолжают жить в трагедии неответа. А другие не могут жить так и идут в церковь. И это никакая не вера, конечно. Это вопрос обвинений к Богу.
– А вы со своим вопросом как справились?[40]
– Никак.
– Вы не ответили, но и не закопали его?
– Я не закопал его, конечно, но я просто больше его не задаю. Потому что еще до того, как я смог этот вопрос задать, сформулировать, я уже получил ответ и принял его. Вся моя сегодняшняя жизнь до конца дней будет пониманием этого ответа, который не решение задачки в формате: «ответ на такой-то странице».
– Хотя как раз такого ответа любой бы человек и ждал.
– Когда Бог отвечает на твой вопрос, он не отвечает тебе сиюминутно, но он дает тебе понять, что вот есть открытая дверь. Если ты в нее войдешь, то ответ будет. Для меня еще тогда эта дверь открылась. И я думаю, что буду идти всё дальше и дальше и этот ответ будет открываться. Потому что не бывает быстрых ответов на сложные вопросы, но, если ты увидишь открытую дверь, значит, ты сможешь в нее войти.
– Вы часто свой пример приводите людям?
– Нет. В исключительных случаях. Только если я вижу, что человек должен мне довериться, поверить, что я говорю не просто со стороны, как это обычно многие говорят, потому что не имеют опыта личного. Ведь в этом случае все ответы – они бессмысленны. Но когда человек понимает, что ты такой же и что ты его понимаешь, тогда он начинает доверять и может пойти за тобой. И если вопрос встает именно так, то я говорю о своем личном опыте.
Несколько лет назад в жизни отца Алексия произошло знакомство, сильно на него повлиявшее и во многом предопределившее всё то, что теперь происходит в храме Святой Троицы в Хохлах. Как сам он говорит: «Ничего не предвещало. Я ехал в аэроэкспрессе в Шереметьево, должен был куда-то лететь, читать лекцию. В поездке листал фейсбук. Ну, знаете, мы так часто все делаем, чтобы убить время. И вдруг увидел пост Лиды Мониавы[41] о девочке, которая мечтает об айпаде. А мне за два дня до этого кто-то из прихожан, кажется, на Рождество, подарил айпад. Но мой старенький айпад у меня, между тем, был и исправно работал. Я думаю: ну, мне-то два айпада не нужно! И я тут же написал Лиде, что могу свой подарить. Спросил: как передать. А Лида ответила, что так не пойдет, вы возвращайтесь из командировки, сами приезжайте и подарите свой айпад лично девочке. Так и поступили. Я приехал в НПЦ “Солнцево” и познакомился с девочкой Маржаной Садыковой из Дагестана. Оказалось, что и она, и ее мама – христианки: мама неожиданно подошла и взяла у меня благословение. Я подарил свой айпад. Но дальше… Дальше я никуда не смог от этой девочки деться. Маржана стала очень важным для меня человеком. Понемногу я стал приводить к ней ребят из храма, ее ровесников, тринадцати-четырнадцатилетних ребят. Они пели песни под гитару, болтали, в какие-то настольные игры играли – Маржане было тяжеловато ходить. Потом у Маржаны появилось новое увлечение: фотография. И мы все ездили к ней на фотосессию, даже выставка была организована Маржаниных работ – прекрасная совершенно. Маржана была неизлечимо больна. И она это понимала. И, вы знаете, она меня потрясла своим отношением к подступающей смерти. Она всё понимала и ожидала пришествия смерти, но ее это вовсе не лишало присутствия жизни. Единственное, она очень переживала за свою маму. Она говорила мне: “Когда мне плохо и когда мне очень больно, мне не хватает сил скрыть эту боль от моей мамы”. Вы понимаете, какой потрясающей Маржана была? Я думаю, что она сделала для меня очень много. Она – светлый лысенький ангел – так меня воспитала за этот период. Так научила верить в Бога и вечную жизнь! Это было что-то очень важное. И так я остался в хосписе. Я просто потом никуда не смог от этого хосписа деться. Потом было много других детей, много детей. А потом получилось так, что теперь не я уже в детский хоспис хожу, а хоспис приезжает к нам по субботам. У нас тут бывает литургия для детского хосписа, куда приходят все наши прихожане, они уже дружат семьями, общаются, мы стараемся быть рядом».
– Вы практически каждый год бываете на Днях памяти – специальных днях, когда встречаются родители, потерявшие детей. Что вы говорите этим людям?
– Чаще всего нечего сказать. Я не знаю, что говорить, боюсь говорить, не знаю, нет ли в моих словах чего-то фальшивого, чего-то ложного. Я говорю не очень много. Но потом, когда у меня есть возможность, я стараюсь просто побыть рядом, подержать за руку, обнять, может быть, если уместно. Нет таких слов, которые можно было бы сказать человеку, у которого умер ребенок.
– Но как правило, именно священники рассказывают родителям безнадежно больных детей или родителям погибших детей, что дети их болеют и погибают за грехи.
– Да. И это страшные слова. Знаете, откуда они берутся? От человеческой беспомощности, от необладания опытом страдания. Разумеется, все – и даже все священники – необязательно должны обладать опытом страдания, но все должны обладать опытом сострадания, потому что страдание и сострадание в конечном итоге в человеке производят то же самое действие. И если у тебя нет опыта сострадания, скажи: «Я не знаю, я не умею, я не могу об этом говорить», чем искать формальное: «Ответ на странице тридцать шесть. За ваши грехи». И всё. Это убийственный ответ.
– Но мне кажется, в существующей концепции церкви ответ священника «Я не знаю почему» – просто не предполагается.
– Священник обязан говорить: «Я не знаю», когда он не знает, и не должен врать и строить из себя пророка.
– И это не подорвет его авторитет?
– Авторитет священника не в его всезнайстве. Авторитет священника – вещь такая, условная. По мне так может священник вообще никаким авторитетом не обладать. И худого не будет. Я помню рассказ у Майи Кучерской про одного батюшку, который служил в тихом-тихом маленьком сельском храме. Голос у него был тихонький-тихонький, и слуха у батюшки не было. Он давал возгласы какие-то некрасивые, и хор у него всё время пел гнусаво, и батюшка не умел хорошо проповедовать, но когда этот батюшка-неумейка неавторитетный умер, все свечи в храме зажглись сами собой. Понимаете?
– Но, смотрите, кого-то вдохновит история батюшки, а кого-то – чудо зажжения свечей. Не кажется ли вам значительной роль церковных иерархов в том, что россияне имеют довольно извращенное представление о христианстве? В том смысле, что люди верят не в Бога, а в чудо: в мироточащие сосны, в целебные земли, в исцеляющие камни, а церковь посещают просто потому, что это теперь нечто вроде обязательной программы.
– Всё это, к сожалению, есть. Народ у нас порой такой благочестивый и верующий, с такой тонкостью разбирается в свойствах святой воды и прекрасно расскажет, какая икона Божьей Матери от какой болезни помогает, но, к сожалению, Евангелия он не читает. Это большая проблема. И об этом еще Лесков писал – о том, что «русский народ был крещен, но не просвещен».
И как раз в этом я вижу одну из главных задач церкви: научить людей любить Евангелие, научить людей прежде всего встретиться со Христом. Потому что так легко полюбить церковную жизнь с ее огромным количеством богослужебных символов, богослужебного круга, с прекрасным пением, с чудными иконами, архитектурой, колокольным звоном – чем угодно, так легко полюбить эту церковь, не полюбив Христа. И за эту церковь потом бороться, мундир этой церкви защищать, от ее имени выступать. Это огромный соблазн – он может пройти незамеченным даже для кого-то из священников. Потому что земная церковь – огромный мир, который вполне может жить собственной жизнью.
Чего, в среднем, человек от Бога хочет? Того, что мы желаем друг другу на праздники: здоровья, успехов в труде и личной жизни. И если ты подходишь к чудотворному дереву или к чудотворному носку, к чему угодно, то это понятное действие, дающее тебе уверенность в том, что ты сможешь получить желаемое. Поэтому самое популярное у нас – это набрать святой воды, получить маслица освященного, чего-то еще, чем можно мазаться, что можно пить, чего можно касаться, что в этой жизни тебя будет укреплять, бодрить и исцелять.
– Ну это ли не язычество?
– В эти моменты церковь остается неуслышанной. Вот у нас есть молитва анафоры, молитва литургии Василия Великого. Священники по многовековой традиции читают эти молитвы тихо в алтаре про себя, и народ уже не слышит их. А там такие слова: «Господи, даруй им вместо земного небесное, вместо временного вечное, вместо тленного нетленное». То есть человек приходит за земным, а церковь ему: «Подожди. Подумай о другом». И люди этого не слышат! А если бы услыхали, то слышали бы, наверное, сам голос Христа. И тогда бы все успокоились и уже не прикладывали бы свои части одежды к чудотворным деревьям, понимаете? А просто понимали, что есть, конечно, святыни. Но они существуют не для того, чтобы мы от них заряжались, а чтобы мы их почитали как память о тех, кто в этом мире вместо земного выбрал небесное.
Пока же всё это – сплошная катастрофа: мы молимся вдруг великомученику Пантелеймону о здоровье, потому что жития мы не читали и не знаем, как его, несчастного, терзали. А если бы знали, так помолились, быть может, о том, чтобы хоть немножко нам такой веры иметь, как у Пантелеймона, не бояться страдать за Христа, как Пантелеймон? Может, это главное?
Ведь никому пока не приходит в голову молиться о здравии и богатстве нашим новомученикам, исповедникам российским, которые нам по возрасту – деды. Это настолько очевидно, что нельзя просить у людей, которые прошли жуткие мучения сталинских застенков, земного благополучия.
Но стояния в правде, стояния в вере и мужестве Христа у них тоже никто не просит. Как-то мы до этого еще не доросли.
– Хотя восемьдесят процентов россиян считают себя православными.
– Процент у нас, как известно, всегда один и тот же. Во всех подсчетах.
– Но, быть может, церкви надо бороться не за процент, а за качество?
– Вообще бороться не надо. Потому что всякая борьба приносит только вред. Знаете, Катя, всегда невероятно тяжело говорить о качественном изменении человека. Потому что внешние параметры – они очень легко определяются, да? А внутренне человеческая жизнь видна только Богу, ее никаким таким духометром не измеришь.
– Но кто, если не вы, священники, должны первыми отмечать перемены в обществе? Этот пресловутый градус ненависти, наэлектризованность, которая теперь в каждом автобусе, где, кажется, одно неосторожное слово – и на тебя бросятся с кулаками. Или мы в разных автобусах ездим?
– Я думаю, что автобусы у нас одинаковые. И люди в них ездят всё те же: наэлектризованные, накрученные, испуганные, очень испуганные тем, что в магазинах цены скачут, что, не дай Бог, начнется война, потому как вот эти страшные ура-патриотические призывы о том, что мы всех победим и все враги будут повержены, звучат отовсюду, но больше пугают. Потому что когда ты на площади горланишь вместе со всеми, тебе кажется, что ты такой смелый и могучий, да? А когда ты один возвращаешься в автобусе, это совсем уже другое. Тебе становится страшно, ты понимаешь, что надо возвращаться в квартиру: уметь работать, кормить свою семью, защитить и уберечь тех, кого ты любишь. А ты сможешь? Испуганность – мне кажется, основная тональность мира, в котором мы с вами живем. И это невероятно тяжело. Потому что испуганный человек не умеет радоваться, он всё время находится в позиции напряженной защиты, потому что ждет, что на него кто-то нападет. И в нем копится эта агрессия «ответного» удара: ведь он ждет схватки. И поэтому мы так легко взрываемся, легко начинаем ненавидеть. Потаенные наши страхи выплескиваем наружу. И, надо сказать, жить в этом, наблюдать это – жутковато.
– Лекарство от этого есть?
– Вы же понимаете. Я – священник. И лекарство, которое я могу предложить, – это Евангелие, это милость Божия, это молитвы ему. В очень тяжелом положении, когда ученики Христовы были окружены злобой, когда, того и гляди, Учителя должны были арестовать, а их всех – заставить молчать, применив жестокие санкции, Христос говорит им: «Не бойтесь, потому что я победил мир». И эта победа – не победа в политической борьбе, это не победа путем закрывания, скажем, газопроводов, это не победа, принесенная оружием. Это победа, которую он принес любовью. То же и я могу сказать: не бойтесь, потому что любовь побеждает.
– Это такой универсальный рецепт, трудно применимый в жизни, где по большому счету за пределами круга родных и близких нас никто не любит: правители (часто, между прочим, посещающие церковь) – не любят, законодатели – не любят. И чиновники – тоже не любят.
– Вы неправильно ставите вопрос. Мы хотим все быть любимыми – это ясно. А хотим ли мы любить? Прежде чем такую претензию миру предъявлять – меня никто не любит, спросите себя: а я люблю кого-нибудь? И вот в этом месте начинается победа над этим миром: не я ожидаю любви по отношению к себе – не дождешься, а я – люблю. И это очень, очень непростая любовь. Но истоки у нее просты и понятны: если мать не любит своего ребенка, он тоже не будет ее любить; он будет мучиться от невозможности любви, он страдает и будет искалечен. Но научиться любви он может тогда, когда вот эта любовь – она всё время друг другу себя отдает.
Поэтому – ну чиновники, ну пускай они нас не любят. Но я могу любить не какого-то абстрактного чиновника, да? А постараться любить, по крайней мере, соседа по лестничной клетке, хотя он неприятен и всё время мусорит. Я могу научиться преодолевать какие-то вещи на самом коротком расстоянии сначала. И не отвечать злом на зло, ненавистью на ненависть, постараться действовать, не исходя из справедливости, а исходя из милости. Ведь мы все ждем к себе милости, а к другим – справедливости. И это нечестно.
Проповедь отца Алексия Уминского, произнесенная на Пасху 2019 года в московском храме Святой Троицы в Хохлах
Христос воскресе!
Сегодня мы слышим одно из самых важных евангельских чтений в пасхальный период – Евангелие, посвященное встрече Иисуса Христа с самарянкой у колодца Иаковлева.
Христос приходит в Самарию, в место, казалось бы, совершенно чужое для Него и как для иудея, и как для воплотившегося Мессии. Самаряне отвергли Истину, смешались с язычниками, у них был свой закон, свое место и свой образ поклонения Богу. Обычно иудеи, когда шли в Иерусалим, обходили Самарию, потому что, как сказано в Евангелии, «иудеи с самарянами не сообщались». Не сообщались до такой степени, что никогда никто из самарян не подал бы иудею воды в жаркий день, не пустил бы к себе на порог, не перекинулся бы с ним словом. Вот такое место чужое. Казалось бы, что там делать Христу? Кто может Его здесь услышать, кто может Его здесь понять?
Но Господь в Евангелии всегда нам показывает, насколько Божии законы не похожи на человеческие, насколько милость Божия не сравнима с человеческой справедливостью и как Господь способен открыть Себя тому, кто кажется совершенно не способным принять Истинного Бога. Христос встречается у колодца с женщиной-самарянкой.
Мы видим в Евангелии, что Христос окружает себя апостолами, мужчинами, которые потом воспримут благодать священства. Женщины же, жены-мироносицы, только служат Христу своим имением, принимают Его в своем доме, готовят для Него пищу. Но главные, конечно, – апостолы, перед их глазами Господь творит чудеса, с ними говорит о тайнах Царства Небесного.
И тут вдруг Его собеседницей становится женщина: женщина из чужого племени, женщина иной веры, и не просто иной веры, а настоящая еретичка. Самаряне были классическими еретиками того времени, которые взяли часть Истины, исказили Ее и придумали свою собственную истину. Но из этого разговора выясняется, что она еще и блудница, что было у нее четыре мужа, а с пятым она живет вне всякого закона.
Вот с такими есть ли о чем говорить? Что ей-то от Бога надо, этой женщине? Что подобная женщина может у Бога попросить? И вдруг Он ей открывает о Себе удивительные вещи, которые Он и апостолам о Себе не говорил. Он не говорил им напрямую, что Он – Христос, что Он – Мессия, а этой женщине Сам говорит, кто Он такой. Она отвечает: «Господи, вижу, что Ты пророк».
Мы можем вспомнить случаи из Ветхого Завета, когда кто-либо из женщин общался с пророком. Вот пророк Елисей приходит в дом к женщине, а у нее жизнь не складывается: муж старик и ребенка нет. И она сразу говорит: «Ты пророк, а у меня ребенка нет». И тот ей отвечает: «Ну что ж, я выпрошу для тебя у Бога ребенка». И у женщины рождается сын, а когда ребенок заболевает, пророк исцеляет его. Он дает всё, что человеку надо для полноты бытия.
И вот перед женщиной-самарянкой – пророк, от Господа посланный человек. О чем она Его спрашивает? Она не просит свою семейную жизнь устроить, ни мужа хорошего ей послать, ни этого, который прибился, сделать ее мужем. Она совершенно забывает о себе, о своем земном неустройстве, а вдруг начинает спрашивать о главном: «Как Богу послужить?»
И тогда Господь открывает ей истину. Он Себя ей открывает как Мессию и говорит очень важные слова о том, как надо кланяться Богу, о том, что Бог есть Дух, и только те, кто по-настоящему Ему служат, поклоняются Ему духом и истиной.
Очень простые и такие на самом деле непростые слова, потому что услышать их по-настоящему может только тот, кто не ищет у Бога своего, который не ищет у Бога земного, который не ищет у Бога божьего, а ищет Самого Бога.
На своем религиозном пути человек часто ждет именно божьего: божьей помощи, божьей силы, божьего заступления, божьего исцеления, божьего покрова – всё время божьего, божьего, божьего. А Самого Бога он не ищет, потому что Сам Бог человеку неинтересен. Ему важно – что я могу от Тебя еще получить. И за это я Тебе тоже дам что-то свое. Не себя самого, а свое, что у меня есть. Могу поклоны положить Тебе тысячу раз, могу поститься строго, я даже добрые дела могу делать, но только от сих до сих. Мое время Тебе будет посвящено так: утром пятнадцать минут, вечером пятнадцать минут, в течение дня я что-нибудь сделаю, даже на храм пожертвую, свечи поставлю. Вот это мое я Тебе дам, ну а всё остальное оставлю себе.
Вот так складывается жизнь человека в религии. Но жизнь религиозная и жизнь духовная – это вещи разные. Если Самого Бога человек не знает и, в общем, не очень хочет знать, то ни о какой духовности и речи быть не может и любить Бога он не может. Ведь любить можно того, кого ты знаешь очень-очень хорошо, кто тебе нужен не частично, не время от времени, а до конца.
Бог же нуждается в человеке всегда. Это странно звучит, что Бог нуждается в человеке, но сегодняшнее Евангелие нам это показывает. Он – Источник живой воды – приходит к источнику земному, к колодцу, для того чтобы найти и встретить именно эту женщину. Она Ему нужна.
Самарянка приходит к колодцу в самое жаркое время, когда там никого нет, чтобы ее никто не увидел, чтобы никто за спиной не шушукался: вот, понимаете ли, четыре мужа у нее было, а теперь пятый. Она приходит и встречает там Христа, Которому она нужна, Который ради нее пришел в это время к колодцу, чтобы ее найти, чтобы с ней беседовать, чтобы ей открыться.
Мы нужны Богу всегда. Он к каждому из нас так приходит, Он каждого из нас таким образом ищет и находит. Находит не для того, чтобы взять наше, а чтобы взять нас самих и с Собой столкнуть. Для того, чтобы мы к Нему прикоснулись, чтобы и мы так же к Нему отнеслись, чтобы и мы в Нем так же нуждались и понимали, что если хоть на минуточку отойдешь от Бога, забудешь о Нем, отвернешься от Него, всё – ты умер, тебя уже нет, ты совершенно себя потерял.
Духовная жизнь для человека начинается именно тогда, когда он может коснуться Бога и ожить, как ожила самарянка и пошла свидетельствовать о Нем, что Он есть Источник вечной жизни. Она пошла к тем, кого боялась, кого не любила, к тем, которые ее не любили и от нее отворачивались. И вдруг они в ней что-то такое увидели, что поверили ей. Ей – поверили! И сами пришли ко Христу, чтобы Ему поклониться и сказать, что уже не по ее словам веруем, но сами видели и узнали, что Ты воистину Христос.
Духовная жизнь – она такая, когда человек в Боге всегда находится, когда Бог становится его настоящей пищей и питием. И мы причащаемся Святых Христовых Тайн, потому что Он – наша истинная пища, истинное питие, без которого мы не можем жить. Поэтому мы и жаждем причащения Святых Христовых Тайн, поэтому мы и мучаемся, когда у нас нет возможности причаститься, поэтому так важны для нас и слова Христа о Его пище: «Пища Моя – это творить волю Отца Моего Небесного».
Для нас тоже это очень важные слова, потому что воля Отца нашего Небесного, о которой мы просим всякий раз в молитве «Отче наш», для многих является чем-то странным и страшным. Человек почему-то привык бояться воли Божьей или думать, что это какой-то особенный секрет, который скрыт от него за пятью замками, что есть специальные люди, святые, и только они знают волю Божью про нас, а мы-то сами ее знать не можем.
Но человек не знает воли Божьей по одной простой причине: потому, что он не хочет ее знать. Он боится ее знать. Он думает что, если он о себе волю Божию узнает, она его раздавит, лишит всяческого земного благополучия, всего того, что он в этой жизни так хочет, так жаждет, так усиленно и мучительно строит. Бог ищет каждого из нас, чтобы явиться и раскрыться нам, а мы всё время уходим: «Нет, Господи, как страшно нам знать волю Твою!» Что же – всё кончится с этого момента? Нет, всё только начнется.
Воля Божья – это пища и питие. И тот, кто хочет ее узнать, кто ищет ее в своей жизни, – самый счастливый на свете человек, потому что воля Божья – это забота Его о каждом из нас.
Вот мы видим в Евангелии, что был замысел Божий о самарянке. И она этот замысел в себе раскрыла, потому что встретила Христа. И есть конкретный замысел Божий о каждом из нас, который раскрывается при встрече с Богом. Если мы захотим его узнать, мы будем постоянно думать: «Господи, как бы мне узнать волю Твою обо мне? Яви мне Свою волю!» Когда человек живет этим чувством, этой радостью, он раскрывает себя во всей полноте перед Богом и перед всеми остальными.
Это и есть духовная жизнь, о которой сегодня говорит Христос: знать волю Божью, жить волей Божьей, сделать пищей своей волю Божью. Вот такое Евангелие предлагает сегодня нам Церковь Святая. Вот такие слова удивительные мы слышим: тяжелые, сложные, полные такого смысла духовного, о котором нам надо серьезно размышлять, всё время думать о себе: «Я с Ним? Я Его слышу? Слышит ли Он меня? Я Его ищу? Нуждаюсь ли я в Нем постоянно? Что я хочу от Него?»
Аминь.
Интервью девятое Татьяна Тарасова
«Когда мой дедушка попал в больницу, – рассказывает пианистка Катя Сканави, – первой в его палату влетела Таня. То есть как – влетела. Протиснулась. Потому что одной рукой она обнимала огромный ламповый – это же 1970-е – телевизор, “чтобы Сашка не скучал”, другой – несла тяжеленную сумку с бульоном, котлетами и пюре. Эту Таню никто не знает. Никто, кроме совсем близких».
Я готовлюсь к интервью, читаю книгу Тарасовой «Красавица и чудовище», но там тоже – почти ничего про ее непубличную жизнь. Ни хотя бы одним, маленьким абзацем, ни между строк. Никак. Крупным планом отец, великий советский хоккейный тренер Анатолий Тарасов, стадион «Юных пионеров», откуда началась Тарасова-спортсменка, а потом, после травмы, Тарасова-тренер, соревнования, ученики, программы, медали.
Я пытаюсь что-то найти, о чем мне мельком, обрывочно, говорили ее друзья: как она десятки лет помогает нескольким воспитанникам детских домов и у тех уже – семьи и дети; как она сама изо всех сил пыталась быть лично счастливой, но сильный и сложный характер, помноженный на трагическую случайность, не позволил; как истово она любила своего мужа, великого пианиста Владимира Крайнева, как они были счастливы друг с другом и – каждый по-своему – возможностью быть лучшим в своей профессии даже не в стране, в мире и как эта великая история споткнулась о другую, об историю распада страны, разрушения привычных связей, скукоживание возможностей, вынудившее их обоих уехать на заработки, провести несколько важных лет в самолетах и на телефоне.
Ничего этого она не рассказывает. В каком-то женском журнале нахожу веселые строчки о том, что Тарасова, оказывается, умеет за полчаса нарубить тазик новогоднего оливье. Что это о ней говорит? Как минимум то, что ей было для кого рубить этот тазик. Снова перезваниваю Кате: «Какая она? Как с ней говорить? Как вести себя так, чтобы разговор – получился?»
«Это невозможно объяснить в двух словах, – отвечает Катя, – но она – настоящая. Могила Нины Зархи, моей мамы, и могилы Таниных близких рядом. Каждый раз, когда я приезжаю на кладбище, я вижу там цветы. Их привозит Таня. Как она находит время? Как находит силы, работая на износ, я не знаю. Но она привозит моей маме цветы. А еще к каждой новой концертной программе моей дочери Саши[42] Таня специально заказывает у своей портнихи шикарные платья и присылает их нам. Я говорю: “У Сашки есть платья, ты всё присылала пару месяцев назад!” Но Таня тверда: “У девочки должно быть новое платье. Померяет – пришли фотографию”».
Интервью Тарасова согласится дать только в декабре 2018 года, после того как я приду на открытие памятника ее отцу. Квадрат перед ледовым Дворцом ЦСКА забит выстроенными в шеренги мальчишками. Тарасову слышно плохо, но никто не шелохнется, никто не болтает. Порыв ветра доносит: «Сегодня я очень счастлива». Мальчишки ликуют и машут цветами – у каждого по гвоздике. Играет духовой оркестр, медь блестит на декабрьском солнце. С памятника снимают покрывало, Тарасова смотрит на этого, рукотворного, отца с дочерней нежностью, беззащитно. Со стороны видно, как они похожи: дочь и отец – крупные, крепко сбитые, как будто находящиеся в постоянном мышечном напряжении. И как будто бы совершенно неспортивные: легче представимые в уюте домашнего торшера, чем на катке. Но вокруг нее – бывшие и нынешние хоккеисты, чиновники из спорткомитета и, наконец, сорвавшиеся с места мальчишки, вразнобой заваливающие ее цветами. Она стоит с охапкой цветов, в лиловом шарфе, перекинутом через плечо, и улыбается. И каждому, с кем встречается глазами, повторяет: «Как я сегодня счастлива. Совершенно счастлива».
– Считаете ли вы, что этот памятник, да еще и несколькими годами раньше вышедшая картина «Легенда № 17» – это своего рода официальные извинения, принесенные страной за травлю Тарасова, за годы, что он прожил в забвении, лишенный любимого дела?
– Нет-нет, что вы. Неужели вы думаете, что у нас принято извиняться? Конечно, нет. Да это никому и не нужно. Никакие извинения не нужны. Я очень рада, что Фонд Александра Карелина[43] мне помог, что [скульптор] Жора Франгулян сделал отцу такой прекрасный памятник, рада, что министр обороны России нашел возможность дать папе именно это место – лучшее из возможных, хотя наши муниципальные депутаты все эти годы утверждали, что папиному памятнику нигде в нашем районе места нет. Ну вот видите, есть, оказывается, причем самое правильное место на Земле. Папа каждый день ходил по этой дорожке в ледовый дворец на работу и как раз на этом месте впервые встретил [Владислава] Третьяка, знаете?
– Нет, не знаю.
– Так и было: и папа ему, шестнадцатилетнему, сказал: «Ну всё, молодой человек, завтра в шахту. Приходите на тренировку».
– На открытии памятника вашему папе передо мной стояли пацаны лет шести-восьми, я одного спросила: «Ты в курсе, кому памятник?» И он очень серьезно ответил: «Человеку, который придумал хоккей».
– И он прав! Прав. У нас сейчас принято кем-то гордиться. А папой можно гордиться. Он для этого подходит.
– Ваш характер похож на папин?
– Мне кажется, я терпеливее.
– В смысле возможностей долготерпения или в смысле способности к компромиссам?
– Нет, к компромиссам я не способна. В том, что меня по-настоящему волнует, я не могу идти ни на какие компромиссы, да и, собственно, зачем? Папа вообще был не способен ни на какие компромиссы. Потому что знал совершенно точно, что делает дело, в котором разбирается лучше всех. Время доказало, что так оно и было. Но одно дело – ты это знаешь, а другое – обстоятельства твоей жизни. В этих обстоятельствах система папу чуть не перемолола.
В пятьдесят пять лет, на самом пике, у папы отняли работу[44], которая составляла смысл его жизни. Отняли в своей стране, которую он этой своей работой прославлял. Всё отняли: руководство сборной, молодежную команду, клуб, который он создал, и возможность выйти на лед своего родного катка. Это было зло не только для него, но и для страны, как оказалось, – запрет моему отцу на работу. Его пятнадцать лет не показывали по телевидению и отлучили от того, что он любил больше всего на свете.
Но даже в этом состоянии он не мог просто сдаться: придумал [еще в 1964 году] юношеский турнир «Золотая шайба», носился с ним. Он ни одной секунды не сидел сложа руки. Я помню, знаете, на даче – он же долго после случившегося жил на даче – к своим растениям присаживался на одну ногу, по-хоккейному. Молчал и думал, думал и молчал. Это время ему далось очень тяжело. Одиночество и отсутствие хоккея в жизни.
– Вы, ваша сестра Галя, мама – вы могли говорить с папой о том, что случилось? Каким-то образом можно было его пожалеть?
– Понимаете, все мы дома всегда жили ради папы, папиным делом. Я выросла в семье человека, чья жизнь была посвящена хоккею. И нашу жизнь мама так выстраивала, что мы понимали: папа делает грандиозное дело, живя при этом в двухкомнатной квартире с мамой, бабушкой, со мной и Галей. То есть рядом со мной жил великий человек, и я знала об этом каждый день. Я, кстати, помню момент самого большого своего счастья, это тоже связано с папой: когда его команда выиграла чемпионат мира, мы с Галей целовали на экране телевизора всех наших игроков.
– Прямо в экран целовали?
– Да, в экран. А потом появлялись папа и [старший тренер сборной СССР по хоккею Аркадий] Чернышев. Я это мгновение помню. Это – первое самое большое счастье, которое у меня было.
– А второе?
– А второе – когда я была на золотой свадьбе своих родителей. Знаете, мы с Галей любили папу бесконечно, но больше мамы папу не любил никто. Это исключительно счастливое стечение обстоятельств: папа выбрал себе ту единственную, которая его не предавала никогда.
– Что значит «непредательство»? Ей не важно было – на щите или со щитом, главный тренер, не главный?
– Это – абсолютно неважно. Ни для кого из нас не имело значения, какую должность занимал папа, мы всегда знали, что он – человек-гора, что он талант, что такие люди рождаются раз в сто лет, может, реже, что он в своей профессии – самый великий, что он всё знает… Конечно, мама жалела его очень и мы тоже очень жалели. Но вслух об этом никто не говорил. Мы понимали, что об этом говорить нельзя, невозможно.
Вы знаете, я же была на том матче [ЦСКА – «Спартак» 1969 года][45], когда папа остановил игру. Мама домой уже уехала, а я ждала папу со своей подружкой-балериной. Он вышел, мы пошли с подругой за ним. Я шла сзади и все время видела его спину. И вот мы идем, а перед ним площадь – раздвигается. Он как пароход шел и раздвигал этот людской поток. И тут кто-то оттуда выскакивает… В общем, у него полголовы волос вырвали. А он шел, не поднимая глаз, как будто ничего не происходит. Как ледокол.
– Вы не подошли к нему?
– Нет. Но я шла за ним, стараясь не отставать. Через день, когда с папы сняли звание заслуженного тренера, я случайно зашла на кухню, где он сидел один. Отец плакал. Понимаете, мы ничем не могли ему помочь. Сильным людям помочь почти невозможно.
– Он же мог уехать из СССР?
– Мог. Но не уехал в Америку работать за три с половиной миллиона долларов в «Нью-Йорк Рейнджерс».
– Почему же?
– Как вам объяснить. Видите ли, у великих тренеров есть секреты. Папа был великим тренером. И он считал свои тренерские секреты – секретами Родины, сравнимыми с военными. Он считал, что, уехав туда, он должен будет эти секреты выдать и предаст таким образом свою страну.
– Вы с ним разговаривали об этом?
– Мы, к сожалению, мало разговаривали с ним в это время, я вам объяснила уже почему. Но еще и потому, что я всё время работала. Когда заболел, лечила его. Я в какие только тяжкие не впрягалась, чтобы ему помочь… Это была очень тяжелая потеря. И вот я осталась на этом свете как бы за папу.
– В смысле профессии?
– В смысле семьи. В профессии равных папе не было и быть не могло. Вы знаете, он ведь так и не отдал мне картотеку своих упражнений – тех, которые придумал и разработал для своих спортсменов. Представляете?
– Почему?
– Не знаю. Наверное, считал, что я не заслужила его картотеки. Или хотел, чтобы я придумала свою собственную.
Люди вокруг – желающие сфотографироваться, взять автограф, обнять ее, сказать несколько слов о том, как любят ее или отца, – нас теснят. Ей надо успеть на банкет, потом – на запись телепрограммы. Мы договариваемся увидеться через день. Но встреча всё время откладывается, переносится: тренировка, отнявшая все силы, соревнования, которые она комментировала и потеряла голос, поездка на региональный турнир, после которой адски болит спина. Только через пару месяцев она соглашается встретиться: «Приезжай, Катя. Меня совесть мучает, что я мучаю тебя». Встречаемся на кухне: «Мы ни о чем не будем говорить, пока ты не поешь. Вот драники. Любишь драники? Я – очень люблю. Лучше ешь со сметаной».
Я ем драники в доме заслуженного тренера по фигурному катанию, чьи подопечные выиграли в общей сложности семь олимпийских золотых медалей, у Татьяны Тарасовой, которая с 2000 года участвует в телешоу, посвященных фигурному катанию, и комментирует соревнования, но в последние годы никого не тренирует и не растит учеников. Я понимаю, что надо дожевать и начать именно с этого. Но она сама успевает задать мне с десяток вопросов: «Как драники? Как доехала? Как дети? Как Катя? Как Чулпан?» На кухне работает телевизор. Иногда она вступает с ним в перепалку.
Потом она скажет: «Слушай, ты не обидишься, если я прилягу? Болит спина». Так мы и поговорим. В полумраке большого, наполненного звуками дома, время от времени прерываемыми поскуливанием пуделя Шуры. Он то пытался меня прогнать, чтобы хозяйка отдохнула, то скакал на задних лапах, требуя внимания, то облизывал Тарасовой руки, то требовал еды.
Над тахтой в гостиной – фотография Анатолия Тарасова и самой Тарасовой – маленькой еще девочки. Так получается, что разговор начинается оттуда, где закончился два месяца назад.
– Можно ли говорить о том, что своей тренерской карьерой, своей жизнью вы пытались доказать папе, что достойны быть его дочерью?
– Мой гениальный папа как-то в самом начале мне сказал: «Работай, дочка, деньги будут». И я работала. И больше я ничего не делала. Это было мое любимое занятие – работать. Именно там, где я работала: на льду.
Я работала по четырнадцать часов, по всей стране, я сидела в каждом городе по сорок дней, я получала от этого удовольствие, я растила чемпионов. Когда можно было, тогда и ночью работала: вот в Америке – работала ночью, ставила. Но, видите, это ни от чего не гарантия. И, как выяснилось, никакая не заслуга. Я работала, это было, а теперь – пустота.
– Что вы имеете в виду?
– У меня до сих пор нет ни школы, ни катка. Мне теперь некуда выйти работать. Как будто я за что-то наказана. И не имею того счастья, о котором только и мечтаю: работать, работать тренером на катке.
– Всё, о чем вы мечтаете, – это работать?
– Человек, Катя, у которого за спиной пятидесятидвухлетний опыт работы, я бы сказала – положительный, должен иметь право утром встать и пойти на работу, пойти на каток. У меня этого нет, нету, понимаете, сколько бы я ни просила и ни кричала: дайте каток, дайте школу, дворец, что угодно, я могла бы передавать знания другим, учить других, пока я жива, – нет, никому не нужно. Нет у меня моей работы.
– Это свойство нашей страны или так везде было бы?
– Нет, нигде бы так не было.
– Сколько сил вы потратили на то, чтобы перестать думать о своей юношеской спортивной травме как о событии, которое поломало жизнь и заставило вас пойти совсем не туда, куда вы планировали?
– Слушайте, ну травма и травма – раз, и всё. В конце концов, она меня вытолкнула в тренеры, так что это была счастливая травма. Каждый спортсмен должен быть к травме готов.
– Вы были?
– Нет. Но я это пережила. А что еще делать, когда ты становишься профнепригоден? Тяжело переживала. Молодая же совсем. И время было такое: не было особенно выбора – куда идти, что делать. Это сейчас тысячи дорог – не случилось в спорте, можешь хоть лавку открыть, торговать, к примеру. Можно много что делать. Тогда было по-другому. И папа заставил меня принять решение, которое я сама не принимала, – я же хотела идти в ГИТИС, а он сказал: «У нас артистов не будет. Завтра пойдешь на свой каток, наберешь детей и будешь работать. Надеюсь, что плохим тренером ты не станешь. Всё». В общем, он меня послал туда, где я была счастлива всю жизнь – и счастлива до сих пор.
– Почему вы не взбунтовались? Вы же в ГИТИС хотели.
– А зачем? Это было правильное решение. Кроме того, с нашим папой не очень можно было бунтовать. Но он же был прав, во всём прав! В итоге у меня появилась такая работа, которую и работой не назовешь: счастливое стечение жизненных обстоятельств.
– Ваши первые чемпионы – Ирина Моисеева и Андрей Миненков – совсем ненамного, на каких-то восемь лет, вас младше. Не было ревности: это я могла бы стоять на пьедестале?
– Да ну, это ерунда. Ты же для этого живешь. Ты через него, который на пьедестале, разговариваешь с людьми на своем собственном языке – хореографическом и техническом.
– Но в наставничестве есть и другое тяжелое испытание – отсутствие благодарности?
– Обычно сначала бывает больно – и ты это чувствуешь. А потом уже не чувствуешь – тебе некогда, дальше идешь. У нас некогда печалиться, мы работаем на максимуме. Нужно знать каждую клетку своего ученика, а клетки – они не меняются. И поэтому всегда более-менее можно предположить, что сделает твой ученик, может он это сделать или нет, так поступить или эдак. Но что бы он ни сделал, это всё равно его жизнь. И он может распоряжаться ею, как хочет. Но меня Бог миловал, от меня ученики не уходили.
– Ваших учеников называли «тарасята». Вы, хотя бы мысленно, лишили кого-то из них этого «звания»?
– А что можно вслед сказать? Что тот, который от тебя отвернулся, – плохой человек? То есть ты что, с говном всё это время работал? Значит, это твоя проблема, что ты не разглядел этого, ты что, ослеп или оглох? А если ты его учил, если тебе было с ним интересно, то почему он сразу стал плохой человек, когда захотел по-своему жизнь построить?
Нет, конечно, это не плохой человек. Просто теперь он без тебя, сам. Так и должно быть. Переживать это тяжело. Есть такое чувство, что ты раскрылся, как голубка, которая в воздухе висит, а тебе вот в эту точку, самую нежную, и плюнули. У меня такая была история с одним моим учеником. Тяжело переживалось вначале, а потом – нет. Отпустило.
– Есть же и другой пример – ваши отношения с [Алексеем] Ягудиным, и человеческие, и профессиональные, мне кажутся безупречными.
– Это правда. Лёша – один из самых близких мне людей на свете. И это – мое большое и глубокое человеческое счастье. Это любовь. Лёша – трехкратный чемпион мира, таких людей можно по пальцам одной руки пересчитать. И он честный и верный друг. Таких людей встретить тоже редкая удача. Это когда ты можешь без страха повернуться спиной. Редкость.
– Один из самых невероятных моментов в вашей карьере – слезы вашей воспитанницы Ирины Родниной на пьедестале Олимпиады в Лейк-Плэсиде в 1980-м. Вы были готовы к тому, что она заплачет?
– Да.
– Почему она заплакала?
– Я не могу вам об этом рассказать.
– Сейчас вы дружите с Ириной Константиновной?
– Нет.
– Вы чувствовали себя частью противостояния СССР и остального мира, как вам дышалось внутри страны, переживавшей расцвет застоя?
– Знаете, моя сестра Галя была во всех смыслах очень продвинутая, она великолепно знала литературу, знала обо всём самом живом и интересном, что происходило вокруг, и она меня с собой везде таскала. Мы бегали на Маяковку, где читали стихи молодые поэты, в Политехнический на какие-то вечера, мы знали с Галей всего Высоцкого наизусть. Просто с этим жили. Но у меня и у самой была, что называется, база.
Я же еще девочкой, чтобы больше времени оставалось на тренировки, перешла учиться в школу рабочей молодежи № 18, а это была такая… непростая очень школа. Там, например, учился ансамбль Моисеева, Никитка Михалков, Коля Бурляев. И мы, фигуристы, во всём этом варились, впитывали, общались. Несмотря на то что надо было по два раза в день тренироваться, ты должен был держать уровень: посмотреть все последние фильмы, все премьеры в Москве – мы ходили на генеральные прогоны для пап и мам во всех театрах, на все спектакли в ГИТИСе и Щукинском. Помню, еще только открываешь дверь школы, чтобы наконец пойти поучиться, а уже кто-то бежит, кричит: «Ты знаешь, что сейчас будут показывать?» Ну и несешься со всех ног.
Там я полюбилась и познакомилась со всеми балеринами Большого театра, и этот мир как-то приблизился. Игорь Александрович [Моисеев], который меня любил, пускал на репетиции. Интереснее на репетиции у Моисеева, чем в школе? Ну понятно, интереснее. И он ведь гений! Хотя в школе у нас тоже были хорошие учителя, мы все более-менее прилично ее окончили, не двоечниками.
– Вы не ощущали диссонанс между своим кругом и советским обществом, в котором жили?
– Нет, не чувствовала никакого диссонанса. Почувствовала только, когда стали уезжать из СССР мои одесские друзья. А, пожалуй, еще острее почувствовала, когда в Томске стали преследовать моего друга Моисея Мироновича Мучника и его семью. И это был шок!
Моисей Миронович в то время был совершенно выдающимся директором томского Дворца спорта, где каждое лето тренировалась вся наша сборная, мы там ставили наши лучшие программы. И вот практически у меня на глазах Мучника чуть не посадили в 1982 году за самиздат, дома у них были обыски. А мы очень дружили семьями. Потом я еще переживала за Юлю и Витю Мучников, когда их телеканал ТВ-2 так ужасно закрывали несколько лет назад.
– То есть в советских реалиях вы чувствовали себя свободной?
– Несомненно. Ведь что такое свобода была для нас? Я занималась любимым делом, ходила, ездила куда хотела. Я была абсолютно счастлива в том, что я делаю, мне всего было предостаточно! Мне советская власть снимала лед, у меня был целый каток Стадиона юных пионеров в распоряжении! Что еще надо? Свобода… Я спокойно выезжала за границу.
– Но были спортсмены, которые, уехав, приняли решение не возвращаться в СССР.
– Это уже позже. [В 1979-м] Мила [Людмила Белоусова] с Олегом [Протопоповым]. Но мы уже были взрослые, понимали, что они правильно сделали.
– Почему вы так считаете?
– Потому что они великие, они хотят заниматься только собой и продлять себе жизнь, а тут их зачем-то воспитывают. А им не воспитание нужно было, а работа. Для них надо было строить театр, использовать их по назначению, а не долбить по голове. Вот они взяли да и уехали. Ради себя. Всё правильно. Я никого не осуждаю. Ни тех, кто уехал, ни тех, кто остался. Хотя, конечно, было горько, что такие уезжают. Я помню конкурс, на котором я впервые увидела [Михаила] Барышникова, и была потрясена. Помню, как я носилась в Ленинград много раз смотреть Барышникова. И помню горечь от того, что он уехал [в 1974-м].
– Лично у вас был повод уехать. Несвобода, притеснения?
– Это всё смешно. Да, меня вызывали один раз в ЦК партии. Сказали, что номер [ «Непокоренные»], который я поставила [для Натальи Бестемьяновой и Андрея Букина] на Альбинони, надо снять с программы, потому что они не будут его показывать по телевизору. Я сказала: «Ну не показывайте. Я его всё равно катать буду. У нас есть другие номера, которые вы будете показывать. Показывайте, что хотите, это ваше право».
– Почему они не хотели показывать?
– Ой, им там одна поддержка показалась похожей на крест.
– Так.
– Но это и был крест! И что? Не будете – не показывайте. Миллион других номеров можно придумать – я этой угрозой не очень впечатлилась. Я считала, что, если вызывают, значит, проявляют интерес. А это – неплохо. Они действительно не показали Альбинони, но я делала по четыре номера в год – было из чего выбрать. А этот – и так уже все посмотрели.
– То есть вы довольно бесстрашно с ними себя вели.
– Ни у кого на самом деле нет бесстрашия. Когда говоришь правду, всегда трясутся колени.
– В вашем случае этот риск мог обернуться потерей любимой работы.
– Нет. Тренеров мало.
– Тренер в СССР – это еще и политическая фигура. Хоккей, фигурное катание – это же не просто спорт, это элемент противостояния со всем миром. Как это влияло на вашу работу?
– Я была удовлетворена тем, что делаю, и тем, что мои [ученики] делают. Никто от меня ничего не требовал, не было никаких установок. Понимаете, самые невыполнимые установки – те, которые ты сам себе дашь. Мы пишем свои планы на год – это двенадцать месяцев, по тридцать дней в каждом, мы клеим эти полосы и размечаем часы, это непростое дело. Ты каждый день говоришь себе, что ты работаешь в сборной команде своей страны. Значит, ты должен уметь ответить на вопрос: «Ты зачем работаешь? У тебя результат есть?» Ты все свои планы прежде всего себе пишешь. Потом этим себя мотивируешь, спортсмена своего, потом – сдаешь эти планы в спорткомитет. Тебе за это ни добавят, ни убавят, у тебя просто эти планы примут. И вот ты пишешь, например: «Первое место, второе место», и тут совершенно логичный вопрос возникает: если ты всегда был первым, как ты можешь быть вторым? «За второе место увольняют» – мне папа так говорил, понимаете?
– Среди обывателей – простых зрителей фигурного катания – часто слышны вздохи о том, как сильно снизился возраст точки входа в большой спорт, как помолодело фигурное катание. Эта мода всех тревожит.
– Мода есть только на совершенство: прыгали полтора [оборота] – стали два с половиной прыгать. Два с половиной прыгнули – стали три с половиной. Это же мода на совершенство. Жизнь идет быстрее. Я по телевизору видела, как Путин молодых ученых – им всем меньше тридцати пяти – награждал. Они сделали открытие, которое поможет лечить рак. Понимаете, как круто! Это самый главный сейчас вопрос в жизни. И этот молодой возраст – самое время открытия. Потому что когда еще открытия-то делать, когда ты старый, что ли?
– Но если в пятнадцать лет девочка становится чемпионкой мира, олимпийской чемпионкой и так далее, то куда она пойдет в семнадцать?
– Об этом вы не переживайте. У нас дети – умные и образованные. Они себя найдут. Просто этот спорт помолодел потому, что появилась тренер, которая потрясающе работает с молодежью. Она их растит. И будет растить дальше.
– А во взрослом возрасте сможет не исчезнуть?
– Ну, это надо у нее спросить. Это надо смотреть, сможет или не сможет. Мы же не гадалки.
– Об Этери Тутберидзе довольно редко отзываются хорошо.
– Очень плохо, что редко. Я, например, являюсь ее поклонницей, потому что она двигает мир, понимаете? У нее на пальце земной шарик – и она его прямо так крутит.
– Не завидуете?
– Я не завистливая, может быть, оттого, что я состоявшаяся. И делала я то же самое. И я понимаю, с чем ей приходится сталкиваться. У меня тоже была одна очень хорошая девочка когда-то, когда Леша Ягудин катался. Я тоже с ней думала, что прыгну четыре – два. Я не думала – четыре – три. Думала, четыре – два прыгну, остальное она всё влет прыгает. Она и лутц-риттбергер прыгала, всё без вопросов. И выиграла Олимпиаду. Но у нее начался пубертат.
– И что с ней сейчас?
– Она работает тренером. У нас работа не отменяется, вот это надо понимать и держать в голове. А Юля [Липницкая] с Ленкой [Ильиных] – они вообще расписаны по всему миру, востребованы, вы об этом знаете?
– Что они делают?
– Проводят мастер-классы. Сейчас в Японии. Будут в Канаде, в Америке. А кто таких девочек не пригласит? Они сами это [Академию фигурного катания] придумали. Придумали, и пошло. И делают.
– Ваш муж, великий пианист Владимир Крайнев, дал вам идею первого ледового театра страны – театра «Все звезды». Почему это закончилось?
– Театр «Все звезды» просуществовал полтора десятка лет. Это была совершенно мировая история. Причем мы достигли именно на льду уровня подлинного театра. Долго рассказывать, почему да как это закончилась. История болезненная. Давайте не будем.
– Почему вы всё же уехали из страны и почему – вернулись?
– Ну, я уезжала не навсегда. Я уезжала, чтобы работать. И то, ради чего я ехала, было реализовано вполне. Я в отъезде, извините, три золотые медали олимпийские отхватила. И чемпионаты мира и Европы, разумеется. Не зря, короче говоря, ездила. Но мне было тяжело. Я не хотела там больше, я хотела здесь жить и работать, хотела домой. И Володя еще, конечно, устал от моих бесконечных разъездов, просил, чтобы я побыла дома. И вообще оказалось, что мне важно жить в семье.
– Вы с Крайневым поженились пусть и молодыми, но уже довольно зрелыми и состоявшимися людьми. Как вы переживали столкновение профессиональных интересов?
– Это была очень насыщенная жизнь. Кроме всего, он просто образовывал меня каждый божий день.
– Каким образом?
– Никаким специальным – образом жизни. Я же слышала, что он играет дома с утра до ночи, я под его музыку спала – мне надо было на пятнадцать минут днем всегда прибежать домой, прилечь; я приходила, спала, уходила, а он – репетировал. Я ходила на его концерты, я слышала это всё вживую. Я слышала вживую его учеников. Еще Вова во время поездки по Европе познакомил меня с [советским дирижером Евгением] Мравинским. И Мравинский пускал меня к себе на репетиции – я сидела, как рыба в пироге, – в день по десять репетиций было.
На спиваковском фестивале в Кольмаре мы встретились с [дирижером] Светлановым Евгением Федоровичем – это тоже незабываемое впечатление было. Евгений Федорович, кстати, очень меня любил. Думаю, любил потому, что очень любил спорт, но он знал, как я ставлю номера, и говорил, что я очень нежно обращаюсь с музыкой и у меня никогда не бывает ужасных связок. Но я-то тоже просидела у него на всех репетициях, и видела, и слышала много раз: я понимала, что такое это светлановское тутти – откуда оно начинается и как заканчивается на небесах.
– Это понимание было и до знакомства с Крайневым или это он вас учил?
– Жизнь с Вовой обогащала очень. Я любила всё, что он исполнял.
– Что больше всего?
– Наверное, Второй концерт Рахманинова. Я на нем была. Я видела, как люди – это было в Германии – повскакивали, повыдергивали стулья, кричали. Это было какое-то невероятное выступление, потрясающее. Мой муж говорил, что нужно сыграть то, что композитор написал в партитуре. Нужно вот это сыграть и представить себе, что он хотел этим сказать. И чтобы представление твое совпало с представлением композитора, который, может, и жил триста лет тому назад. И Крайневу это удавалось.
Я очень еще любила в его исполнении Прокофьева, Шостаковича и Шопена. И, конечно, Шнитке. Вы же знаете, Шнитке посвятил Володе «Концерт для фортепиано и струнных».
– И Владимир Всеволодович был первым исполнителем этого концерта.
– Это да, но он узнал о том, что концерт ему посвящен, утром на репетиции, представляете? И он, конечно, невероятно его исполнял. Мне с ним было интересно. И на его концертах я обожала бывать, и с ним обожала слушать всё что угодно. Мне он всегда говорил: «Тупица, ты полюбишь когда-нибудь оперу, кроме своего балета?» Я вечно гоняюсь за балетами. Я – фанат балетный с самого начала, это очень на меня повлияло.
– Кто сейчас ваша любовь в балете?
– Я всегда преклонялась перед Майей Михайловной [Плисецкой]. После ее смерти, наверное, Диана Вишнёва. Я летала специально в Нью-Йорк на ее последние два спектакля, мы познакомились, и я была счастлива до невозможности. Она просто божественная, она – сильная, она может быть какой угодно, но она – потрясающая. А из постановщиков – я фанат Ноймайера и гамбургского балета. Мы с Володей недалеко там жили, в Ганновере, и я всегда бывала на всех премьерах обязательно.
– Для Бестемьяновой и Букина Крайнев в 1986-м специально записал рахманиновскую рапсодию на тему Паганини. Как вам с ним работалось вместе? Как он переносил, что вы вмешивались в его пианистические задачи, в смыслы?
– Что значит – вмешивалась? Мне же нужно было четырехчастное произведение на четыре минуты – и я сама выбрала части.
– В воспоминаниях он пишет, что был спор о том, какие части выбирать.
– Ну, части выбираю я. Потому что это я ставлю номер так, как я его вижу. Не потому, что лучше вижу музыку, хотя Володя мне всегда говорил, что у меня абсолютный слух, просто я вижу акценты, я вижу номер. Я выбираю то, что мне близко, что по душе ставить, и слышу любой акцент. Я должна так придумать, чтобы меня это заводило. Это важно.
– Есть ли что-то общее в том, как репетируют пианисты и тренируются спортсмены, – исходя из вашего личного опыта?
– Есть одно важное общее: в балете, в музыке, в любом инструменте, на котором бы ты ни играл, и в нашем деле – ты не должен опоздать. Родители должны быть к тебе внимательны и в четыре года, а то и в три снять тебя с горшка и в профессию отдать. В пять уже может быть поздно. И вот с этого момента все наши дети – они пашут, трудятся.
– И их обычно жалеют.
– Почему их надо жалеть? Они с самого начала знают, кто они и что надо сделать для того, чтобы по-настоящему стать или быть теми, кем им предначертано. И они знают: если Бог тебе дал что-то, то ты должен это отдать большим трудом.
– Я слышала, что в каком-то смысле вы после возвращения на родину повторили судьбу своего отца: когда его лишили дела, он уехал на дачу и стал там неистово выращивать что-то на земле, вы – построили дом и попытались научить себя жить безо льда. Это правда?
– Правда. Я построила дом за те два года, что меня не брали на работу – я не тренировала, у меня не было учеников, у меня не было даже места работы! Однажды меня встретила на улице [теннисистка, комментатор] Аня Дмитриева: «Ты что делаешь?» – «Ничего, вот дом построила». И она спрашивает: «Будешь работать?» – «Да, не сомневайся». И она говорит: «Приходи завтра – будешь комментировать». Так началось что-то другое. Не то дело, каким я занималась всю жизнь. Но, видимо, в стране немодно уже делать свое дело, надо как-то иначе.
– Насколько вам было важно участвовать в «ледниковых» проектах Первого канала?
– Я до сих пор считаю это большим подарком. Надеюсь, что я с этим неплохо справилась. Мне в тот момент было очень важно психологически, что мне предложили работу. Когда ты без дела, а тебе предлагают работу, пускай и несколько другую, всегда очень важно с ней справиться. Моя задача была войти в сердце каждому человеку в нашей стране, который смотрит Первый канал. Сколько их миллионов? Вот к каждому надо было войти. А иначе нечего браться.
– Вы комментируете на Первом все важные состязания по фигурному катанию, в марте – чемпионат мира. Разве этого мало? Или безо льда для вас совсем нет счастья?
– Понимаете, я с девятнадцати лет работаю тренером. Это мое. Я это люблю и умею делать. Эта работа дает мне чувство удовлетворения и, если хотите, защищенности. Вот странно, я из детства помню чувство абсолютной защищенности, знаете какое?
– Какое?
– Когда папа тебя на закорках несет, подкидывает, обнимает, целует – вот это чувство защищенности, оно из детства. А дальнейшая моя жизнь – это работа. По большому счету меня в жизни ничего больше не интересует, кроме преподавания, потому что в нем есть всё. У меня есть профессия, есть возможность помогать детям – то, что я очень люблю. Просто в кратчайшие сроки можно ребенка научить или подправить что-то. И, может, я бы еще пару олимпийских-то чемпионов подготовила бы.
– Когда вам тренировать? У вас сумасшедший график спортивного комментатора.
– Да, я востребована и выполняю свои обязательства с душой. Это работа, нужная людям. А для себя – я заполняю дырки, образовавшиеся в моем графике в связи с отсутствием тренерской работы.
– Но вы тренер-консультант Федерации фигурного катания России. Вы можете реализовать себя сейчас в этой должности, что вы делаете, вы тренируете кого-то?
– Да ничего я там не делаю. Так, помогаю, мешаясь.
– Кто может, по-вашему, решить вопрос о создании школы Тарасовой? Чтобы у вас был каток?
– Не знаю. Я уже столько порогов с этой просьбой обила – глухо.
– Устали?
– Нет, у меня полно сил. И всё, что я делаю, я делаю сама. В обиженных ходить я не буду. Я теперь, знаете, вообще сначала улыбаюсь, потом просыпаюсь: я памятник папе открыла.
Но я не могу сама построить, организовать себе каток. Даже если я всё продам, каток не построю! И, знаете, теперь я уже не буду ездить на край света, куда зовут, не поеду ни в какую Белоруссию, чтобы тренировать. Я хочу жить и работать дома. Я всю жизнь дома не жила. Могу пожить? Правда, жить без работы я не умею, а работы и места, чтобы работать, у меня здесь нет. Вот так.
У меня не будет возможности созвониться с ней и обсудить интервью. У нее командировки, у меня. Этот разговор будет опубликован в издании Meduza в дни начала чемпионата мира по фигурному катанию. У меня в телефоне раздастся звонок, я услышу голос Тарасовой, обращенный не ко мне: «А сейчас на лед выходят…» Не помню, кто там выходил, потому что, когда эта пара начала кататься, она выключила звук телетрансляции и сказала лично мне десять крайне важных слов: «Я не пожалела, что стала разговаривать с тобой. Целую. Таня».
Интервью десятое Константин Хабенский
К этому интервью я готовилась несколько лет. И столько же – боялась, что оно состоится. Впервые Хабенского я увидела во время подготовки к концерту благотворительного фонда «Подари жизнь» 2009 года в Доме музыки. Работая специальным корреспондентом на телеканале НТВ, всю остальную часть жизни я проводила в больнице, была волонтером. Когда появился фонд «Подари жизнь», стала его попечителем. Так вышло, что я была соавтором сценария концерта в Доме музыки. И вместе с Чулпан Хаматовой, соучредительницей фонда и моей любимой подругой, мы готовили этот концерт. Идея была в том, что каждый артист, выходящий на сцену, рассказывает о составляющих помощи заболевшему ребенку. Накануне в гримерках театра шли прогоны: мы репетировали с участниками концерта их выступления. Мне достается Константин Хабенский. Его текст я до сих пор помню наизусть: «Кровь нужна всем. И сдавать ее могут все: и банкиры и режиссеры, и рабочие, и дрессировщики, и артисты, и журналисты, блядь», – говорит Хабенский. Я делаю вид, что слежу за текстом, но мечтаю провалиться сквозь землю. Когда Хабенский выходит покурить, – плачу. Чулпан утешает: «Ты ни в чем не виновата, просто так получилось, ему сейчас тяжело». Я же хочу уйти из профессии, уволиться и исчезнуть отовсюду немедленно: мои коллеги травили Хабенского всё время болезни его жены Насти, не давали покоя и после ее смерти, снимая из-за угла, исподтишка. Выдумывая и делая больно. «Хорошо, что он не знает, где я работаю», – в конце концов примирительно думаю я. У меня в руках график выхода артистов на сцену. Хабенский возвращается уточнить: когда, за кем и перед кем он выходит. «С двадцати тридцати до двадцати сорока», – отвечаю я. Хабенский продолжает изучать график: «А Шевчук?» – «А Шевчук с девятнадцати ноль ноль до девятнадцати пятнадцати». – «А почему так рано?» – «А потому, – признаюсь я, – что он сказал, что позже может потерять контроль над ситуацией». – «А я когда, получается, могу начать терять контроль?» – «Сразу после двадцати сорока!» Хабенский кивнул и ушел. Я, с вызывным листком в руках, сползла по стене. Мне было стыдно. После – из года в год – я мысленно возвращалась к этой сцене. Мне хотелось его догнать и все объяснить. Сказать, что не имею отношения к охоте, устроенной на Хабенского и его болеющую жену, что мне стыдно, что я бы хотела что-то исправить. Но всякий раз, когда на горизонте маячила возможность встретиться с ним, поговорить и, возможно, что-то объяснить, трусость брала верх. Я сбегала. Другие люди брали другие интервью. Я благодарна директору Фонда Константина Хабенского Алёне Мешковой за то, что этот разговор всё-таки состоялся.
[46]
– В 2010 году вы ввязались в довольно неожиданную историю: мастерские творческого развития для детей и подростков по всей стране. В итоге вышел подростковый мюзикл «Поколение Маугли», который должны были, в том числе, играть на сцене МХТ им. Чехова. Но недавно я узнала, что проект закончился. Что случилось и почему?
– Тут надо рассказывать всё с самого начала.
– Все сложные истории надо рассказывать с самого начала.
– В середине двухтысячных я как-то почти случайно оказался в питерском Доме ветеранов сцены.
– Это очень красивое, старинное, полное поразительных людей место.
– Да, так это выглядит сейчас. Я там недавно был на съемках «Троцкого» – всё совсем не так, как было в первый мой приезд. И дело даже не в ремонте: когда я впервые туда пришел, меня потрясла атмосфера, понимаете?
– Думаю, да: несколько десятков невероятных пожилых людей с потрясающими биографиями, которые оказались на обочине жизни. Так?
– Был еще один важный нюанс: эти люди совершенно не готовы были списывать себя в запас. И мы, те, кто пришел тогда вот в это место обитания возрастных актеров – нас привел режиссер Дима Месхиев, – впали в какой-то ступор, что ли.
Вначале попытались привычно и не очень энергозатратно решить проблему деньгами: уговорились, что будем скидываться, что отдадим, например, все денежные призы, связанные с фильмом «Свои», в котором тогда снимались у Месхиева, включая призовой фонд «Ники»… Оказалось, что сделать это официально очень сложно технически: привычными конвертиками – проще. Но что такое конвертик для человека, который мучается одиночеством и невостребованностью больше, чем неустроенностью и скромным образом жизни?
– В чем-то даже оскорбительно.
– Никто из них не заслуживает такого положения… когда их содержат, понимаете? И я понял, что единственное по-настоящему полезное, что я могу для них сделать, – вовлечь в нормальное достойное дело. Черт, вы знаете, я сейчас стал всё это рассказывать и обнаружил, что давно об этой истории ни с кем не говорил.
– Почему?
– Не спрашивают. Неинтересно, наверное.
– Интересно. Что было дальше?
– Одновременно с тем, что я понял, что возрастным артистам в первую очередь нужны не деньги, а дело, до меня каким-то образом стал доходить масштаб неприкаянности творческих ребят по всей стране: куче детей, которые бредят так или иначе сценой, некуда податься, нет никакой возможности себя проверить, испытать.
И появилась идея эти две истории соединить: артисты получили бы занятость, а дети – крутых учителей. В разных городах всё технически выглядело по-разному, но в основном принцип был такой, что на базе домов творчества, при театрах – чтобы аренду не платить – открываются студии, где маститые артисты преподают детям наши профессиональные дисциплины: актерскую фантазию, речь, сцендвижение.
И вот так постепенно мужчины и женщины, которые отдали театру, по сути, всю свою жизнь, чья биография в творческом плане отнюдь не исчерпала себя, почувствовали себя снова нужными. Знаете, что было поразительным для меня лично? Преподавать детям захотели не только возрастные актеры в провинции. Для многих моих коллег более молодых это стало очень важной историей.
– Это про востребованность?
– Давайте честно: возможности для самореализации не у всех одинаково большие. И деньги, кстати, тоже важны. Преподавание в студиях стало помощью для моих коллег, которым в регионах живется не сладко. А для детей обучение было совершенно бесплатным.
– Как это получалось?
– Ну, в итоге это стало социальной историей: конверты превратились в зарплату, которую сперва мы с друзьями-товарищами платили вскладчину, а потом всё вышло на официальный уровень – платили городские бюджеты или какие-то местные уже филантропы. Начав с двух городов – Казань и Екатеринбург, – мы создали одиннадцать творческих мастерских по всей стране, в каждой – от ста пятидесяти до трехсот детей.
– Слушайте, но это же выходит – самая крупная не военно-патриотическая и не спортивная детская организация страны со времен Советского Союза?
– Я об этом так не думал. Мне было важно другое. Студии стали ситом, которое дало понимание юношам и девушкам, что такое профессия актера и что значит заниматься творчеством.
– То есть что-то кроме оваций и букетов?
– Грезы об овациях сменил ежедневный труд, слезы, нервы, радость принадлежности делу – всё, что эту профессию действительно составляет. Слава Богу, это понимание ко многим из них пришло раньше, чем они пошли поступать в театральные вузы.
– Кто-то даже до театрального вуза дошел?
– Кто-то дошел, а с кем-то, как с нашим новосибирским одним студийцем, я даже встречаюсь на съемочной площадке: он играет в финале «Собибора» бегущего мальчика, помните? Вот он – остался. А кто-то всё понял и ушел. И для меня это тоже – важная история: мы человека уберегли от опасности испортить себе жизнь, занимаясь не своим делом. Даже если одного уберегли, всё равно стоило затеваться.
– Итогом творческих мастерских – в провинции их называли театральными школами Константина Хабенского – стал всероссийский спектакль «Поколение Маугли». Кто выбирал тему?
– Я.
– Вам нравится история про Маугли?
– Кто из нас не был любителем Киплинга в детстве? А мультфильм «Маугли» с такой таинственной и тревожной музыкой – он же затягивал, цеплял и не отпускал. И еще, мне кажется, это очень добрая история.
– История о том, как ребенка лишили мамы и папы, а теперь его воспитывают звери, вам правда кажется доброй?
– Я в детстве всё время слушал пластинку про Маугли, потом – смотрел мультфильм. У меня не было такого, как у вас, обостренного чувства реальности: дескать, звери воспитывают! Вы меня озадачили. Мне всё происходящее в «Маугли» казалось совершенно естественным, нормальным и добрым. В отличие, например, от «Малыша и Карлсона» – вот тут страдания ребенка, который доверился старому, не очень порядочному человеку, я вполне разделял.
– Но для «дипломного» спектакля студийцев вы выбрали именно «Маугли».
– Там была задача: показать получасовую заявку, в которой использовались бы все пройденные за год элементы. Предлагалось много вариантов, но звезды сошлись на Киплинге. Мы с товарищами сели и стали придумывать. Вышла история про приключения мальчика, который ищет свою правду в каменных джунглях мегаполиса. Мы придумали диалоги и ужали время действия до суток: утро – это весна, день – лето, вечер – осень, зима – это ночь. Дальше мы фантазировали уже со студийцами. Первый город, который попал под раздачу – Казань. Собственно, там этот спектакль и родился: Алексей Кортнев придумал тексты песен, Николай Симонов, наш, мхатовский художник, – многофункциональные декорации. Всё было по-взрослому.
– Сколько времени лично вы отдавали проекту?
– Был момент, когда этот проект занимал большую часть моего времени. После Казани были Уфа, Новосибирск, Питер, Челябинск – проект развивался, а к нему подключались удивительные и неожиданные участники. Например, Диана Арбенина или Александр Кержаков.
– Я видела Кержакова в роли Удава Каа. Прямо скажем, неожиданное камео.
– Ребята вначале боялись, а потом сами ловили кайф и требовали, чтобы их привлекали к каким-то спектаклям за пределами Москвы, на гастролях. В спектакле было занято огромное количество звезд: и Юра Гальцев, и Катя Гусева, и Родригес, кого там только не было. А потом «Поколение Маугли» стало чем-то большим, чем спектакль.
– В каком смысле?
– Это произошло, когда мы решили, что все средства от сборов должны пойти в помощь ровесникам артистов, занятых в «Поколении Маугли».
– Это вы придумали?
– Это придумалось неожиданно. Но я понимал, что студийцы прекрасно знают, чем я занимаюсь.
– Откуда?
– Странный вопрос. Они читают интервью, смотрят репортажи, они – нормальные люди с нормальным кругозором. И они прекрасно знают, что помимо профессии актера у меня есть фонд, в котором я занимаюсь помощью детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга.
До какого-то момента творческие студии и больные дети никак не соединялись: ни в жизни, ни в моей голове. Хотя в Перми мы соприкасались с ребятами из детских домов, в Уфе – с детьми, у которых были нарушения двигательного аппарата, но всё шло медленно. И я понимал, что такие встречи очень развивают в человеческом смысле, но психологически это непросто. Я это знаю, мне самому не очень комфортно приходить в больницы, там встречаться, общаться, видеть глаза родителей больных детей и настраивать их на позитив.
– Почему? Я раньше много времени проводила в больницах. И мне кажется, отношения, которые там, внутри, – одни из самых честных на свете.
– Безусловно. Но, смотрите, я – актер, хочу я, не хочу выходить на площадку – мне нужно… Я выхожу и начинаю работать на зрителя. Верит он мне или нет – это другая история. В больнице – то же самое: хочу я или не хочу, но я прихожу, переступаю порог отделения и начинаю разговаривать. Разница, очень важная притом, состоит в том, что в больнице – дети: прыгать и кривляться перед ними не надо. Надо поймать тональность: не жалеть, но в то же время обласкать. Дать надежду. Это – трудно.
По первости я не вылезал из больниц, и тогда я – вот как вы говорите – ни о чем таком не думал, просто занимался делом: объяснял родителям, где подписать, что подготовить, это – сюда положите, вот так переверните ребенка, эту бумажку – доктору, а эту – в фонд. Времени на рефлексии не было, да я особенно и не поднимал голову. Единственное, что меня иногда выводило из этого ритма – глаза родителей. Тех, чьи дети выздоравливали. На это я обращал внимание: «Ох, ничего себе! Бывает же такое!» И шел дальше.
Сейчас у меня – и это довольно закономерно – меньше времени посвящено непосредственно больнице: в фонде работает большая классная команда, в моем присутствии уже нет такой необходимости. Так что в больницах я появляюсь редко. И находить общий язык с детьми мне стало сложнее. С родителями – нормально, почти как раньше, но с ними проще. А с ребятами – там ежедневная практика нужна.
– Так как вы соединили «Поколение Маугли» с больными детьми?
– В какой-то момент стало абсолютной нормой, что на каждом спектакле, в каком бы городе мы ни играли, в конце на экран выводили фотографии ребят, которые лежат в больнице или сидят дома. И им нужна помощь. То есть мы совершенно точно понимали, для чего мы играем спектакли, куда пойдут деньги – вот этим детям.
Чтобы было предельно ясно, я перед каждым генеральным прогоном – для мам и пап, как мы его называем, – обязательно в каждом городе показывал студийцам клип Чулпашин[47], который она сделала вместе с Шевчуком: «Это всё, что останется после меня», знаете его?
– Да, я снимала некоторые сцены для него. Не ваши, но вы в нем тоже участвовали.
– Точно. Так вот, это был мой самый последний волшебный пинок: я показывал всей команде клип, а потом выходил и говорил: «То, насколько мы сможем помочь этим больным детям, зависит сегодня от того, как мы потратим себя на сцене. От того, какой будет ваша энергетика, желание и понимание, для чего вся эта история рассказывается, будет зависеть, придет ли к нам зритель завтра и будет ли у нас возможность помогать. Если вы будете работать в полноги…»
– Дети разве умеют халтурить?
– Дети умеют всё и, глядя на взрослых, быстро учатся. Но, кажется, наши дети поняли, в чем сверхсмысл их существования на сцене. Через «Поколение Маугли» прошли те, кто потом стал «маленькой армией благотворителей», как я это называю.
А потом случилось чудо. Во время наших гастролей в Москве за кулисы пришли те ребята, для которых всего полгода назад студийцы собирали деньги. Не помню, казанские или новосибирские это ребята, но студийцы узнали их в лицо – это были те самые, с фотографий. И вот они пришли за кулисы сказать «Спасибо».
– И что было?
– Я не стал никого заранее предупреждать и настраивать, подумал, пусть всё будет как будет. Они вошли и… Ну, там по-разному. Кто-то рыдал, не мог прийти в себя, кто-то ржал совершенно неукротимо, кто-то целовался, а кто-то просто остолбенел.
– А вы?
– Я стоял в сторонке и наблюдал, как они со всем этим справляются, я ничего не корректировал. Я думал о том, как важно, что взрослые в кои-то веки их не обманули: взрослые им обещали, что деньги, собранные на спектаклях, пойдут на лечение этих детей, они бухнули туда все свои силы, отказываясь от каникул, от своих обычных занятий и развлечений, чем-то жертвовали. И вот – результат. Всё закольцевалось.
Мне кажется, это важный опыт: помимо того, что это – абсолютно честная история, они еще поняли, что спектакль – это не только выпуск пара и какой-то экономически перспективный проект. Это еще и возможность помочь другим людям. Это самое большое достижение, о каком я даже не мечтал, создавая подобные студии.
– За время проекта студийцы сильно изменились?
– С ребятами на моих глазах произошли довольно важные перемены: если в первый год моего или моих друзей появления в их жизни им были нужны фотографии и автографы, то на второй и третий стали важны ответы на вопросы. Они перестали селфиться с приезжающими известными людьми – а в студии приезжали почти все, кого вы сможете вспомнить из наших знаменитостей, – они стали их спрашивать о том, что те думают на чувствительные и волнительные темы.
Так я увидел их взросление: они превратились в профессионалов третьего-четвертого курса театрального вуза, будучи вообще-то школьниками девятого, максимум одиннадцатого класса. До меня дошло, что я больше не имею права делать им профессиональные замечания, потому что они вышли на уровень более высокий, чем мы с ними договаривались. Не все из них были готовы посвятить свою жизнь этой профессии, но они научились говорить, что думают, выражать свои чувства – это условие договора я выполнил. И понял, что пришло время расставаться.
– То есть как – расставаться?
– Отпустить их в большую и взрослую жизнь. Уже без меня.
– Но это же – больно.
– Я понял, что так будет, примерно за год до того, как сказал им об этом.
– Что вы сказали?
– Я сказал: «Ребята, вы, в принципе, всё умеете, вы передружились. У вас педагоги, которые тоже многому научились вместе с вами за наш семилетний путь. Они знают, с чего начинать, куда идти. У каждой студии – свой почерк, все вы достигли уровня, когда я как художественный руководитель вам больше не нужен».
– А они?
– Ну, там сразу – слезы, сопли, ах-ах-ах. Вначале трудно было. Сейчас уже прошел год, все потихонечку взяли себя в руки, и пришло осмысление: всё было сделано правильно. Они пошли своей дорогой: где-то города объединились, где-то студии стали молодежными театрами, кто-то остался на уровне мастерской.
– Но вы их, выходит, бросили?
– Я не буду сейчас препарировать свои чувства и воспоминания. Я не то чтобы сжег этот дом безвозвратно. Я понимаю, что ребята терзались, у них были сомнения, они не понимали, почему я так поступаю. Перед расставанием я написал письмо каждому студийцу: «Я вам помогу во всем, чем смогу, но мое наставничество закончилось». Так вот, это слово я намерен держать. Но семь лет – это правильный срок для того, чтобы перейти на новый уровень отношений.
– А какие были опасности?
– Разные. Я не люблю, когда начинают сажать на трон и петь хвалу, я бегу таких вещей. Слава Богу, до этого не дошло, в Ленина меня не превратили.
– «Поколение Маугли» должны были играть на сцене МХТ имени Чехова. Почему этого не произошло?
– Я понимал, что «Поколению Маугли» как самостоятельному проекту хорошо было бы в итоге дать надежную гавань. Понимал, что мог бы быть и режиссером, и продюсером этого нового витка. И я пришел к Олегу Палычу[48] и предложил ему и театру этот спектакль. Разумеется, я объяснил, что эта история должна быть благотворительной. Но в тот момент у Олега Палыча были другие мысли по поводу производства, театра и того, какие и в каком объеме деньги театр должен приносить. С благотворительностью это никак не вязалось, к сожалению. Но я продолжал ходить и напоминать о себе. Ходил два года. А потом что-то изменилось.
– Что?
– Не знаю, но, видимо, в жизни Олега Палыча что-то такое произошло, что изменило его мнение. На последнем сборе труппы он объявил, что я буду делать спектакль «Поколение Маугли» здесь, в МХТ. Я сказал: «Олег Палыч, у вас есть прекрасный колледж, в котором учатся дети, ровесники моих студийцев. И “Поколение Маугли” – это спектакль, который сможет их объединить». Я придумал программу обученческую для всех курсов колледжа, при которой каждый год у студента будет происходить смена рисунка и смена типажа: то есть первый курс приходит и начинает готовить программу второго курса спектакля, второй – работает над программой третьего и так далее.
Олег Палыч дал добро, мы стали репетировать со студентами и фактически перепридумали спектакль: в колледже ведь уже такие огромные лоси учатся, а я начинал «Поколение» с маленькими шпендиками-студийцами. В общем, начали вводить в новую историю любовные линии, приплетать высказывания рокеров, рэперов и даже политиков, которые, кстати, очень хорошо ложились на язык Шерхана и Акелы. Лёша Кортнев добавил в спектакль песни, отчего был совершенно счастлив: он переживал, что не все его идеи вошли в первый вариант. В общем, мы сделали нечто совсем новое. На первый прогон в театре, куда обычно приходит человек десять, пришел полный зал. Спектакль случился, это была очень убедительная история.
– По сути, это был уже новый спектакль, в котором были заняты студенты колледжа Табакова, преподаватели этого колледжа и артисты МХТ имени Чехова?
– Да.
– Но спектакль так и не появился в афише театра. Почему?
– Олег Палыч умер, пришли новые руководители театра, появились другие замыслы и планы на жизнь, которые никак не сходились с планами «Поколения Маугли». Набор в колледж в этом [2018] году не случился. Мне пришлось принять решение перестать тратить свое и чужое время. И я закрыл эту историю: мы собрали все декорации, сложили в ангар. Детям я всё объяснил, сказал «спасибо». Мне кажется, и им была полезна эта история, и мне было полезно пофантазировать, подумать и понять, что нет предела совершенству.
– Значит, всё?
– Всё. Сейчас Челябинская студия выступила с инициативой сделать спектакль в прежнем формате, но я сказал, что мне это больше неинтересно.
– В ситуации ощутимого дефицита качественного контента для детей и подростков разве не имело «Поколение Маугли» шансов на успех?
– Мне кажется, имело все шансы. Но у нас сейчас мало смельчаков, которые готовы вкладывать деньги, понимая, что подростковое, детское кино может быть провальным и неокупаемым, но оно очень нужно. Никого не могу обвинять, но хорошо бы поскорее у нас появились яркие режиссеры, умеющие рассказывать даже не про детские проблемы, а про то, что волнует четырнадцати-, пятнадцати-, шестнадцатилетних ребят, которых колбасит от того, что они не понимают, для чего им жизнь, что им жизнь и что они в этой жизни.
– Нелепо кивать в сторону СССР, но детских и подростковых фильмов, сказок, записанных в те годы, хватило на ваше поколение и еще на три вперед. Тот же Табаков сыграл гениального Али-Бабу в аудиосказке Вениамина Смехова…
– Пластинка «Али-Баба и сорок разбойников», как и многие другие пластинки, на которых мы были воспитаны, нравится нам по инерции. Иногда мы продолжаем воспитывать на этих пластинках своих детей. Это нормально: мы хотим своим детством поделиться. Но я бы не преувеличивал количество и качество того, что выходило в СССР. Бывали хорошие годы, хорошие фильмы и спектакли, хорошее исполнение.
Бывало и другое, мы просто не помним. Сейчас на самом деле всего самого разного для детей – сколько хочешь: и «Смешарики», и «Малышарики», и «Лунтик», и «Маша и медведь». Да, это поставлено на поток и требует гораздо больших затрат, чем требовалось в советские времена…
– Я про другое: вот Табаков играл в детской сказке, и не одной, озвучивал персонажей в мультфильме и так далее. А вы?
– А я «Малышариков» озвучиваю.
– Да вы что?
– Ну, всех «Малышариков» озвучивать у меня не хватает времени, но я – папа «Малышариков». Я песни там пою, и мне это очень нравится. Вы, наверное, просто плохо знакомы с «Малышариками», потому что «Смешарики» их забили и они почти не видны. Но, если коротко, «Малышарики» – это те же «Смешарики», только у них проблемы поменьше: это проблемы полуторагодовалых детей.
– Что вы смотрите с дочкой?
– Вот как раз «Малышариков».
– А не из вашего творчества?
– Она много чего смотрит: нашего, не нашего, советского, современного.
– Вы с ней вместе смотрите?
– Я знаю, что именно она смотрит. Но когда она это смотрит, я не знаю.
– Вы – хороший отец?
– Я могу быть намного лучше. Но я стараюсь.
– В каком смысле?
– По мере понимания того, что я значу для детей, что они для меня значат, стараюсь исправить недоработки.
– Например?
– Пытаюсь научиться формировать так график, чтобы в нем была не только работа.
– Чем бы вы хотели запомниться своим детям?
– Я против каких-то нарочитых вещей. Но я стараюсь многое делать в своей профессии так, чтобы им было интересно, чтобы они или участвовали, или смотрели… Нет, Катя, вы как-то неправильно спросили: запомниться. Это какая-то навязчивая вещь. Я не хочу никак запоминаться, я хочу, чтобы в какой-то момент они – все ли, не все ли – подошли и сказали: «Ты молодец, пап!» Мне этого достаточно. Я хочу верить, что смогу понять, что прячется за этими двумя словами: «ты» и «молодец».
Надеюсь, я к этому моменту не рухну совершенно башкой и не превращусь в какого-нибудь оскароносного, недоступного и ни хрена не понимающего творца, который будет объяснять всем, как надо жить, только потому, что у него все эти многочисленные награды и еще он где-то там снялся. Вот этот образ – поучающего безумца – самое страшное, наверное, что может случиться. А это сплошь и рядом происходит.
– На свете много людей, с кем ничего такого не случилось.
– Значит, еще просто не время. Или Бог их так любит, что говорит: «Ну, давайте еще потянем немножко. Мне так нравится этот парень или эта девчонка, хочу еще немножко послушать, как он смеется. А потом сделаем то же, что делаем обычно с остальными».
Конечно, я верю, что у меня сработает «сигнализация» и я не сделаюсь сумасшедшим авторитарным стариком с причудами. Но – про сигнализацию – многие так думают. А она не срабатывает, представляете? В нужный момент садится батарейка.
Люди рядом могли бы, конечно, тебе своевременно сказать: «Пора завязывать, помолчи, старик, уйди в тень». Но ты их не попросил об этом, когда был в себе. Вот они и молчат. И молча смотрят, как ты сидишь и раздаешь всем вокруг непрошеные советы.
Про это очень правильно написано в «Этике» Станиславского, хорошая, кстати, брошюра, всего несколько страниц. Она есть в списке обязательной литературы театральных вузов, но никто, к сожалению, не читает. Константин Сергеевич рекомендовал прежде, чем раздавать советы, спросить, нужен ли такой совет, и только потом – предложить помощь. Еще он учил никогда не поучать людей, как жить: в сценическом ли пространстве, в профессиональном пространстве, в житейском. Вот если этой просто личной гигиены придерживаться, то, быть может, протянешь в сознании дольше и сойдешь с помоста нормальным человеком.
– Помогли ли самому Станиславскому его этические правила?
– Вопрос спорный. Судя по тому, что описывал в «Театральном романе» Михаил Афанасьевич Булгаков, – не очень. Текст у Булгакова, разумеется, художественный, многое он там изложил, не выпячивая, а сводя к шутке или мистике, но МХАТ и вся ситуация в театре описаны достоверно. Не только, может быть, МХАТ, но вообще любой механизм, который называется «русский театр» и движется по вполне предсказуемой дуге: от бойкого зародыша до полного фонтана сумасшествия. Иногда бывает, фонтан еще не бьет, всё выглядит снаружи очень прилично, но ты знаешь, как это устроено, и точно можешь сказать: еще чуть-чуть и всё вскроется. «Театральный роман» вылезет и здесь.
– Если следовать так называемой «мхатовской» традиции, то руководить театром после смерти Табакова должен был бы человек из актерского цеха, из труппы театра. Так было всегда. У вас были амбиции стать худруком МХТ?
– Нет. Я не горю большим желанием чем-то или кем-то руководить. Я иногда возгораюсь желанием что-то с кем-то сделать, но административных амбиций у меня нет и мысли типа «ах, надо взять театр» – не было. Кроме того, я не являюсь официальным учеником Олега Палыча.
– Да, вы учились у Фильштинского, в Питере. Но в МХТ всё же провели много времени.
– Вы правы, я учился у Олега Палыча на протяжении всех этих лет. Всем мелочам: и жизненным, и профессиональным. Многое мне казалось правильным, многое было важным. Но здесь, в стенах этого театра, есть более заслуженные для подхвата знамени ученики и артисты.
– Какую часть вашего времени занимает фонд?
– Гораздо меньше, чем раньше. Это всё еще огромная часть меня, но я фонду уже не так нужен, как вначале, он – самостоятельный механизм, не так сильно на мне завязанный. Меня теперь используют в основном как «лицо» в тех проектах, где без меня совсем никак не обойтись… Это как с фильмом, в котором ты снялся: съемки вроде закончены, но он всегда с тобой внутри и живет своей жизнью.
– Однако, создавая фонд, вы дали ему ни много ни мало – свое имя. Он так и называется: «Фонд Константина Хабенского».
– Это не было моей специальной наглостью.
– Речь не о наглости, о риске скорее.
– Да понятно же, что сразу возникает подозрение: ага, он решил своим именем фонд назвать, чтобы в мрамор войти таким образом. Просто когда подошел момент регистрации, я не успел придумать название, не до того было, скажем так. И я решил ничего не придумывать, назвать как есть. Как оно, по сути, на тот момент и было: я всем занимался сам, напрямую.
– Вы начали помогать детям, страдающим раком головного мозга, вместе с Настейво время ее болезни?[49]
– Да. Это началось спонтанно, но действия наши, мои были совершенно сознательными. Я в какой-то момент понял, что надо помочь ей отвлечься от собственной болезни. Нам нужно было максимально отвлечься от себя. Это помогает. Иногда. Я тогда предложил поучаствовать в помощи другим людям – речь о детях в основном, – которые находились в той же ситуации, что и мы. Ведь мы что-то уже знали, чем-то могли помочь: врачи, маршруты, больницы.
– Почему вы решили помогать именно детям?
– Не знаю. Это случайно получилось. Я плохо помню события того времени и не всегда могу восстановить некоторые детали: я мотался между континентами, приезжал в больницу, мы что-то обсуждали, я уезжал, летел и уже в Москве с кем-то встречался, брал и передавал какие-то деньги, разговаривал с мамами, помогал искать врачей, опять летел через океан, рассказывал, как и что, что сдвинулось, получилось. Я думал, что это поможет переключиться, поможет отвлечься.
– Помогало?
– Мы только начали. Что-то успели даже сделать. Кому-то даже успели помочь. А потом, когда у нас всё произошло… ну, когда всё случилось, я понял, что грош мне цена, если я эту историю не продолжу. Если сейчас закончу существование фонда. Я решил продолжать один.
– Это очень трудно?
– Одному – почти невозможно. Со временем стали появляться вокруг люди, которые были готовы помочь: приходили, уходили. Потом мне вдруг повезло: пришла Алёна Мешкова и ее команда. И у фонда случился перезапуск. То, что сделала Алёна, я бы не смог никогда.
– Что вы имеете в виду?
– Понимаете, благотворительность – это не только про сочувствие. Это менеджмент. Из меня менеджер – нулевой. Команда, которая пришла в фонд, принципиально пересмотрела все прошлые позиции и предложила план развития. А я сидел, открыв рот, и понимал, что это какая-то фантастика – что они предлагают. И что, скорее всего, это в фонде работать не будет. А оно вдруг заработало. И пошло такими темпами, что я теперь уже не очень понимаю, почему это называется «Фондом Константина Хабенского».
– Сколько фонд собирает сегодня?
– Больше двухсот пятидесяти миллионов рублей в год. В этом году у нас около семисот подопечных.
– В отчетах фонда есть фраза, что вы помогли шести тысячам семей. Не детей, семей. О чем это?
– Это о том, что когда в семье случается такое несчастье – болезнь, то помощь нужна и ребенку, который заболел, и – едва ли не в большей степени – тем, кто с ним рядом. И нужна железная уверенность, что тебя не бросят.
Знаете, я запомнил одного парня из Запорожья, который приехал к нам с полуторагодовалой дочкой. Он всю жизнь работал ментом. У него взгляд был такой непробиваемый: уличный, натертый. Мы с ним сидели, я ему объяснял, что нужно сделать, какие бумажки заполнить, куда им с женой пойти после того, как они в отделение заселятся, а он вдруг говорит: «Костя, я всю жизнь привык людей подозревать. Когда ехал сюда, меня спросили: кто тебе деньги даст? Я ответил: фонд Хабенского обещал. Ну и все такие: ага, сейчас, конечно, ха-ха-ха». А потом он вдруг говорит: «Я не верил людям. А вы это изменили».
– Что вы ответили?
– Я не знал, что ему ответить. Я его похлопал – он такой огромный амбал – по плечу: «Всё, лечитесь, держитесь, не унывайте. Я побежал, у меня дела». Но я тогда подумал о том, что, может быть, фонд нужен для такой элементарной вещи, как вера человека в людей.
– Вы помните первого ребенка, которому помог фонд и который поправился?
– Нет. Я не помню детей, если честно. Я помню родителей. Точнее, их глаза. Там очень высокая концентрация боли и страха. У детей совсем не так. У детей нет страха смерти практически: они не так связаны какими-то материальными якорями, долгоиграющими планами и обязательствами перед близкими. Иногда я думаю, что из-за отсутствия страха опухоли в голове – это один из самых сложных и тяжких онкологических диагнозов – у детей излечиваются намного чаще и лучше, чем у взрослых. У меня нет этому подтверждений никаких, наука еще, слава Богу, не раскрыла нам молекулярные схемы страха, любви и ненависти, что-то еще всё-таки остается тайной.
Но если про страх – это мои домыслы, то в том, что любовь и возможность сохранить привычный ритм жизни – это важная составляющая лечения, я уверен. А значит – важная задача фонда. Это к вопросу о шести тысячах семей, которым помогает фонд. Я попробую объяснить: у нас есть прекрасные сумасшедшие родители, которые, узнав о болезни, не только не меняют график ребенка, наоборот, делают всё возможное, чтобы оставить все секции и кружки на своих местах.
У нас есть родители, которые, несмотря на болезнь, мчатся с ребенком на конкурсы и соревнования (как это было в здоровой жизни), и наша задача – сделать всё, чтобы они своего энтузиазма и своих сил не растеряли, и просто корректировать: ребята, ваш ребенок принимает кое-какие препараты, которые сказываются на длине ежедневного забега, поэтому вы чуть-чуть поберегите его. Но не останавливайтесь!
У нас есть одиннадцатилетний парень, выигравший олимпиаду во время лечения, есть девчонка, которая до болезни боксом занималась, танцами и музыкой, сейчас, уже после терапии, вернулась в бокс. А с танцами пока придется подождать: там крутиться, вертеться надо, ей тяжеловато еще.
Есть у нас парнишка, который загремел в больницу почти выпускником и потерял из-за болезни зрение. Но родители сказали: «Никаких соплей», наняли репетитора, и он сдал ЕГЭ, поступил в универ, ходит и учится. Так вот, чтобы у всех этих семей были силы поддерживать своих детей, им самим нужна поддержка, плечо. Мы стараемся этим плечом быть. В любой ситуации. Мы должны объяснить, что происходит, предложить помощь. И никогда не судить. Даже если нам кажется, что родители поступают вопреки нашим рекомендациям и даже здравому смыслу.
– Вы их не останавливаете?
– Мне не надо рассказывать, почему, когда человек попадает в беду, его близкие хотят использовать все мыслимые и немыслимые варианты для того, чтобы справиться с болезнью. Бывает, отказываются от классического лечения.
– И вы молчите?
– Я не сужу. Я говорю: «Вы вправе сделать всё, но мы вам хотим предложить и рекомендуем сделать сюда два шажочка, потом направо два шажочка. Вот вам рука, пойдемте. Устанете – отдохните. Потом по коридору десять шажочков. Там будет стульчик. Вы сядете, и мы скажем, куда идти дальше». Это тоже очень важная задача – подхватить ошеломленного болезнью человека. Потому что в этом состоянии – я это знаю – он растерян, беспомощен и очень уязвим.
– Вы простили журналистам то, как они десять лет назад воспользовались вашей беспомощностью во время болезни Насти?
– Нет. Но это и не журналисты, это папарацци. В какой-то момент в стране произошло повальное превращение журналистов в папарацци, безнравственность которых подогревалась изданиями: чем более мерзкий снимок ты принесешь, тем больше мы тебе заплатим.
Вначале эти люди выходили на боевые задания против уже болеющего Александра Гавриловича[50]. Я своими глазами видел, как один из главных подонков страны в упор снимал день рождения Абдулова, который – и это вполне нормально – хотел побыть с друзьями. Александр Гаврилович, пьяненький, и так, и эдак: «Уйдите, не надо, уйдите». Но нет. Подонок продолжал лезть к нему со своим аппаратом. Вышли покурить, и этот – бросился со своей камерой, тыча ею в лицо. Вот тогда ему квадрат этого фотоаппарата и оставили на физиономии. Это было по делу.
После этого случая они стали ходить вдвоем: один близко подходит, типа камикадзе, а другой со стороны с расстояния двадцать метров на длинном объективе снимает побои. Я с ними сталкивался. Это люди, которым нравится играть в «войнушку» и которые не понимают, что за этой их «войнушкой» стоит что-то большее: чья-то честь, боль, просто личная жизнь, которая их не касается. Но для них же не существует людей, не готовых видеть на страницах газет свои фотографии или фотографии своих родных. Вот они и щелкают, щелкают. Лезут, подкупают, внедряются.
Мне несложно будет, если я кого-то из них увижу рядом и узнаю, дать в рожу со всей силы. Просто отведу подальше от камер.
Но это не журналисты, повторюсь. С журналистами как раз проблема. Их мало. Поэтому интервью так мало. Вот и лезут отовсюду перепечатанные, сфабрикованные из каких-то ошметков, обрывков разного времени ответы на вопросы, которые никто не задавал. Но всё это пользуется популярностью: люди читают, фантазируют, придумывают какие-то совсем фантастические истории. Чушь, конечно.
А настоящих, талантливых журналистов – мало. Таких, знаете, чтобы ты вдруг читал и поражался: вот это полет мысли, вот это мастерство, я бы сам не додумался.
– Люди, столкнувшиеся с онкологической болезнью, трудной и тяжелой, иногда задаются вопросом: «За что?» А иногда этот вопрос переформулируют в «Для чего?». Как было у вас?
– У меня было совсем по-другому. Я не болел. Я был рядом. Это разные вещи. У меня тоже были свои мысли, свои какие-то их трансформации. Но это – совершенно не то, это несравнимо с переживаниями и мыслями того, кто находится в эпицентре болезни.
– Вы сами говорите, что находящиеся рядом с тем, кто болеет, – едва ли не более беспомощны: ты не знаешь, что сделать, и ты боишься. Даже потом, в другой истории, с другим человеком – боишься. Вы научились справляться с этим страхом?
– Я понимаю, о чем вы. Да. Этот страх, наверное, когда-то пройдет. Не совсем точно назвать его страхом за близких, но это страх того, что всё, ты попал в капкан и этот капкан никогда не отцепить, это навсегда к тебе прицепилось и уже не отвяжется. Отсюда всё это идет: и что заболевания передаются через поколения, и онкология передается, и что-то ты такое в жизни сделал не так, или твои родители сделали – и вот тебе кара, и платит тот, кто тебе дорог.
Из этих порождений страха вырастают потом муки родителей: «Ах, мы провели так по-дурацки свою жизнь, наш ребенок теперь мучается». Так вот, этот страх надо победить в себе. Ничего не прицепляется навсегда. Отцепится. И то, что неизлечимо, и то, что это за какие-то деяния или по наследству – нет, неправда. Это заблуждения.
И я, кстати, считаю одной из важных задач фонда помочь вот этим вот шести тысячам семей победить страх: не хоронить заранее ребенка, не относиться к нему пожизненно как к больному, не хоронить себя, свою семью, не делать из боли семейный склеп. Жить. Научиться закрывать за собой дверь в больницу – это, кстати, очень трудно. Иногда это даже труднее, чем победить болезнь.
– Почему?
– Потому что, пока ты болеешь, время бежит вперед. В ту точку, из которой ты ушел в больницу, вернуться невозможно. Ты возвращаешься в социум и справляешься со всем, что ты пережил, под косыми взглядами друзей, знакомых и коллег по работе, которые с самого начала на тебя смотрят с настроением «ах, у вас горе, и мы уже заранее по вам всем скорбим». Это нужно пройти и пережить.
Хотя, если честно, любой нормальный человек с этим в одиночку не сможет справиться. Если мы имеем в виду – справиться до конца. Поэтому во всем мире существуют специальные методики реабилитации, которая начинается уже в тот момент, когда ребенок только-только попадает в больницу. Это всё давно придумано, это работает, и это реально необходимо. Реабилитация сейчас – для меня, пожалуй, главная программа фонда.
– За десять лет, что существует в России системная благотворительность, фонды подросли и стали такими мощными, что иногда кажется, будто некоммерческий сектор – это если и не параллельный Минздрав, то уж точно – костыль для существующей системы здравоохранения. А вы как себе представляете эти отношения?
– Я бы не назвал нас костылем. Конечно, идея построить – финансово и организационно – систему альтернативной помощи так, чтобы при любой смене власти она оставалась незыблемой, очень заманчива. Но я считаю ее слабореализуемой и неперспективной. Если сравнивать фонды и систему, то в каких-то случаях мы, очевидно, более мобильны: мы можем подхватить человека в сложной ситуации и сделать для него что-то быстрее, чем большая тяжелая машина государственного здравоохранения, которая тоже сделает это в результате, но, возможно, тогда, когда уже ничего не будет нужно. Из этого я делаю вывод: значит, мы с системой должны работать в сцепке.
– В сцепке?
– Да. Мы должны друг друга страховать и использовать сильные стороны – наши и системы здравоохранения, – чтобы помогать людям. По-моему, разумно.
– Насколько необходимость не подвести фонд связывает вас в ваших высказываниях и поступках?
– У меня есть иллюзия, что я свободный человек. Но это лишь иллюзия. Я понимаю, что в тех или иных случаях мне правильнее просто промолчать, разве что сказать: «Я политику не комментирую». Думать я могу при этом всё что угодно. Но я всегда держу в голове, что я отвечаю как за двадцать человек, которые работают в фонде, так и за тысячи семей, которые находятся под опекой. И если вдруг что-то случится – а найти, как мы видим по последним нашим судебным разбирательствам, можно что угодно у кого угодно, – то кто будет вместо меня? Поэтому да, я стараюсь иногда держаться в стороне.
– Это позволяет вам потом пользоваться своей репутацией, своей узнаваемостью?
– Такого, чтобы я ногой открывал двери в какие-то кабинеты и со своим лицом наперевес выкручивал людям, которые сидят в креслах в этих кабинетах, руки, для того чтобы фонд расцветал и шел дальше, – нет, такого нет, я руки никому не выкручиваю. Но в каких-то местах я принципиально стою на своей позиции. И в каких-то случаях встаю и выступаю, потому что молчать нельзя и это я должен быть тем человеком, кто произнесет что-то вслух, прямо. Так было в истории с реанимацией.
– Когда вы встали на Прямой линии с Путиным, чтобы задать вопрос про реанимацию, мне стало за вас страшно.
– Так получилось, что мне доверили этот вопрос задавать. Это не был только мой крик или воля только нашего фонда. Это был общий крик, который мы обсудили. И меня от лица всех тех, кто боролся за возможность открыть двери в реанимации, делегировали на встречу с президентом, где я должен был задать вопрос. Было тяжело.
– Почему?
– Еще раз повторю: этот вопрос был сформулирован несколькими фондами, мне поручили его задать. Я волновался, потому что я не во всех вопросах одинаково хорошо подкован. По-моему, это нормально: если я буду разбираться во всех медицинских прибамбасах, я сойду с ума. Но я достаточное количество времени провел в больнице, больницах, чтобы понимать суть вопроса, чтобы встать на защиту права родных быть рядом с тем, кто находится в реанимации. Не только в Москве или Питере. Везде, по всей стране. Мне хорошо известно, что значит тепло родного человека, когда ты в беде. И лишать людей, и без того страдающих, еще и этой поддержки, нельзя. Тем более на дурацком основании типа, знаете, у вас грязные ногти, мы не можем вас пустить.
– Как часто вас специально просят промолчать, давая понять, что за вами – фонд и ответственность?
– В этом смысле я неудобный товарищ. Я думаю, что так действовать ни у кого не получится. Пока ни одного случая, когда мне бы что-то приказывали – молчать или говорить, – угрожая последствиями для фонда, не было. Я слышал, как это бывало у других, у меня – не было.
– Чем вы объясняете свое молчание по поводу дела Серебренникова? Если это не страх за фонд, может быть, какие-то внутренние театральные обязательства?
– А чего вы от меня ждете?
– Да я в целом от сообщества жду какого-то общего заявления в духе: «Какого черта! Что вы делаете с нашим товарищем?»
– Я в первый же день после ареста стал поручителем Кирилла Семёновича, подписав документ с просьбой о том, чтобы дело ограничилось всё-таки домашним арестом. Я прекрасно понимаю, что ситуация, в которой оказался Кирилл Семёнович, может коснуться любого из нас. Могут взять за что угодно.
Я вижу, как Женя Миронов, Чулпан Хаматова и другие ребята беспокоятся, приходят на заседания суда в надежде на то, что их физиономии что-то решат. Это, конечно, поддержка Кириллу Семёновичу и команде, но я считаю, что это никак не решение вопроса.
– А что тогда – решение?
– Не знаю. Как не знаю и не понимаю, почему тот, по сути, досадный пустяк, халатность, допущенная в «Седьмой студии», раздувается и раскручивается так, до таких масштабов, что я даже не знаю, чем всё это может закончиться. Я очень надеюсь, что это закончится нормально. И эта история окажется просто большим жизненным уроком для всех, не более.
Я очень сочувствую Кириллу Семёновичу и хорошо понимаю ситуацию – в гораздо более мелком масштабе я обжегся на финансовых сложностях ведения театрального проекта во время «Поколения Маугли», я знаю, о чем говорю. Я вижу, как тяжело театру прекрасному, «Гоголь-центру», без режиссера. Хотя ребята держатся и вот эта энергетика – она в театре ощущается: в этом театре одинаково круто и одинаково хочется существовать и на сцене, и в зрительном зале, так там намолено, накатано потоками любви. Всему этому, конечно, Кирилла Семёновича не хватает. Но я не знаю, что я еще могу, кроме вот этих вот слов поддержки?
Я не верю в то, что мое физическое присутствие в зале суда заставит судью принять какое-то другое решение и мы вдруг услышим: «Всё, отпускаем, отпускаем прямо сейчас». Не будет такого. Через это мы тоже проходили, когда [в 2011 году] Чулпан судилась на рубль [с фондом «Федерация»], это был принципиальный рубль, репутационный. Мы все тогда приехали в суд: и я, и Кирилл, кстати, Семёнович, и Женя Миронов, много известных людей. Но это ничего не изменило, суд был проигран. Не работает это так, не работает.
– А как тогда работает?
– Возможно, работает, если ты приходишь один на один. И если человек нормальный, вы с ним договариваетесь, а потом он исполняет свое обещание, а ты – исполняешь свое обещание.
– Вы пробовали куда-то ходить, чтобы договориться?
– Кто-то пробовал, кто-то нет. Кто-то приходит в суд что-то демонстрировать, кто-то нет.
Я не демонстрирую свое отношение. Это не значит, что мне всё равно. Мне – не всё равно. Но я не знаю, чем помочь, кроме того чтобы быть поручителем. Не знаю.
– Боитесь ли вы, что если поступите так, вас осудят одни, иначе – другие?
– Нет. Знаете, обычно люди боятся совсем не того, что действительно страшно. Я не боюсь чьих-то мнений, обсуждений. Я независим совершенно от социальных сетей, мне это не страшно и неинтересно. Я только один раз за последнее время поинтересовался, что пишут в социальных сетях.
– И объектом вашего интереса был…
– …фильм «Собибор». У нас с товарищами спор разгорелся по поводу того, что́ сможет молодежь почерпнуть из просмотра этого фильма и поймут ли они вот эти вот наши мучения. Меня тогда взбесили утверждения, будто фильм неинтересен молодым и это совсем мимо; и я попросил, чтобы мне сделали подборку, всё прочел и убедился, что был прав.
– В чем правы?
– В том, что зрители не дураки: молодые или немолодые, те, которые с попкорном приходят на триллеры и комедии, – они не дураки. Вот в чем дело. Они могут смотреть всё что угодно, мы можем травить их любой вкусовщиной, но они чувствующие, они умеют отличить настоящее от ненастоящего. И они не дураки. Это очень важно.
Хотя, честно, я не собирался из этой картины делать какой-то там ликбез, не собирался демонстрировать никакой новый взгляд. Я просто хотел взбудоражить зрительскую эмоцию, которая должна, конечно, быть подкреплена какими-то знаниями: кто захочет – найдет, прочитает и выяснит факты, кто не захочет – останется с эмоциональным ощущением. Кому страшно с этим ощущением жить, тут же его загасит и что-нибудь придумает себе другое.
– Насколько для вас, еврея по национальности, была личностно важна именно национальная составляющая фильма?
– Знаете, мой друг Саша Цыпкин[51], с которым мы много работаем, как-то талантливо и просто сформулировал про евреев: есть неправильные – те, у которых еврей папа, и есть правильные – у которых еврейка мама. Первые в еврейском обществе евреями не считаются, а у нас в стране как раз оказываются евреями. Вторые у нас не евреи, а там – наоборот. Я отношусь к первым: я вроде и русский, а по папе – еврей. У меня не было национального воспитания в детстве, в том смысле, что я принадлежу к еврейской нации.
У нас семья интернациональная: мама русская, смесь Мордовии и чего-то еще, папа – еврей, есть еще польские корни плюс татары, прошедшие через всю семейную историю неоднократно туда-сюда. И я понимаю, что я имею к этой нации ровно такое отношение, чтобы иметь право говорить о ней, шутить, показывать любые, кроме религиозных, стороны. Но к «Собибору», если вы об этом, это никак не относится.
– То есть тема Холокоста для вас не имеет важного личного значения?
– Мы про боль говорим? Для меня нет большой разницы, когда я или мне рассказывают про геноцид армян или про Холокост, про то, как турки гнали армянский народ, или как нацисты выжигали евреев. У боли, страха, обиды непрожитой жизни нет национального признака.
– Но в связи с выдвижением «Собибора» на «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» раздается предостаточно голосов, уверяющих, что это всё не из-за художественных достоинств картины, а благодаря поднятой теме.
– Честно, я не знаю, почему выдвинули. Вполне возможно, что и по национальному признаку тоже. Я это никак не комментирую. Да и мне-то – какая разница? Я понимаю, что в моей жизни второго такого случая – попасть в оскаровский список – может и не произойти, значит, надо пользоваться шансом и отжимать всё на полную катушку. Тем более что про «Оскар» в нашем цехе шутят все: оскаровский план, оскаровская шутка, оскаровский сценарий и так далее.
Короче, мне просто чертовски приятно, что так получилось. Хотя во время съемок и монтажа и дальнейшей фантазии уже на монтажном столе, связанной с музыкой и звуками, с сюжетом, у меня не было ни одной мысли в направлении «Оскара».
– О чем думали?
– Я для себя ценность того или иного фильма определяю просто: может ли он помочь, например, дяде Васе и тете Ире изменить вектор своего восприятия мира? Ненамного, на чуть-чуть совсем. Получится ли у них, выйдя вечером из кинотеатра, подумать про себя: «А вот завтра я поступлю не так, как герой, я вот этой ошибки не повторю». Я как-то наивно верю в то, что кино должно менять. Ну, может, не жизнь, но вектор восприятия жизни. Что касается фестивалей, то там какие-то другие задачи, для меня трудно формулируемые. Но этим вопросом я никогда всерьез и не задавался.
– В юности вы собирались строить самолеты, а не снимать фильмы и сниматься в них.
– Если быть точным, я должен был делать мозги для самолетов, которые бы летали.
– Сколько раз в жизни вы пожалели о том, что так не вышло?
– Ой, что вы. Никогда. Слава Богу, что всего этого у меня не получилось. Хотя это – одно из первых моих самостоятельных жизненных решений: я сказал, что не хочу больше учиться в школе. Ушел после восьмого класса и поступил в техникум авиационного приборостроения и автоматики, но его тоже бросил. Понял вдруг, что ни черта в этом не понимаю. Можете себе представить, какие самолеты бы я понастроил?
– Летать боитесь?
– По-разному. Это, скажем так, накопительная система, которую я не могу контролировать: зависит от усталости, от количества полетов, от разных каких-то факторов. Но на самом деле это всё неважно. Просто часто мы боимся совсем не того, что оказывается действительно страшным.
Интервью одиннадцатое Елена Грачёва
Звоню Грачёвой на мобильный ранним утром. Вместо обычного тонкоголосого, немного удивленного «Да, Катечка», слышу звонкое: «Ну давайте еще, пока всё правда, но не то…» А в ответ – детский ор: «Хитрый! Жадный! Толстый! Себе на уме! Чувствительный!» «Чувствительный? – переспрашивает голос Грачёвой. – Как вы себе это представляете: чувствительный? Давайте подумаем эту мысль…» Больше всего в эту минуту я боюсь, что она заметит, что не нажала в телефоне «отбой». Сижу, замерев, с трубкой и слушаю самый интересный в своей жизни урок литературы. Административный директор самого большого в России регионального благотворительного фонда – петербургского фонда AdVita – Елена Грачёва преподает литературу в классической гимназии Санкт-Петербурга. О ее уроках ходят легенды. Однако сама Грачёва говорит, что это – мифы.
[52]
«Обогреть космос»
Грачёва рассказывает, как устроен фонд AdVita
– Ты, когда утром просыпаешься, сперва думаешь про русскую литературу или про российскую онкологию?
– Я думаю, что нужно как-то встать и пойти работать. Потом пытаюсь вспомнить, какой сегодня день, куда я должна идти.
– Варианты?
– В гимназии у меня сейчас шесть уроков, они распределены на три дня и поставлены первыми – чтобы день был дальше свободный. Так что, скорее всего, я иду сначала в гимназию, потом в фондик. Правда, не всегда в офис, это может быть встреча, совещание, переговоры где угодно.
– AdVita существует с 2002 года. Почти все фонды, начинавшие или одновременно с вами, или даже позже, теперь стали большими, зубастыми, мыслят масштабно, а вы так и остались в прежней терминологии: фондик, больничка. Как будто всё не всерьез.
– Галя[53] так говорила, это от нее всё… «Фондик», наверное, чтобы лишнего пафоса избежать. И это только я в нынешней AdVita так говорю. Другие говорят как положено: системность, планирование, kpi, социальный возврат на инвестиции. Они – профессионалы. А я – выучившийся чему-то волонтер. Но как бы так не увлечься системностью, планированием и kpi, чтобы не потерять то, что всегда в фонде AdVita было главным – готовность вникнуть и что-то придумать для каждого человека, который к нам пришел. Денег на всех мы точно не соберем, но голову приложить и как-то помочь можно почти всегда. А так полюбившаяся всем теперь системность и предсказуемость – не то, чем надо заниматься всем без исключения.
– Но системную благотворительность сейчас всё чаще противопоставляют адресной, считается, что она правильнее.
– Тут, мне кажется, просто какая-то речевая ошибка. Знаешь, когда проверяют школьные сочинения, иногда пишут: «неверный выбор слова». Это – непротивопоставляемые вещи. Системная помощь – это про работу с государством, это GR[54]. Когда ты меняешь законы, которые есть, или пишешь новые. Такие мозги, опыт и такие возможности из всех известных нам фондов у скольких есть? Мы этих людей знаем. Их мало.
То, что делают остальные, я бы делила на адресную помощь и инфраструктурную. Инфраструктурная – когда мы поддерживаем не конкретного человека, а подразделения каких-то больничек, какие-то службы – консультативную или паллиативную, но сама система оказания помощи не меняется.
Разумеется, есть и пограничные случаи: если мы платим за реактивы и оборудование для лабораторий, чтобы пациенты за анализы не платили, – это программная помощь. А если мы платим за клиническое исследование, чтобы появился новый протокол лечения, – это, по идее, вроде как тоже программная помощь. Но новый протокол лечения похож на новый закон: он изменит жизнь всех больных с таким диагнозом во всем мире, так что это, может, уже и системная помощь. Ну и, само собой, хоть системная, хоть программная – помощь всё равно в конечном счете конкретным людям, не марсианам.
– Основные споры идут о разнице между программным сбором и адресной помощью.
– Это как раз самое понятное. Собрали деньги на Петю и заплатили за Петино лечение – всё прозрачно и всем хорошо. Как только мы доходим до конкретной больнички и понимаем, что таких Петь в отделении пятьдесят, нам уже кажется несправедливым остальных Петь бросить без помощи. Но как только мы начинаем собирать на всё отделение, жертвователи начинают тревожиться: а как мы узнаем, что все Пети в отделении лекарства получат? Вы что, будете каждого предъявлять? А если нет, мы как это проверим? И вообще: как почувствовать, что по ту сторону перевода живой человек, если в назначении платежа я пишу унылое: «на уставную деятельность»? На эти законные вопросы мы пока не умеем отвечать.
– Собирать сразу всем Петям в отделении рациональнее и полезнее – чтобы доктор просто мог доставать из шкафа нужный препарат и лечить, а не бегать по фондам с криками: «Петя помирает, дайте денег!»
– По-хорошему эффективнее всего для фонда – добиться, чтобы государство или страховая компания давали столько денег, сколько нужно всем Петям во всех больницах. Но пока мы будем идти к этому светлому будущему, конкретные Пети могут умереть. Разумеется, хочется быть продуманными и системными. Но вот пример: мы молодцы и программным образом купили лекарство в отделение. Всем дали, только один Вася возьми да выпишись. Больничка ему с собой если и может лекарства дать, то чуть-чуть, на дорожку. Домой он приедет – там заявки, тендеры, местный бюджет, у которого ни копейки нет, препирательства с Минздравом, звонки в Росздравнадзор, до судов доходит. Поэтому, конечно, мы Васе будем покупать лекарства адресно, пока он от государства их не может получить.
– В уставе AdVita написано, что фонд помогает любым онкологическим пациентам – и взрослым, и детям. Выходит, что ваша уставная задача – обогреть космос.
– Ты права, ни Паша[55], ни я никогда не хотели выбирать: этому помочь, этому нет, мы не Господь Бог и вообще-то не должны это решать. Это для нас была и есть чудовищная проблема. Знаешь, я довольно долго входила в разные комиссии при Минздраве: и по трансплантации костного мозга, и по лекарственному обеспечению, и по детской онкологии. И с Госнаркоконтролем в Петербурге пыталась общаться. Мало что у меня получилось. Разве что некоторые изменения в закон о ввозе незарегистрированных препаратов, позволяющие ввозить новые лекарства не в чемоданах с двойным дном, как Ленин «Искру», а легально. Еще мы вместе с петербургскими трансплантологами написали тонну бумаг с проектами, чтобы государство взяло на себя расходы по трансплантации костного мозга и поиску доноров, по созданию регистра потенциальных доноров. Ездили к министрам. Но ничего не вышло.
«Как быть счастливым»
Грачёва дает урок литературы
В Петербурге неожиданно светлый солнечный день, такой прозрачный и легкий, что возникает иллюзия беззаботности. Мы идем с Грачёвой по зеленой траве Новой Голландии. Так хорошо, что хочется снять обувь и идти босиком. «Это ужасная, кстати, история, – говорит вдруг Грачёва, – про наш внутренний запрет на то, чтобы быть счастливым». «Ты сейчас о чем?» – переспрашиваю я, немного обалдев от внезапного поворота разговора. «Вот просто быть счастливым, ни за что, – продолжает Грачёва так, будто мы только что прервали этот разговор. – Не заслужить счастье, а задарма получить и научиться ему радоваться». – «Например?»
Грачёва оглядывает безупречную Новую Голландию, словно в поисках предмета, который помог бы объяснить, как устроено незаслуженное счастье. Но такого предмета нет. И Грачёва с облегчением смеется, чуть обгоняет меня и, глядя прямо в глаза, спрашивает: «Вот помнишь, как в “Что делать?”? В некотором отношении это – мой любимый роман. Человек должен быть счастлив просто по праву рождения. Мы как-то больше привыкли к Достоевскому: человек не родится для счастья, человек заслуживает свое счастье, и всегда страданием. А житейское счастье – это для обывателей, потому как им трагизм мира недоступен. Вон Вертер страдал, что филистеры могут быть счастливыми, а он нет, ибо чувствует глубоко. А Чернышевский прямиком сказал: а давайте за нормального человека заступимся. Ему для счастья не сказать чтобы много надо-то.
Помнишь, как Верочка боролась, чтобы мамаша в ее дверь стучала, прежде чем войти? А с каким удовольствием Чернышевский разрешает героине чувствовать себя счастливой от вкусных сливок или хороших ботинок, будь она трижды идейный человек и борец за права?»
Мы немного молчим, видимо, пытаясь представить себя неслыханно счастливыми по праву рождения. Рядом под симпатично подстриженным деревом драный кот протяжно мяукает, не в силах вынести простодушную трескотню синиц на нижней ветке.
– Ты замечаешь, как то, ради чего ты пришла в благотворительность, всё же меняется в лучшую сторону?
– С большим скрипом. Законы меняются быстрее, чем люди. Инструкция Минздрава уже несколько лет говорит: можно запросто сделать так, чтобы люди не терпели боль. А люди, от которых это зависит, говорят: да ладно, все терпели и эти потерпят.
– Как специалист по русской литературе можешь объяснить – откуда эта нелюбовь русских людей друг к другу?
– Не нелюбовь. Непонимание, недопонимание, что человек – ценность. Любой. Это не русское, это советское, мне кажется. В советской системе ценностей была идея – государство, высшие какие-то цели. А человек был средством обеспечить это всё. Квинтэссенция советской идеологии – это не «миру – мир» или «пятилетку в четыре года». Это – «бабы новых нарожают». И «вас много, а я одна». И «вы кто такой».
Жена одного нашего подопечного, пожилого водителя «скорой помощи» из маленькой южной станицы, рассказала, что они к нам в фонд три раза приходили. Доходили до дверей, потом муж говорил: «Слушай, ну кто я такой, чтобы мне миллион рублей дали, столько детей болеют», – разворачивались и уходили. Потом как-то врачи на них крепко наехали, и они дошли и даже вошли, но разговаривали, страшно извиняясь, что заболели и пришли побеспокоить. Вот что это такое? Наших родителей воспитывали так: «Потерпи», а их – их родители. Но почему мы должны терпеть? Все эти роды, зубы, да что угодно: терпи. И рот закрой.
– Каким образом получилось, что ты – другая?
– Да полно других вообще-то. У меня-то понятно: великая русская литература, несколько фантастических людей рядом, очень важный для меня момент крещения. Но вначале – родители.
«Просветители бы сейчас все огребли по полной»
Грачёва рассказывает, как устроена совесть
Отец Грачёвой – потомок переселенцев по Столыпинской реформе. У прапрадеда были большая семья и огромное хозяйство в Сибири: мельница, кони, коровы. Разумеется, в советское время Грачёвых раскулачили. Но из Сибири высылать особо было некуда. Просто отняли землю, мельницу, коров, лошадей, урожай – всё. Никто из этого поколения Грачёвых после случившегося никогда не работал на советскую власть.
«Это были настоящие независимые сибирские крестьяне, – рассказывает Грачёва. – И мой папа такой же был независимый всю жизнь: ругался со всем начальством и был фанатиком хорошо сделанной работы. Когда что-то делали криво и косо, страдал и кидался переделывать. И совесть у него тоже, видимо, от этих самых независимых сибирских людей происходила».
– У тебя, видимо, тоже совесть? Почему ты, как и многие другие люди российской благотворительности, ходишь на оппозиционные митинги?
– Я бы не назвала эти митинги оппозиционными в прямом смысле слова. Наша повестка не политическая, а гуманитарная: прекращение пыток не должно зависеть от того, какое правительство у власти; чтение имен у Соловецкого камня и признание сталинских репрессий убийствами, а не эффективным менеджментом, не должны зависеть от того, какая партия победила на выборах. Протест против войны – общечеловеческая повестка, не нами придуманная. В конце концов, даже на митинг за свободные выборы мы приходим не за и не против конкретных людей.
– Выборы – это политическая повестка, Лена.
– Хорошо, пусть политическая. Но это же про то, что человеку хочется нормально выбирать. Что в этом оппозиционного? Просто мы живем в такое время, что любой честно и остро поставленный вопрос оказывается оппозиционным.
– Важны ли тебе политические взгляды жертвователей фонда?
– Я понятия не имею, кто те люди, которые переводят деньги в фонд. Может, среди них и людоеды есть.
– Ну а если Гитлер?
– Тут, скорее, речь о ситуации, когда условный Гитлер что-то от тебя хочет взамен. Слава Богу, в фонде я не одна принимаю такие решения. Не знаю. Может, любые деньги возьму. А может, не возьму, если взамен захотят чего-то, что принесет вред фонду.
– А что может принести вред фонду? Чего ты не можешь себе позволить?
– К счастью, меня пока никто не ставил перед таким выбором. Знаешь, мне хватает и того выбора, который нам приходится чуть не каждый день делать, когда мы кому-то отказываем. Каждый четверг в фонде собирается совещание: директора, отдел работы с подопечными, бухгалтерия, представитель клиники. Мы должны принять решение, какие заявки мы одобрим, какие отложим, а какие отклоним. Целая куча народу сидит и размазывает кашу по тарелке: вот деньги, что у нас есть, вот – те, что мы планируем собрать, вот обращения и заявки от врачей. Например, закончилось клиническое исследование по ниволумабу, в нем участвовали сто тридцать два человека. Теперь они в одночасье перестанут получать от производителя бесплатное лекарство, которое им помогало. Но у нас нет денег, чтобы купить этот препарат всем нуждающимся.
– Скольким можете?
– Тридцати. И мы взяли тридцать пациентов.
– Что сказали остальным?
– Сказали как есть. А до этого долго разбирались с каждым случаем. Сначала врачи написали, кого можно вовсе снять с препарата, так как эффект получен, кого перевести на другую терапию, кому-то дозировку снизить. Потом мы со своей стороны смотрели, у кого какие родственники работают, кто хотя бы кредит взять сможет, кому помогут работодатели. Но необходимость такого выбора – абсолютно разрушительная вещь и для врачей, и для нас.
– Сколько денег нужно фонду AdVita, чтобы закрыть все существующие сейчас дыры?
– Сейчас мы собираем от десяти до двадцати миллионов рублей в месяц. Надо, как минимум, в два раза больше. А когда клиника[56] расширяется – например, в прошлом году были присоединены два новых отделения, – вообще непонятно, что делать. Мы же не можем внезапно начать в два раза больше денег собирать.
– Но клиника – государственная, почему два новых отделения – сразу зона вашей ответственности?
– Госзакупок не хватает никогда. И по оборудованию, и по лекарствам. Что-то финансируется на десять процентов, что-то на восемьдесят. На сто процентов не финансируется ничего.
– AdVita собирает деньги, кажется, всеми возможными способами. Ты часто читаешь лекции по литературе, иногда в вашу пользу проводят уроки и тренинги. Анимационный фильм «Летающие звери» – мой любимый – был тоже частью вашего фандрайзинга?
– Да. Денег зверики приносили не сказать чтобы много, несколько процентов от общего бюджета. Но это было еще и продвижение наших идей и наших ценностей.
– Как это работало?
– Рабочая схема была такая: создается мультфильм, а все средства от продажи лицензии, проката, мероприятий, связанных с «Летающими зверями», идут в фонд AdVita. Сейчас в YouTube у «Зверей» около семисот миллионов просмотров, и это вполне ощутимые миллионы рублей, которые мы получаем от прокатчиков.
– На какие деньги создавался сам сериал?
– В первый год студия получила грант от Госкино. А во второй уже не получила. Тогда встал вопрос о закрытии проекта, и наш спаситель, Капитан Немо[57], решил, что он готов продолжить финансирование сериала. А потом у Капитана случились финансовые трудности, и производство сериала пришлось остановить. Мы обращались и в Фонд кино, и в Минкульт – глухо. Новых серий нет и, видимо, не будет.
– В титрах ты значишься продюсером. А кому принадлежит идея сериала?
– Главный вдохновитель звериков – режиссер Миша Сафронов, человек, который отторгает зло и агрессию в любых проявлениях всеми своими чакрами, как убежденный буддист. Это во многом его мир – там много любви и сочувствия – и нет агрессии. Когда писались первые сценарии, Мишу все ругали, что не хватает напряжения, нет конфликта. Но конфликты там, конечно, есть, самые что ни на есть человеческие: кто-то кого-то недопонял, не услышал, по настроению не совпали, всё такое тонкое и нежное. А злодеев нет. И не надо. Нам нравится.
– Сколько нужно денег, чтобы сериал продолжился?
– Бюджет студии был около двадцати миллионов рублей в год. На эти деньги создавались три сериала – «Звери», «Машинки», «Коля и Оля», еще три были в запуске. Всё это теперь остановилось.
– Горюешь?
– Да. Обидно, что не получилось сохранить жизнь зверикам. Вообще обидно, когда не успеваешь, не получается, не хватает сил. Знаешь, моя мама до сих пор не может понять, что у меня за работа, как можно на ней убиваться с утра до вечера, из года в год.
«Дед ничего не ответил, но сломал вилку»
Грачёва говорит о семейной любви к городу
Мама Грачёвой родилась в Ленинграде и до семи лет жила там с родителями и младшим братом. 18 июня 1941 года в семье родился третий ребенок. Помочь с ним приехала из Балакова бабушка Пелагея Яковлевна. А 22 июня началась война.
Дед Грачёвой работал на танковом заводе мастером горячего цеха и не подлежал призыву – заводской грохот у многих отнимал слух. Вместе с заводом дед эвакуировался в Омск, но семью с собой взять не мог. Когда ленинградские власти начали собирать для отправки из города одних детей, Пелагея Яковлевна сказала: «Детей никому не отдаем, едем только все вместе», и еще, по сути, до начала официальной эвакуации они уехали в Балаково. С собой везли швейную машинку «Зингер».
В Балакове у прабабушки и прадедушки были свой дом и ручная мельница. Чтобы прокормиться, шили, брали вещи на переделку и перекраску, на заказ мололи муку. Остатки муки доставались семье, из них пекли хлеб. «Мама рассказывала, что, когда пленных немцев, обмороженных и голодных, стали гнать через Балаково, прабабушка Пелагея Яковлевна выносила им сухари, – рассказывает Грачёва. – Она называла их “солдатики”. Представляешь, как бомбили эту приволжскую полосу, сколько они натерпелись от немцев? Но когда перед ней оказывались эти обмороженные пацаны, они для нее были просто солдатиками. Несчастные, голодные».
– Этот личный, очень болезненный, но живой опыт войны никак ведь не совместим с нынешней пропагандой, вот со всем этим «можем повторить».
– Для меня карнавализация Великой Отечественной войны и полный разрыв сконструированной «памяти» с реальной памятью означает, что непосредственная связь с опытом войны утрачена. Детские военные костюмчики, наклейки на машины, полевые кухни с кашей и народные гулянки в день блокадной памяти – это и есть полное непонимание, что за опыт ты собираешься повторить. Это и плохо, и хорошо.
– Про «плохо» понятно. А «хорошо» – почему?
– Хорошо, потому что, наверное, любая травма проходит эти этапы. Травма проходит. Войны никто не помнит и в ядерную пыль по-настоящему не верит, что бы там в телевизоре ни говорили. Это хорошо. Хотя война в Донбассе на фоне этого всего выглядит придуманной. А она ведь настоящая.
В 1943 году, когда фронт совсем подошел к Волге, семья мамы Грачёвой получила разрешение переехать в Омск. Бабушка и трое ее маленьких детей не могли, несмотря на наличие ордера на эвакуацию и посадочных талонов, сесть в поезд, забитый людьми. Кончилось тем, что их всех, по одному, в окно вагона засунул какой-то человек: сначала бабушку, потом троих детей, потом баул с машинкой «Зингер» и едой, – и бабушка отдала ему буханку хлеба. Про него в семье тоже говорили «солдатик». В Омске им было негде жить. Дедушка часто ночевал на заводе, бабушку с тремя детьми сначала подселили к омской семье в маленький деревянный домик на берегу Иртыша, а потом перевели в барак рядом с железной дорогой. Комнату в коммуналке семья получит уже после войны.
– Они остались в Омске после войны? Не вернулись в Ленинград?
– Завод остался в Омске, дети были маленькие, квартира в Ленинграде была занята, возвращаться было некуда. Но Ленинград – это самое важное слово было в нашей семье. Его повторяли как заклинание, олицетворявшее самую главную, главнее всех главных – и оттого несбыточную – мечту. Я однажды спросила дедушку: «Почему вы не вернулись в Ленинград?» Дед ничего не ответил, но сломал вилку, которую держал в руках. Настолько всё это больно было. Мама первой из всей семьи попыталась вернуться: она поехала в Ленинград учиться в Политехнический институт. И, сойдя с поезда, заплакала – такая была любовь.
– Но не осталась?
– Нет. Когда она уже училась на пятом курсе, приехала из Ленинграда в Омск к родителям на каникулы. И на кухне коммунальной квартиры познакомилась с папой – он пришел в гости к соседям. Всё случилось стремительно: через неделю мама вернулась в Ленинград учиться, через месяц он приехал за ней в Ленинград, еще через неделю они поженились. Мама поехала к папе в Омск, и там родились мы с сестрой. У меня, кстати, потом получилось похоже: я вышла замуж за человека, с которым была знакома в общей сложности неделю. Родители были в обмороке. «На себя посмотрите», – строго сказала я, и они рассмеялись. Они вообще очень смешливые. Особенно папа. Смеялись всё время.
– Как ты?
Грачёва смеется.
«В Ленинграде со мной случилось чудо»
Грачёва рассказывает, как нашла своих
Семья Грачёвой жила в омском городке нефтяников в окружении заводов – нефтеперерабатывающего завода и его дочерних заводиков: сажного, шинного, синтетического каучука, пластмасс – всего одиннадцать штук. И случилось то, что, в общем-то, часто случается в промзоне: сестра Грачёвой заболела тяжелой формой бронхиальной астмы. Поэтому когда в Литве стали строить Мажейкский нефтезавод, отец кинулся в ноги начальству и попросил перевести его туда. «Это было спасением, – говорит Грачёва, – там сестре сразу стало лучше, легче дышать. Мы переехали в Литву, и там я окончила школу».
– Был контраст между тем, как жил омский нефтегородок и как – литовский?
– Конечно. Во-первых, в Литве была еда, а в Омске с этим уже начинались проблемы. И какие-то рубашечки, ботиночки, которые можно было купить, а не добывать. А во-вторых, там была природа и было море. Первое, что с нами случилось, когда отец встретил нас в аэропорту в Риге, – отвез в Палангу, мы там жили в бельевом сарайчике за занавесочкой. Это было такое счастье – другой воздух, другая среда. Сестра моя там и осталась: этот климат подошел ей идеально, гораздо лучше петербургского.
– А ты?
– Мне всё нравилось. Но родители всегда хотели вернуться в Ленинград. И когда нефтезавод в Литве уже был построен и стало понятно, что не просто можно, но даже нужно ехать еще куда-то, папа получил работу в Тосно. Это Ленинградская область.
– Дедушка обрадовался?
– Дедушка умер через несколько дней после переезда, у него был рак. Он знал, он был счастлив совершенно, что мы переехали так близко к Ленинграду. Но увидеть его не успел.
– Но ты получила возможность жить в городе, куда твоя семья всю жизнь мечтала вернуться.
– Я приехала в 1981 году поступать в Ленинградский университет на истфак. И не поступила. Честно сказать, это было предсказуемо: я была просто сумасшедшая провинциальная девочка, которая без конца читала книжки. Но в Ленинграде со мной случилось чудо. Когда я пошла подавать заявление, мне объяснили, что обязательно нужны репетиторы. Я оторвала телефон с объявлением на столбе рядом с истфаком. И оказалось, что именно это объявление принадлежало той части ленинградской репетиторской мафии, которая состояла не из школьных учительниц, а из ученых и поэтов.
Позвонив по телефону, я попала к Сурену Тахтаджяну, ученому, историку-классику, который отвечал в этой мафии за преподавание древней русской истории. Он меня познакомил со Львом Лурье, который преподавал новую русскую историю, и Виктором Кривулиным, который преподавал литературу. Ты можешь себе представить? Весь культурный Ленинград упал на меня и слегка расплющил.
Все эти профессорские квартиры, бесконечные шкафы с дореволюционными книжками – я вообще раньше никогда не видела ни этих шрифтов, ни этих переплетов, ни старой орфографии. Кривулин жил в большой коммуналке, где у него было две комнаты. Там тоже было много книг, но еще там бывало много людей: поэтов, художников, музыкантов. После нашего первого занятия с Виктором Борисовичем – как сейчас помню, птицу-тройку обсуждали – он оставил меня пить чай (все эти прекрасные люди всегда меня кормили). Перед уходом вручил мне том Тютчева в дореволюционном издании, Платонова, какой-то самиздат, кажется, выпуск «Обводного канала».
Он видел меня первый раз в жизни и всё это дал, понимаешь? И вот я с этими книжками спустилась по лестнице на один пролет, у меня подогнулись ноги, и я села на подоконник. Сижу и понимаю, что нашла, наконец, своих – с которыми можно говорить про книжки и не выглядеть чокнутой.
– Ты начала читать прямо на подоконнике?
– Я не могла, у меня буквы прыгали перед глазами. Просто не могла встать и пойти, сидела как парализованная. Надо сказать, что все преподаватели, с которыми я встретилась благодаря счастливому телефону на столбе, потрясающе относились к ученикам. Что Витя [Кривулин], что Лев [Лурье] очень уважали детей, которые хотели учиться. Ни разу в жизни никакого пресловутого петербургского снобизма по отношению к провинциалам я там не почувствовала. Мы толпами паслись в их домах и библиотеках. Потом они даже перестали с меня деньги брать за занятия. И если что в городе происходило, говорили, куда идти и что смотреть – за тот год, что я провела в Ленинграде, я чего только не видела. Не знаю, кем бы я стала, если бы на другом конце телефона из объявления оказалась бы просто хорошая школьная учительница, умеющая классно натаскивать абитуриентов.
– Но на истфак ты не попала.
– Да, недобрала баллов. И Лева с Витей сказали: нечего тебе делать на истфаке, ты филолог, езжай-ка ты в Тарту. Я, конечно, не хотела никуда из Ленинграда уезжать, я же только приехала! Но они оказались на редкость единодушны в том, что я ничего не понимаю и что в Тартуском университете мне самое место.
«Господа ташкентцы»
Грачёва рассказывает о Лотмане
– Тарту для человека из провинции – далекий и загадочный Хогвартс: там живут длиннобородые ученые, можно отыскать и прочесть все на свете книжки. И там – Лотман.
– Я-то ничего про это не знала. И тогда Витя Кривулин дал мне почитать биографию Пушкина, написанную Лотманом. Это до сих пор одна из самых моих любимых книжек, и теперь я уже понимаю, какая там тонкая грань между предметом исследования и исследователем.
– Каким оказался Тарту?
– Это был мой рай: умные люди и полно книжек. И оценки ставят за то, что ты их читаешь! И, конечно же, я, любившая Пушкина вообще и «Капитанскую дочку» в частности, пошла на семинар к Юрию Михайловичу Лотману. Его лекции были невероятные совершенно, у меня до сих пор какие-то фразы в голове с его интонацией звучат и стихи, которые он читал. Я все годы ходила еще к нему на спецкурсы, хотя формально они были только для четверокурсников. На его спецкурс собирались толпы, включая физиков, математиков, медиков.
Как научный руководитель он не возился с нами с утра до ночи, потому что был очень занят, но находить время для разговоров, если я заходила в тупик, всегда исхитрялся, сохраняя при этом отношение к студенту как к коллеге. Я была трудоголиком и перфекционистом, и мы жили душа в душу. Он мог оставить на полях работы: «О, боже!», или «Ну и словечко!», или еще какие-то язвительные замечания. Когда он начинал разговор, произнося ледяным тоном: «Ангел мой», мы знали, что сейчас прилетит за ерунду или халтуру, но он никогда не мешал уходить в ту сторону, которая вдруг тебе начинала казаться очень интересной, и у нас никогда не было жестких теоретических споров. Но я никогда и не претендовала на какие-то теоретические открытия, я всегда была позитивистом и любила реальный комментарий.
– Как всё это было вообще возможно в СССР? Тарту, свобода, Лотман, воспитывающий студентов.
– Лотман как-то сказал, что филфак Тартуского университета – это немножко «господа ташкентцы»: Ленинградский университет прислал специалистов «из столиц», они основали кафедру. Для эстонской партийной организации ленинградская была вроде как повыше рангом. С другой стороны, для Советского Союза Тарту был слишком уж периферийным местом, чтобы громить его так, как в свое время был разгромлен филфак Ленинградского университета, да и время было уже не такое кровожадное. Такая резервация, где даже обыски происходили не регулярно, а время от времени.
– Но происходили?
– Юрий Михайлович как-то рассказал, что прятал самиздат за верхней вьюшкой на печке. Библиотека у них с [женой] Зарой Григорьевной Минц была огромная, все пространство четырехкомнатной квартиры было заставлено и заложено книгами снизу доверху. Сыскари открывали каждую книгу, шли снизу и, когда доходили до верхних полок, так уставали, что до коробок на антресолях и печках просто не добирались. Но когда я училась, никакого особого давления уже не было – в год нашего поступления, осенью, умер Брежнев, советской власти было не до далеких от столиц филологов.
– Перестройка пришла в Тарту сразу или с запозданием?
– Я поняла, что такое «перестройка», когда в нашем общежитии появилась проходная и врезали замок. До этого туда ходил кто хотел. А касалось это меня напрямую: после второго курса мне пришлось выписаться из общежития и прописаться снова у родителей в Ленобласти, чтобы, выйдя замуж, не потерять ленинградскую прописку, потому что мой муж Лёша был прописан в закрытом городе Челябинске-70. Из общежития я выписалась, но жить там продолжала, потому что свободные места были, а проходная не работала. И вот при Горбачёве стали пускать только по пропускам, и мне пришлось лазить через окна первого этажа. Слава Богу, продолжалось это недолго, как и любая попытка «навести порядок», но я поняла главное: Горбачёв хочет, чтобы все правила и предписания, положенные по социалистическому закону, работали. Для меня эта проходная, рьяно внедренная и быстро опустевшая, так и осталась символом того времени: старое невозможно улучшить, это не работает. Мы были первым курсом университета, с которого всех мальчиков забрали в армию, и Афганистан советской власти мы прощать не собирались. На четвертом курсе еще и Чернобыль случился… Так что я точно знала, что государство врет по-крупному, и никакой симпатии к нему не испытывала.
– С этими мыслями ты собиралась стать учителем?
– Вообще-то я собиралась в аспирантуру. Окончила университет с красным дипломом, но мест в аспирантуре в тот год не было, и я пошла работать в Тосненскую среднюю школу и готовиться к экзаменам. В результате вместо аспирантуры я забеременела – и страшно боялась сказать об этом Юрию Михайловичу. Рожать мне было в августе, а в аспирантуру поступать, естественно, в сентябре. И я как-то себе намечтала, что каким-то образом смогу всё совместить. В июне мы с Лотманом столкнулись в Публичке, я была уже со здоровым животом, и Юрий Михайлович таким страшным голосом сказал вместо «здрасьте»: «Я вам этого никогда не прощу».
– Ой.
– Мы потом, конечно, начали ржать, как нормальные люди. Но я помню этот ужас, когда его увидела: он меня застукал и что теперь делать.
Потом, когда сыну было три года, я начала сдавать экзамены в аспирантуру, уже в заочную. Но поступить не успела: Юрий Михайлович заболел и умер. Так история с ученой карьерой и диссертацией рассосалась.
«Что-то такое происходит, чего я не могу допустить просто по-человечески»
Грачёва рассказывает, как человека меняет чужое горе
– Вот ты – студентка Лотмана, учительница – и вдруг оказываешься в благотворительности.
– В мае 2005 года подруга прислала мне ссылку на «Живой Журнал», где собирали деньги на мальчика Тёму: мол, в Первой больнице в отделении химиотерапии лейкозов есть такой ребеночек, его мама – буфетчица из больницы города Сланцы, папа сидит. Положили их в больницу зимой, а сейчас лето, и ребенку нужны летние ботинки, чтобы гулять.
Я позвонила в ДГБ № 1, спросила, есть ли такой ребенок, купила еды и поехала Тёмочке ножку мерять. И тут мама Тёмы мне показывает счет на пятнадцать тысяч евро на поиск донора в международном регистре и спрашивает, не могу ли я чем-то помочь. Я помню, как, вернувшись от Тёмы домой, сидела на диване с этим счетом и не могла осознать полученную информацию. Как тот протопоп Аввакум: «Не вмещаю, Господи». Вот я тоже не вмещала: как может быть, что в пятимиллионном городе буфетчица, которая сидит с больным ребенком в стерильном боксе, должна найти пятнадцать тысяч евро? А если не найдет, то у ее сына просто не будет шансов. У меня было чувство, что при мне что-то такое происходит, чего я не могу допустить просто по-человечески. Я тогда обзвонила своих выпускников, тартуских друзей – всех, до кого смогла дотянуться.
– Собрали?
– Собрали. Но пока я ходила к Тёмочке, познакомилась с другими детьми и мамами, а потом мне дали телефон Паши Гринберга, который уже создал фонд AdVita. Знакомство с Пашей было моей точкой невозврата. Он думал то же самое, что и я: всё это неправильно, не может так быть, нужно что-то делать.
– Вы обсуждали когда-нибудь с Гринбергом, что, не ограничивая поток обращений, вы лишаете себя возможности стать эффективным фондом?
– У нас с самого начало было очень мало денег, мы мало кому могли помочь. Но тогда для человека просто возможность публично обратиться за помощью уже была большим делом: не было никаких соцсетей и благотворительных фондов, просьбы клубились на нескольких форумах, вечно возникали вопросы, как это всё проверять.
Паша, публикуя просьбы на сайте фонда, давал жертвователям гарантию: эта история проверена, деньги дойдут по назначению. Мы на первых порах даже телефоны пациентов давали, чтобы любой жертвователь мог позвонить и проверить, так были помешаны на честности и прозрачности. Но, честно сказать, с тех пор у нас так и не появилось никаких аргументов сильнее вопроса: как так может быть, чтобы жизнь человека зависела от денег? Это такой прямой вопрос, как просветители задавали, понимаешь? – говорит Грачёва и тихонько смеется, замечая, что интервью в очередной раз превращается в урок литературы. – Философы эпохи Просвещения задавали такие прямые вопросы – если начнешь отвечать, то сразу видно, что имеет смысл, а что просто привычка или предрассудок. Вот, например, кругом крепостное право, а эти люди берут и спрашивают: как могут существовать рабы, если мы христиане? Как может один человек другому принадлежать? Почему мы это всё терпим? Потому что нам мешают предрассудки, клише, к которым все привыкли и ничего странного в этом не замечают. Если это клише изъять, оказывается, тебе нечего ответить на этот вопрос. И вот тебе еще один прямой вопрос: ребенок в многомиллионном городе в начале XXI века погибает от отсутствия лекарств, которые на самом деле есть, существуют, придуманы, – почему? Попробуй ответить на этот вопрос и не измениться в процессе ответа. Но ужас в том, что сейчас мы уже не можем сказать, что вход в фонд AdVita ничем не ограничен. Сейчас уже есть вещи, которые мы не будем рассматривать в принципе – например, лечение за границей. А по поводу приоритетов бесконечно спорим…
– Что стало с Тёмой, из-за которого ты пришла в больницу?
– Тогда еще не было таких лекарств, которые есть сейчас, и не было таких способов борьбы с реакцией «трансплантат против хозяина». Тёма умер от осложнений после трансплантации в феврале 2006 года.
– Тут человек со здоровой психикой повернулся бы и ушел. Из больницы и из благотворительности.
– Вот как раз со здоровой и не ушел бы. С чего? Если ты не спасать мир пришел и не мыслишь в категориях победы и поражения, а просто понял, что у тебя есть руки, ноги и какие-то возможности, ты можешь что-то написать, кому-то позвонить, кого-то убедить, что-то придумать и в конечном итоге как-то помочь людям, которые сами себе помочь не могут, – так чего бы этого не сделать?
– Смерть в случае, когда ты вроде как всё сделал, что мог, – это тяжелый опыт.
– Да, тяжелый. И что? Опыт, когда ты не смог ничего сделать, гораздо тяжелее. Было же сразу понятно, что рак не насморк, не грипп, не аппендицит. Да, кого-то не сможем отбить, но попробовать обязаны. Если не пробовать, то ничего и не будет.
Вот фонду исполняется семнадцать лет, и я вижу, как вытаскивают людей, которых в начале нашего пути никто и не взялся бы лечить. Мы – свидетели совершенно фантастических открытий и появления фантастических возможностей. И еще одна простая и прямая мысль: право воспользоваться всем этим должно быть у всех людей, а не только у тех, кто может за это заплатить. Я как-то так вижу нашу работу.
«В устройстве мира полно лакун, куда проваливаются люди»
Грачёва рассказывает, зачем нужна благотворительность
«Наша задача – подхватывать то, что не могут подхватить государство, страховая компания или кто-то еще. И что-то всё время делать, толкать реальность в нужную сторону, чтобы когда-нибудь мы стали в этом качестве не нужны, а нужны, чтобы, например, оплачивать онкологические исследования или еще какой-то кусочек будущего», – быстро говорит Грачёва, пока мы с ней перебираемся через ледяные глыбы, перегородившие петербургские улицы. Между льдинами – впадины, талый снег, под которым опять лед. Время от времени мы скользим и почти падаем, но не падаем – поддерживаем друг друга. Не отвлекаясь на льдины, будто их и вовсе нет, Грачева продолжает ровным голосом: «В устройстве мира полно лакун, куда проваливаются люди. И благотворительность их вытаскивает. Так исторически сложилось: Боткинские больницы, Морозовские строили прекрасные люди позапрошлого века! До 1917 года существовал миллион организаций, которые чем только не занимались, и это не считая благотворительного ведомства императрицы Марии, которое тоже было очень мощным. Какую сферу помощи ни возьми, к началу XX века было уже невероятное количество самой разной благотворительности. Десятки, сотни организаций, занимавшихся бедными, голодными, бездомными, больными, сиротами, заключенными, – всё это было уничтожено в 1917 году, и всё это вернулось в девяностые. Посмотри, что сейчас творится: какая бы ни была тяжелая проблема, вокруг нее уже кто-то объединился и что-то уже делает. Здорово же».
Дует ужасный ветер. И половины произносимых слов – не слышно. Мы стоим с Грачёвой на шумной улице. Ветер смешивается то с дождем, то со снегом, и за каждое произнесенное слово говорящий вынужден проглатывать по чайной ложке ледяной воды. Возможно, поэтому мы молчим. Но вдруг Грачёва произносит: «Я всю жизнь чувствую себя виноватой перед Лёшиками (муж и сын – оба Лёши) и перед родителями. Сейчас я дома гораздо чаще, конечно, потому что есть сотрудники. Но за семнадцать лет в AdVita мои все привыкли, что меня никогда нет». Наверное, она что-то еще сказала. Но ветер опять рванул. Гаркнула чайка. Я не услышала.
«Я очень устала»
Грачёва рассказывает о возрасте
– Часто ли ты чувствуешь бессилие?
– Конечно.
– И что ты делаешь?
– Плачу. Плачу, жалуюсь и причащаюсь. Как все. Сил не хватает вообще ни на что. Наверное, это старость. Мне кажется, у меня она уже наступила. Я когда прочитала, что пенсию отодвинут до шестидесяти трех лет, и представила, что мне нужно еще восемь лет работать, меня эта мысль разрушила изнутри. Я очень устала.
Мне кажется, что всё это старорежимное многовековое деление на детство, отрочество, юность, зрелость, старость – страшно устарело. Не физиологически, хотя и тут всё подвинулось, – а культурно. Сейчас совсем не нужно к определенному возрасту оканчивать школу, выходить замуж, рожать детей, определяться с работой и работать до могилы. Мне нравится, что сейчас люди меньше боятся переучиваться, всё менять, переезжать, начинать новую работу и новую жизнь. И стали гораздо меньше париться по поводу того, кто что скажет. Все эти понятия – «корочки», «карьера» – постепенно уходят. Людям стало важно, зачем они что-то делают, имеет ли это смысл и доставляет ли удовольствие. С этой точки зрения мне совершенно точно пора из директоров уходить.
– И чем заниматься?
– Сейчас мне гораздо правильнее было бы заниматься не ежедневным администрированием, а какими-то более «длинными» вещами: знаковыми текстами, стратегическими переговорами, строительством и планированием.
Не знаю еще, как могла бы назваться эта должность. И должность ли это?
– Ты сердишься на рак, что он отобрал у тебя столько времени, которое можно было бы посвятить совсем другим вещам, например, твоей любимой литературе?
– Нет, – отвечает не очень уверенно. Молчит. И снова смеется. – Мне, может быть, немножко жалко, что не случился из меня академический ученый. До сих пор больше всего на свете я люблю делать реальный комментарий к тексту. И несколько хороших у меня получилось. «История одного города» очень хорошая получилась, мы с мужем писали. В последнем академическом четырехтомнике Лермонтова есть кусочек небольшой того, что я делала. Что-то из того, что я нашла для своих лекций, может быть, в новое академическое собрание Пушкина попадет. Но о том, что большая часть моей жизни прошла в другом, не в литературоведении, я не жалею. То количество смысла, которое образовалось, пока я работала в фонде, с предыдущим опытом не сопоставимо.
Ну, и мне же удается это как-то совмещать. Я ведь уже тридцать лет с детьми книжки читаю. Иногда они ставят меня в тупик и видят то, чего я не видела, хотя читала эту книжку сто раз. А иногда я заранее знаю, на каком словосочетании они споткнутся. Например, я всегда отдельно обсуждаю фразу из письма Макара Девушкина: «Бедные люди капризны». Она совершенно гениальная. И каждое поколение детей что-нибудь новенькое в ней видит.
«Бедные люди капризны»
Грачёва дает еще один урок литературы
– Что она значит?
– Достоевский говорил, что придумал для русской литературы слово «стушеваться», это в «Голядкине» [повесть «Двойник»]. А в «Бедных людях» главное слово – «амбиция». Соединение этих двух сущностей в одной персоне Достоевский сделал, может быть, главным признаком человека. Его герой – уязвленный, раненый, серьезно так обсуждает, «ветошка он или нет», но одновременно совершенно точно понимает, что никакая не ветошка, а человек. Амбиция быть человеком у того, кого никто за человека не считает, да и сам он бесконечно в этом сомневается – бедные люди капризны! Бедных людей задевает всё, потому что из всего может случиться уязвление, перед которым они беззащитны. Раненые люди всё, что происходит рядом, воспринимают как опасность, что-то, что может ранить еще больше. Поэтому с ними страшно тяжело общаться. Только гений мог выбрать это слово – «капризны». Не «уязвимы», не «обидчивы», не «несчастны». Ты об это слово спотыкаешься и не можешь дальше идти, пока не передумаешь то и это.
– Обо что еще ты так спотыкаешься? Вот ты христианка, в мире каждый день происходит столько несчастья и несправедливости, что никакой веры не хватит смириться.
– Конечно, то, что мы видим, плохо совместимо с представлением, что Бог существует: пытки, настоящие концлагеря, существующие рядом с нами, в психоневрологических интернатах, бесчисленные несправедливости в судах, уворованные деньги, на которые мы бы всех вылечили, – список бесконечный. Я тебе больше скажу: я в последнее время очень страдаю там, где раньше и в голову бы не пришло.
Например, недавно на встрече с представителем одной медицинской компании обсуждали новую методику лечения рефрактерных лейкозов – CAR-T cell, которая в России есть только в Центре Рогачева, на благотворительные деньги и только для детей. У нас, понятное дело, взрослые. Если за границу, по ценам получается примерно так: в Германии – от двухсот пятидесяти тысяч евро, в Израиле – от восьмидесяти тысяч долларов, а в Китае – тридцать тысяч долларов.
Понятное дело, меня в этот момент должны беспокоить только интересы нашего подопечного: чем дешевле, тем лучше. Но я совершенно серьезно не могу выкинуть из головы, что эти китайские цены обеспечены рабским трудом огромного количества людей. Буквально думаю всё то время, пока мне показывают графики, кривые и рассказывают, как Китай вложился в инновационные клиники, чтобы заработать на медицинском туризме. Это не повлияет на мое решение, если нам придется отправлять туда человека. Но я не уверена, что правильно, что не повлияет. Что мне делать, если я это чувствую?
Наталья Леонидовна Трауберг однажды мне сказала на что-то такое: «Деточка, с приближением конца света зло делается злее, а добро – добрее». Я тогда повеселилась, а сейчас, мне кажется, я понимаю, что она имела в виду. Видимо, приближаюсь к личному концу света. На том свете, в общем, разберемся.
«Тогда я почувствовала, что меня держат за руку»
Грачёва рассказывает о вере
– Откуда ты знаешь, что тот свет вообще есть? Откуда ты знаешь, что Бог есть любовь?
– Ты же знаешь, что твой муж тебя любит? И твои дети тебя любят? Когда твои четверо детей тебя спрашивают: «Ты меня любишь?» – что ты делаешь?
– Обнимаю очень сильно.
– Ну так им достаточно – они это видят, знают и понимают. Когда я крестилась в 1986-м, я ничего толком не понимала, это было, скорее, логическое, психологическое, этическое решение. А по-настоящему дошло, когда я тяжело заболела в 2001 году – системной красной волчанкой. Это был качественный опыт. Мне долго не ставили диагноз, потому что иммунологические тесты были отрицательные, а по клинике – стопроцентная волчанка: началась с температуры под сорок, а потом, когда температура стала поменьше, но хроническая, остались сильные суставные боли, отеки. Мне ставили осложнение после гриппа и лечили нестероидными противовоспалительными. Я лежала дома, было очень больно, сил не было ни читать, ни кино смотреть. Я была уверена, что умру не сегодня-завтра, и никто мне не поможет.
– Было страшно?
– Очень. Было очень одиноко, хотя моя золотая семья водила вокруг меня хороводы и кормила с ложки, потому как бывали моменты, что я ложку не могла держать. И всё равно я ничего не могла им объяснить, внутри всё равно было одиноко и страшно. Лёшик-старший работал, Лёшик-младший был в школе, я целый день лежала одна с кошками (они мне очень помогали, под Мусю я совала скрюченные пальцы, и казалось, что меньше болит). В какой-то момент у меня даже лежать уже сил не было и плакать. Вот тогда я почувствовала, что меня держат за руку.
– Это был мистический опыт?
– Мистический, но он был абсолютно физиологичен. Это понимание ко мне пришло ниоткуда, ему не предшествовала никакая молитва, никакие размышления, только усталость, я такая пустенькая лежала, довольно бессмысленная. Это знание просто появилось в моей пустой голове. И никуда не делось, даже когда меня вылечили.
– Как вылечили?
– Я, наконец, попала в нефрологию Первого медицинского, где мне поставили диагноз и начали лечить химиотерапией и преднизолоном. Я прям ожила. Но за месяцы без лечения я успела сильно испугаться смерти и успела понять, что меня там одну не бросят.
– Если предположить, что государство не нуждается ни в каких благотворительных подпорках, у AdVita полно денег, и ты можешь идти на пенсию, – чем займешься?
– А денег вдруг каких-то еще дадут или только пенсию?
– Только пенсия.
– Тогда с путешествиями ничего не выйдет. Ну ладно, буду немножко в гимназии преподавать, наверное. Попробую дописать некоторое количество статей и книжек, которые все застряли на разных стадиях существования. Сейчас-то я всё время бегу куда-то.
– Что будет, когда ты перестанешь бежать?
– Совсем не перестану, наверное. Буду бегать по архивам, по библиотекам, звонить какому-нибудь специалисту и говорить: «Как ты думаешь, где можно посмотреть, сколько стоила почта от Тифлиса до Киева в 1817 году»? Или искать в неаполитанских газетах 1844 года расписание пироскафов, а потом по названиям пытаться найти изображение того пироскафа, про который стихотворение Баратынского. Мне будет хорошо и весело, но главное, что от скорости моего бега ничья жизнь зависеть уже не будет.
Интервью двенадцатое Авдотья Смирнова
Авдотью Андреевну Смирнову я всегда любила издалека. И уважала. Только почему-то очень боялась. Я завидовала людям, имевшим право называть ее Дуней, мечтала однажды оказаться с ней не то что за одним столом – в одном помещении. И всегда думала, что такую честь надо каким-то специальным способом заслужить. Это интервью состоит из двух частей, намеренно перемешанных между собой: когда мы знакомы с Дуней и уже перешли на «ты», когда мы на «вы» и осторожничаем. Степень близости влияет исключительно на смелость вопросов. Смирнова же – точна и честна. Задним числом я думаю, что побаивалась Дуню, интуитивно понимая, что она обычно не тратит времени на то, чтобы казаться не тем, кто есть на самом деле: обходить острые углы, быть милой с теми, кто не симпатичен, врать и подстраиваться.
Но вот мы сидим с Дуней Смирновой на открытой палубе кораблика, что везет нас по Грибоедовскому каналу, Фонтанке, Малой Невке, оттуда – на Неву – и застывает под торжественно раскрывающимися мостами. Белая питерская ночь путает и лишает чувства времени. На Дуне легкий плащ. Она щурится на солнце, будто приколотое к небу булавкой, и кажется абсолютно счастливой.
– Какое, по-твоему, самое счастливое и самое продуктивное время в жизни человека?
– Ты знаешь, мой счастливый возраст начался в сорок лет. Но я всегда знала, что так будет.
– Откуда?
– Когда мне было восемнадцать, я попала в тусовку всяких авангардистов, музыкантов, архитекторов и так далее. И поскольку я легко и непринуждённо могла беседовать о Прусте или мемуарной прозе Ходасевича, то часто люди старше меня, взрослые, с которыми я подружилась, с изумлением спрашивали: «А сколько тебе лет?» И я говорила: «Скоро будет сорок, а пока восемнадцать».
И я прямо жила с этим сознанием. Но в молодости – не могу объяснить почему – я всё время чувствовала себя очень несчастной. А когда мне грянуло сорок, у меня началась совершенно новая жизнь. Так начался самый прекрасный период в моей жизни, который продолжается до сих пор. Это совершенно ни с чем не сравнимо.
– Можешь объяснить?
– Я когда поздравляю кого-то из друзей с днем рождения, всегда желаю хорошего настроения и жить в мире с собой. Вот это состояние мира с собой – у меня наступило именно с сорока лет. Возможно, дело в том, что окончательное взросление у человека наступает тогда, когда он с собой окончательно знакомится: когда он понимает, чего он может, чего он не может. Обычно это – довольно горький процесс: сначала ты осознаешь, что уже никогда не станешь оперной певицей с высокой колоратурой, потом узнаешь, что не так умна, как хотелось бы, не такой хороший человек, как тебе было бы приятно о себе думать, ты слабее, поверхностней и так далее. Этот процесс познания – и есть взросление, как мне кажется. Но потом наступает момент, когда тебе, если ты не хочешь превратиться в высокотравматичную для всех и малоприятную для себя истеричку, нужно себя принять. Я это сделала.
– Было какое-то конкретное событие, которое повлияло?
– Нет. Просто так получилось, что я стала жить одна. То есть вдвоем с сыном. Я была не замужем и не собиралась выходить замуж ни за что. Первый год я страшно боялась одиночества, оно меня пугало, а потом, за три года такого существования, у меня изменилось ощущение себя и ощущение жизни. Это как раз было между тридцатью девятью и сорока двумя годами. То есть было не событием, а процессом, который меня по-человечески отстроил. И мне стало с собой легче. Я стала значительно меньше думать про то, какая я, про себя. Мне это перестало быть интересным.
– Раньше – было?
– Всю жизнь до сорока лет я пребывала в бесконечных рефлексиях: могу ли я, хочу ли я… И постоянно смотрела на себя со стороны, зависела от чужого мнения и вообще очень много времени посвящала раздумьям о том, хорошая я или нет. А с какого-то момента мне просто стало неинтересно думать об этом. Появилось огромное количество других вещей, про которые думать интереснее. И меня как-то отпустило.
Ликующая толпа приветствует развод мостов. На соседнем кораблике запускают петарду. Большие корабли, а вслед за ними маленькие, вроде нашего, начинают движение по Неве. Не выдержав, фотографируем. «А ты помнишь, я брала у тебя интервью всего пару лет назад и мы были на “вы”?» – «Интервью помню. На “вы” нет. Что, правда?»
В первый раз мы встретились для разговора о фонде содействия решению проблем аутизма в России «Выход». Авдотья Смирнова учредила его 8 ноября 2012 года. В первый юбилей фонда мы и познакомились лично. Договорились вести беседу исключительно о фонде, о благотворительности. Но я не сдержала слово: слишком многое было интересно[58].
– Почему-то нигде не встречала ваших сожалений по поводу закрытия программы «Школа злословия». Неужели не жаль? Двенадцать лет эфира и никакой тоски?
– Совершенно нет, ни одной секундочки, о чем вы говорите! Как по этому вообще можно скучать.
– Обычно сожалеют об утерянной возможности говорить о важных вещах с огромной аудиторией.
– Я совершенно не хочу говорить с огромной аудиторией…
– …говорит режиссер.
– Нет, кино я как раз хочу снимать. Но это не «говорение» с аудиторией. Кино – это рассказывание сказок: взрослые люди собираются в группу 70 человек, чтобы убиваться по 13 часов в сутки без выходных и нормального сна ради возможности рассказать и сыграть то, чего на самом деле на свете никогда не было! И это самое прекрасное занятие на Земле. И этим я, конечно, хочу заниматься. Этим и еще нашей безнадежной битвой в фонде: мы пытаемся построить предпосылки системы, которой никогда не было, для людей, которых прежде не принимали в расчет.
– Ну вот, кстати, и об этом же вы могли бы разговаривать с телеаудиторией, останься ваша передача в живых…
– Знаете, мой папа в свое время сформулировал замечательно: «Если бы меня спросили, с каким заветом я могу обратиться к соотечественникам, я бы сказал: только с одним – закусывайте». Я не верю в массовые душеспасительные беседы. Тем более с использованием телевизора.
– Все благотворительные фонды сейчас говорят о катастрофе, вызванной экономическим кризисом: денег нет и, видимо, не будет. У «Выхода», уж простите за тавтологию, тоже безвыходное положение?
– Мы с самого начала не были в простом положении. У нас не было вот этих жирных и тучных годов, на которые многие теперь оглядываются. Потому что большие сборы, как правило, случаются у фондов, занимающихся адресной помощью: есть фотография прелестной девочки с бантом, которой всего лишь надо собрать на операцию и эту операцию сделать – и всё будет хорошо, и дальше девочка будет петь, танцевать, читать стихи и так далее. На это у нас люди отзываются.
– Но у вас нет таких девочек?
– Всё сложнее. Девочки есть, но вызвать жалость, показав их, мы не сможем. Сделать, например, фотопроект об аутизме невозможно, потому что в кадре ребенок с аутизмом выглядит как самый обычный ребенок. И это как раз ключевая «загогулина», с которой мы работаем: аутизм и диагностируется, и корректируется только в сфере поведения, а не в медицине. Диагноз ставится при наблюдении за поведением, коррекция производится в сфере поведения. Нельзя сдать анализ и получить результат: аутизм. Это всё поведенческие моменты: этот ест нитки, этот бьется головой о стену, этот простукивает все предметы. Вот моя племянница, например, простукивает все поверхности, у нее вот так это проявляется, ей это нужно.
– Диагноз «аутизм» вашей племяннице поставили после того, как был создан фонд «Выход», так?
– Да.
– В ваш адрес злословили после этого?
– Нет, в основном мне говорят другое: что я пиарюсь на больных детях, отмываю деньги Чубайса и не состоялась в профессии, поэтому самоутверждаюсь за счет благотворительности. Еще говорят, что всё это – причуды богатой дамочки. А в целом нас с мужем надо повесить на соседних березах.
– Предполагаю, что часто еще и недоумевают: зачем собирать деньги, будучи замужем за Чубайсом. Почему Чубайс не участвует в жизни фонда, не жертвует, например?
– Чубайс, конечно, жертвует и участвует. Благодаря ему мы можем радостно рапортовать нашим донорам, что мы ни копейки их денег не тратим на собственное существование: офис, аутсорс, зарплаты сотрудников. А деньги доноров мы имеем возможность полностью направлять на наши проекты.
– Не конкретным нуждающимся, а именно на проекты? Как это работает?
– Понимаете, в случае с аутизмом адресная помощь не работает. Нужно создавать саму систему помощи, в которую входит переквалификация, образовательные модули, педагогическое и психологическое образование, новые компетенции для работающих учителей и врачей-педиатров.
– На жалость не надавишь…
– Да. Это всё такая очень неэмоциональная материя. Но поверьте, от того, что мы соберем деньги на много часов поведенческой терапии для одного ребенка, ничего не изменится. Ну получит он эту поведенческую терапию, а дальше-то он куда пойдет? Нет детского сада, нет школы, которая готова его принять, нет вуза. И вот мы наконец осознали и поставили перед собой задачу: построить модель системы, которую мы потом отдадим государству да еще и расскажем, как она работает.
– И что, действительно есть люди, готовые на это жертвовать?
– Как ни странно, на нас с самого начала лучше всего реагировали представители крупного бизнеса, ассоциирующие себя с понятием «интеллектуалы». Люди, которые заводятся от интеллектуальных вызовов. Их интересует системность, разработка маршрута, понимание, что в среднесрочной перспективе мы планируем сотрудничество благотворителей и государства на предмет создания комплексной системы помощи людям с аутизмом. В перспективе же – вообще полное принятие государством созданной нами системы и уход благотворительных денег в финансирование исследований и лабораторий – того, на что ни у одного государства денег не хватает никогда.
– Могу предположить, что такая конструкция могла бы заинтересовать, например, Петра Авена.
– Да, Авен. Петр Олегович еще на презентации фонда сказал: вот меня интересует AБA-терапия[59], потому что это вещь системная.
Это, например, Вадим Беляев, Борис Минц, Леонид Меламед, Андрей Раппопорт. Эти люди стали нашими опорными донорами именно потому, что наша деятельность не адресная, а системная. То есть потому, что это длинная история с определенной стратегией.
– И кризис ничего в этом раскладе не изменил?
– Нет, не изменил. Наши доноры никуда не делись. Но их по-прежнему мало – то есть ограниченное число. Но это и неудивительно. Знаете, у меня есть давняя теория о том, что количество умных мыслей в мире – это некая постоянная величина. И только глупость бесконечна, вариативна, безбрежна и ослепительно разнообразна. Вот так же количество доноров, которые хотят тратить деньги на длинную системную историю, мне тоже кажется ограниченным.
– Вам жаль той уймы времени, которая уходит на фонд? Это же все ваши ненаписанные сценарии и неснятые фильмы.
– Знаете, первые два года жизни фонда были потрачены на иллюзии, что можно этим заниматься в свободное от основной работы время. Потом была куча истерик второго года жизни «Выхода»…
– Ваших?
– И моих, и моих подруг и сотрудниц. Мы постепенно осознавали и принимали тот факт, что без вникания, без полного погружения ничего не получится. Конец второго года был самым тяжелым, прямо кошмарным – мы все переругались и перерыдались. А потом мне стало дико интересно в фонде.
– Почувствовали вызов?
– Да, для меня фонд – это интеллектуальный вызов в том смысле, что ты постоянно сталкиваешься с необходимостью заставлять государство работать, делать то, что оно не хочет.
Ну а что касается неснятых фильмов… Знаете, как теперь всё устроено в моей основной работе сценарно-режиссерской? Я прихожу на съемочную площадку или сажусь за сценарий в полном наслаждении. И думаю: «Господи Боже мой, какое счастье, ты дал мне эту профессию!» Но знаете, когда я погружаюсь в свою основную работу, то в какой-то момент обнаруживаю, что скучаю по фонду, по нашим планеркам. Хотя, в принципе, нет ни одного дня, когда я бы не сказала себе: «Будь проклят тот день, когда я вообще во всё это ввязалась!» Но жизни без фонда уже не будет. Это совершенно очевидно. Это уже со мной до самой смерти.
– Вы хотя бы иногда верите в то, что увидите результат вашей работы?
– Если я буду об этом думать, то выпрыгну из окна. Я должна делать то, что должна. И вместо мечтаний у меня есть стратегия, которой фонд придерживается. Наш горизонт планирования – 10 лет, в течение которых система поддержки, образования и сопровождения людей с аутизмом должна быть в России выстроена и передана государству. Тогда мы сможем отползти. Тратить время на душевные терзания по поводу будущего, которого никто не знает, мне представляется неэкономным и негигиеничным.
– Сейчас вы всерьез сотрудничаете с государством. Вы этим сотрудничеством удовлетворены? Принято считать, что с нашим государством каши не сваришь. Особенно в том, что касается системных вопросов.
– Такое ощущение есть. Но с другой стороны – грех жаловаться. Потому что в любом министерстве и ведомстве мы всё равно находим единомышленников или людей, которые проникаются проблемой. Да, наша государственная машина тяжелая, неповоротливая и не хочет работать, как и любая государственная машина. А еще у нас очень большая страна. Поэтому сигнал из головы в пятку проходит медленно и тяжело.
Главная проблема вообще не в этом. Самая косная среда – это общество, а не государство и чиновники. Те самые родители нейротипичных, обычных детей, которые наших детей с аутизмом выгоняют с площадки или пишут письмо в прокуратуру с жалобой. Или говорят: «Уберите от моего мальчика ваших дебилов». И в этом смысле государство наше сейчас, по пушкинскому выражению, выступает как больший европеец, чем общество.
– На отношении общества часто ломаются многие благотворители: если обществу то, что вы делаете, не нужно и не ко времени, может, стоит бросить? Плюнуть и уехать. Или вы патриот и об отъезде никогда всерьез не думали?
– Я глубоко убеждена, что нет такого противопоставления – патриот или уехать. И патриот может уехать, и человек, которому здесь всё отвратительно, может оставаться. Хотела бы я уехать? Нет, не хотела бы. Могу ли я себе представить, что буду вынуждена это сделать? Да, как любой человек, – всякое может случиться. Но понимаете, у меня нет ощущения, что есть некие «мы» и некие «они». Типа мы – хотим, а им плевать. Нет. Десять лет назад я тоже ничего не знала про аутизм и наверняка могла бы принять его за глубокую умственную отсталость. Притом что я всегда считала себя сторонницей инклюзивного общества, я этих людей, скорее, сторонилась. Это означает, что я тоже была как те самые «они».
И еще. У меня совершенно нет ощущения, что своими действиями и желанием перемен мы кому-то мешаем. Это что, какие-то инопланетяне? Это же граждане моей страны. Мы родственники. Я не чувствую себя отдельной, правда. И не верю, что единственный выход в том, чтобы разойтись по углам, бросить и проклясть друг друга.
Знаете, в каждом крупном этносе, в каждой нации (в гуманитарном ее понимании, разумеется) есть разделение между большинством и меньшинством. И это нормально. Поговорите с какими-нибудь английскими интеллектуалами, послушайте, что они говорят про Манчестер или уж тем более про Инвернесс с Уэльсом.
– Да, но в такого рода обществе у меньшинства всё равно есть право голоса. И к нему, как правило, большинство едва ли не обязано прислушиваться.
– Сколько лет этим демократиям и сколько нашей? Но вообще, если не погружаться в дебри, то я вам прямо скажу: в том, что касается толерантности к инвалидам, Россия проделала колоссальный путь за невероятно короткое время.
– Вы уверены, что речь не идет всего лишь о Москве и Санкт-Петербурге?
– А куда вы денете Екатеринбург, Новосибирск, Тюмень, Казань, Воронеж? Ну что вы, очень сильно по всей стране всё меняется. От строительства пандусов до создания хосписов.
– А в голове?
– И в голове. Да, где-то выгоняют колясочников, где-то травят людей с аутизмом, обижают детей с ДЦП и так далее. Но вы думаете, в Америке не выгоняют и не травят? Выгоняют, травят. Ничего уникального в нас в этом смысле нет. Мы проходим тот путь, который проходили все страны, являющиеся флагманами в вопросах помощи людям с аутизмом, например. Все мы смотрели фильм «Пролетая над гнездом кукушки». Помните, мальчик Бобби, который кончает с собой, вскрыв вены? Он – заика с аутистическими проявлениями, но это родная мама заперла его в дурдом. Она – рядовой представитель американского общества. И это – самое начало 1970-х.
– И фильм снят в разгар борьбы за права инвалидов, которую развернула сестра президента Кеннеди, Юнис, потому что в ослепительно улыбающемся семействе Кеннеди была еще одна сестра, Розмари, родившаяся с очень серьезными ментальными отклонениями.
– Да. Но так везде, и это совершенно не бином Ньютона. В Малайзии большие успехи по коррекции аутизма связаны с тем, что он был диагностирован у племянницы одного очень высокопоставленного чиновника в правительстве. Везде драйвером перемен являются родители детей с особенностями. Тем более если у них есть большие возможности.
– У наших высокопоставленных чиновников вроде все здоровы.
– Вы ошибаетесь. Еще раз: мы прошли очень большой путь за очень короткий период времени. Да, это пока не коснулось ментальной инвалидности. С этим всегда и везде происходит медленнее всего. И тем не менее я уверена, что мы этот путь пройдем. Потому что, кроме всего прочего, принятие особенных людей – оно глубоко в русской традиции. А запирать в дурдом – наоборот, не в русской. У нас же всегда существовала история о блаженном, который, как минимум, был привечаем всей деревней. А уж если в дом пришел – его слова и внимание считались благословением. Никому в голову не приходило такого изолировать. Это тоталитарная советская традиция – всех запереть. И она в какой-то момент победила. Но теперь мы побеждаем ее. Я уверена в этом.
– Я от вас слышу вечную диалектику: с одной стороны, с другой стороны. Мне кажется, она, как и традиция прятать и изолировать «не таких, как все», преследует нас еще с советских времен, не давая возможности как-то четко выразиться, определить позицию. Вот, например, с одной стороны, ваш дедушка Сергей Смирнов – величайший журналист и писатель. Человек, открывший своей стране героику Брестской крепости. А с другой стороны…
– Мой дед Сергей Сергеевич Смирнов был глубоко советским человеком. В отличие от моего отца, Андрея Сергеевича – человека глубоко антисоветского.
– Так вот, с одной стороны, он автор невероятных «Рассказов о неизвестных героях», а с другой стороны…
– Участие в травле Пастернака? Да, это правда. Знаете, мне ужасно жалко, что я с дедом во взрослом возрасте не пообщалась. Думаю, мы бы очень дружили. Я просто в этом уверена. Но да, он был глубоко советским человеком. Когда вижу дедовские военные фотографии, его ослепительную улыбку под Берлином, всегда поражаюсь тому, какой же он невероятный красавец! Причем такого удивительного и странного типа: это одновременно абсолютно голливудский герой, а с другой стороны – глубоко русский, советский.
Мой дед спокойно мог бы играть как в фильме «Коммунист», так и в любом американском фильме про шерифа. В этом смысле то, что вы называете «советский человек», в Америке называется redneck. Это один и тот же тип. И весь сюжет американского кино стоит на этом: «шериф против судьи» – справедливость против закона, Ройзман против Навального. Женя Ройзман – это типичный шериф. По психотипу, роду деятельности и способу жизни: человечный, сердечный и беззаконный.
– А Навальный?
– Ну, это позвольте мне не комментировать.
– Тогда вернемся к вашей семье. Сергей Сергеевич Смирнов умер, когда вам было восемь лет, то есть вы не успели с ним ни о чем всерьез поговорить. Но вы о нем с родителями и друзьями говорили?
– У нас в семье эта тема – очень важная и проговариваемая. Когда мы выпиваем, например, с моей подругой Леной Пастернак, то, конечно, случается, что я начинаю просить у ее семьи прощения за нашу семью. Это уже такой ритуал. И она всегда очень хихикает по этому поводу. Но при всем том, что я много и сложно думаю о произошедшем, я не считаю возможным говорить об этом публично. Не мне судить моего деда.
– Я не про осуждение. А про разговор. О чем бы вы говорили с ним, будь такая возможность?
– В юности я бы, наверное, разговаривала бы с ним на эту тему в форме предъявы, а потом очень бы об этом жалела. Сейчас меня интересует совершенно другое. Даже внутри этой истории [с Пастернаком] я бы задавала ему совершенно другие вопросы. Потому что я думаю, что неплохо понимаю и мотивы тех его поступков, и слабости. И мне было бы гораздо интереснее спросить, что он думает про [подписывавшего коллективные письма против других писателей] Валентина Катаева, например. Как то, что он делал, сочеталось с тем, что он писал? Потому что Катаев – грандиозный писатель.
– Мне повезло: бабушка в детстве дала прочесть Катаева без биографических подробностей.
– Да, повезло. «Алмазный мой венец» – невероятное произведение. Но в моем детстве и юношестве Катаев считался образцом конформизма и подлости.
– Сейчас часто говорят, что нынешний откат назад связан с тем, что в 1990-е не было основательных люстраций. Не в том смысле, что не было негодяев, повешенных на столбах, а в смысле отсутствия четких дефиниций: это хорошо, а это – плохо. Этот преступник, а этот – герой. Насколько вообще уместен разговор о люстрациях сейчас? Или уже Бог с ним, проехали и никогда больше не будем об этом говорить?
– Я считаю, что не верна ни та, ни другая позиция. В том, что нужно открыть архивы, я совершенно убеждена. А нужно ли общественным советом принимать меры к осуждению и наказанию – я против. Вычистят одних – придут другие, точно такие же. Человечество не меняется со времен фараонов. Знать и иметь открытый доступ к информации, конечно, нужно, и очень жалко, что в свое время не открыли архивы КГБ. Но вот сейчас, смотрите, польская история с бывшим президентом страны Лехом Валенсой. Открыли. Важно это? Важно. Надо ли принимать какие-то меры? Нет. Общество, знаете, как человеческий организм – саморегулирующаяся система.
– Но если бы, например, в те же 1990-е преступления Сталина были жестко осуждены на государственном уровне, то, быть может, сегодня не было бы той ресталинизации, свидетелями которой мы, кажется, становимся.
– Вы ошибаетесь в причинах ресталинизации. Это – бумеранг. Обратная реакция на то, что цифры сталинских репрессий (не их жестокость – это вещь очевидная, которую невозможно оспаривать, а именно цифры) были увеличены журналистской молвой в разы. 60 миллионов жертв – это неправда.
– Про 60 миллионов говорили, как мне кажется, в контексте общего числа жертв ХХ века в СССР, включая Гражданскую войну, раскулачивание, репрессии, лагеря и Вторую мировую.
– В перестроечных журналах говорили именно про 60 миллионов жертв сталинских репрессий. А это – неправда. Врали тогда, а ответ получили сейчас. И, как ни чудовищно, это нормальная реакция.
– Только довольно страшная.
– Конечно, ничего хорошего в этом нет. Но вы знаете, Россия – это такая удивительная цивилизация, которая каждый раз подходит к абсолютнейшему краю пропасти, и понятно, что вот завтра – всё, больше ее не будет, но каким-то образом она восстанавливается. Я не думаю, что впереди нас ждет что-то прекрасное, но и в историю про то, что всё пропало и безнадежно, – не верю. Я не представляю себе мира без России и русской цивилизации.
– Сергей Смирнов, ваш дед, в своих телепередачах, заметках и повестях рассказывал историю героизма простых людей в аду войны. Андрей Смирнов, ваш отец, в фильме «Белорусский вокзал» рассказывал о том, что подвиг этот, по большому счету, не был оценен, востребован, принят. А какую историю рассказываете вы?
– Про то, что всех жалко – все виноваты и всех жалко.
Мне тогда хотелось расспросить ее о семье подробней. Но было мало времени. Если честно, дистанция не позволяла, я постеснялась. Через два года возвращаемся к разговору в клубе «Газгольдер», что принадлежит рэперу Басте (Василию Вакуленко). В «Газгольдере» Смирнову знают – все здороваются, и интервью никак не начинается. В конце концов приходит сам Баста. И они с Дуней обнимаются, болтают, обсуждают дела фонда и совместные планы: Баста – первый рэпер страны, принявший участие в акции благотворительного фонда, этим фондом стал «Выход». Баста написал музыку для фильма Адвотьи Смирновой «История одного назначения» и, кажется, это тоже – первый для России опыт, когда рэп-музыкант принимает участие в масштабном кинопроекте. Но со стороны всё выглядит обычным, даже обыденным. Со стороны вообще кажется, что Смирновой всё довольно легко дается. И еще что она – баловень судьбы.
– Вы ребенок известного режиссера, внучка известного писателя. Этот стартовый капитал – помог?
– Сложно сказать, потому что в чем-то помог, а в чем-то мешал. У меня очень в этом смысле специфические были детство и юность.
Во-первых, мои родители развелись, когда мне было 6 лет. Во-вторых, я жила то с мамой, то с бабушкой-дедушкой.
– Это была травматичная история развода?
– Безусловно, травматичная. Они тяжело разводились. Потом так случилось, что у меня было искривление позвоночника, я год жила в интернате для детей со сколиозом. Потом я уехала к маме в Таллин, где мама служила в Театре русской драмы. А потом – стала жить с отцом.
При этом мне не то чтобы даже мешало, меня обижало страшно, что меня считали мажоркой вроде моего ныне близкого друга Феди Бондарчука, который для меня в те годы действительно был мажором.
– А вы – не были?
– Конечно, нет! Потому что родители мои – и мать, и отец – в силу тяжелых взаимоотношений с советской властью у обоих были людьми бедными. У отца вечно то закрывали сценарий, то клали картину на полку. А мама моя замечательная в свое время сказала о себе – точнее не скажешь! – что при любой власти ее зарплата в театре ровно на 10 % ниже, чем стоимость хороших зимних сапог. И это было чистой правдой.
Для меня джинсы или кроссовки были таким же безумным мечтанием, как и для всех остальных советских детей.
– Прямо мечтанием?
– Абсолютно! У меня в классе учился мальчик, у которого папа работал в Торговой палате, и у него были ластики цветные иностранные, которые пахли, как я сейчас понимаю, химией, а тогда казалось, малиной или клубникой. У него были наклейки, которые можно было на обложку дневника наклеить. Я уже не говорю про фломастеры. Фломастеров не было. А я очень хотела фломастеры. Но это не в том смысле, что я была бедная-несчастная девочка, а в том, что для меня мажорами были те, у кого были фломастеры, джинсы и кроссовки «Адидас» с тремя полосками.
– Но в интеллигентных советских семьях всегда отрицался культ материального.
– Может, он и отрицался, но когда мы с мамой жили в Таллине, там была регата в рамках Олимпиады-80. И к этой регате эстонская кондитерская фабрика «Калев» стала выпускать жвачку двух видов – мятную и апельсиновую. И это… ну как вам сказать? Это просто был взрыв мозга и абсолютное счастье. У апельсиновой этой жвачки вкус пропадал примерно секунд через тридцать, но ощущение счастья не пропадало. Но, еще раз, это не мои жалобы на бедное советское детство. Это мой спор с теми, кто приписывает мне какое-нибудь эдакое детство, проведенное на Николиной горе.
– Считается, что все дети всех киношников именно там и провели свое детство.
– Я первый раз на Николину гору попала, когда мне было сильно за тридцать. До этого я там никогда не была. Для меня это было бы совершенно пустое название, ничем не наполненное.
– Хорошо. Но в кино же вас привел отец?
– Отец мне не позволил поступить во ВГИК, потому что он считал, что, во-первых, кинопрофессия не должна наследоваться и в кино нужно приходить самому. А во-вторых, он считал, что ВГИК – это не образование. Поэтому он последовательно из всех своих детей пытался сделать филологов.
– Получилось?
– В итоге ни у одного из нас нет законченного высшего образования. Но первопроходцем на этом пути была я как старшая из четверых детей.
Потом, когда [Сергей] Соловьёв меня взял работать в объединение «Круг», мой отец тоже не то чтобы был в восторге от этого, потому что справедливо полагал, что из меня не может быть никакого редактора в девятнадцать лет: я не знаю ни кино, ни вообще ничего.
– Но вы всё равно пришли в кино.
– Я пришла в кино сама совершенно с другой стороны, со стороны документального кино вместе с Лёшей Учителем. И отец к этому не имел никакого отношения.
– Тогда он поддержал вас?
– Он не то чтобы поддерживал или мешал. Он смеялся надо мной, когда я собиралась стать кинокритиком, и объяснял, что это вообще не профессия, он издевался надо мной, когда я стала заниматься документальным кино, потому что документальное кино – это недокино, а настоящее кино только игровое. А потом так случилось, что мы с Учителем сняли «Манию Жизели» по моему сценарию, а отец там сыграл роль. И его это как-то позабавило.
– Это была случайность?
– Да. Это должен был быть документальный фильм. Просто пока мы с ним запускались, Ольга Спесивцева умерла. И мы оказались с запущенной картиной, но без героини. И вышел страшный эксперимент: я никогда до этого не писала сценариев игрового кино, пришлось писать.
И как раз на съемках «Мании Жизели» мы с Лёшей Учителем придумали, что следующая картина будет про Бунина.
– Как так?
– Мы сидели обедали, и Лёша бросил фразу: вот, собственно, Бунин сидит. А мой отец – он же портретно похож на Бунина, одно время был просто невероятно похож.
И папа мой страшно просто взвился, сказал: «Вы что, с ума сошли? Про это невозможно написать сценарий. Потом, как ты себе представляешь, как ты напишешь текст, который произносит Бунин Иван Алексеевич?» Сценарий я писала три года. И когда, наконец, я ему его показала, он сказал: «Ты знаешь, я тебя поздравляю, потому что у тебя получилось то, что я считал невозможным».
– Крутой комплимент.
– Очень.
– Что важнее, что от отца или что – от режиссера Смирнова?
– Тут не это важно. Он, во-первых, режиссер, а во-вторых, он прекрасно знает Бунина, он был помешан на Бунине. Собственно, любовь к Бунину и знание истории последней любви Бунина у меня от отца, мы с ним много про это говорили.
Был, кстати, смешной момент. В сценарии есть такой монолог, где Бунин говорит о том, почему он не любит всяких революционеров. Про противоположность народовольческого или, как он говорит, скопческого, сознания любви к жизни и пониманию прекрасности мира.
И отец, когда прочел, мне сказал: «Послушай, а это ты откуда взяла? Это же не из “Жизни Арсеньева”». Я говорю: «Папа, он придуман от начала и до конца». И отец мне вначале не поверил. А там действительно, монолог, наполненный бунинскими мотивами, вплоть до мотивов его стихов, но он придуман мною. Это был предмет моей страшной гордости. После этого отец, надо сказать, согласился с тем, что я нашла какую-то свою дорогу в этой профессии.
– Вы стали коллегами?
– Не уверена, что так можно сказать, но с тех пор я ему показывала все свои сценарии. Но и с этим у нас была драматичнейшая история: я ему показала сценарий «Связи», который тогда назывался «Времена года». И этот сценарий ему категорически не понравился. Он мне сказал: «Это что вообще такое? Что это за люди? Почему они это делают, почему так поступают? Почему ты рассказываешь историю богатых?» Я говорю: «Какие богатые, пап, ты о чем? Она рекламный агент. Какая она богатая?» – «У них вообще нет духовных интересов». Я говорю: «У них духовные интересы – танго и Борис Борисович Гребенщиков». «Это не может быть духовным интересом», – ответил отец. И, в общем, он меня разгромил…
– Это довольно ожидаемо, ведь он снял фильм «Осень».
– Конечно. И там читают Пастернака. Так вот, я говорю: «Ты понимаешь, что у нас на месте Пастернака – Борис Борисович Гребенщиков?» Но это не помогло, и он меня разгромил в хлам. А когда выяснилось, что я этот сценарий буду еще и снимать, он совсем расстроился и сказал: «Ты с ума сошла? Режиссер – это не женская профессия».
– Но вы не послушали.
– Нет. Я уже сняла картину, у меня начался монтаж, который проходил очень драматично, потому что продюсером картины был Учитель, и мы с ним были категорически не согласны в том, как надо эту картину монтировать. И у нас шел какой-то сплошной, непрекращающийся скандал вплоть до того, что в какой-то момент я уже была практически уверена, что мне нельзя этим заниматься, что я абсолютно оглушительно бездарна и так далее. И тогда я попросила отца приехать и посмотреть материал. Я сказала: «Пожалуйста, посмотри и скажи, что ты думаешь, потому что мне кажется, что это – катастрофа». Алексей Ефимович очень напрягся и сказал: «Если он приедет, тогда я тоже приеду». Словом, они вместе приехали и вместе сели смотреть. Отец сидел чуть впереди, а я – за ним. И вдруг в какой-то момент отец обернулся ко мне и показал большой палец. А когда картина закончилась он сказал: «Дочка, я был неправ». А поскольку он это сказал – то есть поддержал меня, а не Учителя, – Лёша очень рассердился, и мы с отцом вдвоем пошли выпивать. И я ему рассказала про некоторые эпизоды, которые Лёша выкинул и которых мне очень жаль. И тогда отец тайно от меня (я об этом не знала – я узнала об этом спустя много месяцев) позвонил Учителю и сказал: «Лёш, чего вы делаете? Вы не даете ей сделать картину». Они страшно разругались с моим отцом. Благодаря этому там две, по-моему, сцены мне удалось вернуть. А следующая картина была «Отцы и дети», где отец у меня сам снимался. С тех пор мы уже, в общем, разговариваем как коллеги, как товарищи.
– Но вот в самом деле, насколько режиссер – режиссерка? – это мужская профессия? И могут ли быть профессии действительно женскими и действительно мужскими?
– Черт его знает. Какие-то, конечно, профессии есть чисто мужские. Я, например, думаю, что политик – мужская профессия. Вот настоящая, крупного уровня. Потому что настоящему политику приходится принимать решения такой степени ужасности, что женщине, скорее всего, будет просто невозможно настолько отключить в себе эмпатию и эти решения принять. А они бывают необходимы. Понимаете? Это с одной стороны.
С другой стороны, может ли женщина быть режиссером? Может. Но я со временем поняла, что имел в виду отец. Режиссер – это чрезвычайно тяжелая физически профессия. Вот просто физически. Это чудовищные энергозатраты, очень длинный рабочий день, огромные психологические нагрузки и отнюдь не пятидневная рабочая неделя. Начнем с того, что в съемочном процессе никакой КЗОТ не действует, и минимальный рабочий день – это 13 часов. Смена может длиться и 18 часов, и 22 часа. Это просто физически очень тяжело.
И кроме того, кино так устроено, что там работает полная вертикальная иерархия. Как только на площадке начинается демократия, никакого кино не получается. Один человек на площадке – режиссер. И он отвечает абсолютно за всё и должен принимать сто двадцать самых разных решений в секунду, а кроме этого постоянно питать своей энергией группу.
– Что это значит?
– Это значит одновременно думать о том, что у актрисы Василисы Петровой сегодня плохое настроение, и видеть, что администратор по площадке Васенька плохо поговорил с гримершей Ирочкой, и теперь Ирочка рыдает. А если Ирочка будет в плохом настроении и как-то не так своей кисточкой ткнет в лицо актрисе Василисе Петровой, то смену вообще можно отменять. Это всё обязан держать в голове режиссер, не говоря уже о такой мелочи, как творческий замысел. Поэтому физически это очень тяжелая профессия. Но что делать, если тебя прет от нее?
– Вы мечтали стать именно режиссером?
– Так получилось само собой из-за судьбы сценария «Связь». Но я очень хотела работать с артистами, мне очень нравилось работать с артистами. И когда еще Лёша Учитель начинал снимать фильм «Прогулка», я очень много сидела на пробах, а потом с артистами разбирала сценарий, репетировала. Когда я начала снимать сама как режиссер, я не понимала в кино как в изобразительном искусстве примерно ничего: ни принципов построения мизансцены, ни света, ни как строится изображение. Линейку объективов я до сих пор не могу выучить, я каждый раз ее выучиваю к концу картины и забываю к следующей. Но вот как с артистами разбирать роль и как ее потом собирать, это как-то вот я интуитивно и стихийно почему-то понимала с самого начала. Мне кажется, что, может быть, я не лучший режиссер, но артисты у меня всегда играют очень хорошо. И даже бывает, что они играют неожиданно.
В «Газгольдере» проверяют звук для вечернего концерта Басты. Концерт будет в пользу фонда «Выход». На диване за происходящим изумленно наблюдает синий медвежонок – символ фонда. Его зовут Петруша. В честь героя «Капитанской дочки». Об этом нигде, кажется, не написано, но я уверена, что Петрушей называть синего медвежонка придумала именно Смирнова. Ну а кто еще? Мы выходим на улицу покурить. И кажется, именно в этот момент переходим на «ты». Отважившись, спрашиваю:
– Ты помнишь Чубайса в восьмидесятые-девяностые?
– Конечно.
– Нравился?
– Он мне всегда очень нравился. Но ты не забывай, я с 1995 года работала в издательском доме «Коммерсантъ». И всегда была – как это у Чехова? – «Женщина, интересующаяся политикой, подобна бешеной канарейке», да? Вот я всегда была бешеной канарейкой. Мне политика была очень интересна. И все эти младореформаторы мне были страшно интересны. И нравился мне больше всех Чубайс.
А кроме него – Сергей Владиленович Кириенко, у которого я успела поработать в 1999 году. Но Чубайс нравился больше. Он мне нравился и нравится вот прямо со всех точек зрения. Он очень сильный человек и очень содержательный.
– Можно ли было тогда – в 1990-е – предположить развитие событий, при котором ты станешь его женой?
– Когда в 2003 году я работала на его кампании – а был и такой период, – я понимала, что никакое «такое» развитие событий совершенно невозможно. Но с другой стороны, я не понимала, почему же он не понимает, как было бы хорошо и прекрасно, чтобы я, такая милая, оказалась бы рядом с ним, таким великим, – вот примерно так я себе тогда это формулировала.
– То есть это была стратегия?
– Нет, абсолютно не было никакой стратегии. После этой в высшей степени драматичной кампании 2003 года мы подружились потихоньку, постепенно. Толя вообще с людьми сближается медленно и очень аккуратно. Он сам мне сказал в свое время: «В том понимании, в котором ты говоришь про друзей, у меня есть только один друг – Лёша Кудрин». При том, что у него есть друзья юности, институтские, школьные и так далее. Так вот, мы прошли очень длинный путь. Мы долго дружили. Но я тогда вообще ни за кого никаким образом не собиралась и не планировала выходить замуж. И помню, даже в одном интервью сказала о том, что в нашей стране есть только двое мужчин, за которыми стоит быть замужем. Это Сергей Михайлович Сельянов и Анатолий Борисович Чубайс. «Поскольку оба они глубоко женаты, то я замуж вообще больше не пойду, а с Сельяновым и с Чубайсом я буду дружить», – сказала я. Я и дружила с ними. Причем оба они в курсе того, что я это говорила, и оба испытывают гамму сложных чувств по отношению к этому моему высказыванию.
– Друг к другу.
– Нет, почему? Они друг к другу очень уважительно относятся. К высказыванию. Но случилось некоторое чудо – и я вышла замуж за одного из лучших мужчин в нашей стране, да и вообще – лучшего.
– Изменилось ли твое понимание политики с тех пор, как ты замужем за Чубайсом?
– Да. Муж мой иногда в шутку обзывает меня Березовским, потому что муж мой политику ненавидит.
– Не может быть.
– Он ненавидит ее манипулятивную часть. А я политику – обожаю. Мне интересно, меня захватывает. Но конечно же, до жизни с Толей я очень многих вещей не понимала.
Через год выйдет фильм Авдотьи Смирновой «История одного назначения». История столичного поручика-идеалиста и адепта новых современных идей Григория Колокольцева, который стал свидетелем преступления, но столкнулся с тем, что правда об увиденном может стоить ему карьеры. А молчание – жизни невинного человека. Кажется, этого никто из героев не произносит вслух, но для Дуни Смирновой вопрос – что важнее, милосердие или справедливость, – главнее других. Иногда – более изящных, иногда – менее острых. Я переспрашиваю: «Милосердие или справедливость?» Отвечает: «Милосердие. Но это – очень дорогой выбор».
Мы сходим с кораблика и идем по погруженному в утреннюю дрему Питеру. Хотя утро в это время года в этом городе трудноотличимо от вечера. Где-то догуливают веселые компании, кто-то в окне читает, сидя на подоконнике.
– Тебе нравится жизнь, которой ты живешь?
– Я живу осознанно.
– Сколько фильмов ты не сняла потому, что учредила фонд «Выход»?
– А как быть с фильмами, которые я сняла именно так, как сняла, именно потому, что появился этот фонд? Но если серьезно – ни одного. До «Истории…» с момента появления фонда я не сняла ни одного фильма. Сняла две короткометражки.
– В пользу фонда?
– Одну в пользу фонда, другую – нет. Когда мы запустились с «Историей одного назначения», я, с одной стороны, была совершенно счастлива: два съемочных месяца, когда я не буду ни у кого просить денег, потому что жизнь фонда – это выпрашивание денег с утра до вечера. Но с другой стороны, я тут же договорилась с моей помощницей Дашей, что весь съемочный период она будет курсировать между мною и фондом. Раз в неделю приезжать и рассказывать мне о том, что в фонде. Вроде справились. Но понимаешь, я совершенно привыкла уже к тому, что фонд – это моя работа фултайм. Но при этом за время жизни фонда я уже сняла картину, мы с Аней Пармус написали восьмисерийный сценарий «Вертинского» и теперь его запускаем. Нет противоречия. Всё идет, всё живет. Где родились, знаешь, там и пытаемся пригождаться.
– Что, по-твоему, «Выходу» удалось поменять в обществе?
– Появились ресурсные классы в школах, куда пришли учиться дети с аутизмом. Сперва их было два в Москве, три в Воронеже, а сейчас уже больше ста классов в разных регионах России, и каждый год становится всё больше. Появилось огромное количество переведенных на русский язык книжек об аутизме; появился курс «Расстройства аутистического спектра» в СПбГУ, уникальный для системы высшего образования, потому что впервые обобщил современные научные знания об аутизме; появилась программа «Аутизм. Дружелюбная среда», в которой участвуют кинотеатры, мюзик-холл, музеи.
– Удивляются происходящему сами работники музеев, кинотеатров?
– Знаешь, я помню такой эмоционально важный момент, когда парни-охранники из «Пушкинского» внимательно прослушали инструктаж специалистов фонда, родителей, всему покивали головой. И потом всё равно стоят с этими рациями и с лицом дубового буфета перед началом. И тут приходят наши дети с родителями на мюзикл. И они, эти охранники, были потрясены! Они нам потом рассказывали: «Ой, ну надо же, такие симпатичные, и родители такие милые, а я-то думал, что аутисты – это такие какие-то вообще дебилы опасные, дети алкоголиков». В общем, всё работает. Работает еще и потому, что мы это делаем не одни, а вместе с другими фондами, вместе с родителями и родительскими организациями. Потому что без их запроса, без этого движения снизу никаких системных изменений не будет.
– Сколько людей в России нуждаются в помощи фонда?
– Мы считаем, что есть более 200 тысяч семей, которые не знают, что у них дети с аутизмом. Это не диагностированные. А вообще посчитать легко: по мировой статистике, самой заниженной и огрубленной, – один процент всех детей. Это очень много.
– Это такая причуда «богатой дамочки» – постараться их найти, полюбить и пожалеть? И помочь приспособиться к этому миру?
– Фонд «Выход» – это не про то, что я люблю и чем рассчитываю снискать одобрение. Это, скорее, то, во что я верю. Все люди разные, кто-то противный, кто-то приятный, кто-то с вечным «вот, вас накажут» или «будьте вы прокляты» и так далее. Люблю я, быть может, два десятка человек – близких, хорошо мне знакомых, родных. И это больше никого не касается.
Жалко мне действительно очень многих. Мы – единственный биологический вид, который додумался до того, что он смертен. И этот страх смерти, с одной стороны, величайшая наша удача – лишь благодаря ему мы делаем всё то, что другие биологические виды не делают, а с другой стороны, всё равно всех жалко.
Тем, кто верит, будет не страшно, кто не верит – очень страшно. И их всех очень жалко. Но больше других жалко тех, кто останется, а не умерших: страх смерти страшнее самой смерти. Однако именно он и заставляет нас, во многом, жить так, как мы живем, и делать то, что должны.
Интервью тринадцатое Екатерина Гениева
Много раз в жизни я видела спину Екатерины Юрьевны Гениевой. Она влетала на конференцию или конгресс, на книжную ярмарку или научное заседание в сопровождении свиты приближенных. Поспеть за ней не представлялось возможным. Ну и если поспеешь, то что сказать? Гениева всегда выглядела и держалась по-королевски. Ее осанка, ее манера, ее статус и сам масштаб ее личности не подразумевали даже вероятности подойти, представиться и познакомиться. Филолог-англист, специалист по Джойсу, многолетний директор Всероссийской библиотеки иностранной литературы, Екатерина Гениева оказалась для России важнейшим, знаковым просветителем, представителем редкой и, кажется, после нее сошедшей на нет породы управленцев в культуре: компетентных, неравнодушных, решительных. Усилиями Гениевой за четверть века «Иностранка» – Библиотека иностранной литературы в Москве – превратилась в одну из самых прогрессивных библиотек страны и даже больше – в огромный культурный центр, занимающийся просвещением и формированием нового читателя.
Возможность познакомиться с Гениевой мне выпала только в марте 2014 года. Через общих знакомых стало известно: Екатерина Юрьевна тяжело больна, у нее рак на поздней стадии. Врачи, поставившие диагноз, давали ей не больше двух месяцев жизни. Понимая, что в такой ситуации самое главное для нее – не остановиться, не почувствовать себя больной, беспомощной и недеятельной, я отважилась и написала Гениевой витиеватое письмо, в котором предложила выступить для проекта «Открытая лекция». Через несколько минут в ответном письме она в трех четких строчках изъявила согласие и предложила свои свободные даты. Уже через неделю мы встретились. И она рассказывала переполненному залу «Гоголь-центра» об отце Александре Мене и академике Андрее Сахарове, об отце Георгии Чистякове и писательнице Людмиле Улицкой, о Пастернаке и Лермонтове, о великой библиотеке Марии Федоровны и крошечной деревенской – в среднерусском захолустье, – куда единственная сотрудница просила Гениеву привезти сказки Чуковского, потому что прежняя книжка истрепалась.
Это апрель 2014-го. Люди в зале задают Гениевой вперемешку вопросы про литературу, про жизнь, про страх, про войну, отголоски которой в окружающей мирной жизни всё слышнее. В полной тишине одна взволнованная женщина спрашивает: «Вы знаете, я не могу разобраться в том, что происходит, я ничего не понимаю ни про войска, ни про присоединение Крыма, как мне отличить правду от неправды? Как не бояться?» Екатерина Юрьевна, не поведя бровью, отвечает: «А бояться никогда не надо, надо верить себе». Сессия вопросов и ответов длится втрое дольше положенного – почти четыре часа. В зале вместе со всеми сидят муж Гениевой Юрий и дочь Дарья. Они волнуются. Но знают: ни остановить ее, ни прервать, ни намекнуть на то, что она больна и силы на пределе, не удастся. Это ее воля – жить и действовать в том темпе, в котором она привыкла.
Эта лекция нас сдружила.
«Катюнечка, у меня есть одна идея», – так начинались ее звонки. Из Лондона, из Берлина, из Ульяновска и Новосибирска. Иногда из Израиля, куда она исчезала на химиотерапии и операции. «Катюнечка, никак не могу понять перспективы, – писала она мне оттуда, – что и за чем будет следовать, какой конкретно план лечения. И еще очень тревожно, что все вокруг меня ограничивают: это нельзя, то не рекомендуется. Очень не хотелось бы останавливаться, жить неэффективно». Через месяц мы снова встретились, в Санкт-Петербурге, где она опять согласилась прочесть «Открытую лекцию». Но все питерские библиотеки отказали Гениевой в возможности выступить: «Иностранка», ею возглавляемая, только что приняла Конгресс интеллигенции с антивоенной повесткой; дружить с Гениевой «системным» людям стало опасно.
Она, как обычно, сделала вид, что этого не заметила: не подписала принесенных ей писем в поддержку военной кампании, не ответила вчерашним коллегам и товарищам, позволявшим себе сплетничать, злословить и интриговать за ее спиной.
Свою лекцию Екатерина Юрьевна читала в Музее Ахматовой в Фонтанном доме. И это ее выступление было безупречным. Вечером мы ужинали и обсуждали планы придуманной ею библиотечной реформы, надежду на повсеместное просвещение, распространение книг, поддержку малых библиотек и «Открытые лекции» по всей России. Она мечтала участвовать во всем. «Помните, Катя, – вдруг спросила она, – как-то, когда мы с вами обсуждали мой диагноз, вы сказали: “Придумайте себе план дел, которые необходимо сделать. И подчините болезнь этому плану”. Я очень буквально восприняла этот ваш совет: у меня теперь есть план». Но представить себе, насколько масштабным окажется план Гениевой, я не могла. Сколько всего Екатерина Юрьевна успеет за те полтора года, в которые превратятся отпущенные ей два месяца жизни.
За две недели до ухода она снова приехала в Санкт-Петербург. Участвовать в «Диалогах» Открытой библиотеки. Защищать подвергшийся гонениям в России благотворительный фонд «Династия» (он занимался финансированием образовательных и просветительских проектов), закрывающийся Американский культурный центр в «Иностранке» и, наконец, право на образование и просвещение граждан России. Гениева не изменила себе: и в этом своем выступлении она была безупречна и бесстрашна. В ответ на мое пессимистическое замечание, что «большей половине граждан страны всё, о чем вы говорите, неважно и не нужно», страстно отвечала: «Катюнечка, вы не правы, просвещение – оно как воздух, этим нельзя пренебречь. Просто это очень долгий и кропотливый труд».
В тот приезд я попросила ее поговорить со мной под запись. Что-то вроде интервью. Мне показалось важным, чтобы как можно больше людей узнали о том, почему из своей болезни она не стала делать тайны, зачем решила болеть на рабочем месте и как отважилась ничего не скрывать.
[60]
– Требования к государственным образовательным и культурным проектам становятся всё более и более жесткими. На этом фоне Библиотека иностранной литературы смотрится почти вызывающе: Конгресс интеллигенции, книги о толерантности, концерты Макаревича, полтора десятка культурных центров иностранных государств, которые располагаются на вашей территории. В скольких вы шагах от того, чтобы стать иностранным агентом?
– Я руковожу библиотекой почти четверть века. Надеюсь, мы не можем стать иностранным агентом, поскольку мы всё-таки государственная структура. Но если смотреть на это с точки зрения нынешнего обостренного квазинационального сознания, то, конечно, мы – крупный иностранный агент. Четырнадцать международных культурных центров иностранных государств, в числе которых, страшно сказать, – а-ме-ри-кан-ский. Впрочем, до сего дня ни для меня, ни для Библиотеки никаких драматических последствий всего этого еще не случилось.
– То есть слухи о том, что Американский центр закроют, остались слухами?
– Это не быстрый процесс.
– Так что же? Это не слухи?
– Понимаете, идет схватка. И исход ее пока неясен. Когда из Министерства культуры поступила просьба о закрытии Американского центра, я сказала: «Хотите закрыть – ради Бога, закрывайте. Но прежде дайте мне официальную бумагу о том, что “в связи с напряженными отношениями между двумя государствами, мы решили”. Тогда уже мы будем про это говорить в другом месте и в другой тональности». Никакой бумаги, естественно, мне никто не дал. Но и решения о закрытии Американского культурного центра никто ни в каком письменном виде никогда не видел.
Вся эта история с решением или нерешением о закрытии развивается замысловато: вызвали кого-то из моих заместителей в Министерство культуры и сказали: «Вот, надо закрыть Американский центр». На что мои заместители ответили: «Это к Екатерине Юрьевне». Екатерина Юрьевна позвонила в Министерство культуры своим кураторам и спросила, что это всё означает. Мне ответили, что было принято решение на очень высоком уровне. Я спросила: «Нельзя ли узнать, на каком?» Ответа не последовало. На этом всё зависло и висит до сих пор.
– О вас лично речи не шло?
– Были не самые приятные разговоры: «Если вы не подчинитесь, то мы вас уволим». Я говорю: «Что значит уволите?» И опять ответа не последовало. Зато последовал очень любопытный разговор с министром культуры. Господин Мединский мне в личной беседе дважды сказал: «Я вам никаких указаний закрывать Американский центр не давал». Ну вот, дальше, что называется, без комментариев.
Так что на сегодняшний день Американский культурный центр работает в прежнем режиме. И хотя люди, которые передавали требование закрыть Центр, говорили, что закрыть надо к 28 мая (почему?), прошло уже больше месяца от отведенного срока и ничего не происходит, никаких насильственных действий, если не считать бесконечных проверок. Но проверок за последний год у нас, кажется, уже штук шесть было. Вот сегодня приехала очередная проверяющая комиссия.
Чем это закончится, сказать я не могу. Моя позиция заключается в том, что даже в худшие времена Карибского кризиса культура оставалась площадкой, где можно было о чем-то договориться. И я убеждена, что для престижа страны сотрудничество в области культуры – важнейшая штука.
Я не устаю об этом рассказывать каждой проверке. Говорю: «Американский культурный центр существует двадцать семь лет. Значит, каждый год мы подписываем соответствующее соглашение с Госдепом…» И на этом месте чиновники обычно напрягаются: как это я сознаюсь в том, что подписываю соглашения с Госдепом? И я спокойно поясняю: «Госдеп – это Министерство иностранных дел США, ничего более».
А недавно один чиновник говорит: «А вот мы не понимали, что вы подписываете соглашение с Госдепом». Отвечаю: «А вы читать умеете, если такие подписания в течение двадцати семи лет происходят? Каждый год. И это их пугает. Американский центр в чьем-то сознании (я думаю, какого-нибудь Совета по безопасности) – вещь опасная. Потому что всё, что связано с США, вызывает повышенный уровень тревожности. И никто уже не слышит, что это про культуру и про образование. Всем сразу мерещатся шпионы в сердце российской библиотеки. «Возможно, – отвечаю я, – шпионы есть. Но это по другому ведомству. Мы – про культуру».
– Но с такой шпиономанией можно же дойти и до того, что сама по себе Библиотека иностранной литературы – вещь опасная и вредная.
– Разумеется. Потому что вся наша библиотека – рассадник влияния вражеских структур на нашу замечательную культуру, идеологию и так далее. Понимаете, в этой истории очень много глупости, как часто у нас, увы, бывает. Давайте закроем Американский центр. Это будет скандал. Ну, можно сказать, никто скандалов сейчас не боится, потому что все скандалы уже у нас есть и терять нам нечего. Кому от этого станет лучше? Думаю, что никому. А если библиотеку закрыть – тем более. Но объяснить это тем, кто спит и видит закрытие Центра или введение каких-то ограничений в работе библиотеки, почти невозможно. Ну не поймут. Хотя я честно попыталась. Я написала письмо Владимиру Владимировичу Путину, которое, думаю, где-нибудь на столе у него лежит: «Вы говорите и постулируете, что готовы к диалогу. Но история с иностранными культурными центрами в нашей библиотеке – это как раз тот самый случай диалога. И потому надеюсь, что решение о закрытии одного из них или даже сразу нескольких – исходит не от вас. А от каких-то средних структур».
– Вы действительно думаете, что все эти инициативы рождены, что называется, на местах?
– Я думаю, что и в самом Министерстве культуры, и где-нибудь повыше – всё в такую раскорячку: с одной стороны, с другой стороны. Единого решения ни по каким действительно серьезным вопросам не существует. Я это наблюдаю в том числе и на своем примере.
– Так всегда было в нашей стране? По-вашему, нынешнее время похоже на что-то, что уже с нами происходило? Кто-то говорит о 1960-х, кто-то о 1940-х.
– Увы, мои ассоциации исторически дальше. Мне страшно смотреть, как быстро страна скатывается к идеологии конца тридцатых годов. Страшно. По-настоящему.
– По-вашему, то, что сейчас происходит в России, развивается по какому-то специальному плану, у которого к тому же есть авторы?
– Страшно себе даже представить, что для кого-то полная и окончательная изоляция страны – это план. Я надеюсь, и даже почти уверена, что этот план не разделяем всеми, что и на самом верху по этому поводу нет единой точки зрения. То есть, с одной стороны, – есть вот это абсолютно ура-патриотическое страшное направление, которое подминает под себя всё идеологическое состояние страны, а с другой стороны, нет никакого понимания, что из всего этого выйдет. Никакого окончательного решения. Мне кажется, они сами не знают, что делать. И это противоречие, эта неокончательность избранного пути ощущается во всем. Вот смотрите: с одной стороны, Красную площадь открыли для людей, провели книжный фестиваль, что само по себе прекрасно, первые лица страны туда пришли и на глазах у огромного количества народу покупали не что-нибудь, а книги. Книги! С другой стороны, мы слышим бесконечные назидательные разговоры о том, какие учебники истории разрешить, что читать, что не читать, какие книги вредные и так далее. И вообще вся эта антиамериканская, антизападная и (как нечто новое) антиукраинская дребедень, которая громко сейчас звучит, очень опасна: она охватила действительно всю страну. Кругом ненависть. И что с ней делать – неясно.
– И это тоже не план, просто так всё само собою вышло?
– А я не вижу последовательности в действиях. Судите сами, в этом году заканчивается целая библиотечная эпоха: 1 января 2016 года уходит в отставку доктор Биллингтон[61]. У нас в России на самом высоком уровне решили дать ему государственную награду. Он – гражданин США, а это, с точки зрения всей этой шпиономании, какое-то отклонение от генеральной линии. Так выбирайте, друзья мои, или – или? Или вот недавно вручалась высшая награда, медаль Пушкина, праправнучке Александра Сергеевича Пушкина. Она тоже, вообще-то говоря, не гражданка России – гражданка Ирландии. Поэтому ответ на вопрос, где какое решение до конца принято, я думаю, не такой простой. Другое дело, что на нашей необъятной территории, где пропаганда начинает играть оглушительную роль, неизвестно, какие весы куда перетянут.
И мое личное ощущение, что там идет гораздо бо́льшая схватка, чем схватка за Американский центр. Понимаете? Потому что если сейчас мы с вами начнем приводить примеры… Зимин – бред, Ясин – бред, Прохоров, перед которым официально, вы знаете, извинилось Министерство культуры, – всё бред. Куда дальше-то идем?
– Но стремление к самоизоляции России усердно подогревается. Всё чаще говорят, что наши ценности – особенные, истинные, а все другие – чуждые и вредные…
– (Смеется.) Я недавно выяснила на одном из совещаний в Министерстве культуры, что, оказывается, доброта, любовь, сострадание – это наши ценности. Я думала всегда, что это общечеловеческие ценности, ан нет, оказывается – исконно русские. И там же выяснилось, что «ценности импрессионизма» (я не знаю, что это такое, сразу говорю, точнее, не знаю, какой смысл в это понятие вкладывал говорящий) – это не наши ценности. Я даже не понимаю, что это такое может быть.
– А с чем, на ваш взгляд, связана такая противоречивая репутация вашего непосредственного начальника, министра культуры Мединского?
– Понимаете, тут тоже опять «с одной стороны, с другой стороны». Мединский – один из самых работающих министров. Хорошо работающих, не просиживающих штаны. Но его даже не беда, а трагедия состоит в том, что у него довольно разные и часто плохие советники: они ему дают советы, которых лучше бы не давали. Понимаете, короля играет свита. Эта свита должна бы быть, конечно, посильнее.
Вот сейчас он опубликовал статью в «Известиях» о том, что государство необязательно должно поддерживать что-то такое, связанное с «Тангейзером». Ну наверное. Необязательно. Нужно еще понять, чего он хочет сказать. Но каждая его мысль сопровождается какими-то скандальными ситуациями.
Я уже не говорю о том, что вся эта затеянная им полемика «мы Европа, мы не Европа» ни у кого из людей, либерально мыслящих, энтузиазма не вызвала.
Но с другой стороны, моя личная история взаимоотношений с Владимиром Мединским – о другом. То есть это не моя личная история, это история вверенной мне библиотеки. Вот, например, у нас был концерт Макаревича. Причем в самый разгар опалы. Я – государственный служащий, мне могли запретить. Но у нас с Мединским состоялся совершенно нормальный по этому поводу разговор. Он сказал: «Давайте мы концерт Макаревича из большого зала перенесем во двор». Я спрашиваю: «И что это даст?» Он отвечает: «Двор – это как бы не совсем библиотека, не совсем госсобственность». Я говорю: «Хорошо, Владимир Ростиславович, давайте». В результате что было? Макаревич звучал на всю Таганку. Ничего не произошло. Люди спокойно собрали деньги, спокойно отправили этим украинским детям, беженцам. Вот примерно так и строятся мои отношения с Мединским. И с возглавляемым им ведомством. Думаю, они считают, что я не очень удобный во многих отношениях подчиненный. Но отношения у нас есть. И, видимо, будут еще.
– Вам не унизительно ходить в Минкульт, просить, убеждать, уговаривать, делать вид?
– Ходить в Министерство культуры и разговаривать – в том числе с министром – и есть моя работа. Причем не самая плохая ее часть. Очень много препятствий хорошим делам возникает по вине армии людей с плохим образованием, плохой информированностью, большими амбициями. Они, несомненно, вносят свой вклад во всё это торжество серого и страшного над ярким и бесстрашным. Мне тут позвонил один чиновник из Госдумы: «Гени́ева?» Ну, это я привыкла. Это нормально. Я говорю: «Да, добрый день». «Мы хотим проверить Фонд Сороса». Я говорю: «Дело хорошее. Только его нету». – «Да? Ну, тогда мы вас хотим проверить». Я говорю: «Ну, тоже дело хорошее, только я там не работаю давным-давно». – «Да?» И он зашел, видимо, в тупик и повесил трубку.
Во всем этом, конечно, есть ощущение точки невозврата и полного отсутствия выхода. Кроме как обычного нашего: молись и работай. Пока есть такая возможность.
– В этом, судя по всему, состоит ваш личный план?
– В том числе. Дерзких планов у меня много. Мало времени. Когда мне поставили тяжелый онкологический диагноз, я не стала делать из этого секрета ни для своих сотрудников, ни для своих кураторов в Министерстве культуры. Так что мы все играли в открытую. И я могу вам сказать, не подбирая длинные слова, что уважение и понимание – это именно то, что я почувствовала по отношению к себе от всех, с кем работала. А в моей родной библиотеке вообще не было ничего, кроме поддержки, сочувствия, ну и, конечно, некоторого испуга. Потому что понятно, что это не грипп.
– То есть вы не стали делать из болезни никакого секрета, и мы даже можем говорить об этом в интервью?
– Разумеется, да. Я не из чего не стала делать секрета: ни из диагноза, ни из стадии. Я не изменила свой образ жизни, я работаю так, как я работала. Мы можем об этом говорить настолько подробно, насколько это интересно вам и вашим читателям.
– Я понимаю, что никто никогда в жизни не ждет встречи с раком. Но, заболев, чему вы больше всего удивились?
– Знаете, наверное, тому, каким образом был поставлен диагноз. Для меня ведь, как и для любого человека, болезнь эта оказалась совершенно неожиданной. И то, как она пришла ко мне, – потрясающая история. Ведь диагноз мне поставила портниха. Хотя, понятное дело, я девушка не деревенская и ко всяким врачам типа итальянских, американских, отечественных периодически ходила, и они мне все говорили: «У вас всё в порядке». И вот я приезжаю в город Курск, и вдруг моя замечательная портниха, к которой я хожу уже десять лет, так задумчиво на меня посмотрела и спрашивает: «Екатерина, что у вас с животиком?» Я отвечаю: «Не знаю, наверное, я поправилась или похудела». Она: «Нет, я знаю форму вашего тела. Пойдите к врачу». Это потрясающая история. Она заметила несимметричность моего живота и сразу всё поняла.
– Это история о профессионализме.
– Возможно. Она увидела то, чего никто не видел. Увы, было поздновато. Хотя докторам израильским я очень благодарна за ясность картины, за правду о моем состоянии и как раз за профессионализм. Они не рассказывают о себе мифы и не погружают в мифы тебя. Когда я первый раз была у своего онколога, спросила: «Вы скажите, а вот какая…» Я даже не успела договорить «стадия?» Она ответила: «Четвертая, последняя». Понимаете?
– Почему вам это так важно? Многие, наоборот, боятся услышать…
– Мне это помогло собрать свои внутренние силы. И не потерять в течение этих четырнадцати месяцев работоспособность. И переносить и химию, и операции, понимая, сколько это продлится и что со мной происходит.
Никто не виноват, что метастазы мои снова рванули, и они сейчас, в общем, побеждают. Но доктора опять что-то придумали. Нашли и предложили использовать какое-то новое лекарство абсолютно убийственное. Прошлая химиотерапия по сравнению с этим – просто баловство какое-то.
– Они обсуждают с вами тактику лечения?
– Разумеется. Я же пациент, живой человек. У меня есть свое мнение, я участвую в лечении. Но самое главное, что я могу сказать про них совершенно отчетливо, они не относятся к болезни как к необходимости терпеть страдания. Пациенту надо всё максимально облегчить. Борьба с болезнью – да. Боль, страдание – нет. И именно поэтому, пока у меня есть возможность выбирать, где мне лечиться, здесь или там (хотя у нас замечательные специалисты), я выберу, конечно, Израиль.
– Но всё равно же будут обвинять в отсутствии патриотизма?
– Это связано не с патриотизмом, а с качеством жизни во время лечения. Это важно.
При этом, поймите, не то чтобы я сторонилась российских врачей, нет. Мне очень понравились наши районные онкологи. Конечно, это был во многом настоящий советский подход: когда меня повели на какую-то комиссию по поводу больничного листа, там две такие дамы (одна крепко советская, другая уже послеперестроечная) удивились: «Вы хотите сказать, что вы работаете с этим диагнозом?» – «Да». – «Это исключено». Я говорю: «Ну исключено, но я перед вами». И разговор был довольно резкий.
В Израиле мое желание работать услышали. Там вообще принято людей болеющих слушать. В этом, собственно, состоит разница в отношении к пациенту там и здесь. Ну и плюс качество самой медицины: как видите, они сохранили мне полную работоспособность.
Есть еще одна важная вещь, как раз касающаяся вопроса о моих планах, с которого я начала рассказывать о болезни: с этим моим раком довольно много метафизики. Болезнь меня куда-то сама ведет и уводит. Поэтому ответить на вопрос, что будет дальше, я не могу. Я понимаю, что я делаю, что я наметила. То есть я для себя принимаю какие-то внутренние решения.
Я прекрасно понимаю, что больна, что не вечна. И еще, например, у меня заканчивается контракт в апреле. Осталось меньше года. Какой в связи с этим мой план? Я бы хотела какое-то количество времени еще в библиотеке поработать. Но я уже начинаю очень серьезно думать, кто может прийти вместо меня. И как сделать так, чтобы структуру сохранить. Удастся ли мне это? Успею ли я? Не знаю, не знаю…
– Вы мыслите размашисто. Никакой политики маленьких шагов, которую так часто советуют онкологическим больным?
– Нет-нет, маленькие шаги, наверное, меня в моем состоянии не устроят. Ну всё-таки история про Американский центр – это схватка. Это уже история больших шагов. Чем она может закончиться? Не знаю. Когда дойдем до точки невозврата, что-то придумаем.
Возвращаясь к сюжету моей болезни: у меня нет отчаяния, которое обыкновенно свойственно онкобольным. У меня есть, скорее, депрессия по поводу того, что будет потом, после меня.
– Страшно?
– Да. Скажу честно, страшно. И это при том, что изначально прогноз врачей по поводу моей болезни был совсем неоптимистическим, несколько месяцев, полгода. Но кто знает, что такое человеческая жизнь? Что значит полгода? Год? Пять лет? Мы же не знаем. Значит, я могу надеяться. И в этой связи обнаруживаются планы, новые резервы организма.
Сразу после известия о диагнозе я участвовала в проекте «Открытая лекция». И это выступление дало мне внутренний толчок, навело на некоторые размышления. Я ведь прожила довольно необычную жизнь, главным в которой были люди. Люди, опыты, встречи, всего этого в моей жизни было в избытке. Но память – вещь прихотливая, уходящая. И на бегу о многом забывается. После «Открытой лекции» я стала чаще вспоминать всё и всех, начала собирать материалы о своей жизни. И хочу успеть всё это записать. Если будут силы.
– Сил меньше теперь?
– И голос слабеет, и ходить трудно, и двигаться трудно. Но у меня было большое серьезное выступление в Великобритании, в Парламенте. И накануне этого выступления у меня не то что сил совершенно не было, но не было даже голоса. А давление было двести сорок на сто двадцать (побочное явление от лекарств). Мне казалось, что я не смогу выйти и не смогу говорить. Но я вышла и говорила. И говорила полтора часа. Я сама не понимаю, как я это всё выдержала. И теперь, вспоминая в том числе и эту историю, думаю вот о чем: тяжелая болезнь – это еще и нравственное испытание. Мне ведь всегда было легко ходить, мне стало трудно ходить. Мне всегда было легко говорить, мне стало трудней говорить. То есть я всё время что-то преодолеваю… И главное, что надо преодолеть, – это внутреннее отчаяние, если вы понимаете, что я хочу сказать.
– Стало легче прощать?
– Наверное. Я думаю, что стала еще на какой-то градус терпимее. Я теперь часто вспоминаю слова отца Александра Меня, когда мы ему говорили, жалуясь: «А вот он такой-то, такой-то, такой-то». А он смотрел так пристально и отвечал: «Попробуйте представить, а какой он или она был ребенком?» Вот я приблизительно так же, когда слышу что-то нерадостное о людях, думаю: «Ну люди как люди, квартирный вопрос».
В общем, я стала не мягче, а терпимее, сострадательнее. И знаете, какое у меня есть еще ощущение? Что время, которое отпущено, я не только для дела должна использовать, но и для чего-то такого, понимаете, эмоционально не окружающего. Я точнее не смогу сказать.
– Муж, дочь?
– Не совсем. Хотя я даже не могу описать, как я благодарна мужу моему, который теперь только мною и занимается… Но я не это имею в виду. Я имею в виду, что если есть возможность быть людям чем-то более полезным, вот я это должна… Я стала, может быть, еще решительней в своих проявлениях поддержки и помощи коллегам. Вот что я имею в виду. Потому что Рубикон пройден. И теперь не надо оглядываться, бояться. И значит, зачем себя сдерживать?
Пока мы говорим, к ней выстраивается очередь из тех, кому тоже назначено: человек восемь или десять. До меня – две встречи, после – еще четыре. «Вы всего лишь семь встреч назначили на один день?» – пытаюсь пошутить я. «Да, стала уставать», – серьезно отвечает Гениева. Но вечером в течение полутора часов «Диалога о культуре» с Александром Архангельским, проходящего в присутствии трех сотен человек, она, как ни в чем не бывало, держит королевскую осанку, говорит емко, точно и страстно – в общем, как обычно. Вечером ужинаем в огромной компании. Она в тоненьком платье безупречного фасона. Черт его знает почему, весь вечер только и спрашиваю ее: «Екатерина Юрьевна, вам не холодно? Вам удобно?» – «Что вы! Мне – изумительно», – отвечает невозмутимо. Провожаю ее к машине. И понимаю: ей, скорее, жарко – так химиотерапия часто действует на человека. Жму ей руки – ледяные. «Екатерина Юрьевна, можно я вас провожу?» – «Что вы, что вы, я сама отлично справлюсь. Всё, целую, бегите к гостям. Детям привет. Завтра позвоню, у меня есть пара идей, которые мы должны вместе реализовать, это очень важно», – говорит она, садясь в машину.
Больше мы не увидимся.
Утром в день ее отъезда из-за спортивного марафона Петербург был перекрыт. Гениева приняла решение идти пешком до вокзала. Из поезда домой, потом в аэропорт, в самолет, в Израиль и там – в больницу. Только там она согласилась сесть, наконец, в инвалидную коляску.
В оставленной ею Москве, в библиотеке, которой она руководила без малого четверть века, тем временем началась очередная проверка. «Я далеко и не могу никого защитить, – сказала она мне по телефону из больничной палаты твердым голосом. – Это очень ослабляет мое присутствие духа. А так – дела ничего. Мои посетители говорят, что держусь с достоинством. Может, врут, а, Катюня?» Это были последние слова Екатерины Гениевой, которые я слышала. Через неделю в издании «Медуза» было опубликовано наше с ней интервью. И я не знаю, успела ли она его прочесть. Еще через неделю Гениевой не стало.
Екатерина Юрьевна Гениева ушла, как уходят великие люди. В кругу семьи, с невыключающимся телефоном, в делах.
У нашего младшего сына осталась от Гениевой придуманная ею и сделанная по ее заказу крестильная рубашка голландского кружева («У моей прапрапрабабушки, Катюнечка, была такая, можете себе представить?»), у меня на окне придуманная и сделанная по ее заказу икона святых Катерины и Николая, подаренная ею нам с мужем на свадьбу, куда она не успела из-за бесконечности библиотечных дел («Это, пожалуй, единственное, о чем я жалею, что не успела»).
В ночь после того как ее не стало, мне приснилось, что спрашиваю: «Екатерина Юрьевна, страшно ли умирать?» А она отвечает: «Умирать – не страшно. Страшно отвечать на вопросы». Проснувшись, подумала: если ей страшно, то каково должно быть нам?
Наутро после смерти Гениевой ее подруга, писатель Людмила Улицкая, получила из Тамбовской области письмо, адресованное Екатерине Юрьевне: просили помочь с книгами для библиотеки детского интерната, нескольких школ для детей с задержкой психического развития. Эта посылка была отправлена в день похорон.
Интервью четырнадцатое Антон Долин
Мы встречаемся с Антоном Долиным, одним из самых популярных в России журналистов, в кафе. Давно договаривались об интервью. Но разговор не клеится. Долин нервничает, ерзает, смотрит мимо. Отчаявшись понять, что происходит, выключаю диктофон, спрашиваю напрямую: «Что не так?»
– Ты понимаешь, – отвечает Долин, – я вез одной больной девочке статуэтку «Оскара» в подарок. Обычный сувенир, какие продают везде в Америке. Но девочка о таком мечтала. В «Сапсане» у меня упала сумка, статуэтка сломалась. Что я ей теперь подарю? Мне так стыдно.
– Но ты не виноват.
– Ты всегда виноват, если не смог сделать, что обещал, – отвечает Долин совершенно серьезно. И некоторое время мы работаем над организацией доставки новой статуэтки «Оскара». Только после этого Долин оказывается способным говорить на отвлеченные темы. Например, о себе.
[62]
– Иногда мне кажется, что ты одновременно выступаешь сразу в нескольких местах.
– Это не так.
– Но с тем, что тебя много и ты как будто везде, не поспоришь. Это твоя внутренняя потребность всюду успеть или острый дефицит общества в легком на подъем образованном молодом человеке, который простым языком рассказывает людям о сложном мире культуры вообще и кино в частности?
– Мне до сих пор кажется, что я живу в идиотском сне – и даже не своем, мне не снился успех и так называемая востребованность. Наверное, есть потребность, есть и дефицит. Черт его знает. Востребованность твоей работы всегда похожа на чудо. Личная узнаваемость – другое дело. Быть известным очень неудобно, ничего, кроме неловкости, это не приносит. До тех пор пока не возникает редкая ситуация, в которой можно эту узнаваемость конвертировать во что-то осмысленное. Всё остальное – селфи, толпы на презентациях и прочее – ужасно странно. Хочется зажмуриться или убежать.
– Но на социофоба ты не похож.
– Да нет. Мне нормально, даже комфортно рассказывать, отвечать на вопросы, разговаривать. Но довольно некомфортно видеть вроде как «фанатов». Каждый раз проделываю над собой маленькую, но отчетливую внутреннюю работу, чтобы у меня не отразилась неправильная гримаса на лице. Я ненавижу улыбаться в жизни и тем более на фотоаппарат. У меня улыбчивых фотографий с детства нет и до недавнего времени не было. Сейчас – сплошь и рядом.
– Специально тренировался улыбаться?
– Сознательно научился это делать, чтобы никому не было обидно.
– Парадоксальное, конечно, явление: кинокритик, у которого куча фанатов из неспециальной среды.
– Давай попробуем сделать шаг назад и разобраться. Тому есть объективные и субъективные причины. Объективные причины связаны с ситуацией: у нас в стране кризис информации, ею слишком часто манипулируют. Это накладывается на кризис образования. Дело даже не в том, что качество образования становится хуже: просто люди перестают в него верить. В советское время, скажем, высшее образование имело абсолютную ценность. Каждый уважающий себя человек должен был хотя бы попробовать его получить. Сейчас этого нет. Многие, наоборот, гордятся тем, что, не получив никакого образования, делают свою жизнь. Но потребность расти и учиться не исчезает. Поэтому становятся востребованы параллельные, альтернативные формы образования.
Тут в дело вступает субъективная причина моей популярности. Почему я? Ведь у меня даже профильного образования кинокритика нет. Я знаю кино в тысячу раз хуже многих коллег. Придуманная кем-то для меня репутация «ходячей энциклопедии» – чистой воды легенда.
Но. В моем филфаковском дипломе написано «учитель русского языка и литературы». И я действительно работал учителем в школе, давал частные уроки. А опыт преподавания у меня появился еще раньше: я старший ребенок в семье и постоянно что-то рассказывал маленьким – начиная с пяти лет, когда родился мой младший брат. Я люблю это делать, мне нравится отвечать на вопросы, что-то объяснять, внятно и нескучно рассказать людям о чем-то, чего они не знают. Это во мне живет неистребимо. Иногда я даже забываю «выключаться». Мои коллеги-критики смеются над тем, что я им начинаю читать лекции. Моя семья ржет над этим. Они говорят, что я включаю «Радио “Долин”», когда, например, мы едем на машине. Пока едем, начинаю что-то рассказывать, говорить, вещать… Бывает, что это длится час-полтора. Очень надеюсь, что говорю я нескучно. Хотя, может, и скучно. Но мои домашние с этим смирились и давно не протестуют… За пределами же моей семьи это говорение определенно пользуется спросом: людям не хватает внятного, простого и желательно быстрого рассказа о чем-то, чего они не знают или не понимают.
– Приведи пример.
– Запросто: «Зеркало» Тарковского. Каждый человек, который умеет читать и немножко думать, знает, что такой фильм надо посмотреть. Но давай уже произнесем страшное: не все его смотрели. Теперь представь, как ты вдруг, ни с того ни с сего, включаешь «Зеркало» и начинаешь смотреть. Может стать не по себе. Ты лезешь в интернет, открываешь «Википедию»: что всё это значит? как связаны между собой эти сцены? кто эти люди на экране?
– Довольно странный способ смотреть кино: с «Википедией».
– Нет, не странный. Обычный. Со мной как-то в Петербурге случился трогательный эпизод. Когда я представлял книгу Люка Дарденна, к которой писал предисловие и для которой брал интервью у братьев Дарденн, на презентацию в магазин пришло некоторое количество людей. Встреча проходила перед показом в кинотеатре «Аврора» фильма Дарденнов «Розетта». И вот один немолодой мужчина встал и сказал: «Я немного стесняюсь, но хочу спросить: я таких фильмов никогда не смотрел, привык совершенно к другому кино. Как мне это смотреть? Как сделать так, чтобы мне не было неприятно?» И я начал ему подробно объяснять.
– То есть ты правда считаешь, что нужно объяснять не почему это стоит смотреть, а именно механику того, как смотреть?
– Не считаю, а знаю это совершенно точно.
– «Кино не для всех» не существует, все должны смотреть всё?
– Не должны, конечно, но могут. Я знаю, что есть люди, у которых имеется потребность в том, чтобы смотреть нечто более сложное, чем то, к чему они привыкли, но у них нет инструментария. Представь себе человека, который впервые в жизни заходит в церковь: взрослый, но никогда там не был. Он чувствует что-то сакральное и важное. Он видит, что там красиво. Видит, что люди совершают ряд действий: кто-то, например, крестится. Но он не понимает: зачем креститься? Вот какая-то икона, на ней что-то изображено, но что именно? В каком порядке и почему – не понимает. Конечно, можно – очень многие именно так делают – просто механически повторять крестное знамение, слова, которые все говорят, смотреть на икону. А можно где-то прочитать или у кого-то узнать, зачем ходят в церковь, что такое молитва, где изображен Иоанн Креститель, а где – Христос, почему это разные люди, что вообще в их жизни случилось такого, из-за чего теперь в таких учреждениях, как церковь, их изображения вешают на стену? Безусловно, это приведет к другому опыту посещения церкви. Я даже не говорю, какой опыт лучше, а какой – хуже. Но очевидно, что второй случай будет более комфортным.
Так вот, гид по «Зеркалу» не нужен тому, кто, условно говоря, всю свою жизнь «смотрел Тарковского». Но когда ты впервые во взрослом возрасте сталкиваешься с Тарковским, да еще и на большом экране, то, поверь, тебе нужна помощь.
– Но ты оказываешься рядом со зрителем не только в тот роковой момент, когда ему предстоит ознакомиться с Тарковским. Ты сегодня самый востребованный в стране советчик по широкому кругу вопросов. Люди уже не в состоянии совсем ничего решить самостоятельно?
– Мы живем в эпоху переизбытка информации. Ориентироваться в ней тоже стресс и проблема. Вот ты думаешь пойти в кино, подходишь к кинотеатру, а там в афише девять названий фильмов. Ты ни про один ничего не знаешь. Ты выбираешь пальцем в небо, заходишь, смотришь, а там – ерунда. И тебе очень обидно. Ты выходишь и говоришь: «Весь этот Голливуд – говно!» или: «Русское кино никуда не годится». Ты говоришь это потому, что ситуация, в которую ты попал, требует обобщения, но сказать: «Это я такой дурак, заранее ничего не узнал и пошел на случайный фильм», – ты не можешь. Ты же не считаешь себя дураком. Поэтому я придумал – в порядке эксперимента – целый мастер-класс по тому, как смотреть кино. Я там буквально людям рассказываю, как выбрать фильм, на который пойти вечером, чтобы не обломаться.
– И что, например, ты рассказываешь?
– Например, что никогда нельзя верить трейлерам, потому что их монтируют совершенно не те люди, которые сделали фильм; трейлер всегда делает вид, что он – укороченная версия фильма, но это никогда не она, там даже музыка всегда другая, а смонтировано это из первого получаса, чтобы не раскрыть, что происходит в остальные два часа. То есть, проще говоря, это ложь. Еще – что нельзя верить рейтингам на «Кинопоиске» или IMDB. Их часто создают люди, которые самих фильмов не смотрели. Что есть картины, у которых есть фанбаза, они так устроены, а у других фанбазы нет, но фильмы всё равно прекрасные, а значит, на фанбазу нельзя ориентироваться. То есть в основном моя мысль проста: не верьте тому, не верьте этому, не позволяйте себя обманывать.
– А чему верить?
– Критикам.
– Лихо.
– Не мне – критику. И не кому-то конкретному другому. Есть же еще вопросы: как найти критиков, как их читать, как не наткнуться на спойлер? И я рассказываю, какие издания читать, чтобы выбрать кино, какие – уже после просмотра. Объясняю, почему лучше всего смотреть фильм на большом экране, а не скачивать из интернета. Что хорошо бы смотреть фильм на языке оригинала с субтитрами. Ты на меня смотришь с сожалением, как на идиота, говорящего очевидное, но не можешь даже себе представить, для какого количества людей большинство этих пунктов становится откровением.
– Я слышала, что с такими лекциями тебя приглашают в большие корпорации типа «Лукойла». Собирают сотрудников, и ты им проводишь ликбез. Так?
– Сразу скажу: в «Лукойле» я лекций не читал. И не звали. Лекции я читаю для очень разных людей: корпоративные, бесплатные для детей в школах, для студентов, для обычных людей. Иногда за какие-то незначительные деньги: открывается культурное пространство, всех приглашают на лекцию, за вход берут, допустим, двести рублей. И люди приходят, потому что я для них – человек из телевизора, из программы Урганта. «Антон Долин придет просто что-то рассказать». Они приходят – я рассказываю. А бывает, какая-то большая компания проводит для своих сотрудников мастер-класс, и они меня зовут. Лекцию о том, как смотреть кино, я читал, к примеру, в одной бизнес-школе для менеджеров и руководителей крупных предприятий. А недавно для большой компании сотовой связи в кинотеатре проводил разбор фильма «Мама!» Аронофски. То есть они сначала посмотрели кино, а потом полтора часа я с ними разговаривал о том, как оно устроено. Но те же самые вещи я делаю с обычной публикой: купить билет, прийти и принять участие в том же самом. Мне бы мечталось быть народным критиком. Звучит абсурдно, полагаю, ну и пусть.
– Простым, понятным и доступным, как, например, газета «Комсомольская правда»?
– Да. Я считаю, что нужно как-то заканчивать с системными представлениями о должной элитарности. Кинокритик в моих глазах – не тот, кто делится с условными «своими», хорошо образованными немногочисленными собеседниками мыслями о прекрасном. Это тупик. Чем меньше хорошо образованных людей, тем меньше кинокритиков, потому что на них всё меньше спрос, а от этого, в свою очередь, образованных людей становится еще меньше. И так далее. В конце концов мы приходим к полному исчезновению как образованных людей, так и профессии кинокритика. Что в этом хорошего?
– Критик, который, как ты, работает с массами, рано или поздно оказывается серьезным игроком на коммерческом поле. И на его голову сыплются обвинения в том, что он сделал прокатную судьбу одному, дружественному ему фильму. Или наоборот: своей рецензией убил прокатные перспективы другой картины.
– Я стараюсь как бы всего этого не знать. Люди моей профессии в России живут с вдолбленной в голову мантрой о том, что наше слово ничего не значит, наше мнение ничего не меняет. Даже в Америке, где критики очень сильны, считается, что критики не способны повлиять на кассовые сборы. На поверку это лукавство: способны. Просто не в случае огромных блокбастеров, а в случае фильмов поменьше. Мнение критиков очень важно: как правило, оно не влияет на многомиллионные массы, но влияет на тех людей, которые могут влиять на многомиллионные массы. Широкая аудитория критика не прочитает, но узнает мнение Стивена Спилберга или Тома Круза, которые обязательно будут читать критиков. Это в Америке. В России же у нас настоящей свободной и профессиональной критики до сих пор толком нет. Были при СССР прекрасные критики, существовавшие в условиях жестких цензурных ограничений. В девяностые профессия стала выстраиваться от противного: появилась вольная поэтическая кинокритика, которая только начала формироваться и обретать собственный язык, когда вдруг закончилась независимость газет и журналов и закрылись отделы культуры. А самих критиков начали увольнять за ненадобностью. Они пошли или в кураторство, или писать книги, или заниматься наукой – кто во что горазд… Все коллеги, которые сегодня продолжают на любых площадках заниматься повседневным и неблагодарным трудом критика, по-моему, герои. Кроме меня: я не герой, мне просто повезло.
В общем, профессия начала вымирать. Но осталась вера в то, что критики ни на что и ни на кого не влияют. Лично мне это дает изумительную безответственность высказывания. А безответственность высказывания критику необходима. Потому что как только ты понимаешь, что перед тобой гигантская аудитория и она сделает как ты скажешь, так сразу ты начинаешь сам, без власти, без подсказки чьей-то сверху цензурировать каждое свое слово, становишься очень вежливым и осторожным. Меня и так многие коллеги недолюбливают за то, что я слишком добрый критик, очень уж редко ругаю фильмы.
– Готовясь к этому интервью, я прочла, наверное, больше двадцати твоих недавних рецензий. Из них ругательной была только одна: на «Аритмию», один из самых обсуждаемых (наравне с «Нелюбовью», «Заложниками» и «Теснотой») русских фильмов этого года.
– У меня не было задачи поругать «Аритмию». После публикации я встречался с режиссером фильма, Борей Хлебниковым. Мы обсудили мою статью. Он сказал, что ему понятны претензии. Но это никак не повлияло на наши добрые отношения. Кроме того, я не могу сказать, что «Аритмия» мне неинтересна: я очень рад успехам этого фильма, в том числе коммерческому. Просто лично меня как зрителя он не тронул. Так бывает.
– Согласен ли ты с тем, что зрительский выбор между «Нелюбовью» и «Аритмией» равен человеческому, гражданскому выбору модели поведения в нынешних условиях?
– Нет. Восприятие фильмов зрителями почти никак не связано с их гражданским активизмом или, наоборот, пассивностью. Результаты этого восприятия вообще могут быть довольно неожиданными. Я поэтому очень люблю публичные показы, которые мы проводим с «Каро-Арт»: мы показываем фильм, а после этого обсуждаем его с залом. Иногда такие интересные вопросы и сомнения звучат из зала, такие любопытные интерпретации. Какие-то мне кажутся невероятно глупыми, другие – невероятно глубокими. Но важно знать, что публика всегда тоньше и умнее, чем мы о ней думаем. И я сомневаюсь, что люди настолько прямолинейно воспринимают увиденное – как призыв действовать.
– А мне кажется, что спустя десятки лет, для того чтобы понять, как мы жили во втором десятилетии XXI века, достаточно будет посмотреть именно эти три фильма – «Аритмию», «Тесноту» и «Нелюбовь».
– Согласен. Они эмблематичны. Да и вообще, надо признать, 2017 год оказался ужасно интересным для русского кино. И я очень доволен, что моя книга о русском кино вышла именно в этом году. Это, разумеется, совпадение. Но мы же знаем: случайных совпадений не бывает.
– Но всё же какую роль твоя хвалебная рецензия на «Нелюбовь», очень теплая на «Тесноту» и, скажем так, критическая на «Аритмию» сыграла в прокатной судьбе картин?
– В перечисленных тобой трех фильмах есть что-то очень сложное и абсолютно антидогматическое, что сделало их вирусным феноменом. Кинокритики могут только уловить это и написать об этом, но они не могут создать вирусный феномен: лишь осмыслить его. Невозможно, написав в лучших выражениях о фильме, который тебе понравился, сделать его популярным. Этого критик не может никогда.
Я ругаю фильмы очень редко. У меня свой этический кодекс, который я выработал, сам с собой договорившись. Кстати, не знаю, стал я добрым из-за того, что почувствовал ответственность за популярность, или стал популярным потому, что патологически добр для критика. Тут причинно-следственные связи теряются. Могу сказать одно: быть пастырем и властителем умов я категорически не хочу. Одна из причин, по которой я столь активно и ежедневно веду свой фейсбук, вступая в диалог с каждым, не боясь конфликтов, разговаривая с хамами и троллями, состоит в том, что я не хочу играть в «элиту». Мне важны не авторитет и количество подписчиков – мои или собеседника. Важны аргументы. По тем же самым причинам мне нравится пользоваться общественным транспортом, ходить по улицам, разговаривать с людьми, не принадлежащими к привилегированной сфере, и пытаться найти с ними общий язык.
– Но ведь это разные вещи. Пользоваться общественным транспортом – это одно. А вести активную жизнь в фейсбуке, отвечать каждому, со всеми разговаривать и спорить – значит как раз повышать собственную популярность. На разговоры и споры приходят люди, к ним подтягиваются другие, в конце концов все уже говорят между собой – чистой воды кликбейтерство. Правильно ли я понимаю, что с помощью личной популярности ты популяризируешь то, что самому тебе дорого?
– Это одна из задач. Я многозадачный человек и стараюсь быть сложным человеком – в том смысле, в каком Даниил Борисович Дондурей, один из моих учителей, часто и подробно о «сложном» человеке говорил. Вот я, например, музыку очень люблю, не живу без нее, но вкусы у меня эклектичные. За последние несколько месяцев навскидку побывал на концерте своего любимейшего украинского композитора Сильвестрова, балете на музыку Баха, оперной постановке Генделя, концерте произведений Монтеверди, потом на концерте Оксимирона, выступлении Бенджамина Клементина, балете на музыку Прокофьева, балете «Нуреев», где музыка современного композитора Демуцкого, и еще на концертном исполнении произведений Николая Рославца – великолепного русского авангардиста, раздавленного сталинской машиной в тридцатые годы. По мне, это совершенно нормально. Так же нормально, как за обедом съесть сначала кусок сыра, потом суп, потом жареную утку, а после – что-то сладкое. Разве этим кого-то удивишь? Постепенно пищеварение справляется с любым разнообразием. Точно так же мое мозговое пищеварение с этим справляется.
– Меня поражает, скорее, не разнообразие вкуса, но количество.
– Мне – нормально. Мне повезло, я быстро работаю. И поэтому работаю много. Не трачу время на поиск мыслей для статьи, не страдаю перед пустым экраном в поисках нужных слов. Крайне редко трачу время на мысли о чем-то высоком и недостижимом, особо не мучаюсь самоугрызениями. У меня не бывает, чтобы я спал в сутки лишний час или больше часа. С другой стороны, времени на приятные беседы с друзьями тоже не хватает – это мрак, конечно. В моей повседневной жизни три основные составляющие: потребление культуры, моя работа и семья. Это полный список.
Много знакомых, друзей и членов семьи порой звонят мне с вопросом: «Ты сейчас свободен?» И когда я говорю, что свободен, их удивляет, что я имею в виду совершенно конкретный ближайший час. Но больше чем на час фраза «сейчас я свободен» для меня не имеет смысла. У меня не бывает такого – свободного от всего – дня в жизни. Никогда. Возможно, это патология. Но моя жизнь устроена, как игра «Тетрис»: в ней нет пустот. Всё прилегает ко всему. А мой мозг – это печь, в которую постоянно надо бросать топливо.
– Мозг мозгом, но эмоционально я бы, например, не выдержала.
– Я привык. Скорее, для меня лишен смысла вопрос о том, как можно утром прочитать книгу Кадзуо Исигуро, днем пойти на фильм «Лига справедливости», а вечером – на концерт Сильвестрова. К моменту очередного приема пищи предыдущая порция переработана. И мы снова голодны.
– Мне кажется значительным упрощением сравнивать сильные эмоциональные переживания, которые вызывает искусство, с пищевым опытом. В эмоциональном плане иногда хватает одного мощного впечатления на месяц, а может, и на год.
– Возможно. Но не для меня. Может быть, дело в том, что во всех остальных областях у меня невероятно скучная жизнь. Я никогда не пробовал наркотиков, даже марихуаны, не играл в казино и не хотел бы. Не курю и никогда не пробовал. Я человек, который только однажды в жизни выпил больше, чем надо, и почувствовал себя пьяным. С тех пор – ни разу. Люблю выпить, но только до тех пор, пока мой мозг функционирует. И так во всех областях, включая самые интимные.
– То есть главный орган в твоей жизни – это мозг?
– Однозначно, важнее органа нет.
– Это результат какого-то особенного воспитания?
– Не думаю. Это рационально принятое решение. Так называемые вредные привычки отнимают очень много времени. А поскольку у меня их нет, то время экономится. При этом мнение обо мне как об эдаком отличнике, для которого главное – быть первым или лучшим, стопроцентно ошибочное. Мои школьные и университетские учителя, которые, к счастью, живы, могут подтвердить, что я был троечником и прогуливал уроки. Я бы и сейчас их прогуливал: не видел никакого смысла ни в алгебре, ни в химии. Мне было абсолютно наплевать на плохие оценки, главное – как-то перевестись в следующий класс, чтобы не выперли из школы, которая мне нравилась и в которой у меня были друзья, а это – важнее оценок. Но с уроков я сбегал в одиночку, а не с друзьями. И бежал в книжный магазин, или на выставку, или сидел в парке и книжку читал. Три часа вместо уроков. И это никак не было связано ни с социальным преуспеянием, ни с чьей-либо оценкой. Успех, который я имею в определенных областях, для меня до сих пор шокирующий факт. Мне он, пожалуй, льстит, но я не знаю, как им пользоваться. Участвовать в корпоративах за большие деньги считаю безнравственным, от вида юных поклонниц впадаю в ступор. Я же реально, к своему ужасу, стал героем для школьников после участия в передаче «Вечерний Ургант».
– Никто тебя в программу «Вечерний Ургант» насильно не тащил.
– Да, «Ургант» сложился исторически, в отличие от всех других телеэфиров. Но ни одного своего выпуска в записи не смотрел.
– Так или иначе, выходит, что все люди с фамилией Долин(а) имеют творческие профессии. Вы конкурируете между собой?
– Нас воспитывали очень по-разному. Я старший сын, меня вообще воспитывали бабушка с дедушкой. Мама тогда в свои двадцать гастролировала по всему Союзу с концертами. И я всё это считал нормальным. У меня было счастливое детство. Мой брат Олег родился, когда папа и мама получили свою первую однокомнатную квартиру, он рос уже с родителями, а когда родилась сестра Ася, мы переехали в трехкомнатную квартиру и жили уже все вместе. Однокомнатная квартира, где все ютятся, и трехкомнатная, где у каждого более-менее есть свой угол, – это разная жизнь, разное воспитание. Есть свое пространство или нет своего пространства – большая разница. Главное, что я получил в процессе воспитания, это братские отношения с мамой, с которой, начиная с моих двенадцати-тринадцати, а ей тогда было тридцать два – тридцать три, мы вместе, синхронно читали одни и те же книги, смотрели одни и те же фильмы. У нас, впрочем, была полнейшая демократия и свобода выбора в вопросах о том, что читать, что смотреть, как жить. В итоге с братом и сестрой у нас довольно разные, мало в чем совпадающие вкусы. Но есть какие-то незыблемые, взявшиеся, наверное, именно из семьи штуки типа культа свободы, уроки которой каждый из нас получил и усвоил, разумеется, по-разному. Лично для меня свобода и в политическом смысле, и в художественном – главная ценность из существующих. Важнее ничего нет.
– Как свободный человек ты умудряешься совмещать работу на Первом канале, в системе ВГТРК[63], в «Медузе». На обложке твоего фейсбука – фотография Сенцова, а внутри вполне может быть чек-ин на Санкт-Петербургском культурном форуме. Тебя в этом наборе ничего не раздражает?
– Меня раздражает только постоянно увеличивающееся количество людей, у которых это вызывает идиосинкразию и которым хочется указать мне на мое место.
– Это нормально: людям хочется понять, по какую ты, в конце концов, сторону баррикад.
– Сторона баррикад была выбрана мною давно и совершенно определенно: я человек либеральных взглядов. Мне не нравится сегодняшняя власть в стране. Мне не нравится, как обстоят дела с культурой. Мне не нравится, как обстоит дело с политикой. Мне не нравится, что у нас нет настоящих, честных выборов. Мне не нравится теперешний президент России. Я говорю это абсолютно открыто. Стало быть, об этой моей позиции знают все мои работодатели. При этом убежден, что до тех пор, пока наша страна не превратилась в ГУЛАГ (надеюсь, она больше никогда в него не превратится), можно и нужно заявлять о своих взглядах прямо и открыто. Это первое. Второе. До тех пор пока никто меня не цензурирует, я не вижу проблем в том, чтобы работать в любых государственных СМИ и выступать на любых государственных форумах.
– А тебя не цензурируют?
– Нет. Если не считать формой цензуры то, что я там рассказываю про кино, а не толкаю политические речевки. Но, на секундочку, я не политический обозреватель, а кинокритик. И прошу всех помнить, что это моя основная работа. У меня есть свои политические взгляды, но это не значит, что я посвящаю свою жизнь их пропаганде или проведению в жизнь. Поэтому и сторона баррикад в политическом или в эстетическом смысле мною выбрана совершенно определенно, очень давно, и никогда не менялась: я еще в 1999 году не хотел, чтобы глава ФСБ становился президентом России. С тех пор мое мнение не поменялось. Я остаюсь при своих взглядах. И не очень понимаю, на основании чего происходит логический скачок и общественность переходит к осуждению журналиста, который сам стоит за свободу и либерализм, но работает, например, на Первом канале.
– Общественность полагает, что такой журналист автоматически становится пропагандистом.
– Но это не так! Если стал пропагандистом – да, тут есть, что осудить. Но что, если не стал? За факт принадлежности к Первому каналу осуждать нельзя. Первый канал – это площадка. Радио «Маяк» – площадка. Петербургский форум – площадка. Ты приходишь на площадку и обращаешься к тем, на кого ты работаешь. Я не работаю на государство или на врагов государства. Я работаю на аудиторию. Я работаю на нее там, где могу.
– Ты сейчас оправдываешься.
– Нет. Когда я прихожу и записываю свои программы, я приношу больше пользы, чем принес бы, хлопнув дверью и сказав: «Я с вами сотрудничать не буду». Всей системы я бы своим уходом не подкосил, это был бы просто очередной демонстративный уход. Вот я и остаюсь там, где я есть. И если на Первом канале, допустим, во всех передачах врут (что, кстати, совершенно не так), то смотря те отдельные программы, в которых я участвую и где точно не врут, зритель может научиться выключать телевизор в правильном месте, а потом снова включать. И таким образом не получать ни капли пропаганды. В итоге Первый окажется обычным развлекательным каналом, каких полно в мире.
– Ты возглавил один из двух главных в стране киножурналов – «Искусство кино». Теперь это тоже твоя площадка для разговора с самой широкой аудиторией? У тебя хватит сил, слов и времени еще и на это?
– Времени у меня не хватает уже много лет. Это основная проблема. Но что делать? Справляюсь каким-то образом. Дело в том, что в «Искусство кино» меня позвали не только потому, что я давний автор, друг журнала и человек, которому этот журнал небезразличен. Но и потому, что я – популярное лицо. А журнал – в кризисе. Моя популярность, мое присутствие в других СМИ и на прочих площадках помогает журналу привлечь к себе внимание, найти новых читателей, найти людей, которые будут помогать, в том числе и финансово. Именно поэтому, возглавив «Искусство кино», я должен везде остаться. Стоит мне откуда-то уволиться, как половина смысла моего присутствия в журнале исчезнет. При этом я всё-таки занимаюсь в «Искусстве кино» всем тем, чем принято заниматься главреду. Я не просто витрина.
И да, я, конечно, собираюсь делать «Искусство кино» популярным. У нас впервые за черт знает сколько лет последние три номера расхватывали, как горячие пирожки. Такого давно не бывало. Все мероприятия, которые мы организовали уже в рамках обновленного «Искусства кино», например, синематека, которую мы придумали, – проходят с аншлагами. И у нас для широкой аудитории много всяких планов: сценарные конкурсы, новая медиаплатформа, свой фестиваль и, наконец, своя кинопремия.
– То есть шоу-бизнес.
– Да нет. Это не шоу-бизнес. Скорее, глобальный образовательный проект: решив популяризироваться, сам журнал более популистским не станет. Но, как и всегда, я буду стоять за внятность изложения. Я убежден: можно быть сложным и понятным. Есть стилистические идеалы, к которым можно стремиться: Эко, Гаспаров, Лотман – большие ученые и мыслители, умевшие говорить на понятном языке. Думаю, они прекрасно понимали, что, обращаясь к широкой аудитории, следует слегка корректировать свой язык, чтобы быть понятным. Но корректировать не значит цензурировать! Компромисс необходим только в той части, которая касается способа изложения. Сама же мысль будет оставаться глубокой и сложной.
– Ты оглядываешься на то, что сказал бы по поводу всех твоих нововведений Даниил Дондурей?
– Я стараюсь не оглядываться вообще. Но мне очень приятно, что вдова Даниила Борисовича, Зара Абдуллаева, – мой заместитель. Она мой товарищ и коллега много лет. А их дочь Тамара постоянно мне говорит, как ей нравится то, что я делаю. С Даниилом Борисовичем мы часто обсуждали, что можно было бы сделать с журналом. Мне кажется, то, что я делаю, не противоречит его идеям и его видению будущего журнала. Наверное, у нас по поводу всего того, что уже происходит и что задумано, мог бы состояться большой, обстоятельный и долгий – как прежде – разговор. Увы, это невозможно. Что ж, постараюсь справиться сам.
Интервью пятнадцатое Ксения Собчак
Ксения Собчак приходит на интервью в светлом брючном костюме, с алым бейджиком Петербургского экономического форума. В руках у нее розовый микрофон телеканала «Дождь». Интервью происходит во время форума, где Собчак работает журналистом: интервьюирует чиновников и бизнесменов. В перерывах между интервью она проводит творческий вечер в одном из питерских книжных магазинов, ведет «круглый стол» Сбербанка, участвует в десятке светских и деловых мероприятий. Или, например, сама дает интервью – как это.
В ресторане, где мы встречаемся, Собчак все знают. Ей приносят блюдо сашими и воду. «Ешьте, ешьте!» – предлагает она мне. Я пью кофе.
Собчак снимает ярко-красные туфли на шпильке и поджимает ноги. Она устала.
Формальный повод нашей встречи – фильм «Дело Собчака», предпремьерный показ которого, пусть и неофициально, приурочен к ПМЭФ – большинство зрителей съедутся на показ прямо с форума. Со сцены Собчак скажет, что ей было важно, чтобы первый показ фильма состоялся именно здесь: в городе, мэром которого был ее отец, в городе, где родилась она.
[64]
– Фильм «Дело Собчака» начинается с ваших слов о том, что вы шли к его созданию восемнадцать лет. Отчего именно, в 2017 году, вы решили: время пришло, надо снимать?
– Но у меня совсем не так всё устроено, как вы описываете: это происходит не по щелчку, это постепенный процесс. У меня есть несколько мечтаний, замыслов, которые я очень хочу осуществить, про которые много думаю и понимаю, что рано или поздно обязательно это сделаю…
– Например? Чтобы было понятно.
– Это может быть что угодно: от телевизионной карьеры до полнейшей перемены жизни, как, например, произошло семь лет назад[65]. Такие намерения в тебе зреют и дозревают до точки, когда их реализация неизбежна, понимаете?
– Не очень.
– Ну, допустим, я мечтаю посетить Африку. Значит, ни в коем случае не надо насиловать себя, собирать эту поездку, стиснув зубы. Надо просто помнить, что есть такая мечта. И тогда всё само организуется лучшим образом: время и пространство раздвинутся, появится хорошая компания, всё сложится, я поеду и вернусь из поездки с потрясающими воспоминаниями.
С фильмом – то же самое. Я долго мечтала сделать настоящий фильм о папе, увековечить его память так, чтобы вышло не мемориальное кино, а фильм-высказывание, который объяснит всё, что с Собчаком произошло, но будет еще и моим фильмом о папе.
Чтобы соединить эти две интенции, от меня требовался высокий уровень честности; долгое время я не была готова. Но идея фильма меня не отпускала. Я даже начала работать с режиссером, это уважаемый человек, я его люблю, но у нас ничего не получилось.
– Кто это? И почему не получилось?
– Мне кажется, было бы неправильно называть его имя. Но это талантливый, потрясающий человек. Мы делали и, надеюсь, еще будем делать вместе какие-то проекты. Но тогда я поняла, что мы по-разному видим результат, по-разному смотрим на процесс. С [режиссером фильма «Дело Собчака» Верой] Кричевской было иначе: мы поняли друг друга мгновенно. Она – человек с горящим сердцем, очень эмоциональная. И работать нам было иногда трудно, но невероятно круто. Вера – настоящий огонь, настоящая честность.
– Вы приняли решение снимать фильм об отце в 2017-м. Тогда же, когда решили участвовать в выборах. Как это связано?
– Это не связанные между собой события. Просто после того, как я посмотрела фильм [Веры Кричевской и Михаила Фишмана о Борисе Немцове] «Слишком свободный человек», пазл сложился, я осознала, что готова снимать фильм о папе, я хочу это делать с Верой, и я понимаю, как это сделать. Дальше, как часто бывает в таких историях, ветер стал нам сопутствовать: герои начали соглашаться на интервью…
– Вы их просили?
– В основном – да.
– Кто брал интервью?
– Практически все – я. За исключением тех, которые я не могла брать по этическим причинам: [заместитель Собчака, выигравший у него выборы] Яковлев, [политтехнолог, главный идеолог кампании против Собчака 1996 года Алексей] Трубецкой-Кошмаро́в, [бывший начальник службы охраны президента Ельцина Александр] Коржаков. Мне было бы по-человечески трудно оказаться рядом с этими людьми и как-то, ну я не знаю, удержать себя в журналистских рамках. И непонятно, были бы они со мной откровенны. Хотя, например, Невзоров, с которым беседовала я, с большим удовольствием говорил мне гадости про отца и про маму в лицо.
– А как вы вообще для себя решали, кто вы в этом фильме – дочь или журналист?
– Я дочь Собчака, которая выросла и стала журналистом. И мне показалось важным разобраться в том, каким был мой отец и что с ним произошло.
– Анатолия Собчака не стало, когда вам было восемнадцать лет. Прошло еще восемнадцать. Угол зрения неизбежно меняется.
– Меняется, да. Менялся. Но я хорошо помню, что чувствовала, когда папа умер. У меня было ощущение, что обрушилась какая-то стена, которую я считала непоколебимой. Понимаете, я жила в уверенности, что папа вечный, как и наша жизнь, наша семья, что я пребываю в абсолютной безопасности, потому что папа всегда меня защитит, и любые невзгоды и проблемы воспринимала как решаемые. Всё это исчезло в одну секунду, и меня накрыло ощущение абсолютной брошенности: я должна была теперь со всем справляться сама.
Мне это ощущение стало понятным, когда я [в проекте Первого канала «Цирк со звездами»] ходила по канату: ты делаешь, делаешь, делаешь одно и то же много месяцев, у тебя прекрасно всё получается, с закрытыми глазами. Потом тебе говорят: «А теперь тот же канат, но без страховки». И вот одно ощущение, что у тебя больше нет этой веревочки, делает тебя в десять раз собраннее, сконцентрированнее, ты понимаешь, что больше нет шанса на ошибку. Это чисто психологическая вещь.
Когда папа умер, я уже жила самостоятельно, я и так шла уже без него по своему канату, но стена обрушилась, веревочка оборвалась: больше тебя некому защитить, дальше – сама.
– Но в последние два года жизни Собчак сам, как мне кажется, нуждался в защите.
– Я теперь это понимаю, да. Тогда я считала, что папа – мощный, гигантский, с ним ничего невозможно сделать, его невозможно посадить в тюрьму. Я, честно говоря, гораздо позже поняла, насколько мы действительно были близки к тюрьме. В то время мне казалось, что родители сильно нагнетают ситуацию.
– Они с вами разговаривали об этом?
– Нет. В этом была проблема. Они практически ничего не говорили, пытались меня от этого оберегать. О том, что с нами происходило в самый тяжелый момент их жизни, родители мне рассказали только спустя какое-то время. И у меня сложилась неправильная картинка в голове: я считала, что, рассказывая, они драматизируют произошедшее. Ну знаете, как все эти байки: я пошел на охоту, а тут – медведь, и я один на него с ножом!
Годы спустя я поняла, насколько жестокой была травля папы, как серьезно нависла над ним угроза тюрьмы. И какого на самом деле мужества родителям стоило молчать: продолжать сохранять иллюзию обычной жизни, устраивать мне какие-то там дни рождения… Знаете, фильм очень сильно дополнил ту картину, которая была у меня в голове, я много узнала о том, что на самом деле происходило с мамой и папой.
– В фильме несколько раз слышна ваша реакция на то, что говорят ваши собеседники: вы потрясены и некоторые вещи как будто слышите впервые…
– Это правдивое ощущение.
– Самым странным в этом смысле выглядит ваше интервью с мамой[66].
– Знаете, мы с моей мамой, в принципе, никогда так откровенно не разговаривали. У нас никогда не было такого длинного разговора про прошлое – сколько мы там проговорили, часа три или четыре? Это была такая психотерапия. Мама у меня сложный человек. Есть темы, на которые она не хочет говорить, потому что это больно и трудно, и она предпочитает молчать. Как ей откажешь в этом праве? Это ее способ защищаться от мира: мама всегда немножко барон Мюнхгаузен. Она много пережила, она может себе позволить уходить от ответов. Но мне поговорить с ней было очень важно. И я рада, что этот первый разговор у нас состоялся.
– На всех фотографиях и кадрах хроники, что остались от Собчака, хорошо видно, как ваша мама смотрит на вашего папу: это взгляд женщины, влюбленной как будто даже больше, чем позволяют приличия.
– Они всегда были влюблены друг в друга, сколько я помню. Я их не видела равнодушными. Мама обожала папу. Когда папа умер, она не то что замуж ни за кого не вышла, она ни в чью сторону просто не посмотрела. А она могла устроить себе более чем успешную личную жизнь, у нее были поклонники, которые даже меня атаковали: «Ксюша, почему мама не откликается, может быть, это ты против?» В нее был влюблен, и влюблен до сих пор, один достойнейший, симпатичнейший и вообще прекрасный человек. Всё без толку. Ей никто не нужен.
Она любит только отца. И любила всю жизнь – страстно, ревностно, совершая огромное количество ошибок из-за этой любви. Но по-настоящему. Знаете, я думаю, что мама любила папу больше, чем меня. Мне это немного горько, но это так.
– Вы общались в детстве со своей [старшей, от первого брака Анатолия Собчака] сестрой Машей?
– Нет. Практически нет.
– А сейчас?
– Во взрослом возрасте у нас тоже никакого, к сожалению, общения не вышло. На то были свои причины в прошлом. Когда я родилась, Маше было пятнадцать лет. Мама очень ревновала папу к первой семье. И она как следует постаралась, чтобы мы мало общались. Это был не мой выбор. Но я выросла в ощущении ревности к какой-то другой дочке папы. Мама могла, например, на мой вопрос: «А где папа?» ответить: «У Маши. Ты смотри, Ксюша, а вдруг он Машу больше любит?» И я ревновала невероятно. У маленьких детей это совсем не та ревность, что у взрослых. Это, скорее, ощущение недостатка любви. Недолюбленность.
Я часто сейчас об этом думаю. Я мозгами понимаю, что Маша – прекрасный человек, что она обожала папу и имеет на него право не меньше, чем я. Но я не могу переступить через свое детство. Удивительно: сейчас вы спросили, и я тут же вспомнила, что очень хотела позвать Машу на фильм об отце. Помнила, помнила… А в последний момент забыла. Не со зла. Так, видимо, подсознание сработало. Страшно в эту историю вернуться, непонятно, с какого момента начинать: мы были лишены друг друга в детстве, как теперь это наверстаешь? Своего детства я уже не изменю.
– Что вы помните об отце своего детства?
– Как я, увидев, что он спит у себя на диване, бегу к нему, забираюсь под бок и просто лежу или засыпаю, обняв его. А папа храпит. Он всегда храпел. Мне это нравилось. Мне нравилось его обнимать.
Я часто просила его положить мне руку на голову. Я любила это ощущение руки на голове. Оно невероятное: ты под защитой огромной, мужской, самой главной в твоей жизни ладони.
Еще помню, что он был совершенным ребенком. Когда в Петербурге появились первые снегоходы, мы были за городом, и какой-то приятель дал нам попробовать. Ну, мне дал, мне уже лет тринадцать было. А папа выхватил у меня этот снегоход из рук и сам понесся. Я кричу: «Пап, пап! Подожди, дай мне!» А он: «Ну Ксюша, ну пожалуйста, еще хотя бы один кружочек». Он очень хулиганистый был, и у него было редкое чувство юмора. Вот, наверное, всё. На таком расстоянии, как у нас, воспоминания бледнеют, стираются. Я помню мало.
– Вам нравилось быть дочерью мэра?
– Меня это бесило. В школе я даже училась под чужой фамилией: Оксана Парусова. Я даже Нарусовой отказывалась быть. Вся эта история мэрская – это моя настоящая детская травма. Я боролась с необходимостью ходить с охраной, ездить на машине с охраной, находиться под постоянным присмотром посторонних людей. Кульминацией всего кошмара был мой побег из дома, когда Виктор Васильевич Золотов [на тот момент начальник охраны Анатолия Собчака, ныне – глава Росгвардии, один из главных героев фильма «Дело Собчака»] вынужден был перекрыть город, потому что я умудрилась сбежать по-настоящему и исчезнуть на несколько дней. Меня искали, Питер был оцеплен.
– А куда вы сбежали?
– Я придумала целую схему. Вначале я зашла к Сереже Боярскому[67], они жили в одном доме с нами. Зашла якобы потому, что мне надо было на компьютере поработать. У нас не было компьютера дома, а у них уже был, и я иногда приходила к Сереже делать уроки. От Сережи, переодевшись «в прохожего», я вылезла из окна, чтобы охрана, которая сидела у нас в доме, меня не заметила. А потом на метро доехала до одной своей школьной подруги, она была из не очень благополучной семьи, никто из наших ее не знал. У нее я просидела несколько дней, пока служба безопасности во главе с Золотовым не выкурила меня.
– Как?
– Несколькими сообщениями на пейджер.
– Какого рода были сообщения?
– Дело в том, что пейджер нельзя было отследить. И никто не мог понять, где я. Мне сыпались на пейджер сообщения, но я никому не перезванивала, понимая, что меня ищут. Но тут вдруг среди тысячи этих сообщений появились сообщения от мальчика по имени Сережа. Сережа Борисевич, насколько я помню, его звали. Я была в него страшно влюблена. А он не проявлял никаких знаков внимания. И вообще был ко мне холоден. И вдруг он начинает слать мне какие-то такие сообщения: «Давай встретимся, очень хочу тебя увидеть…» И так далее. Я-то считала, что он никак ни с кем не связан, о моих чувствах к нему никто не знает. В общем, я перезваниваю ему предусмотрительно из телефона-автомата, он говорит: «Я так хочу тебя видеть, ты-ты-ты». И назначает мне свидание, я приезжаю. И… Это была, конечно, абсолютно кинематографическая сцена. Когда я была буквально в трех шагах от него, я вижу уже по его глазам: что-то не так. И он успевает сказать: «Ты меня прости, пожалуйста, но такая была ситуация». И на меня наваливается вся эта папина охрана.
– Что сделал дома папа?
– Папа был очень недоволен.
– Не очень себе представляю Собчака с ремнем.
– Нет, папа никого не бил. У меня с мамой происходили все скандалы, конфликты, войны, битвы. С мамой в тот момент были очень драматичные отношения именно потому, что я не могла принять ту реальность, в которой оказалась наша семья. Я отчаянно боролась и с этой реальностью, и с родителями, и со всем, что полагалось им, а значит и мне, по статусу. Папа говорил: «Ты моя домашняя Чечня».
– Чем ваши отношения с вашим сыном Платоном будут отличаться от отношений ваших родителей с вами?
– Степенью свободы.
– То есть у вас не было свободы?
– У меня как раз огромная степень свободы, выработанная в борьбе. Я очень сильный человек, потому что я победила своих родителей. Я выстояла. В принципе, любой человек на моем месте должен был бы сломаться и стать вялым, безынициативным ребенком, который живет на готовеньком, опираясь на связи родителей. Я свою жизнь живу сама. Я считаю, что справилась.
– Люди, которые разговаривают с вами об отце в фильме, занимают сегодня самые высокие посты в стране. Но в вашей жизни они появились значительно раньше, чем в нашей, да и в ином качестве: [президент РоссииВладимир] Путин был помощником Собчака, [Виктор] Золотов охранял вашего отца. Кстати, это, кажется, вообще его первое публичное интервью.
– Первое, да.
– Так вот, какие у вас сейчас друг с другом отношения?
– Слушайте, ну прошло восемнадцать лет! Я ни с кем не общаюсь из этих людей, у нас нет личных отношений.
– Но Путин обращается к вам «Ксюша».
– Для него я знакомый человек, из юности. И раз уж я появляюсь иногда в его вселенной, то он меня вспоминает. Это как, знаете, вы живете где-то в своем мире и вдруг прилетаете в аэропорт на своем частном самолете. И на стойке паспортного контроля в девушке, что штампует паспорта, случайно узнаете свою школьную подружку. И вы, конечно, говорите: «О, Ксюша, привет», – такое сентиментальное чувство из прошлой жизни. Поздоровались тепло – и пошли дальше. Всё!
Это действительно трудно понять со стороны: в моем прошлом мой папа был мэром города, а эти люди были его подчиненными. Но это осталось в моем прошлом. Думаю, что в прошлом Путина нас с мамой нет. Да и вообще, это противоестественно – мерить всё меркой прошлого. Ну, вот я маму спрашиваю: «Слушай, вы в девяностые общались с Ротенбергами?» А она: «Ксюш, конечно нет. Ты пойми, это был не наш уровень. Мы с Ростроповичем, со Спиваковым общались, с Плисецкой. Ну при каких обстоятельствах, да и зачем, я могла пообщаться с Ротенбергом?»
А сейчас и мама, и я – это не уровень Ротенбергов, как я понимаю. Я к этому стараюсь относиться как к естественному ходу вещей: я же ничего не сделала для того, чтобы родиться в той семье, в которой родилась. И не от меня зависело, что эта жизнь в какой-то момент закончилась.
– Для кого-то закончилась, для кого-то резко изменилась к лучшему.
– Ну это же справедливо. Если вы о том, что произошло конкретно с В.В. [Путиным], то это было справедливо. Мы можем, конечно, обсуждать, что из этого вышло, к чему привело страну, как всё пошло и куда зашло. Но то, что он стал президентом, – это закономерно. Он последовательно шел к этому успеху, и в этом есть доля некой справедливости.
– Но в фильме Путин, рассказывая о риске, на который шел ради спасения вашего отца от тюрьмы, говорит: «Я для себя никакой головокружительной карьеры не представлял».
– Да, не представлял. Но он был человеком, который работает с утра до вечера. Путин был тем, кому Собчак, уезжая на концерт к тому же Ростроповичу или Спивакову, мог доверить какую-то важную работу. И Путин сидел днями и ночами эту работу выполнял. Это заслуживает уважения и признания.
– Но ощущения, что Собчак с Путиным и с другими людьми, которые мелькают рядом с ним в кадрах хроники, были, что называется, «одной крови», не возникает.
– Понимаете, есть проблема: люди «одной крови» – они не могут тебе дать того, что требуется при управленческом типе работы. Я это как раз очень хорошо понимаю на опыте своего бизнеса и даже на опыте своей кампании. Когда ты яркий харизматичный лидер, то сколько еще людей такого типа тебе нужно рядом? Ну, может быть, два-три человека в команде. А работать-то кто будет? Кто будет сидеть и отвечать на письма в постоянном режиме, организовывать штабную работу, решать текущие вопросы?
Человек не может быть и суперсистемным, и суперхаризматичным одновременно, всегда где-то что-то будет хромать. Папа окружал себя грамотными управленцами, которые могли делать нудную, не очень интересную, систематичную чиновничью работу. Он подбирал по этому принципу таких вот въедливых профессионалов, как Путин. В каждом коллективе есть яркие люди, а есть те, кто пашет незаметно. Вы сами наверняка сталкивались: работает вся редакция, собирает по крохам какие-то факты, роет землю, верстает материалы, выпускает их. Но слава достается одному, а другие – незаметны. Вот Путин и был такой рабочей лошадью. Он много работал и был суперусидчивым. Такие люди заслуживают успеха. Это всё, что я могу сказать.
– Судя по тому, что все люди, так или иначе присутствовавшие рядом с вашим отцом на фотографиях или кадрах хроники – от [вице-премьера по вопросам строительства и регионального развития Виталия] Мутко до [председателя правления Сбербанка Германа] Грефа, – оказались во власти, дело не только в сентиментальных воспоминаниях. Быть «родней по юности» в этой системе координат – важный стартап. Своих не забывают.
– Думаю, в ощущении Путина он опекает мою семью. Ну как: он дважды в год звонит маме, поздравляет с папиным днем рождения, выражает соболезнования в день смерти, выделяет деньги на Фонд Собчака, издает папины книги, мама работает в Совете Федерации. Все приличия соблюдены. Поймите, я никого не защищаю и не пытаюсь выгородить, у меня нет никакого, как вы говорите, «стокгольмского синдрома».
– Я так не говорю.
– Ну не вы. Но так почти всегда говорят, когда имеют в виду эти отношения. Но, поверьте, я и не рассчитываю ни на какие особенные условия или подачки. Я как раз смотрю на всех этих сынков шишек, которые получают высокие посты, которых назначают куда-то в Газпром…
– В руководители министерств и ведомств!
– Ну неважно. Вопрос в другом: я бы сама никогда в жизни не могла представить, что для меня было бы приемлемым что-то попросить и для этого воспользоваться этими связями. Я правда так считаю и правда никогда этого не делала. Если бы я шла по этому сценарию, моя жизнь была бы совершенно иной. А с другой стороны, разве на основании каких-то прошлых отношений я вступлю в «Единую Россию» или подобного типа структуры? Скорее, наоборот.
Но меня ярость берет, когда я вижу, что люди, вот таким образом устраивающие свою жизнь, рассуждают про патриотизм и про будущее России. Вот на это, мне кажется, они совершенно точно не имеют никакого морального права.
– А вы имеете?
– Я – да. Я никогда не хотела жить за границей, никогда не хотела там учиться. Папа предлагал мне перевестись в Сорбонну, чтобы быть поближе к нему, когда после отъезда и операции он жил в Париже. И я очень жалею, что отказалась быть рядом. Теперь это время ничем не восполнишь. Но я не хотела никакой заграницы, никакой Сорбонны. При том что я хорошо знала французский. Я хотела быть в России. Я даже рожала в России. Мне все мои подруги говорили: «Идиотка! Финляндия, Америка. Есть деньги, есть возможности. Ты что?»
– Почему, кстати?
– Потому что мне важно быть, жить и оставаться на своей земле. В России. Звучит ужасно пафосно, но это так.
– Звучит действительно ужасно пафосно.
– Вот это «на своей земле» – да. Но это именно так, это мой главный и единственный аргумент. У меня нет никакого дополнительного гражданства «на всякий случай», я никуда не собираюсь. Я – патриот. И я уеду отсюда последней.
– Путин видел ваш фильм?
– Я не знаю, видел он его или нет. Честно.
– Мама, я так понимаю, видела. Что она сказала?
– Странная была реакция. Вначале ничего. Вообще ничего. Несколько дней она молчала. Потом сказала, что очень сильный фильм и очень ее тронул. Это для нее необычная реакция. Обычно она мгновенно реагирует. Видимо, фильм действительно ее тронул.
– В фильме есть ваша фраза, адресованная Анатолию Собчаку. Вы ее говорите как бы из будущего в прошлое: «Папа, ну зачем ты давал все эти интервью, почему ты выступал публично, неужели нельзя было прийти и с глазу на глаз поговорить и решить все проблемы?» Выходит, что вы, занимаясь теперь политикой, урок отца выучили: надо договариваться тихо?
– Не думаю. Мне кажется, я не усвоила отцовский урок – я постоянно на это натыкаюсь: какие-то мои слова, причем даже не всегда критические, очень ранят людей. И они это запоминают на всю жизнь, потом мстят. Это, возможно, не позволяет мне эффективно решать какие-то вопросы. Хотя, с другой стороны, я действительно говорю то, что думаю. И не лукавлю. Это, наверное, во мне чисто папина черта характера: сказать сразу прямо, что думаешь, не размышляя о последствиях.
– Вы снимали этот фильм уже как политик, то есть могли и с этой точки зрения оценить опыт Собчака.
– Нет, я совсем не как политик здесь выступала. Этот фильм – ни в коем случае не политическое заявление, и я, напротив, сделала всё возможное, чтобы он им не был. Мы с Верой специально думали над тем, чтобы максимально развести премьеру фильма с президентской кампанией.
– Я слышала, фильм снимали в обстановке строжайшей секретности, а отснятые материалы хранились в сейфе с кодом. Правда?
– Да. Я не хотела, чтобы материалы фильма были использованы в качестве агитации. Мы всё время с вами возвращаемся к этому вопросу, но было вот как: я вступила в президентскую кампанию, когда фильм уже был наполовину сделан. И я доделывала его как дочь и как журналист, а не как политик.
– Думаете, то, что ваш родной телеканал «Дождь» воспринял ваше решение участвовать в президентской кампании в штыки, тоже часть несходящегося пазла?
– В нашей стране (и мой фильм тоже об этом) внутривидовая борьба – самая жестокая. Наша интеллигенция ненавидит не Путина, хотя она говорит, что ненавидит именно Путина. Нет. Она ненавидит, если у кого-то из своих получается то, что не получается ни у кого другого. Все внутри ненавидят друг друга. «Дождь» с большей готовностью будет хвалить Путина, чем того, кто из рядов того же телеканала выбился и стал президентом России, или кандидатом, или получил работу в государственных органах. Если кто-то будет делать ровно такую же программу, как «Бремя новостей», то есть без цензуры, но – на федеральном канале, его проклянут. Это, наверное, какой-то наш генетический код. Если приводить жесткий пример, то фашисты уничтожали чужих, а самый страшный период нашей истории, период сталинских репрессий, был направлен на своих. Своих уничтожать сподручней.
Давайте честно, кого во время этой президентской кампании Навальный ненавидел больше: Путина или меня? Ну конечно меня! Кого ненавидят больше всех журналисты телеканала «Дождь»? Того, кто взял и пошел каким-то другим путем и стал претендовать на нечто большее, чем, как им казалось, он имеет право. У нас так всё устроено в стране, к сожалению. И фильм «Дело Собчака» тоже о том, как в определенный момент против отца с радостью объединились самые разные люди: силовики, армия, демократы. Просто потому, что он ни на кого не был похож: сильный, красивый, замахивающийся на нечто большее – такой человек у нас всегда ненавидим всеми. Вы не согласны?
– То, как выглядит Собчак на фоне других людей из девяностых, действительно производит огромное впечатление. Но в фильме не сказано, откуда у него этот вкус к одежде. И – что, может, даже важнее – откуда средства на такие роскошные вещи.
– Понимаете, до всякой политики, до перестройки, до всего этого мы уже жили как состоятельные люди. Мой папа не просто профессор, у него были две профессорские ставки, и он – это был единственный прецедент в университете – возглавлял одновременно две кафедры: юридическую и хозяйственного права. По тем временам отец получал около тысячи рублей. Мама была доцентом в Институте культуры. Она получала триста пятьдесят рублей. Кроме того, мама давала частные уроки: учила русскому языку иностранцев, некоторые из них ездили, например, в Париж. Иногда они платили по бартеру: привозили какие-то вещи, духи французские. У мамы всегда были только французские духи и помады. Посмотрите на фотографиях – у мамы пальто Pierre Cardin в гусиную лапку. Она так одевалась.
У родителей даже была семейная байка про то, как они поженились, мама только забеременела мною и вдруг решила проявить хозяйственность: починить какую-то прохудившуюся то ли сковородку, то ли сито. Это называлось «лудить». В общем, с этим ситом, во французском пальто в гусиную лапку, она поехала на такси в металлоремонт. Заходит, а мастер ей говорит: «Мадам, что желаете лудить?» Когда она вернулась домой, папа хохотал: «Ты вообще понимаешь, что поездка на такси в мастерскую и обратно стоила больше, чем это сито?» Но мы так жили. Своей машины у нас не было не потому, что это было дорого, а потому, что, ну, как бы зачем свой автомобиль, когда можно ездить на такси?
Но это пальто в гусиную лапку маме будут долго припоминать. Людям будет казаться, что оно появилось в результате того, что папа был избран мэром: «Вот какая власть в городе: мы тут нищенствуем, а они жируют». Но наша жизнь, повторюсь, была такой до всего этого: мы были богаты, папа читал мне в первом классе Монтескьё на ночь, такая была в доме атмосфера, все любили французское, европейское.
Я, кстати, хорошо помню свой первый класс, 1987 год. Еще нет никаких выборов, никто не знает Собчака, он никакой не мэр. Я хожу в школу пешком, мы живем в трехкомнатной квартире на Кустодиева, 23, где есть раздельная ванна с туалетом, гостиная, где у меня уже есть отдельная комната.
– Это об этой квартире ваша мама в фильме говорит: «Мы сидим на маленькой кухне на Кустодиева»?
– Ну да, но это по теперешним меркам, может, и маленькая кухня, а по тогдашним – большая, метров двадцать, наверное. Обои у нас в квартире были рифленые, у меня – бархатная розовая постель. На мне французская одежда, которую мама покупала у спекулянтов в магазине «Альбатрос». Мы вообще не носили отечественные шмотки, всё покупалось только заграничное.
Это, кстати, важно, чтобы понимать: папа восставал против Советского Союза во имя ценностей свободы, а не по каким-то другим, материальным соображениям. Он даже не мог сразу защитить диссертацию, которая была посвящена свободной, полурыночной экономике, ему ее зарубили. Со второго раза защитился.
– Я правильно понимаю, что ваши родители не были диссидентами?
– Нет, в классическом смысле – нет. Мы были академической интеллигенцией. Богатой академической интеллигенцией.
– Вы очень боитесь бедности?
– Для меня деньги никогда не являлись главным в жизни. Этому есть подтверждение. Был случай, когда я могла выйти замуж за супербогатого человека, но сбежала за неделю до свадьбы. И променяла это всё на человека крайне небогатого просто потому, что… Ну, для меня это никогда не было первостепенным.
Но для меня деньги имеют значение с точки зрения некоего уровня жизни, – хотя бы потому, что я не знаю, как жить на другом. Оказавшись в ситуации, когда мне надо будет самой стирать вещи или вдруг ехать на метро, я не буду знать, как с этим справиться. Я правда не знаю, как ездить на метро, как разобраться в каких-то чертежах-схемах, которые там изображены. Я действительно спускалась в метро всего несколько раз в жизни. Я этим не горжусь, не кичусь и не понтуюсь. Но я родилась в такой семье и так выросла. Так было всегда, другой реальности у меня просто не было. Многие меня за это осуждают. Но это не мой выбор!
Возможно, поэтому я сочувствую и сострадаю бедным людям даже больше других: я не могу себе представить, как это тяжело, когда ты всегда так живешь.
– В этом смысле, думаю, президентская кампания была для вас довольно познавательной.
– Это как раз было для меня самое тяжелое: увидеть, как живут люди. Я рыдала, меня тошнило, у меня поднималась до сорока температура. Мне было очень сложно совладать с собой, когда я столкнулась с такой вопиющей бедностью. Для меня это было и откровением, и испытанием сразу. Это выматывало невероятно. У нас в команде люди заболевали, падали в обмороки, мы все были на грани. Могу сказать, что у меня такого напряжения не было никогда в жизни, а я очень стрессоустойчивый человек.
– То есть ваш кругозор на тему «как вообще люди живут» расширился.
– Послушайте, я не Мария-Антуанетта: «Нету хлеба – ешьте пирожные». Я понимала, конечно, что живут тяжело. Но когда на протяжении нескольких месяцев ты изо дня в день погружаешься в этот ад, это совершенно другой уровень понимания. Ты видишь, что люди живут не просто в нищенских условиях, они живут без горячей воды, в обваливающихся помещениях, с крысами в комнате общежития, где пахнет грибком, где на стенах плесень и так далее. И ты в этот момент работаешь таким пылесосом человеческой беды, проблем, нужд, к тебе всё время приходит только эта энергия: «У нас беда. Помогите, решите, скажите, сделайте. Вы что-то сделали? А вы это уже сделали? Вы это решили? Вы помогли? А когда поможете? А я уже в третий раз к вам прихожу. Ну и что, что до меня была тысяча человек?» Я боялась сорваться, не понимая, как можно вместить в себя столько человеческого горя, нищеты, бедности, болезни…
– Как вы сами себе объясняете сейчас, зачем вам была нужна эта кампания?
– Я это делала абсолютно не для себя. Я делала это потому, что я правда считаю, что это огромный пример другим людям: нужно выходить, говорить, не бояться идти вперед и делать так, чтобы идеи, которые мы считаем правильными, были озвучены. Мы не очень много можем в существующей действительности поменять, но что-то можем. Чтобы понять, что именно, я и провела на себе этот страшный и тяжелый эксперимент – участвовала в этой кампании. Но знаете, кто-то же должен: есть люди, которые привязывают себе крылья, падают, ломаются, но потом благодаря им у других людей есть самолеты; есть другие люди – они вкалывают себе вакцины, которые потом кого-то спасают. Кто-то должен проверять на себе политику в современной Российской Федерации и отодвигать грани возможного, не бояться. В этом смысле я горжусь своей кампанией и не считаю ее проигрышной.
– Результат в 1,6 процента голосов вас не обижает?
– Мы никогда не узнаем, насколько этот результат отражает реальность, какое имеет эта цифра отношение ко мне и к моей кампании. На мой личный взгляд, никакого.
Это был такой мой акт самопожертвования, важная часть моей жизни, важная часть в том числе и моего разговора с отцом о том, как всё должно быть. Я буду и дальше продолжать делать то, что я делаю. Сейчас, конечно, всё это уже не будет звучать так громко просто потому, что после выборов карета традиционно превращается в тыкву.
– Что значит карета превратилась в тыкву? Разве участие в президентской гонке не открыло для вас новые возможности? В конце концов, участие в выборах – это не «Дом-2», который вам, видимо, будут припоминать до старости.
– Да нет, вы не понимаете, видимо. До кампании были планы на запуск некоторых проектов, сейчас никто ни о чем таком со мной не говорит. Так это работает. Но я ни о чем не жалею.
Как не жалею и о том периоде, который вы упоминаете. Это, в принципе, был странный период жизни; да, тяжелый, но одновременно веселый и хороший. И я не могу, да и не хочу вернуться туда и что-то сделать иначе. Хотя, безусловно, я закрыла этим для себя какие-то возможности.
– Например?
– Например, возможность входа в серьезную журналистику не таким сложным путем, через оппозиционный телеканал «Дождь». А учитывая, что я всегда хотела заниматься журналистикой, я могла бы сделать эту карьеру быстрее и, может быть, большего достигнуть.
– Чтобы быть сейчас кем? Условной Юлией Меньшовой?
– Нет, ну при чем тут Меньшова? Условным Венедиктовым или Познером: человеком, который, с одной стороны, имеет платформу для высказывания своих мыслей, а с другой – придерживается либеральных взглядов.
– Что вам особенно запомнилось в процессе вашей кампании или стало для вас уроком?
– Удивительным было то, что людям не нравится, как они живут, но им нравится Путин. А больше всего поразило, что во время моей кампании ко мне шли ходоки и передавали письма для Путина.
– Ну, это как раз понятно: они хотят поменять свою жизнь, но не хотят менять Путина.
– А вы не видите противоречия в том, что те люди, которые хотят поменять и свою жизнь, и Путина, – это, как правило, креативный класс, который изначально не супербеден?
– Про это обычно и говорят: недовольное меньшинство. А потом прибавляют: не нравится – уезжайте.
– Но я не хочу никуда уезжать! Я нигде, кроме России, не чувствую себя счастливым человеком. За границей мне хорошо максимум неделю-две, когда я приезжаю, встречаю всех своих друзей, которые там теперь живут, и мило уезжаю обратно. Но главная цель жизни человека – это счастье. И в России, даже в этой борьбе, видя весь этот ужас, понимая, что здесь ситуация может мгновенно поменяться и я могу просто потерять саму возможность здесь жить, я всё равно чувствую связь с этими людьми, с этой землей, с тем, как здесь всё устроено, с менталитетом людей. Чувствую себя очень русским человеком.
Это интервью несколько раз прерывалось: в ресторане, где мы встретились, настраивали аппаратуру музыканты. Собчак пыталась остановить саундчек: сперва через официанта, потом – через администратора и, наконец, лично.
Звуки ненадолго затихали, но вскоре возобновлялись.
После бурной эмоциональной тирады, произнесенной Собчак в адрес музыкантов, официантов, администратора и ресторана, выяснилось, что аппаратуру настраивают для закрытого концерта Сергея Шнурова: музыкант тоже решил не оставаться в стороне от ПМЭФа.
В конце концов на переговоры об уровне шума пришел сам Шнуров. Они тепло обнялись с Собчак, попросили сфотографировать их для Инстаграм. Впрочем, к этому моменту интервью уже закончилось.
Интервью шестнадцатое Людмила Алексеева
Я позвонила по телефону. Она сказала: «Я сейчас ни с кем не встречаюсь. Тяжеловато. Но я о вас слышала, у вас хорошая репутация. Приезжайте». Я так разнервничалась, что приехала за два часа до назначенного.
Большая светлая, полная шепчущихся портретов и фарфоровых статуэток с историей квартира. «Проходите, проходите, Людмила Михайловна ждет».
Она лежала. Я испугалась. «Вам точно удобно говорить?» «Важно, чтобы вопросы были интересными, чтобы мне было что говорить», – ответила тихим голосом Людмила Михайловна Алексеева, одна из самых известных диссиденток страны, сооснователь Московской Хельсинской группы, непримиримая и непокоренная, уникальным образом лишенная возраста, величия и высокомерия.
Тогда я подсела поближе и попробовала начать.
[68]
– Мне страшно не нравится фраза «в России нужно жить долго». Но обычно кивают как раз в вашу сторону: вот Алексеева своими глазами увидела перемены.
– А потом перемены эти как будто сдали обратно свои позиции. Вы про это?
– Совершенно верно. Получается, что жить-то надо долго, но не слишком заживаться. Иначе увидишь, как всё хорошее заканчивается и становится более-менее тем, чем было.
– Ой, ну в России и вообще в мире разрушить что-нибудь легко до чрезвычайности! На строительство же чего-то хорошего требуется много сил, времени и, главное, терпения. Так что жить надо долго, Катя!
Если б я не жила долго, я бы, наверное, была пессимисткой. А я оптимистка. Я даже в откатах к старому вижу перемены к лучшему.
– Приведите пример.
– Вот я двадцать пять лет прожила при сталинском тоталитаризме. Сейчас часто говорят и вы, наверное, тоже так говорите: всё вроде как возвращается на тот же круг. Да, на тот же. Но куда им до Сталина! Кишка тонка. Вы этого оценить не можете, вы при Сталине не жили. А я, прожив долго, вижу, как медленно, мучительно, с возвращениями назад, но движемся-то мы в лучшую сторону. Сейчас лучше не только чем при Сталине, но даже чем при Брежневе: тогда за правозащитную деятельность давали семь лет лагеря и пять лет ссылки без права возвращения в Москву или Питер. А сейчас: ну что они сделают? Ну агентом объявят, ну жизнь испортят. Но они уже не смогут нас так изводить, как раньше. Меня, конечно, поражает еще, что хоть мы и иностранные агенты и такие-сякие, но президент приходит поздравлять меня. И относится, представьте себе, даже с теплотой.
– Вы прямо почувствовали его теплоту? Он не похож на человека с эмоциями.
– Знаете что, Катя, у меня есть подозрение, что я ему напоминаю его бабушку. Иначе не могу объяснить себе, почему мне прощается и то, что я не разделяю идей про «крымнаш», и то, что я говорю об этом прямо, и то, что я еще много чего не разделяю. И никогда себя не сдерживаю, высказываясь без обиняков о том, с чем не согласна, говорю так, как я думаю. Но мне это, можно сказать, сходит с рук. Меня слушают. И даже – приходят поздравлять, чествуют, оказывают какие-то знаки внимания. Я, правда, признаюсь, сама в этот раз попросила: «Ради Бога, чтобы мне в этот юбилей[69] не давали ордена, как положено. А то за орденом придется ехать в Кремль, а мне трудно. Пусть лучше президент вместо этого поздравит меня по телефону, потратит две-три минуты».
Она приподнимается, просит принести подушку, просит включить свет, просит меня подсесть поближе: «Хочу вас разглядеть».
– Зачем вам надо было встречаться с Путиным?
– Ему хотелось меня поздравить.
– А вам зачем?
– А мне очень надо было лично его попросить: «Помилуйте Изместьева». Знаете, я не политик, я правозащитник, я не смотрю, кто там лучше, кто там хуже, и не выбираю, с кем мне говорить, а от каких разговоров отказываться. С любыми буду говорить. И я уверена: чем хуже режим, тем больше нужна наша работа. Тут уж вы меня не переубедите.
– Да я не пытаюсь. Но исходя из масштабов вашей жизни, мне кажется очевидным, что цель, к которой вы стремились – соблюдение гражданских свобод, отсутствие наказаний за инакомыслие, невозможность самого факта существования в стране политзаключенных, – была в свое время практически достигнута. А сейчас мы опять говорим о политзаключенных, преследовании инакомыслящих, мощнейшей цензуре и общей несвободе.
– Когда мы начинали свою правозащитную деятельность так называемую, то придумали один тост: поднимали рюмку со словами: «Выпьем за наше безнадежное дело!» Говорили, конечно, иронично, но это было правдой: вся моя жизнь к тому моменту приходилась на советское время и о том, что это советское время при моей жизни может закончиться, не было даже и мыслей. Да и, откровенно говоря, не было никакой конкретной цели, про которую мы бы думали: вот этого надо достичь. Я не считала, что мы хоть чего-нибудь достигнем.
– Не считали, что можете, или не хотели чего-то конкретного?
– Что значит «не хотела»? Хотела, но знала, что не могу. А идея у меня была такая: хочу про себя знать, что я живу так, как считаю нужным. И чтоб мои дети и те, кто меня любит, знали, что я живу по совести. Всё.
– Страшновато было?
– Сначала – да. Я очень ареста боялась. Потому что я с мужем разошлась, у меня было двое детей. Расходясь, я сказала мужу, что буду сыновьям и папой, и мамой, они получат образование и всё будет у них нормально. И вот я всё время думала: а что же будет, если меня арестуют? Это же, значит, не только я сама в лагере окажусь, но и им не дадут поступить в университет, выгонят из Москвы, вся их жизнь на фиг полетит. Это меня очень смущало. Как быть? Я думала-думала и придумала.
– Что?
– Да всё просто очень! Я подумала, что мои дети состоят не из одного желудка. Им надо знать, что их мама – честный человек. Вот и всё.
– Этого оказалось действительно достаточно?
– Моя подруга американская как-то спросила моего младшего сына, как ему было жить с матерью, которой всё время что-то надо, которая куда-то бежит вечно, едет, борется. Он, уже профессор, дедушка (так что я прабабушка), подумал и ответил ей: «Нам вовсе не плохо было. Мы ориентировались друг на друга, а мама… А чего? Мама правильно жила». О! Правильно, значит. «Здорово», – думаю я. И я довольна.
– Это тот сын, который Михаил, Майкл? Он живет в Америке, так?
– Да. Знаете, рыба ищет, где глубже, а человек – где лучше.
Это только я сюда [после эмиграции с 1977 по 1989 год] вернулась, это мне здесь надо, в этой стране. А мои дети – нормальные дети, они там и остались. Всё правильно. Каждый должен жить там, где он хочет.
Миша сейчас совсем уже седой, мы с ним по телефону раз в неделю обязательно разговариваем, в субботу-воскресенье он звонит. Он преподает в университете экономику. Очень любит свое дело: и экономику, и преподавать.
– Он – уже совсем американец?
– Он уехал в двадцать три года, а теперь ему шестьдесят семь. Кто он? Черт знает. Я его спрашиваю: «Ты по-каковски думаешь? По-русски или по-английски?» Отвечает: «Когда про тебя – по-русски. А когда про экономику – по-английски». И я ему: «Знаешь, я очень за вас рада. Вы живете там, где хотите, заняты тем, чем считаете нужным». А он говорит: «Нет, мама, дети должны в жизни достигать большего, чем родители. Тебя во всем мире знают. А я что? Профессор экономики». Во как! То есть он считает, что он не дотянул до мамы. Это мне, конечно, досадно слышать.
По чести говоря, вот уж чего я, начиная всю эту заварушку, не ждала, так это того, что будет известность и президент поздравлять меня будет приходить. Почему это всё? Необъяснимо. Я ведь даже не сидела, я не пострадала, как другие. Несправедливость в этом есть какая-то.
– Когда к вам стала приходить известность?
Алексеева приподнимается, отбрасывает подушку, садится прямо. Теперь я рассматриваю ее: красивая, румяная. Мне принесли чаю. Она вдруг деловито замечает: «Мне нравится, что у нас с вами личный разговор, по существу. Ненавижу интервью на отвлеченные общие темы».
– Это в эмиграции началось. Я, если честно, не очень хотела этой эмиграции, но там как-то всё закрутилось, сын младший мой тоже очень деятельное участие в этом принимал. А я всё думала: вот чего я там, в этой эмиграции, делать буду? Кому я там нужна? При этом выехала я из СССР как зарубежный представитель Московской Хельсинской группы. И, надо сказать честно, эмиграция эта в итоге была для становления моей личности очень полезной, но это я теперь понимаю. До отъезда я как-то про эти дела мало думала: личность я там или не личность, на весь я мир вещаю или только на часть – неинтересно было. Потому что передо мной всегда были Лара Богораз и Юра Орлов. И я ощущала себя при них – искренне и без всякой там обиды или задней мысли – рабочей лошадкой. Да-да, вот я рабочая лошадка, я буду делать всё, что они считают нужным, и всё будет хорошо. Я так ими восхищалась, так их ценила, так доверяла и доверялась им, что ни о каком моем выпячивании или даже просто – самостоятельности – речи не шло. А тут – бах! Сама. Из эмиграции-то особенно не позвонишь, совета как быть не спросишь. Письма идут по три месяца. Хочешь не хочешь, надо действовать самостоятельно. И вот я там научилась этому – брать на себя ответственность, отвечать за слова, ну, как-то выросла, что ли.
– Каким образом?
– Ну а как? Я – представитель Московской Хельсинской группы, я обязана! Вот я и лезла всюду. Группа иногда довольна, иногда ругали меня, потому что они, сидя «здесь», не понимали, что я делаю «там». Но я потихоньку научилась даже отвечать, даже защищать свое мнение. Допустим, они мне говорят: «Вот там у тебя слишком политизированно получилось». А я им отвечаю: «Это вам отсюда кажется. Никакой политики». Да и не интересовала меня политика никогда.
– Как можно заниматься правозащитой, общественной деятельностью, гражданским активизмом, не увязая в политике?
– А я вам сейчас объясню! Как-то у меня с Сережей Ковалевым в «Мемориале» при стечении народу возникла полемика. Он говорит: «При этом ужасном режиме – значит, при нынешнем – ничего нельзя сделать, всё бесполезно. Надо режим менять, иначе…» А я ему: «Знаешь, Сережа, я с тобой согласна, режим надо менять. Но ты вот и занимайся этим. Я тебе желаю успеха. Но я на это ни сил, ни времени тратить не буду. Пока вы смените режим, это еще сколько пройдет! А люди сейчас мучаются от этого режима, и жизнь их коротка. Им надо прожить ее так, как им хочется. И если их давит каток, надо помочь им выбраться. И я буду этим заниматься».
– То есть не каток сломать, чтобы всех не передавил, а конкретного, уже попавшего под каток человека попробовать вытащить?
– Ага, идея такая. Ну не могу я любить человечество и не любить отдельных людей. Конечно, я человечество очень даже люблю и уважаю, но это такая же абстрактная идея, как свержение режима.
– Это как в апокрифической истории, когда Елена Боннэр напомнила Наталии Солженицыной о том, что по утрам она варит кашу своим, совершенно конкретным детям, а не всему русскому народу. Дескать, это – конкретно, а остальное – абстракция.
– Женщины часто лучше управляются с простыми вещами и таким образом решают сложные задачи, кстати.
– Может, дело в том, что очевидную ежесекундную помощь тому, кто прямо сейчас нуждается, чаще выбирают женщины, а путь большой борьбы со вселенским злом – мужчины?
– Не знаю. Не думаю. Никогда в таком контексте об этом не размышляла. Но знаете что, я никогда не жалела, что была женщиной. Мне нравится! Знаете, почему?
– Почему?
– Я как-то у нас в Московской Хельсинской группе, когда мы все вместе отмечали Восьмое марта, такой тост сказала: «Мне нравится быть женщиной, потому что я совершенно точно знаю, что мои дети – это мои дети. И никто меня не обманет!»
Тут она взяла меня за руку: прохладная, тонкая и очень красивая рука. «Мне говорили, у вас много детей?» – спрашивает она. «Четверо», – отвечаю.
– Четверо? Вот так да. Не похоже. Вы счастливы в материнстве?
– Мне кажется, я многое упускаю.
– Идите, детка, обниму вас. Материнство для женщины вашего толка – это сложная штука: испытание на способность заниматься несколькими делами одновременно, сидеть на двух стульях и не упасть между. Понимаете?
Я понимаю. Про себя думаю, что вот-вот упаду. Но хватаюсь за паузу и спрашиваю ее:
– Материнство свое вы воспринимали как привилегию или как обязанность?
– В детстве я всегда говорила: «Когда выйду замуж, у меня будет пятеро детей». Почему-то я так решила: «Пятеро». Потом подросла, огляделась вокруг хорошенько: соображаю, что мама у меня – кандидат физико-математических наук, не тетка какая-то, которую из деревни позовешь с детьми сидеть, понятно? Тогда я подумала: «Ну какие пять?! Трое!»
– Из чего вы исходили в своих расчетах?
– Из того, что каждый ребенок – это пять лет жизни. Никакая нянька или домработница маму не заменит. Пока ребенку пять лет не исполнится, ты привязана. Счастье, если бабушка рядом. Но так бывает редко в нашем кругу.
– Я читала, что рождение детей позволило вам отключиться от переживаний, связанных с осознанием тяжелой политической и общественной ситуации, страха и безысходности конца сороковых – начала пятидесятых.
– В какой-то степени, Катя, я себя уговаривала, что это так. Еще я себя убеждала, что это очень почетно – растить детей. Но это всё, конечно, иллюзии. Я – работающая женщина в третьем поколении. Это сейчас как будто бы не исключение, но я всё-таки родилась в 1927 году. Тогда женщины не работали и не очень стремились! Но моя бабушка работала кассиром, поскольку муж умер, а на ней было трое детей. Мама моя тоже работала всю жизнь: была сперва учительницей, а потом – научным работником. Она просто-таки была влюблена в свою математику. Хотя, думаю, математика не была для нее важнее меня, она была хорошей мамой. Но я – нет. Конечно, когда я сидела с детьми дома, я теоретически хорошо себе объясняла, что всё это очень важно, очень интересно и вполне достаточно для счастливой жизни. Но это неправда. И пока не было у меня работы – был такой период, целых полтора года, – я знаете как плакала?!
– Почему?
– Такой темперамент: нужно работать, работать хочется. Я так страдала, пока у меня только один сын был, что подумала: «Кончатся все эти мои страдания тем, что будет мой Сережа расти один, как я росла». А ничего хорошего в этом нет! В общем, когда Сереже было пять с половиной лет, родился у него братик Миша. А если бы я поменьше рефлексировала и была порасторопнее, можно было бы одного за другим и троих родить. Но это я теперь так думаю.
– Вы говорите, что ваша мама была хорошей матерью. Что это значит?
– Она была совсем на меня не похожа. Интроверт. Не умела вот это всё: лизаться или какие-нибудь там тюти-мюти, понимаете? Я, кажется, даже не помню, чтобы мы обнимались. Пока я была маленькая, мы только переехали из Евпатории и жили в Останкине, в бараке таком двухэтажном. Сейчас смешно сказать – это была 3-я Новоостанкинская улица, где теперь гостиница «Космос», но тогда – совсем задворки. До трамвая пешком двадцать минут, а потом на трамвае до города – еще сорок минут. И когда родители утром уходили, мы говорили: «Мама уехала в город». В город! Вот что, кстати, Катя, значит долго жить! Теперь это чуть ли не центр.
– А перед уходом на работу мама вас целовала, например?
– Нет. Не помню. Скорее, нет. Тогда они работали шестидневку. В воскресенье дома были. У нас были две комнаты, одна проходная. В проходной жили мы с бабушкой, в задней – папа с мамой. Хорошо помню, как я забегу в их комнату: мама сидит там чего-то делает со своими дифференциальными уравнениями. Я залезу к ней на колени: «Мамочка!» А она: «Ой, не дави меня. Ой!» Она не умела переносить вот этот телесный контакт. Но она меня любила. Знаете, Катя, я помню, как в эвакуации мы с мамой вместе ходили в коммерческий магазин. Надо было вдвоем идти, потому что всё, что там давали, давали только «в одни руки» – так тогда говорили. Вот мы настоимся на морозе, получим эту колбасу, принесем домой, мама отрежет мне первый кусок, я его тут же жадно – в рот. Потом отрежет себе кусок вдесятеро меньше. И он всё лежит на тарелке. «Ешь, ешь», – она мне говорит. «Мам? А ты?» – «Я уже наелась, спасибо». Понимаете?
А еще один раз она шла домой, хлеб несла, черный такой, очень страшный. И какой-то мальчишка-ремесленник подлетел к ней и начал отнимать эту авоську с хлебом. И она с ним подралась. Это в Ижевске было. Она с ним дралась и хлеб этот свой страшный отбила. А потом пришла домой и плачет: «Он же голодный был. Я бы ему отдала, если бы это только мой был хлеб. Но там и ваше было». А мы тогда с ее сестрой и тамошними родственниками жили. Вот она такой человек была, хороший. Помогала всем. Хотя и не от мира сего: вечно со своими уравнениями в голове.
– Что происходило у вас дома, когда кругом шли аресты времен Большого террора? Вы видели, чувствовали, что что-то не так, или родителям удавалось вас беречь?
– Вы не понимаете, что значит сталинское время. Для этого жить надо было тогда. Это ужас. И вот чего я точно знаю, что это время – оно уже совершенно точно не вернется. Я вам про себя расскажу – мы ведь не пострадали никаким образом в Большом терроре. Можно даже сказать, наоборот. Когда мне было десять лет, то есть в 37-м, всё начальство в Центросоюзе, где мой отец работал референтом у какого-то майора, арестовали и расстреляли, а дом начальства этого центросоюзовского был в Николощеповском переулке. И, стало быть, освободились площади. И отцу вместо останкинского барака дали две комнаты в трехкомнатной квартире начальника, которого арестовали и расстреляли. А его жену и дочку из трех комнат переселили в одну комнату. Так мы стали столичными жителями. Жуть же?
Я думаю, уверена, что мои родители весь этот ужас понимали. И друг с другом говорили. Но мне и бабушке никогда ни одного слова. Почему я так думаю? Совсем недавно, уже старой женщиной, я вспомнила: у отца над столом письменным висел портрет Ленина, а не Сталина. По тем временам – фронда. И у меня в комнате родители не повесили ни единого портрета кудрявого там Сталина или чего-нибудь такого. Ничего. Но и говорить ничего не стали. Думаю, чтобы защитить.
А потом это повторилось, но уже наоборот. Когда я выросла и стала тем, кем стала, мать моя была членом КПСС, взносы платила, общественной работой занималась, всё как положено. И я всё думала: мать не должна знать, чем я занимаюсь, она будет бояться, это разрушит ее мир, за это ведь арестовывают и все такое. Надо, в общем, всё делать по секрету.
И ничего, конечно, дома не рассказывала и виду не подавала. Но вот когда создали Московскую Хельсинскую группу и я туда вошла, кто-то из знакомых моих говорит: «Представляешь, по Би-би-си передавали, у нас какую-то группу создали». Я так перепугалась: у матери же есть приемник, сейчас она всё поймет.
– Откуда у мамы вашей в те годы был такой приемник?
– Дело в том, что она вместе с десятью другими математиками написала задачник для студентов технических вузов по математике. И этот задачник переводили не только в странах соцлагеря, но и во всякой Бразилии и Аргентине. И деньги за них капали на сертификаты, которые можно было отоварить в «Березке». Мать обычно мне отдавала эти сертификаты, она была равнодушна к шмотью. А я накупила всякой ерунды: китайский зонтик, духи. Но какие-то сертификаты мать зажала и купила себе приемничек, по которому можно было слушать вражеские голоса. И она слушала! И вот я перепугалась, что она услышит всё про меня. Спрашиваю у своих: «А что говорили про группу-то? Сказали, кто вошел?» – «Да вроде говорили, что Григоренко, Боннэр и Гинзбург». Короче, слава Богу, меня не назвали. А кто я такая была? Рабочая лошадка. И я выдохнула: «Мама не знает».
– Но она же узнала в итоге?
– Я не помню, как она узнала. Но она мне говорит: «Люда, мне сказали, что вот такое дело, ты в такой-то группе». Я: «Мам, ты извини, я просто не хотела тебе говорить, потому что ты член партии, тебя будут вызывать. Лучше будет, чтобы ты ничего не знала».
Слышу, как она ночью ворочается, не спит, думает. Утром сын ушел в школу, муж мой на работу, мы остались с ней вдвоем. И она мне говорит: «Люда, я подумала. Ты права. Лучше давай, как будто я ничего не знаю». И так у нас было дальше: я ничего не рассказываю, она ничего не знает.
– Невероятно.
– Дальше было совсем невероятно. Но сперва нужно рассказать про квартирный вопрос. Ведь мама моя в обычной жизни жила не с нами, а одна. Около Бауманского института, в котором преподавала. У нее была плохая, но изолированная однокомнатная квартира. Мой старший сын тоже учился в этом Бауманском. Когда бывала сессия, он уходил из дому, где был младший ребенок, гвалт и шум, селился у бабушки. И с друзьями там готовился к экзаменам. Мама моя перебиралась на это время ко мне. А мы жили в хрущевке такой, знаете, где стены как из папиросной бумаги. Мама с моим младшим сыном в одной комнате, мы с мужем – в другой.
– Прямо как в вашем детстве: всё повторяется.
– Да-да, вот этот импринт, наверное, меня так мобилизовал, что я решила освоить профессию маклера. И научилась обменивать квартиры, чем страшно горжусь.
– Вы – маклер?
– (И тут у нее загораются глаза.) А вы не знали?! Вот я сейчас иногда, на десятом уже десятке, думаю: а вдруг я всё время не тем занималась? Шучу, шучу. Но талант у меня определенно был. Денег у нас не было совершенно. Но я была неглупой. Уж точно не дурнее их! Я ходила, смотрела-смотрела, как эти маклеры действуют, и научилась. Вначале обменяла две наши комнаты в очень хорошей коммунальной квартире со стервозными соседками на отдельную квартиру вот в этой «хрущевке» поганой. Отдохнула годик. А потом обменяла эту жалкую «хрущевку» в трех троллейбусных остановках от метро «Войковская» на изолированную квартиру в шестнадцатиэтажном доме около метро «Университет». Тут уже мы собрались уезжать, и я решила последний раз тряхнуть своим умением обменивать квартиры и оставить маме свою шикарную двухкомнатную на Арбате. Младший сын уезжал со мной, а старший женился, и ему тоже надо было квартиру. Тогда я обменяла мамину поганую однокомнатную на двухкомнатную для старшего сына в районе «Аэропорта», а маме, значит, как я и планировала, оставалась моя квартира. Но последние месяцы перед отъездом она жила с нами, потому что ее квартира уже ушла, а наша от нас еще не освободилась. Сейчас я подхожу к «невероятной» истории: вот, значит, у меня в доме пресс-конференция Московской Хельсинской группы. Журналисты, сами понимаете, – в моей большой комнате. А мама сидит у себя в комнате и ничего не знает. Пресс-конференция заканчивается, журналисты уходят. Мама примерно через час берет свой приемник, настраивает и выясняет, что, собственно, только что происходило у нее в доме.
– Она успела сказать, что гордится вами?
– Мне рассказывали, что она говорила людям – я сама этого не слышала, потом рассказывали, когда я вернулась, – «Моя дочь – Людмила Алексеева, зарубежный представитель Московской Хельсинской группы». Вы понимаете? То есть она всё знала. И она считала, что я правильно живу. Она меня не осуждала. Просто не говорила об этом мне лично. Такой человек.
– Насколько реально было прожить жизнь в СССР, не вступая ни в какие отношения с советской властью?
– Не знаю. В моей жизни всё было: и в партию я вступила, когда верила во всё это. А потом, в 1968-м, меня и из партии выперли, и с работы.
– Вы искренне вступали в партию или из каких-то бытовых, карьерных соображений?
– Искренне, конечно. Я была очень правильным советским ребенком: пионеркой, комсомолкой. Ну, там, как положено, горячо любила Родину, считая партию и все эти идеологические штуки неотделимой частью этой любви. Очень тяжело переживала, что не вышла возрастом быть на фронте во время войны. Однако после войны меня стали грызть неотчетливые сомнения всякие. Я всё время об этом думала, много читала, разговаривала с теми, кто, как мне казалось, мог больше знать или понимать. Мне, конечно, очень повезло, что было с кем разговаривать, вокруг меня были довольно бесстрашные и беспримерно честные люди. В 1952 году я вступила в партию, считая, что как-то изнутри можно поменять то, что «не так», что мешает нашей стране быть, как в песне, «самой лучшей и самой счастливой». Уже после смерти Сталина на многое у меня открылись глаза и многие сомнения в голове сформулировались. Я не могу точную дату назвать полной перемены своих взглядов, но могу сказать, что я себе – тут очень важно, что себе, потому что на публику ты можешь как угодно меняться, а себе не соврешь – не врала никогда. Да и не молчала я никогда. Выходит, что я была сперва очень честная советская. А потом стала очень честная антисоветская, правозащитная. И это не стыдно – про такое рассказывать. Люди, которые думают, мыслят, часто меняются. Никто не рождается с идеальной гражданской позицией или единственным правильным взглядом на мир. Но еще раз скажу: мне повезло, были рядом люди, глядя на которых, рядом с которыми можно было становиться лучше.
– Задумывались ли вы о правильности выбранного пути, когда в 1968 году за правозащитные убеждения вас исключили из КПСС, а потом уволили с работы?
– Был такой эпизод во всей этой истории увольнений и исключений. Моя университетская подруга Наташа, мужа которой тоже выгнали из партии в то же самое время, а другого нашего друга выгнали из Института искусствознания Академии наук (хорошее такое, либеральное вроде бы было место), сказала: «Надо подавать в суд за то, что незаконно выгнали!» И они решили подавать. И мне говорят: «Ты, Людка, тоже должна подать». А я: «Да ну, не хочу я. Выгнали, и слава Богу. На фиг они мне нужны?» – «Но мы же сами хотим, чтобы всё по закону? Всё это неправильно, значит, надо бороться!» И тут я заколебалась. Потому что, с одной стороны, мне не хочется, а с другой стороны, я понимаю резоны. В этот момент Наташка, язык у которой был как бритва, говорит: «Людка, во будет интересно! Тебя же выгнали с работы потому, что выгнали из партии?» – «Да». – «Представь, тебя в партии восстановят, а на работе – нет». И тогда я облегченно вздохнула: «Да пошли вы на фиг! Я ни за что не подам на восстановление!» И не подала.
– А они?
– Они подали. Но их, конечно, не восстановили.
– Я читала, что вы вышли замуж, «убедив себя в чувстве влюбленности». Как это? Где разница между влюбленностью и любовью?
– Я, кажется, не рассказывала об этом раньше: мемуары, написанные в Америке, писались быстро, наспех, издательство гнало всё время. И там важнее было про поколение рассказать, чем про себя. Я ведь из поколения шестидесятников – это очень важная и большая история. В общем, я не всё писала. А на самом деле тот брак, о котором я пишу как о первом, он у меня второй.
Она какое-то время молчит. А потом говорит: «Думаю, что должна вам это рассказать, мне почему-то хочется именно вам рассказать». Опять молчит. Нам приносят чай. Молча пьем. Потом она вздыхает: готова. И рассказывает:
– В первый раз я очень сильно влюбилась, как положено, в восемнадцать лет. Вышла замуж за девятнадцатилетнего мальчишку. Влюблена была, как кошка, и прожила с ним год без шести дней. И выгнала его, потому что понимала, что я люблю его гораздо больше, чем он меня, и, если я не разведусь, мне придется испытать и измены, и обманы, и уход, и всё на свете. И я решила: не буду этого ждать. И сделала усилие над собой. Но вышло у меня не сразу. Несколько раз я пыталась расстаться с ним. Говорила: «Уходи». Сама уходила. А потом он приходил и говорил: «Ну чего ты?» А сердце не камень, когда любишь. Мы опять сходились. Но всё это время где-то, как будто про запас, – знаете, как это? – был такой Валя Алексеев. Он был на пять лет старше меня. Хороший парень. Оказывается, он полюбил меня, еще когда я школьницей была, в девятом классе училась. И он решил ждать, пока я вырасту. Ну хотя бы до восемнадцати. Приходил к нам домой – а меня нет дома. Он сидел, честно чай пил с моей мамой, ждал меня. А я даже не думала, влюблен он или не влюблен. Мне неинтересно было, поскольку у меня там – такая своя любовь!
И вот один раз Валя приходит: «А где Люда?» А моя мама говорит: «Валь, так Люда же замуж вышла». Но он виду не подал. И всё равно продолжил ходить. Как-то мы с ним, с Алексеевым, встретились на лестнице: «Ну как ты?», – спрашивает. Говорю: «Ну, как-то так, не получается у меня брак». И он мне говорит: «Ты, Люда, пожалуйста, знай. Если ты разведешься, то одна не останешься». В общем, сделал он таким образом мне предложение. И когда я в очередной раз решила покончить со свой любовью, я об этом помнила.
– А как можно уходить, разводиться, если так, как вы говорите, сильно влюблен?
– Я всё время представляла себе, как я рожу ребенка, как буду с ним сидеть дома, несчастная влюбленная девчонка, а тот, кого я люблю, уйдет к какой-нибудь девице. Это очень тяжкая доля.
– Но ведь он тоже вас любил. Почему он должен был уйти?
– Тут такое обстоятельство, Катя. Это 1945-й год. Только что закончилась война. И мужиков с руками и ногами, а тем более девятнадцатилетних, а тем более таких красивых, – их почти нет. И куда бы мы вместе ни приходили, на этого моего несчастного Юрку мои же подружки при мне кидались, как тигрицы. А у него глаза разбегались. Представляете? И я понимала, что это не кончится хорошо. И я ждала этой унизительной судьбы. И боялась ее.
– Поразительная дальновидность для восемнадцатилетней девочки.
– И страшная. Но так было. Когда в очередной раз я решила, что всё, пора с этим кончать, то как раз встретила Валю, который мне опять это свое предложение повторил. И я ему сказала: «Валя, я развожусь. Через месяц я готова выйти за тебя замуж».
– Почему не тут же?
– Почему месяц ждать?
– Да.
– Ну так понятно же: надо быть уверенной, что я не беременна, – говорит Алексеева. И хохочет, довольная произведенным эффектом. – А вы что думали? Баба я, баба, обыкновенная женщина, не какая-то там, которой меня часто хотят представить. В общем, я решила, что если будет ребенок, то я уж останусь. Валя, конечно, сказал: «Ради Бога».
– Невероятно.
– Так получилось, что, выйдя за Валентина замуж, я тут же забеременела. Родился сын. И дальше была целая трагедия с выяснениями отношений. Но я-то точно знала, что в этих обстоятельствах поступила максимально честно. Сын, к счастью, был очень похож на Валю. А Юрка всё еще приходил, уговаривал меня сбежать, уйти, собрать вещи и всё такое. Однажды, была весна уже, что ли, – тепло, он увидел лицо ребенка в коляске. Посмотрел и говорит: «Да, он похож на Валю, это Валин сын». Успокоился и ушел.
– Вы когда-нибудь жалели об этом своем поступке?
– Я жалела только, что разница у моих сыновей большая: пять с половиной лет.
– Ваш темперамент – в кого? Внешне вы похожи на ту бабушку, что эстонка.
– Да, на нее. Бабушку звали Анетта-Мариэтта Розалия Яновна Синберг. Она вышла замуж за Афанасия Петровича Ефименко и стала Анной Ивановной Ефименко. Она была лютеранкой, перешла в православие. Тогда же не было ЗАГСа, надо было в церкви венчаться. Мужу ее, Афанасию Петровичу, было всё равно в какой церкви: он не верил ни в Бога, ни в черта. Говорил: «Я бы мог, конечно, и в лютеранской кирхе венчаться, но у меня мама очень верующая, для нее это будет ужасно». И бабушка сказала: «Ничего страшного, я перейду в православие». Она была решительной женщиной.
– То есть вы – в нее.
– Никогда об этом не задумывалась. Но она ведь, по сути, меня вырастила, поэтому и характер, наверное, ее мне достался. Ведь говорят, что не та мать, кто родила, а та, кто воспитывала, так? Мы с ней только после войны разъехались, мне уже было почти восемнадцать. А так бабушка, бабушка – это мой мир был. Наш с бабушкой. Такой – особенный. Знаете, что я хорошо помню от ее этого чистоплюйства лютеранского? То, как она относилась к стирке. Она затевала стирку в любой день, невзирая на праздники и приметы: стирала на стиральной доске в корыте, основательно установленном на кухне. Приходит соседка. «Иванна, грех какой! Что ж ты стираешь? Сегодня же праздник». – «Ой-ой-ой. Какой?» – «Вербное воскресенье». – «Ох, грех какой! Ой, сейчас!» Соседка уходит, она запирает дверь на ключ и продолжает стирать тихо, молча. Ей чистота поважнее праздников была. А дед мой ходил в церковь один раз в год, строго на Пасху.
– Почему?
– Очень любил пасхальное пение. И один его приятель, видя, как Афанасий Петрович в очередной раз идет в церковь, говорил: «Афанасий Петрович, а что это, как вас ни встречу около церкви, так всё Иисусе-воскресе поют?» А дед отвечал: «Так как поют! Грех не порадоваться».
Кстати, о моих предках с другой, папиной, стороны мне тоже рассказала эта моя бабушка Анна Ивановна. Если бы не она, так и не узнала бы ничего, все остальные как-то помалкивали.
– Было о чем?
– Ну, как: она рассказала мне, когда я была уже, наверное, четырнадцатилетней девицей, что папа мой происходит от брака еврейки и поляка, представляете!
– Это примерно конец XIX века? Как такое возможно: еврейка и поляк.
– А вот как: отец моей бабушки-еврейки, то есть мой прадедушка, имел маленькую типографию где-то под Варшавой, такой бизнес. Книжки печатались на польском языке. Наборщиком в этой типографии служил мой польский дед Лёва. Как его звали на самом деле, я не знаю. Но дома он был так: Лёва-поляк. Как на самом деле звали дочь владельца типографии, мы тоже не знаем, но для меня она всегда была Любовь Григорьевна, хотя, как мы понимаем, таких имен у евреев быть не могло. Любовь эта Григорьевна была очень красивой. И в нее без памяти влюбился тихий-тихий Лёва-поляк. Он поглядывал томно на красивую дочку хозяина, но ничего себе такого, грешным делом, даже не думал: ей, еврейке, полагалось выйти замуж за еврея. Такое было время.
Но эта моя бабушка была лихая – или шалавая, как тогда говорили, – она в шестнадцать лет сбежала из дому с каким-то не то уланом, не то гусаром. Где-то с ним скиталась. А потом он ее бросил, и она вернулась домой. К счастью, без ребенка. Но ситуация выходила такая, что теперь уже ни один приличный еврей на ней бы не женился. И тогда предприимчивый ее папа сказал тихому поляку Лёве: «Знаешь, чего? Женись на моей дочке». И Лёва с радостью женился. Папа Любови Григорьевны дал им денег и сказал: «Уезжайте отсюда куда-нибудь, где никто не знает истории вашего брака и вообще всего». И они уехали в Евпаторию. Это из-под Варшавы-то! Там уже родился мой папа. Там родилась и я, потому что мама моя поехала рожать к родителям мужа. Так что из своего детства я помню и тихого дедушку Лёву, и бабушку Любовь Григорьевну, и красивые пляжи. И почему-то в воспоминаниях у меня всё время лето. Хотя понятно, почему: меня, конечно, уже из Москвы отправляли к бабушке с дедушкой летом на море. Дедушка по-прежнему работал в типографии, но он уже умел набирать по-русски. Он ходил в парусиновых брюках и в кое-какой рубашечке. Кажется, и брюки, и рубашечка были у него в одном экземпляре. А на бабушке всегда были по последней моде шаль, платье и туфли невероятной красоты. Дедушка до последнего дня считал своим долгом одевать бабушку так, как она привыкла. Даже когда состарилась, она была красивая, у нее была редкая-редкая проседь, но в основном волосы черные, она их убирала в большой пучок, который оттягивал назад голову. И получалось, будто она всё время ходит, задрав нос. Знаете, такой есть тип женщин? В общем, интересная была семья. Задним числом помню, что отец мой никогда домой не ездил, меня одну отправляли в Евпаторию на лето. Я долго помнила адрес, по которому мы жили: улица Декабристов, дом 25. Меня как-то пригласили крымские татары на мероприятия, которые были приурочены ко дню их высылки, это 18 мая, а я им говорю: «Я ведь помню свой адрес!» – «Хотите посмотреть?» – «Ну давайте». Дали мне машину. Поехали мы на улицу Декабристов. Едем, едем, до 19-го дома доехали, а дальше всё обрывается: построили стадион. Не знаю, расстроилась я или нет, не могу сказать. Просто такое вот свидетельство – время идет, всё меняется.
– Вы страдаете от того, как сильно ускорилось время по сравнению с тем, в котором вам, скажем так, было привычно жить? Не раздражает ли вот это всё: фейсбук, мобильный телефон, разрывающийся от разных неличных писем электронный ящик?
– Мне это всё нравится очень, я так живу. И очень радостно всеми благами этой новой реальности пользуюсь. Сейчас, правда, стала быстро уставать, но уходить из этого цифрового мира не хочу. Мне нравится и телевизор с интернетом, и телефон, и почта. Я люблю, когда всё развивается, меняется, когда это осязаемо. Это ведь и есть жизнь, да?
Знаете, я сама не сидела, но у меня есть много друзей сидевших. И они говорят, что время, проведенное в лагере, – это остановившееся время. То есть пока ты там, в лагере, оно для тебя как будто не идет. И это страшно очень. Человек выходит оттуда, допустим, через двадцать пять лет, седой, худой, без зубов – а он тот же, которого сажали: вошел в дыру времени и из нее вышел, а жизнь тут прошла без него как будто бы. У Буковского в книжке – он очень талантливый человек – есть описание того, как в лагере литовцы, здоровые мужики, осужденные юношами на двадцатилетние сроки, вдруг возятся между собой, как мальчишки. И вот Буковский как раз задумывается об этом остановившемся в лагере времени. Страшное дело.
Так что когда время идет, когда что-то вокруг очевидно двигается, меняется, что-то приходится осваивать, даже пускай теперь это уже не по уму, – это, скорее, говорит о том, что жизнь есть! Жизнь – это лучше, чем пустота.
Она замолкает, ложится, просит выключить свет: «Идите, идите, вы и так уже, наверное, засиделись, вас все ждут».
Через пару дней перезвонит: «Вы мне понравились. Думаю, я правильно сделала, что вам рассказала всё как есть. Есть люди, рядом с которыми совершенно нормально чувствуешь себя раздетым».
8 декабря 2018 года Людмилы Михайловны Алексеевой не стало. Это интервью в память о ней было опубликовано в интернет-издании «Правмир».
Интервью семнадцатое Кантемир Балагов
Кантемиру Балагову двадцать восемь лет. Он родом из Нальчика. Мама – учитель химии и биологии, отец – предприниматель.
Еще несколько лет назад шансов на то, что Балагов уедет из родного города и будет заниматься чем-то сильно отличающимся от того, что составляет жизнь его товарищей по двору или школе, было примерно ноль.
Но как раз несколько лет назад, вместо того чтобы – как все вокруг – окончить, например, финансовый или юридический колледж, Кантемир Балагов из Нальчика послал режиссеру Александру Сокурову в Москву свой короткометражный сериал.
– Сокуров посмотрел эти серии и предложил мне у него учиться. Прийти сразу на третий курс, – говорит Балагов, – а потом за два года полностью меня поменял.
– В смысле кино? – спрашиваю.
– Нет. Вообще. Понимаете?
Балагов смотрит куда-то в окно и перечисляет: «Он поменял меня как личность, он научил меня читать. Не в смысле букв, а в смысле того, как вообще человек читает. Он полностью переменил мой взгляд на кинематограф. Я не знаю, как это описать, но два этих года мастерской – это как будто целая жизнь. И даже больше».
Мы говорим в первый раз в 2017-м, сразу после того, как Балагов впервые в жизни стал героем Каннского фестиваля. Его дебютный фильм «Теснота» горячо принят и публикой, и жюри. Но складывается ощущение, что шумная фестивальная жизнь оглушила его, подмяла под себя. Он немного растерян.
Стесняется журналистов и аккуратно подбирает слова, боясь быть неточным, неправильно понятым.
[70]
– Насколько вам вообще комфортно в Каннах? Я смотрела фотографии, ваша съемочная группа прилично отличалась от других, привычных к красным дорожкам и фотовспышкам.
– Было, конечно, ощущение, что это, скажем так, не моя среда. Я не привык лицом торговать. Меня даже одна корреспондентка обвинила: «Что же вы мне ручкой не помахали, как мы договаривались?»
– Почему не помахали?
– Растерялся. Хотя я ведь до этого уже был в Каннах. И тогда как-то внутренне решил, что всё это – всего лишь ярмарка тщеславия: люди приезжают показать не фильм, а самих себя. Но сейчас я понял еще и другое: Каннский фестиваль ориентирован на индустрию, а не на зрителя. Это гигантская пиар-кампания, которая, конечно, нужна фильму, нужна съемочной группе, потому что в фестивале участвуют в основном представители киноиндустрии. И это надо принять.
– Вам легко даются правила индустрии?
– Стараюсь привыкнуть, но это всё, конечно, непросто. Очень устаешь. И очень отвлекает от работы. Мне некомфортно, когда так много народу, когда надо столько разговаривать. Я по-другому устроен.
– Я в детстве довольно много времени провела в Кабардино-Балкарии: два-три раза в год ездила на сборы в спортивный лагерь на Чирик-Кёль (Голубое озеро). Обычно мы ехали через Нальчик и пару дней проводили там. «Теснота» вернула мне странное ощущение, которое в детстве точно и не сформулируешь: вокруг нет ничего враждебного, но ты чувствуешь себя чужеродным, если ты…
– Не местный?
– Да.
– Это и сейчас есть. Хотя, думаю, сейчас бы вы почувствовали эту чужеродность менее остро.
– Почему?
– Всё становится более размытым. И людей – меньше. Большинство уезжает из Нальчика, в особенности молодые. Едут все: и кабардинцы, и евреи. В Москву, в Америку или в Израиль. В общем-то даже неважно – куда. Важно – уехать. Потому что развиваться стало практически невозможно, а для молодых людей это – тупик.
– Если бы в вашей жизни три года назад не случилось мастерской Сокурова, вы бы тоже уехали?
– Мне особенно некуда было. Наверное, я бы просто получил какое-то образование: экономическое или юридическое, получил какую-нибудь должность в офисе. И доживал свою жизнь до старости.
– То есть вы не собирались, как все, уезжать.
– До мастерской я хотел уехать в Петербург, но сейчас понимаю, что мои интересы, мои возможности – и умственные, и внутренние – были настолько ничтожными, что в Петербурге я бы просто не прижился. Не смог. Ничего не добился бы и вернулся бы ни с чем в Нальчик, потому что просто не был бы никому нужен. Да я и сейчас не особенно нужен, хотя какие-то базовые знания, надеюсь, уже есть.
– Чем для вас стала мастерская Сокурова?
– Боюсь, я не смогу сформулировать. Это совершенно другой мир. До мастерской мы даже представления не имели о том, что этот мир существует, какой он. Знаете, как в большинстве случаев устроено получение образования у нас на Кавказе? Всё происходит не вполне осознанно: молодые люди просто идут «куда-то», чтобы потом получить «какую-то» работу. В детали никто не вдается, да они и неважны.
Я вам честно скажу, когда мы попали к Александру Николаевичу, мы же вообще не представляли, кто это такой. Некоторые из моих однокурсников просто шли, чтобы получить или второе образование, или просто развлечься: режиссура, кино – это же весело, интересно, творческая профессия. Да я и сам не знал, кто такой Сокуров. Погуглил перед встречей да и пошел.
– Было тяжело учиться?
– Да. И этого я тоже не ожидал. Мы сидели с девяти утра до трех часов ночи. Сокуров настаивал на серьезном, глубоком изучении литературы, классики кино. Это требовало времени и погружения. Преподаватели к нам приезжали из Москвы и Санкт-Петербурга, они могли приезжать раз в неделю и пытались каждый раз дать нам как можно больше. Иногда этот марафон был настолько изматывающим, что не всё откладывалось в голове, но мы старались.
– А зачем эта мастерская, по-вашему, была нужна Сокурову?
– Он не сразу согласился на это, насколько я знаю. Но когда согласился… Понимаете, Александр Николаевич – очень ответственный гражданин своей страны, вот именно гражданин России. И зная, какой низкий культурный уровень на Северном Кавказе, а кто бы как бы ни хотел, это – часть России, Сокуров считает своим гражданским долгом сделать всё от него лично зависящее, чтобы эту ситуацию изменить. Он не считает это подвигом.
– А какое ваше чувство долга по отношению к малой родине? У «Тесноты» очень личное начало: на первых кадрах фильма, кадрах Нальчика, вы сразу говорите о том, что вы именно отсюда родом и эта история – очень личная. То есть вы – патриот?
– Я, к сожалению, не чувствую сильной привязанности ни к своей национальности, ни к месту. Я не чувствую почву под ногами, когда я нахожусь на Северном Кавказе, в Нальчике. Как-то спокойно к этому отношусь.
Но, хочу я этого или нет, эта земля – часть моей биографии: я здесь родился и вырос. В фильме нужен был контекст того, что я имею непосредственное отношение к этой истории, к этой территории, чтобы зритель понимал, какая степень откровенности его ждет.
– Насколько, по-вашему, проблемы Северного Кавказа, где и с национальной, и с религиозной точки зрения всё немного иначе, чем, скажем, в Центральной России, касаются всей страны?
– Я часто слышу призывы «оставить Кавказ в покое» и дать ему существовать самостоятельно, на своей волне или как-то так, имея в виду, что это – не Россия. Но мне кажется, если так поступить, Кавказ сам себя погубит. Ни в коем случае нельзя Кавказу давать существовать самостоятельно. Но надо менять существующий закрытый порядок вещей. Единственный способ менять – через культуру: дать понять представителям России, что у кавказских людей есть культура, они могут слушать, смотреть и чувствовать так же, как и представители России. Центральной ее части или северной. Но такое не происходит. Смотрите, например, когда речь идет о Гергиеве, все говорят – он великий дирижер. Точка. Темирканов – великий дирижер. Тоже точка. То есть важно его творчество, а не то, что он кабардинец, выходец из наших мест.
– А вам кажется важным еще и происхождение?
– Мне кажется, это важно. Как важно и то, что в Нальчике, например, проходят фестивали Темирканова. Вы знали об этом?
– Нет.
– Понимаете, для того чтобы изменилось отношение к Северному Кавказу, на самом Северном Кавказе тоже что-то должно перемениться. Нужен какой-то культурный, интеллектуальный прорыв. Нужно как-то выбираться из того безвременья, в котором мы тут застряли. Ведь дело не только в том, что у нас нет центров досуга для молодежи. Есть какие-то театры, кинотеатры, куда можно пойти. Но репертуар там из начала двухтысячных, а постановки в театрах – унылые и неинтересные. К ним не подпускают молодых ребят. Это такая традиция. На Северном Кавказе есть четкая иерархия: пока ты не вырастешь, не состаришься, не дойдешь до какой-то определенной ступени, тебе никто никогда ничего не доверит и не даст сделать. Старшее поколение, которое всем руководит и занимает все ключевые посты, в том числе и в культуре, ориентируется исключительно на свое прошлое. Это касается музыки, искусства, литературы и кино – ничего этого в контексте современности у нас нет. Совсем нет, понимаете?
Я не знаю, как сделать, чтобы стало понятно, что мир не зациклен только на зарабатывании денег или трудоустройстве в «теплые места» всех членов семьи. Я не знаю, как убедить людей, принимающих решения, в том, что не будет будущего без просвещения, без разговора с молодежью и доверия ей. Я всё понимаю: есть традиции, которых все привыкли придерживаться. Но есть еще и будущее.
– В Кабардино-Балкарии семьдесят процентов населения – мусульмане. Насколько остро стоит проблема взаимоотношений мусульман и немусульман?
– Сейчас уже не так остро. Остро было в 2005-м, когда боевики пытались захватить Нальчик. И в этот момент чувства недоверия и опасения к мусульманам были очень сильны. Стали всех под одну гребенку мешать: если ты молишься, значит, ты или боевик, или террорист. Со стороны правоохранительных органов были целые рейды в мечетях. Заходили, забирали молящихся, ставили на учет и, если что-то происходило, по поводу и без повода кого-то обвиняли. Тогда все всего боялись, и это било по людям. Мои родители, например, боялись, что я попаду под влияние радикалов. А нормальные мусульмане – обвинений в радикализме. Этот страх держался, наверное, года до 2007-го. Потом поутихло. Сейчас, стоит отдать должное главе республики, никаких конфликтов, никаких терактов у нас нет.
– Ваши родители – мусульмане?
– Наша семья позиционирует себя как мусульманская, но никто не молится, намаз не делает. Дальние родственники есть, которые молятся. Но мама и папа – нет.
– В 2005 году вам было 14 лет, в 2007-м, соответственно, 16. То есть вы уже были вполне взрослым человеком, способным хорошо запоминать происходящее.
– Да, я помню. Это как видеозапись, которую невозможно стереть из головы.
13 октября 2005-го[71] журналистом Тамерланом Казихановым была, кстати, сделана видеозапись, ставшая одним из самых страшных свидетельств того, что происходило в Нальчике. Тамерлан руководил пресс-службой антитеррористического центра Главного управления МВД РФ по Южному федеральному округу. И когда здание центра начали штурмовать, он взял камеру и начал снимать. Он снимал после того, как его ранили в ногу… А потом в него выстрелил снайпер.
– Но камера продолжила снимать и после гибели Тамерлана.
– Это была очень громкая и страшная история в жизни города, об этом много говорили. Мы вообще очень много пережили в те дни. Сам я не находился в эпицентре событий, потому что учился в 11-й школе, которая находится в районе Александровка, где боевиков практически не было, они сконцентрировались в центральной части города. Но моя мама работала в 5-й школе, в самом центре, рядом с гостиницей «Россия». Я помню, как переживал за мать, как пытался выбраться в город, но меня не пустили. Мама смогла убежать, вернулась домой. Но мы пару недель жили в жутком страхе: постоянно над головой летали самолеты, нам отключали свет, было полное ощущение войны. Я его помню.
– Трудно ли примириться с мыслью о том, что вот ты – мусульманин, с одной стороны. А с другой – люди, которые захватывают твой город и убивают твоих близких, – делают это именем Аллаха?
– Не могу сказать, что я полностью прочел Коран, но в том, что я читал, не было никаких прямых призывов к убийству людей. Нигде не было ни намека на то, что убийство каким-то образом поощряется. Для меня большая проблема состоит в том, что для многих людей из-за всего того, что тогда у нас происходило, того, что происходит сейчас в разных местах мира, религиозные мусульмане ассоциируются с угрозой. Этот вопрос – болезненный. Мне трудно говорить на эту тему, потому что у меня есть друзья, очень верующие мусульмане, – одни из самых миролюбивых людей на свете. Однако, живя в Москве, они сталкиваются с непониманием и высокомерным отношением к себе. Знаете, почему? Только потому, что они молятся!
– Вы говорите, что родители опасались, что вы попадете под влияние радикальных настроений. Такая опасность действительно существовала?
– Я сейчас объясню вам, как вообще молодежь из наших мест подпадает под влияние тех, кто использует религию в нужных для себя целях. Как правило, это ребята из очень небогатых семей, у них нет опыта, образования, никто ими не занимается. И тут приходит некто и, грубо говоря, «берет их под свое крыло», помогает, наставляет, держит за руку.
Я помню, как в 2005–2008-м мои ровесники, ребята, которых я лично знал, уходили в лес за теми, кто вовремя сообразил промыть им мозги и чего-то наобещать. У этих ребят не было ни дела, ни цели, ни почвы под ногами.
– Один из сильнейших эпизодов «Тесноты» – хроника казни боевиками российских солдат. И эта документальная пленка становится центральным, страшным, но тем не менее очень органичным эпизодом, хорошо показывающим природу жестокосердия, охватившего регион в девяностые. Как по-вашему, в какой момент происходит поломка, после которой человек начинает думать, что все, кто на него не похож, – враги?
– Сама сцена, в которой герои смотрят эту хронику на кассете, была придумана и описана еще на стадии сценария. Я понимал, что это нужно для истории, для того, чтобы передать контекст времени и места. Один из важных моментов «Тесноты» заключается в том, что мои герои живут в ощущении войны. Чечня не так далеко от Кабардино-Балкарии. Всё, что там, – в любой момент может перейти на нашу территорию. В общем, этот эпизод мне был нужен. Но это не просто эпизод. Это то, что я пережил сам. Это моя история. Где-то в 2002 году, когда я еще был школьником, ко мне подошел мой друг и сказал: «У меня есть одна запись, пойдем к тебе, посмотрим». У меня был средненький компьютер, но – редкость на тот момент – там был дисковод. И мы стали смотреть. Это была видеозапись казни, похожая на ту, что вы видите в фильме.
Я хорошо помню первое свое впечатление – оно какое-то неописуемое: увиденное поражает настолько, что ты сидишь, как парализованный. Ты толком не можешь понять, что сейчас произошло, но оторваться тоже не можешь.
Мы не смаковали подробности, если вы об этом хотите спросить, но мы пересматривали эти записи по многу раз. Это парадоксально, это необъяснимо, но это очень яркое проявление нашей, человеческой, двойственности: смесь страха, ужаса и любопытства, связанного с жизнью, смертью, жестокостью и, возможно, неумением ни то, ни другое толком объяснить на своем уровне.
– Эта запись была первым опытом того, как вы увидели человеческую смерть?
– Да. Но важным было и то, что эту смерть людям приносили люди.
– Запись, которую вы смотрели школьником, была пропагандистским роликом?
– Для нас это была в первую очередь запись чего-то страшного и запретного, которая ходила по рукам у пацанов. Пропагандистские цели, которые она тем не менее всё равно, думаю, преследовала, так или иначе находили отклик среди тех, кто смотрел. В фильме, если помните, есть диалог между героями, который происходит после просмотра кассеты.
– Тот, что почти заканчивается дракой?
– Да. Так вот, он почерпнут из моего личного опыта, потому что некоторые люди действительно поддерживали и одобряли идею о том, что чеченцы защищают свою землю, они правы и так далее. И это очень сложный и драматичный вопрос для всего Северного Кавказа, который многое пережил. В том числе для нас. Потому что большинство кабардинцев до сих пор остро переживают геноцид черкесского народа, произошедший из-за русско-кавказской войны. На этой почве некоторые из нас поддерживали чеченский народ, были такие настроения.
– Они исчезли?
– Это не проходит в один момент, даже в десятилетие. Каждый народ на Кавказе до сих пор пытается понять, кто он вообще такой и советский ли он народ или всё-таки самостоятельный, сам по себе.
– Саундтрек, который сопровождает в фильме сцену с просмотром хроники казни – песня «Иерусалим» воевавшего на стороне вооруженных сил ЧРИ барда Тимура Муцураева, – прибавляет всей этой истории неоднозначности.
– Муцураев – это тоже из моего личного опыта. Да, у него есть экстремистские вещи…
– …тот же «Иерусалим».
– Но это правда того времени. Он как-то поднимал боевой дух, провоцировал его, понимаете? Мы школьниками слушали Муцураева очень много. И был момент, я хорошо это помню, на секунду дай нам автомат, мы бы могли пойти стрелять на самом деле. Он поет такое и так, что это мотивирует. Слава Богу, ничего этого не произошло. Но так было. Знаете, я иногда сейчас переслушиваю даже менее экстремистские его вещи и поражаюсь тому, как точно он взаимодействует с человеком.
– Откуда вообще хроника, которая используется в фильме?
– Я ее нашел в открытом доступе в интернете. Она до сих пор там есть.
– В тележурналистике запрещено показывать сцены казни. У вас были в Каннах проблемы с тем, что вы так подробно показали смерть русских солдат в своем фильме?
– Оказывается, были. Но я сам об этом узнал недавно и очень удивился: один из членов жюри был настолько возмущен демонстрацией этой пленки, что пошел чуть ли не к президенту фестиваля и начал выяснять, что это такое вообще было.
– Речь об Уме Турман?
– Я бы не хотел это комментировать. Мне было важно, чтобы в фильме был именно документальный кадр. Потому что когда зритель понимает, что это всё – на самом деле, что так действительно происходило, то у него совершенно другая эмоциональная отдача. Тогда действительно есть ощущение такой удушающей тесноты, что единственный выход – уйти из кинозала. Что, кстати, многие в Каннах и очень многие на «Кинотавре» – сделали: в момент демонстрации этой записи люди вставали и выходили с показа. Мне говорили: «Ну зачем это было вообще снимать, зачем эту сцену ставить, зачем вообще возвращаться к этому? Ну было и было, пострадали и хватит». Знаете, мне еще важно, что по темпоритму эта сцена сознательно затянута. Потому что этого солдата убивают в первую очередь не физически, ментально. В нем убивают его человеческий дух. И делают они это настолько медленно, так смакуют происходящее, что эта темпоритмика персональная и темпоритмика отдельного отрывка фильма напрямую связаны друг с другом, чтобы зритель хотя бы попробовал почувствовать, каково этому бедному парню. В действительности почувствовать это зритель, конечно, никогда не сможет. Поэтому растянутая, с точки зрения времени, сцена должна просто приблизить к понимаю.
– Насколько принципиальным был момент, что среди кабардинцев и русских, которые смотрят эту видеозапись, которые вообще живут в городе Нальчике, о котором идет речь, оказалась еврейская девушка Ила. Могла бы она оказаться армянской девушкой? Или русской?
– Для искусства вы имеете в виду?
– Да.
– Для меня, как для режиссера и автора фильма, было принципиальным, что Ила, ее семья – это евреи. Не для того, чтобы «выехать» на еврейской теме и, как говорят, поехать в Канны, потому что там сразу дают призы всем фильмам, которые сняты про евреев. Нет. Для меня было принципиально важным столкновение двух народов, которые озабочены сохранением культуры, корней и традиций. Большинство евреев, кабардинцев и балкарцев очень похожи в этом плане. Кабардинцы озабочены тем, что представитель кабардинской национальности должен жениться именно на кабардинке и стараться следовать Хабзэ (кабардинскому кодексу чести).
То же у евреев: они озабочены сохранением корней и пытаются выдавать замуж или женить детей только на своих. Это границы, стесняющие тех, кто оказывается внутри их. И основной конфликт состоит в том, что еврейка Ила готова переступить через эти границы, а ее парень, кабардинец Залим, – нет. В большинстве своем кавказские мужчины вообще слабее в плане каких-то поступков, которые идут наперекор традициям, культуре, территории и так далее. Они намного слабее и не способны переступить через общепринятое.
– Но именно Ила в итоге оказывается жертвой семейных традиций и ценностей.
– Я хотел поставить под вопрос главную аксиому любой семьи: должен ли жертвовать собой априори член семьи ради близких. Мне было интересно, насколько вообще гуманно со стороны родителей просить детей о какой-либо жертве. Лично для меня это не вполне приемлемо. И я попытался передать это героине.
Вопросы, перед которыми оказывается Ила, – это мои вопросы. Решения, которые ей приходится принимать, – те, которые я пытался, пытаюсь принять. Я пытаюсь говорить откровенно сам с собой и отвечать себе, в первую очередь, максимально честно. Только так, как мне кажется, появляется художественный смысл.
Ила бунтует, как бунтуют обычно молодые люди. Этот бунт не всегда здоровый, но он присущ возрасту.
И, когда мы разрабатывали сценарий, мне было важно показать, что ей тесно: в семье, в возрасте, в обстоятельствах. И она пытается выбраться. Отсюда соотношение кадра, отсюда – танец на дискотеке, когда ей тесно в помещении, в музыке, среди людей и она пытается сама себя вытеснить.
– И теряет голос.
– Это цена жертвы, которую ей предстоит принести. Это такой образ – на Кавказе женщины не имеют права голоса.
И всё это вместе – теснота: места, времени, обстоятельств, правил, клана, рода, семьи. Мы так со сценаристом, собственно, и придумали название «Теснота». Остановились на нем, перебрав к тому времени уже множество вариантов. Нам надо было отразить предельное состояние внутреннего неуюта, желания вырваться, выбраться. Но определение это никак не приходило. А я знал, об этом была лекция у нас на курсе, что режиссер должен определить для себя тематику фильма, максимум, в двух словах. И исходя из этого уже будет ставиться задача художественным цехам, актерскому составу, операторскому цеху и так далее. Киноязык подразумевает смысл, а не просто набор динамично сменяющихся картинок. Этот совет мне очень помог. И слово мы нашли. Из него всё и выросло потом.
– А в Европе всю это сложность вашей истории про Северный Кавказ поняли?
– К моему удивлению – да. Судя по вопросам, которые задавали, им всё было понятно. История получилась универсальной. Возможно, это связано с тем, что Франция не понаслышке знает, что такое жить в соседстве с представителями мусульманской культуры, что такое – конфликты, в которые вплетены разница культур и религий. Наверное, поэтому многим французам «Теснота» показалась почти таким, что ли, родным материалом.
– В некоторых интервью ваш учитель Сокуров высказывал опасения о том, что слава может вскружить вам голову.
– Его опасения небеспочвенны. Я проявлял довольно неприятные признаки тщеславия во время учебы.
– Каким образом?
– Это случилось в 2014-м, когда я узнал, что поеду в Канны со своим короткометражным фильмом.
– Это была короткометражка «Первый Я»?
– Да. В общем, узнав о возможной поездке в Канны, я стал вести себя неподобающе, не хочу сейчас подробно рассказывать. Но кончилось тем, что Александр Николаевич отменил эту поездку.
– Вы сердились, обижались?
– Это неважно. В конечном итоге, я благодарен Александру Николаевичу. У меня был год на осмысление себя и того, как я живу, буду жить.
Я всё же поехал в Канны в 2015-м. Это был мой первый выезд в Европу.
– То есть впервые за границу вы попали в позапрошлом году?
– Да. И на меня это произвело большое впечатление. Это очень расширяет внутренние рамки, меняет менталитет, потому что ты понимаешь, что люди бывают совсем разными и в то же время они в чем-то похожи.
Но вот этого момента, который касается моего тщеславия, я очень боюсь. Понимаете, Александр Николаевич очень хорошо чувствует людей и понимает человека, буквально пару часов с ним пообщавшись. Так что его опасения не вполне беспочвенны. И я очень стараюсь смотреть на себя со стороны всё время. Надеюсь, гордыня обойдет меня стороной.
– Насколько это вообще важная часть вас: то, что вы – ученик Сокурова?
– Важная. Я до конца своих дней, наверное, не смогу поверить, насколько нам повезло, что нашим Мастером был именно Сокуров. Я смотрел дипломные работы вгиковцев, например, или каких-то еще студентов-киношников и понял совершенно отчетливо: нам повезло. Александр Николаевич пытался сохранить в каждом из своих учеников индивидуальность. Потому что академизм, которому учат во многих российских вузах, дает тебе, конечно, понимание профессии, но он полностью стирает индивидуальность. От этого большинство работ молодых авторов чем-то похожи друг на друга: визуально, тематически и так далее.
Александр Николаевич пытался сохранить в нас индивидуальность. Отчасти из-за этого он запрещал смотреть нам его фильмы или фильмы других знаменитых режиссеров, только какой-то очень определенный список, который он лично советовал, чтобы знать, с чего всё начиналось: мы смотрели и новую волну, и неореализм, и кино Оттепели. Но он к смотрению кино в целом довольно скептически относился. И всё время повторял: не смотрите кино – читайте, главное – читайте и развивайтесь.
– Успех «Тесноты» очень громкий, это всегда – риск для дебютанта. Боитесь?
– Я очень переживаю. Хочу самому себе доказать, что всё-таки история с «Теснотой» – это было не только везение, но и какой-то там профессионализм, или чутье, или еще что-то. Но всё же очень тревожно: понимаете, мне 25 лет. Выходит, в течение этих двадцати пяти лет я копил эмоциональный опыт, какие-то впечатления, какие-то истории, которые я выплеснул в этот фильм. Всё. А как теперь быть? Как следующий фильм – второй, третий, четвертый – как их сделать качественно?
– Вы свой второй фильм уже придумали?
– Я думаю над этим.
Мы встречаемся во второй раз осенью 2019-го. Балагов переехал из Петербурга в Москву: мастерская Сокурова закончилась. Кроме «Тесноты» из нее вышла «Софичка» Киры Коваленко, «Глубокие реки» Владимира Битокова, «Мальчик русский» Александра Золотухина. Но успех «Тесноты» не повторила ни одна картина. Второй полнометражный фильм Балагова «Дылда», как и «Теснота», покорил Канны, а за ним – большие мировые и российские фестивали, собрал кучу наград и был выдвинут от России на «Оскар». Мы встречаемся как раз после новости про «Оскар».
– Поздравляю вас.
– С чем?
– Ну, «Оскар» – это круто.
– Мне кажется, это неважно. Хотя важно, конечно. Но не настолько.
Балагов опять смотрит в окно. Там идет дождь. Под дождем, закрыв айфоны разноцветным полиэтиленом, фотографируют Арбат китайцы.
– Говорят, переехав в Москву, вы полюбили модные марки одежды, красивую жизнь, общество.
– Кто вам сказал?
– Складывается впечатление.
– Это какая-то ошибка. Мы целыми днями сидим дома: я, Кира [Коваленко, режиссер, выпускница мастерской Сокурова, девушка Кантемира Балагова] и собака. Нет никакой светской жизни, Катя.
– Как два режиссера могут ужиться в одном доме?
– Прекрасно.
– А как же ревность, конкуренция?
– Да нет ничего такого, что вы.
– Но вы хотя бы скрываете друг от друга свои идеи и замыслы?
– В шутку разве что. Я, например, сейчас читаю Фолкнера в поисках каких-то идей для новой картины, а Кира – Мамардашвили. И мы периодически делимся интересными мыслями о прочитанном совершенно спокойно. Но когда, например, мы сидим оба читаем и кто-то начинает что-то записывать в блокнот, другой сразу нервно заглядывает: так, а что ты там записываешь?
Но это всё такое, несерьезное. Кира мне помогла с «Дылдой» какие-то моменты решить, я посоветовал ей что-то в новом фильме. Сейчас она помогает мне с поиском новой темы, с вдохновением: фотографии показывает какие-то, что-то рассказывает. В общем, мы подпитываем друг друга. Никакой ревности.
Год назад у получившего громкое фестивальное признание Балагова не было отбоя от сценаристов и продюсеров, предлагавших идеи нового фильма. На все предложения режиссер упрямо отвечал: «Я буду снимать то, что я сам захочу снимать. У меня есть идеи». Но не пояснял, о чем именно речь. Его новый фильм «Дылда», спродюсированный Александром Роднянским и основанный на книге Нобелевского лауреата Светланы Алексиевич «У войны неженское лицо», – история о поствоенном (постблокадном) травматическом синдроме: Действие происходит в Ленинграде 1946 года, когда формально война закончилась, но каждый из героев, точнее героинь – речь в картине о женщинах, – еще не сложил оружие, не может.
– Что вас больше задело: сама война или посттравматический синдром?
– Наверное, и то, и другое. Понимаете, когда я работаю над фильмом, мне очень интересно понять, насколько далеко я могу зайти.
– Вы лично?
– Да. С помощью моих героев. Куда они меня приведут. Я всё время – и в «Дылде», кажется, больше, чем в «Тесноте», – стараюсь приблизиться к Платонову, потому что Платонов для меня – это совершенное обнуление: когда люди начинают жить заново, пытаются создать новый мир и у них даже язык другой появляется. То же самое в «Дылде». Это как будто обнуление морали, языка, нравственности – всего. Мне это было интересно.
Война, блокада и те травмы, которые они нанесли людям, сбрасывают всё на ноль.
– В «Дылде», как и в «Тесноте», главные героини – женщины. Вам проще проверять границы мира именно с помощью женщин?
– Знаете, когда мы учились, мой мастер Сокуров говорил нам: работая над характерами, вы должны быть гендерно нейтральными, гермафродитами, теми существами, которые, находясь в утробе матери еще до какого-то момента не имеют пола – он еще не определен биологически. Вот это состояние нейтральности, мне кажется, очень важно автору в себе поддерживать.
– Получается?
– Я стараюсь. Возможно, какую-то роль сыграло еще и то, что я большую часть своей жизни прожил с матерью, мои родители были в разводе. Мне с женщинами комфортнее.
– В жизни?
– В жизни, на площадке, на экране, на бумаге. Возможно, это немного эгоцентрично, но я с помощью фильмов пытаюсь ковыряться в себе. С помощью своих женских персонажей я пытаюсь исследовать свою женскую сторону. Да и не только женскую, себя самого. Мне кажется, таким и должно быть авторское кино, разве нет?
– Довольно вызывающе звучит в контексте того, что именно сейчас, как мне кажется, наступил кульминационный момент межполовой борьбы: с одной стороны, домострой, с другой – феминистки. А вы как будто сразу принимаете чью-то сторону.
– Да нет, я никогда ничью сторону не принимаю.
– Вы феминист?
– Смотря что считать феминизмом. У некоторых очень агрессивный феминизм. Но я за равноправие.
– То, что вы говорите, диссонирует с привычным представлением о взглядах мужчины, выросшего на Кавказе. Мне кажется, там речь пока не идет ни о каком равноправии полов.
– Я не думаю, что дело только в Кавказе. Это вообще – российская проблема. Но мне кажется, что и на Кавказе, и вообще в стране взгляд на главенство мужчины устаревает. Причем устаревает чисто нравственно, потому что уже понятно, что женщина намного сильнее мужчины в некоторых аспектах.
Смотрите, я сейчас ищу вдохновение в рассказах Фолкнера…
– Мой любимый писатель.
– У меня он – второй после Платонова. Так вот, в маленьких рассказах Фолкнера всё время повторяется такое понятие, как «земля отцов». В этом понятии заложено ущемление, агрессия, превосходство высшего над низшим. Мне кажется, что если вместо «земля отцов» говорить, например, «земля братьев», – в этом был бы символ равенства, когда отец сыну не отец, а брат. Еще я ни разу ни от кого не слышал «земля матерей» – всё время «земля отцов, земля отцов, земля отцов, земля отцов, земля отцов».
Если бы Кавказ в какой-то момент начался как «земля матерей» или «земля сестер», то, может быть, было бы другое, было бы смягчение какое-то. Но предки – это всегда почему-то отцы.
Многие, думаю, меня не поддержат, но я с удовольствием, например, видел бы во главе государства женщину. Мне интересно было бы. Мне кажется, это был бы поворотный момент в жизни государства, произошло бы, думаю, смягчение нравов.
– Иногда женщины гораздо более жестоки, чем мужчины.
– Почему вы так думаете?
– Потому что мужчина, например, не может быть Медеей.
– А я Медею ни в коем случае не осуждаю.
– Думаете, он ее довел?
– Да нет, не в этом дело. Нас вообще учили никого не осуждать и пытаться оправдать, принять и понять, почему человек это сделал, что подтолкнуло.
Знаете, когда я на первых курсах читал «Госпожу Бовари» Флобера, меня дико раздражала эта героиня. А потом, спустя какое-то время, перечитал и понял, что она очень несчастная женщина. И я поймал себя на том, что начал ей сочувствовать, оправдывать ее, вставать на ее сторону, хотя раньше был совсем на противоположной. Я стал понимать ее обстоятельства, причины и первопричины ее травмы.
– Если исходить из травмы как первопричины поступка, то любой герой, прошедший войну и блокаду, – заранее прощен и оправдан. Люди, видевшие ад наяву, имеют право на всё – так получается?
– Мне очень интересна эта территория – территория, где отсутствует Бог в какой-то момент. И появляется некая нравственная и этическая жестокость.
При этом я – верующий человек. Не религиозный, но я верю, что кто-то там наверху существует и помогает мне и моим близким.
Но я не настолько верующий, чтобы не задаваться вопросом, а где ты был, когда происходили события в Беслане или на «Норд-Осте».
Я не слепо верую. Мне интересен диалог. Это пафосно звучит, я понимаю, но мне действительно интересен диалог с тем, кто там наверху. Мне интересен этот дуализм, попытка отыскать человеческое в абсолюте, его слабости.
– В «Дылде» это очень чувствуется. Но меня, честно говоря, поразило, что картина очень красивая. Каждый кадр точно построен, и видно, как над ним работали и режиссер, и оператор-постановщик, и художник-постановщик. По-фламандски яркие зеленый и красный цвета, свет, которым заполнено пространство… Я сначала была поражена такому стремлению сделать ад визуально красивым, а потом подумала, что, видимо, в этом и был замысел.
– Я просто не хотел, чтобы было ощущение, что мы наслаждаемся, упиваемся страданиями главных и второстепенных героев. Я отдавал себе отчет в том, что если не будет вот этой какой-то чрезмерности, то фильм будет очень… Как вам это объяснить? Я подумал, если сделать кадр мрачным, мои герои не будут выглядеть достойно, они будут смотреться упаднически, даже безнравственно.
– Но они люди, прошедшие войну и вернувшиеся в город, который пережил блокаду. У них нет сил никак выглядеть.
– Да. Но многие это забывают. Например, многие удивляются, почему Маша так отреагировала на смерть ребенка? Как – почему? Потому что она – человек, привыкший к смерти. Готовясь к фильму, я очень подробно изучал «Блокадную книгу» Гранина и Адамовича, я читал блокадные дневники. Я понял, что у людей, прошедших через эти жернова, сбился, если можно так сказать, нравственный компас, атрофировались чувства и наступила так называемая «моральная дистрофия».
Поэтому реакция Маши – в ее ситуации – это нормальная реакция: умер ребенок, да, значит, мне нужен новый ребенок, поехали за ним. И они едут, пытаясь зацепиться хотя бы за что-то в этой жизни. И вот, возвращаясь к красоте в кадре, которая вас задела, я намеренно это делал потому, что я хотел приподняться чуть-чуть над той реальностью, которая была.
– Такое построение кадра превращает «Дылду» в притчу, так?
– Отчасти да. Но еще не забывайте, что Ия – всё-таки контуженный человек. И может быть, таким видит мир контуженный человек. Эти смещения красок тоже, может быть, с точки зрения ее взгляда на мир, оправданы.
Цвет был для меня принципиален. Я, когда готовился к «Дылде», часто загонялся, что все фильмы про войну – они такие монохромные, приближенные к черно-белой картинке, к серому. Если на такую картинку накладываются сложные поступки героев, то получается кино, которое уже было, которое мне бы не понравилось. Поэтому я сделал так, как сделал.
Да, я не отрицаю: возможно, где-то я переборщил. Может, это было связано еще со страхом второго фильма, и я пытался показать, что всё не случайно, и в какой-то момент, может быть, перегнул палку.
– Меня удивила в «Дылде» одна не содержательная, а, скажем так, относящаяся к оформлению деталь. Первый титр, который мы видим, – это фамилия продюсера Александра Роднянского. Не ваша, режиссера, а продюсера. Почему?
– А что вас так удивило? Такой регламент в этой компании. Да и нету у меня амбиций в том, чья там фамилия в начале, чья – в конце. Мне человек помог снять фильм. Мы сняли его, что очень важно, без государственной поддержки.
– Это принципиально?
– Нет. Но я на процентов 90–95 уверен, что никакой господдержки «Дылде» не дали бы. Отсутствие государственных денег для меня не принципиально, но я не хочу делать фильм с оглядкой на кого-то. Цензура нужна только тогда, когда это самоцензура, когда она исходит от тебя самого, а не от регулирующего органа, от государства. Или даже от кого-то другого. Это, мне кажется, непозволительно. В этом плане я очень благодарен Александру Роднянскому. Никакого давления на меня не было. Вы можете верить или не верить, но у меня была абсолютная творческая свобода. И это еще не всё.
Всё, что я просил для фильма, всё было сделано. На стадии монтажа – а картина шла три часа пятнадцать минут – было кое-что вырезано, была вырезана одна сцена с второстепенными героями. Потом всё понемногу сжималось. Но Александр Ефимович ни на чем не настаивал. Он просто говорил: «Я тебе предлагаю, посмотри, попробуй вот тут сократить. Но если ты чувствуешь, что тебе этот вариант не подходит, не делай этого. Это авторское кино».
И я уверен, что даже на финальном этапе какие-то вещи могут его не устраивать. Но в этом плане, когда он очень четко разделяет коммерческое и авторское кино, он дает нам свободу.
– Вам?
– Сейчас Кира делает кино, в котором тоже продюсер – Роднянский. И я вижу, как у нее это происходит. Он не довлеет, он отпускает.
– Однако же к картинам, спродюсированным Роднянским, и к «Дылде» в том числе, предъявляют претензии в том, что это кино, ориентированное так или иначе на западный рынок, на кинофестивали.
– Что бы я сейчас ни сказал, вы никогда не поверите. Я – заложник мнения, что «Тесноту» снял Сокуров, а «Дылду» – Роднянский. Я не буду тратить силы на то, чтобы с этими стереотипами бороться.
– Вы сейчас общаетесь с Сокуровым?
– Мы периодически переписываемся. Ну как? Я ему пишу, он иногда отвечает, иногда не отвечает. Но вот я тут был в Теллуриде, это в США, штат Колорадо, такой закрытый фестиваль. Я там был с «Дылдой». И ко мне подошел Вернер Херцог. Мы начали разговаривать. Он начал говорить про Сокурова. И оказалось, что подруга Херцога – один из организаторов этого фестиваля. И оказалось, что у нее есть фотография Сокурова: в 97-м году он сидит в автомобиле как раз в Теллуриде Колорадо. Она мне эту фотографию подарила. Мне было очень приятно: какое-то ощущение связи, понимаете? Это был очень дорогой для меня момент. Я отправил фотографию Александру Николаевичу. Он ответил: «Благодарю за память».
Я скучаю по нему. Я бы очень хотел показать ему «Дылду» на ранней стадии. Наверное, он бы не захотел смотреть. Я даже думаю, что он и не видел фильма. А если видел, я уверен, что ему не понравилось. Но я считаю себя учеником Сокурова. Большей частью того, что во мне есть, что я сейчас имею, я ему обязан.
– Вам стала нравиться фестивальная жизнь?
– Знаете, с «Теснотой», когда я был в Каннах, мне было очень неловко, неуютно. С «Дылдой» я чувствовал себя чуть более спокойно, но это связано с тем, что я уже знаю там некоторых людей, я познакомился с кем-то. Но всё равно в смокинге чувствую себя некомфортно.
– Как вы относитесь к тому, что некоторые режиссеры с мировым именем презирают фестивали, считая их ненужными, необязательными и даже вредными?
– Да, многие считают, что это vanity fair, и отчасти так и есть. Очень многие люди приезжают туда, чтобы показать себя. Но я воспринимаю фестивали как возможность дать фильму жизнь. Вот если бы «Дылда» не попала бы ни на один фестиваль класса «А», количество зрителей, ее посмотревших, было бы намного-намного меньше. С одной стороны, да, это – авторское кино. С другой – хочется, чтобы твой фильм увидели. А еще фестиваль – это повышающаяся вероятность того, что тебе со следующим фильмом всегда будут помогать, за тебя зацепятся и дадут тебе какую-то возможность реализоваться. Поэтому я ничего не вижу плохого в них.
Правда, сейчас я от многих фестивалей отказываюсь, если нет обязательств. Еду только туда, куда не могу не поехать. Фестивали, конечно, отнимают кучу времени: это одно и то же, одно и то же – бесконечные интервью, на девяносто процентов которых приходят журналисты, которым абсолютно всё равно, что ты скажешь, им просто нужно забить материалом колонку, сайт или телепередачу. И я про себя понимаю, что просто трачу время и постоянно говорю о прошлом, а меня страшно тянет домой, где я смогу сесть и думать о новом.
– Что в вашей новой жизни оказалось не таким, как вы себе представляли?
– Я, мне кажется, до сих пор не понимаю никакой грандиозности происходящего, никакого масштаба. Когда взяли «Тесноту» в Канны, я подумал «Блин, вау, круто!» Но всё оказалось как будто чуть меньшим, чем я себе представлял. То же самое в Теллуриде: вот закрытый показ, туда приходят самые настоящие голливудские звезды. И ты чего-то такого ждешь, представляешь себе, придумываешь. А приходят обычные простые люди: кто-то из них такой маленький, приземленный, кто-то – совсем старичок. Дистанция вдруг становится небольшой, и всё оказывается менее значительным. Возможно, это даже хорошо.
– Ваши родители смотрят ваши фильмы?
– «Тесноту» – да, они смотрели. «Дылду» вроде мама посмотрела. Отец – точно не знаю, может быть, тоже. Но мы это как-то не обсуждаем.
– Почему? Они вообще как себе представляют вашу нынешнюю жизнь?
– Я думаю, что изменилось вот что: и мама, и отец начинают иногда ко мне прислушиваться. Мама, в общем, и была в этом плане помягче, но с отцом раньше такого не было. А сейчас я как будто имею право на свое мнение, я могу высказываться по каким-то там вопросам, мы можем спорить.
– В прошлый раз, когда мы встречались, у вас была проблема второго фильма. А сейчас?
– А сейчас – третьего, четвертого, пятого.
– Боитесь остаться в статусе молодого, подающего надежды режиссера?
– Если вы намекаете на кризис среднего возраста, то я не тороплюсь. Я вообще не тороплюсь. А с третьим фильмом особенно не хочу торопиться. Я хочу понять.
– Что?
– Хочу понять, про что я хочу снимать. Я хочу снять про Северный Кавказ, про парней, которые там живут. Но нахрапом делать ничего не хочется. Хотя мне кажется, большой перерыв тоже важно не делать. Это как с тренировкой: когда долго не тренируешься, у тебя слабеют мышцы и ты начинаешь терять сноровку. В этом плане, конечно, тоже есть своя опасность. Но пока я еще не определился: много идей, много желания. Я вот недавно встретил в аэропорту молодого парня из «Мемориала», который дал мне книжку: «Почитай. Может, тебе покажется интересным». Книжка была про причины событий 13 октября 2005 года в Кабардино-Балкарии. У меня в голове всегда было ощущение, что про этот момент в жизни республики стоит снять фильм. Но важно, чтобы это было что-то художественное. Пока не придумал, как это сделать.
То есть планов много. Пока просто хочется чуть-чуть выдохнуть. Может быть, я некоторое время буду заниматься вещами, не связанными с кино, через которые смогу отрефлексировать что-то, что мне важно.
– Например?
– Это секрет. Но это касается и каких-то арт-пространств, и какой-то повседневности. Хочется создать команду молодых людей, которым будет важна возможность самореализации, а не единственный вопрос: «Сколько з/п?» Которые будут спрашивать «какая тема?», а не «какой бюджет?» Я не говорю, что зарплата и деньги – это плохо. Ни в коем случае. Но когда это стоит на первом месте, возникают сомнения в том, что тебе действительно нужно работать с этим человеком.
Дождь за окном становится сильнее. Кантемир Балагов накидывает капюшон и выходит из кафе, где мы встретились. Через большое окно видно, как он поднимает плечи и торопится домой. Сквозь дождь, сквозь китайцев в цветных дождевиках, неизменно фотографирующих нарядные фасады Старого Арбата.
Интервью восемнадцатое Ирина Ясина
Мы сидим у большого окна и пьем вино. Через стекло хорошо видно белку, что прыгает по сосне вверх и вниз без особой цели: ничего внизу не подбирает, ничего наверх не уносит. Просто белка в хорошем настроении. Скачет.
Сумерки сгущаются. И внутри дома становится светлее, чем у белки снаружи. Белка замирает и разглядывает нас.
Ясина спрашивает: «Хочешь еще вина?» Потом говорит: «Какой кайф – смотреть за белкой, правда? Просто смотреть. И больше – ничего».
Ирине Ясиной 19 мая 2019-го исполнилось 55 лет. Она экономический публицист. Дочь бывшего министра экономики России Евгения Ясина. Было время – руководила департаментом общественных связей Центробанка (Банк России), вела радио- и телепередачи, была директором программ «Открытой России», возглавляла Клуб региональной журналистики. В тридцать пять лет получила диагноз «рассеянный склероз», но не сбавила оборотов, может, даже наоборот: возглавляла, руководила, участвовала, выступала, спорила и боролась с удвоенной силой.
В первый год болезнь заставила ее отказаться от высоких каблуков, во второй – ходить с палочкой, через несколько лет – сесть в инвалидную коляску. В один из первых моих приездов в ее дом Ясина показывала мне свои прежние туфли на шпильке, водруженные на манер музейного экспоната за стекло книжной полки. Теперь показывает белку.
[72]
– Что изменилось?
– Этого не скажешь запросто. А если скажешь, не прозвучит как-то важно или значительно: я стала проводить время по-другому. Я сейчас занята тем, что чувствую себя. Я живу. И живу, наконец, так, как хочу. Читаю и перечитываю книги, которых не читала или думала, что читала: мне казалось, что по верхам – это достаточно. И вот я сижу у окна или перед камином, заваленная книжками, и напитываюсь знаниями, которые мне по большому счету не особенно нужны. То есть в практическом смысле вряд ли пригодятся. Но я жадно их впитываю. Я делаю это только для себя, это мне надо, мне важно. Хочешь – назови это самоудовлетворением, таким онанизмом, я не против. Мне даже нравится: я, быть может, впервые в жизни делаю что-то только для внутреннего пользования, для себя.
– Ты ни с кем этим не делишься?
– Разумеется, есть некоторое количество собеседников, с которыми я обсуждаю прочитанное, нам хорошо и интересно. Но в основном – это всё ради себя. Ты представить себе не можешь, как это классно.
– Раньше было не так?
– Было совсем по-другому. Я не чувствовала ни потребности, ни возможности остановиться и заглянуть в себя, остаться только собой и с собой. Сейчас это доставляет мне радость.
– Почему раньше не получалось?
– Думаю, потому, что я была всё время на бегу, хотела везде успеть. А когда всё время бежишь, мечешься, стараешься оказаться и там, и там, напомнить о себе, напомнить кому-то другому о чем-то важном, быть полезной и так далее, ты не успеваешь ощутить свет и покой, который совсем рядом. Он снисходит на тебя, стоит только остановиться и дать ему возможность. Это невероятное чувство.
– Похоже на описание обретения веры.
– Это не совсем то. Не воцерковленность на уровне «сходить к Матронушке», но это – вера, просто не вполне такая, как принято считать: у нас же считают, что если человек пришел к вере, то он поклоны бьет, умоляет простить, и такой весь в черном платке и черной юбке. Я – нет. Ни платков, ни юбки, ни поклонов. Но я стала относиться к жизни очень серьезно. Я передумала свою жизнь очень основательно, и за всё, за что надо было попросить прощения, – прощения попросила.
– За что? У кого?
– У тех, кто встречался на пути. Я иногда очно, иногда заочно, иногда сама перед собой это делала. И мне стало легче. Я ощутила и признала себя частью коммунистической истории XX века, частью своей семьи.
Я разложила по полочкам всё: и своего дедушку, который, как в «Происхождении» Багрицкого, вышел из еврейского местечка и устремился навстречу советскому строю: служил в ЧОНе[73] и скакал по степям Южной Украины и Бессарабии. Я приняла всю его биографию, часть которой – наша фамилия Ясин, это ведь не фамилия, по сути, это дедушкино самоназвание, партийная кличка: «Ясин». Как Сталин или Ленин. А какая у него на самом деле фамилия, никто не помнит. Я поняла всё про своих родителей и успокоилась по этому поводу. Кого надо, простила. Провела кропотливую работу над ошибками.
Это всё не уместишь в простое словосочетание «пришла к вере», но что-то похожее.
– Обычно в этом месте начинается рассказ про перевернувшее жизнь путешествие на Афон или что-то в этом духе.
– Нет. Никакого Афона не было. Мои перемены связаны с ведением дома, чтением пыльных книг и сменой приоритетов.
Я не то чтобы логически дошла до своих внутренних перемен, просто как-то почувствовала, что именно в этой точке, в точке веры, я, возможно, обрету покой. Всё это странно, в том числе и мне. Я же с детства такая урожденная атеистка. Атеисточка.
Такими были мои мама с папой. Папа и сейчас убежденный атеист, антиклерикал, учивший меня с младых ногтей, что вера – это прибежище слабых и необразованных людей. Помню, как про одного нашего французского приятеля папа сказал: «Как интересно: умный человек, а верит». Я такую концепцию не то чтобы разделяла и принимала, но я была в ней выращена и следовала этой логике. Я смотрела на верующих людей, которые окружали и окружают меня в большом количестве, – среди них мои подруги и люди, к которым я с огромным уважением отношусь, – и думала: «Что надо почувствовать, чтобы понять, почему они верят и что их в этой вере удерживает?»
– Но ты – крещеная?
– Я во взрослом возрасте узнала, что я крещёная. Очень удивилась. Оказалось, что меня крестили моя бабушка и моя тетка, которая, в свою очередь, была крестницей моей бабушки. Эти две подвижницы христианские крестили меня в 1966 году. Кажется, что это было время послабления, но это не совсем так, точнее, не так во многих смыслах. При Хрущёве за связи с церковью очень и очень можно было схлопотать.
– Родители стойко приняли известие о твоем крещении?
– Они не воевали с церковью. Они просто в ней не нуждались, понимаешь? Это довольно-таки разные вещи. Со временем я поняла, что у мамы и папы подход к вере был утилитарным: они считали себя сильными людьми и, значит, костыль из веры им был ни к чему. Им на фиг не требовалась никакая поддержка или подпорка. Они верили в науку.
– Но наука не помогает человеку в принятии собственной смерти и объяснении себе смысла своего (своих родителей, детей, – всех) существования. Трудно себе представить, какие силы требуются людям, которые придерживаются научных воззрений, чтобы принять тот факт, что смерть всё обнуляет.
– Но смерть ничего не обнуляет! Ничего подобного. Не обнуляет совершенно. Странно, что об этом говоришь ты – человек, имеющий четверых детей и сделавший много хорошего другим людям. Знаешь, ко мне как-то пришла моя маленькая дочь Варька, которой было, наверное, лет восемь или девять. Она в тот момент бунтовала против раннего укладывания спать и, в качестве аргумента, заявила, что боится заснуть, потому что боится умереть во сне. Я говорю: «С чего ты взяла, что ты умрешь во сне?» – «Я слышала, как няня сказала, что Коко Шанель заснула и умерла во сне, когда ей было 92 года», – говорит мне девятилетняя Варя. «Ты себе не можешь представить, какое это счастье – умереть во сне совершенно здоровым, деятельным и творческим человеком. Да к тому же в 92 года! Это просто реально светлая и прекрасная история», – уверенно сказала я ей. И Варя перестала бояться засыпать.
Но лет в шестнадцать Варя снова пришла и говорит: «Я боюсь смерти, я боюсь смерти безумно». Я ответила: «Ты боишься, потому что у тебя нет детей». Она говорит: «Почему?»
– Правда, почему?
– Это же очевидно: как только у тебя появляется ребенок, любая нормальная мать на вопрос: «Он или ты?» – а такой экзистенциальный вопрос возникает время от времени, – не задумываясь ни на секунду, отвечает «я». В тот момент, когда у тебя появляется ребенок, ты понимаешь, что отдать свою жизнь не так жалко, как отдать жизнь кого-то другого. И это значит, что ты уже – бессмертен. Ты знаешь, что твой ребенок и будет твоей следующей, твоей будущей жизнью.
– Но тебя не будет. И ты этого будущего всё равно не увидишь.
– Ну и что, что не увидишь. Ты сыграла свою роль в цепочке, которая не только биологическая, но еще и, если угодно, моральная, потому что ты в своего ребенка внесла что-то, что было в тебе, было в отце этого ребенка, было в ваших отцах и матерях. Для меня наличие детей – это часть бессмертия абсолютно очевидного.
– Но именно наличие детей подчеркивает смертность родителей. И прибавляет страха. В том числе страха смерти.
– А не надо бояться. Господь управит. Знаешь такое выражение?
– Нет.
– У меня поводов бояться гораздо больше, как ты понимаешь, чем у любого среднестатистического человека. У меня есть поводы бояться будущего. И это довольно страшно. Но у меня на душе покой. Потому что я совершенно точно знаю: «Господь управит».
– Что это значит?
– Когда болезнь усадила меня в кресло, я совсем не была к этому готова, никакого смирения во мне не было. И тут в какой-то момент рядом со мной появилась Лена. Лена Воскобойникова. Мама красавицы Жени Воскобойниковой[74], воронежской модели, которую случайное трагическое происшествие сделало инвалидом. И Ленка провела годы жизни у постели дочери, ухаживая, помогая сесть, выйти из квартиры, как-то жить. И вот Женька уже выписалась из больницы, переехала в Москву, пошла на работу, стала телеведущей. И у нее как-то стала налаживаться прекрасная своя жизнь.
А Ленка поняла, что дочери стало лучше, значит она – свободна. И она нашла себе служение. Нашла себе меня, стала помогать мне. Понимаешь? Я никогда в жизни не заплатила ей ни копейки. Мы с ней мотались по всей стране и за границу, на работу, на какие-то встречи, еще куда-то. Она всегда была при мне, рядом. Но это было не за деньги, это не было для нее работой в привычном понимании этого слова. Это было служение. Она служила мне и была через это служение благодарна за то, что что-то произошло, что-то спустилось в ее жизнь. Лена – простая русская женщина с высшим образованием, инженер-электронщик оборонного предприятия со статусом «совершенно секретно». И часто в самых запутанных и нерешаемых ситуациях, да и в самых обыкновенных, но с неопределенным финалом, она произносила: «Господь управит». Я долго не врубалась, что это, как управит, кем, кому. Но постепенно до меня стал доходить смысл. Это такое очень народное, невысоколобое христианство. Вера, позволяющая человеку не сопротивляться, но принимать ниспосланное с благодарностью. Это умение видеть свет и обретать покой, не дергаться, а доверяться. Вот что значит «Господь управит».
И когда я это приняла, то поняла, что я не знаю, есть ли жизнь после смерти, нету ее, есть рай – нет, но существует нечто нематериальное, что называют душой и что Вернадский гениально сформулировал как ноосфера. Оно продолжает жить после нас. Какие-то твои слова, твои заповеди, которые ты оставил своим детям, или своим ученикам, или своим подругам, которые передали это своим детям, – в этом ты живой и бессмертный. Материальная жизнь – вот мы сейчас с тобой сидим у камина – она закончится, она конечна. Но жизнь твоих идей и жизнь твоих детей, по сути, бесконечна.
Приходит кошка Нора. Серая, немолчаливая (всё время о чем-то мурлычет себе под нос), с трогательно опущенными ушами, довольно пушистая. Аккуратно проходит по креслу, в котором сидит Ясина, по-свойски задевает ее щеку хвостом. И уходит. Ложится на диван, над которым за годы Ириной болезни разрослась целая стена фотографий: родители и их родители, дети и годы их взросления, замершие мгновения прошлой жизни, естественным образом упирающиеся в настоящее. В 2013 году, когда я впервые попала в дом к Ясиной, стена с фотографиями была практически пустой. Кошка, впрочем, уже была.
Незадолго до публикации этого интервью Норы не стало. «Сегодня ушла на радугу моя любимая, родная и самая лучшая девочка Нора. Произошло это внезапно. Врачи говорят, что тромб. Подробностей не расскажу. Тяжело. Чтобы дальше дышать, мы поехали и купили еще двух котов. Маленьких, веселых. Один похож на Нору расцветкой, другая – характером. Соломон и Мышка. Пройдет много времени, пока я к ним привыкну», – напишет Ясина в своем фейсбуке.
– Почему тебе стало важно, чтобы рядом были животные: кот, белка, птицы, с которыми ты говоришь и о которых ты пишешь; смена времен года, что происходит за твоим окном, – это теперь составляет смысл твоей жизни?
– Оказалось, что это – ужасно важно. Жизнь на самом деле, в высшем своем смысле, сводится к белке или к коту! И это неплохо. С ними интересно, и про них – интересно. Но наблюдать это можно только из состояния покоя. На бегу всё мелькает, ничего не разберешь. Конечно, я остановилась не сама по себе. Течение болезни заставило меня остановиться: мне стало тяжело бегать и вести прежний образ жизни. И пришлось переформулировать жизненную философию: раньше я хотела жить ярко, теперь я хочу жить долго. Я поняла, что если не прекращу все эти поездки, суету и беготню, я не потяну свою жизнь. Процесс моего рассеянного склероза идет и не останавливается, но он будет идти быстрее, если я не остановлюсь. И тогда у меня не будет возможности даже просто сидеть у окна, смотреть в камин, на снег, на расцветающие цветы, потом – цветущие, потом – увядающие и снова снег. А смотреть хочется!
Ведь вдруг оказалось, что сидеть, замерев, тоже страшно интересно. Ты меня не поймешь, просто поверь: когда сидишь на попе ровно и не суетишься, в голову приходят довольно интересные, но очень спокойные мысли. Я сейчас с содроганием вспоминаю, какие у меня были приступы паники.
– С чем они были связаны?
– В моем состоянии они могли бы быть связаны с чем угодно, с любым намеком на будущее. Я ярко помню, в каком ужасе была, когда началась война на Донбассе и гонения на Украину и украинцев в России. Это 2014 год. Я поняла: сейчас перестанут пускать украинцев в Москву. И пришла в ужас: все мои сиделки – украинки. И это не какие-то случайные чужие люди. Это практически члены моей семьи: мои подруги их знают и любят, поздравляют с днями рождения, у них есть их телефоны, то есть это уже прорастание друг в друга. Но главное в том, что мои сиделки – одна из причин, почему мне было позволено, чтобы на меня снизошел покой: с ними мне стало надежно и жизнь оказалось той, которой можно жить. Я привыкла к ним, они – ко мне. И ситуация, когда из-за всей этой геополитики они могли бы исчезнуть, поменяться, была действительно страшно нервной. Здоровому трудно понять: когда меняется сиделка, меняется весь ход жизни. Понятно, что рано или поздно они сменятся: они живые люди, у них растут дети и стареют родители. Но это естественный ход событий. А нахождение этих женщин рядом со мной дает мне обалденное ощущение спокойствия и нерушимости моего мира. Мы живем рядом, у нас отношения, мы миримся друг с другом. Вот на дне рождения Горбачева Люда говорит: «А можно мне с Собчак сфотографироваться?» И меня это не бесит, и она не стесняется и не боится мне об этом сказать, попросить.
– Когда ты руководила пресс-службой Центробанка, тебе гораздо более невинные вещи боялись сказать гораздо более бойкие люди.
– Это понятно: я же в битве была, я билась с миром, за мир. И совершенно не собиралась, да что там – и помыслить не могла, что когда-либо пожелаю остановиться. Но я остановилась. Хотя мне всё еще интересно наблюдать. Это – во-первых. А во-вторых, всё еще есть люди, которым я нужна и могу помочь.
– Например?
– У меня есть подопечные юные барышни, которым я помогаю, начиная со здоровья и заканчивая тем, что одной девочке, которая у меня работала в РИА «Новости», я, когда она собралась замуж, приданое собирала. Их у меня человек шесть или семь. Одна из них, к примеру, чудесно окончила вуз, работала в какой-то из компаний большой четверки, всё у нее было классно, но ей это не нравилось. Вышла замуж, еще больше всё разонравилось. Тогда она с мужем развелась и уехала в Таиланд учиться тайскому массажу. Выучилась, стала работать, всё сделалось замечательно, прямо как она хотела: покой, мир и тайский массаж. А потом – остеосаркома в тридцать один год, причем дикой площади поражения: тазовая кость, крестец и вся левая часть жопы. И как это соединить с тем, что она никаким образом не подходит ни одному благотворительному фонду, который мог бы помочь? Что никого у нее нет и никто не будет ею заниматься? Как всё это принять, особенно учитывая, какая она классная, эта девочка?
Причем сделать, увы, нельзя ничего. Она была на Каширке, ей сказали, что нужно отрезать задницу. И это единственное, что может продлить жизнь, но качество жизни, естественно, будет примитивное, потому что это крестец, то есть нервные пучки. Ноги сразу повиснут, органы малого таза перестанут работать. Но это жизнь. Такой выбор.
– Что она решила?
– Она решила пробовать всякие тайские и индийские аюрведы. Я нашла ей на это столько денег, сколько было надо, потому что человек должен делать то, что он считает нужным. Потому что у нее должно быть право совершить ошибки, свои собственные. Даже если это будет стоить ей жизни.
– Ты говорила с ней о том, что такой выбор действительно может стоить жизни?
– И да и нет. С ней говорили врачи. Моя роль тут такая, что я просто должна принять ее решение. Без осуждения и попытки ее воспитывать.
– Чем всё закончилось?
– Еще пока ничем. Она жива, но с болями. Лежала недавно в аюрведической клинике, на которую требовалось сто десять тысяч рублей. Я нашла ей эти деньги. Туда она ушла на костылях, оттуда – своими ногами. Но боли есть, это плохо. Посмотрим, что будет дальше.
Становится совсем темно. Белку не видно, а кошка ушла спать. Окно сделалось черным квадратом, в котором отражается оранжевый язык камина. Тихим голосом Ясина учит меня переворачивать внутри камина поленья, чтобы они лучше и дольше горели. Ее указания короткие, четкие и понятные. Их легко выполнять: «Захвати посередине среднюю деревяшку, вынь ее и постарайся аккуратно, ближе к стенке положить наверх. Молодец, у тебя здорово выходит для первого раза!» – говорит она. И я собой горжусь. Но тайком думаю: «Откуда, интересно, она знает, как переворачивать эти поленья? Она же никогда сама их не переворачивала!» Камин в этом доме стали разжигать уже после того, как у Ирины Ясиной перестали действовать руки.
«Принеси, вот там свечки стоят на полке, – говорит она, – поставь на столик. Смотри, какие гениальные свечи. Когда две вместе складываешь – получается Иерусалим. Мне их подарила вчера Ирина, дочка Святослава Федорова. Была в гостях». Свечи загораются. Если очень сильно постараться и напрячь воображение, они действительно похожи на Иерусалим. Пламя от свечей двоится и троится в черном окне. Некоторое время мы за этим просто молча наблюдаем.
– Ты убрала свои туфли с книжной полки?
– Нет, они там так и стоят. Только книжная полка переехала. Вместе со всеми книгами, которых стало много больше, она уехала в гараж. Там тепло и уютно.
– А туфли?
– Туфли уехали вместе с книгами.
– Ты таким образом подвела какую-то черту?
– Я не ставила перед собой именно такую задачу. Так само собой получилось. Сначала у меня были беспомощность и дикая злость на болезнь, ведь я еще молодая; и зависть, что все кругом могут, а я уже не могу. Но я с этим справилась. Было непросто: пару лет помучавшись вопросом «за что?», я довольно быстро переформулировала его в «для чего?» Ответы на этот вопрос до сих пор дают возможность двигаться.
– Почему болезнь, которая, по идее, должна лишать почвы под ногами, часто делает людей лучше, а некоторым даже позволяет переродиться?
– То, у чего нет логического объяснения, надо просто принимать. Иногда болезнь действительно творит чудеса. Например, на моих глазах, рядом со мной болела великая Катя Гениева. Мы запомнили ее такой, какой она была уже в болезни. Но я хорошо помню, какой – до. Помню наше первое знакомство: она тогда была настоящей Екатериной Великой. Царствовала в библиотеке, распоряжалась деньгами Фонда Сороса в России, делала невероятные по вкладу в будущее и по размаху и замыслу вещи. Но и бытовое величие ее было невообразимым: людей она почти не различала. Помню, это был примерно 2001 год, я пришла к Гениевой с идеей о том, чтобы проект Ходорковского «Открытая Россия» стал правопреемником соросовского проекта «Открытое общество»; Сорос уходил из России. Катя тогда вскинула бровь: «Что, Ходорковский? Дайте лупу». Короче, к ней было ни подойти, ни подъехать.
Заболев, Катя стала другой. Болезнь ее очень изменила. Мы с ней много общались. Болела она страшно тяжело, но с восхитительным достоинством и невероятной, непостижимой для обыкновенного человеческого ума внутренней работой и скоростью, насыщенностью жизни.
Для меня эта история важна еще и тем, что у Кати был тот же рак, что у моей мамы – неизлечимый, стремительный рак яичников, такая свирепая форма. Маме было отпущено два с половиной года. Катя выбрала болеть на бегу и сгорела быстрее: она наметила себе какой-то бесконечный список дел, которые надо сделать, проблем, которые надо было разрешить. И она бежала. За всю свою невероятную жизнь, плюс вот эти вот год и девять месяцев болезни, Гениева успела как следует наследить в ноосфере. Ей удалось изменить мир. Книжки, которые выпускал институт «Открытое общество», до сих пор есть во всех библиотеках страны. Они помогли России выжить двадцать лет назад и помогут еще обязательно, в будущем. Еще не раз и не два о них вспомнят, поверь. С таким послужным списком умирать не страшно вообще.
После Катиной смерти мы дружим с ее мужем Юрочкой, бесконечно в Катю до сих пор влюбленным, живущим памятью о ней. Я звоню ему иногда: «Юрочка, как ты?» И мы разговариваем. Эти обязательства – часть повседневной жизни. Но не только. Например, Юрочка отвез меня в Семхоз, где стоит их с Катей дача. Я там с приятельницей пару дней жила. Это рядом с тем местом, где убили отца Александра Меня. Там теперь стоит церковь, расписанная невероятным отцом Зиноном. Офигенное место. Строить эту церковь помогал сын Меня, Михаил, бывший прежде губернатором Ивановской области, а до нынешних перестановок в правительстве – министром строительства и ЖКХ России. Служит там отец Виктор Григоренко, который вырос в доме Меня, потому что он племянник его жены. Виктор рос вместе с Михаилом, они ровесники. Но Миша пошел в одну сторону, а Виктор, окончив абрамцевские художественные курсы, пошел в семинарию. Теперь вот служит в этой церкви на месте убийства отца Александра. Там, в этой церкви, всё очень круто: можно сидеть, лавки стоят; ходят люди какие-то человеческие, светлые, с ними можно говорить.
Но самое главное, Юрочка дал мне почитать всего Александра Меня. И Катя Гениева, и Юра – они с отцом Александром очень дружили, были близки, он их венчал. Я начала с «Истории религий», потому что вообще-то всю жизнь хотела быть историком. Вот какой поворот.
– А почему экономистом стала?
– Потому что папа с мамой мне сказали: «Если ты пойдешь на исторический, мы не сможем тебе помочь. Ты что, хочешь быть учителем в школе?»
– В смысле – помочь?
– Ну пропихнуть куда-то, помочь с работой после университета.
– И ты послушала и пошла на экономический?
– Я перепугалась: каким учителем? Я – учителем? И сделала так, как мне сказали. Это было рационально. И очень в духе того времени, тех представлений о том, что правильно, что нет. У меня перед глазами был пример моих родителей, которые выстроили вполне нормальную жизнь при социализме: они работали в экономических институтах при Академии наук, где можно было более свободно дышать, чем в институтах марксизма-ленинизма. Так что выбор был очевиден, а их предложение – разумным.
Я окончила экономический факультет МГУ по той же кафедре, что и моя мама. У меня была специализация «экономика Польши». Во времена моей юности это гарантировало, что я два-три раза в год буду ездить на ярмарки в польскую Познань, работать там переводчиком, за что мне будут платить чеками Внешпосылторга. Чеки с синей полосой – то есть валюта соцстран – ценились меньше чеков без полосы, которые были эквивалентом валюты капстран, но на них тоже кое-что можно было купить в «Березке».
– В Познани ты в итоге побывала?
– Я поступила на польское отделение экономфака летом 1981 года. 13 декабря 1981 года Польша перешла на военное положение[75]. И уже никакой ярмарки в Познани мне не светило.
Через два года меня выпустили в ГДР в составе группы студентов экономического факультета на производственно-ознакомительную практику. Мы ехали через Польшу, но нам не разрешали открывать окна и выходить на перрон ни в Варшаве, ни в Познани. При этом в Варшаве поезд стоял сорок минут на главном вокзале, который расположен аккурат в конце Иерусалимских аллей, главной улицы города… А я же знала по учебникам всю географию Варшавы, я с закрытыми глазами там бы сориентировалась! Но нас не выпустили. Это был уже 1984 год. До конца социализма оставалось совсем чуть-чуть.
Через год, спасибо Михаилу Сергеевичу Горбачеву, наступит перестройка. И когда в 1986 году я получу диплом с надписью «преподаватель политэкономии», у меня не будет необходимости работать по этой специальности ни секунды. И я с радостью этой возможностью воспользуюсь! Тем более, что довольно хитрым образом за годы своего обучения я умудрилась так ни разу и не открыть «Капитал» и не прочесть его.
– Библию ты читала?
– Нет. У меня нет в этом внутренней потребности. Я, как тебе говорила, читаю Меня. Слава Богу, он довольно подробно написал обо всем, что есть в Ветхом Завете, что есть в Новом Завете. Его книга «Сын человеческий» написана человеческим языком. Я ее с удовольствием прочитала. Понимаешь, я не говорю, что я никогда не прочитаю Библию, всякое может произойти, любой поворот. Хотя Ветхий Завет, наверное, никогда читать не буду. А вот «Историю религии» Меня про Ветхий Завет и всех этих пророков прочитала с огромным интересом, даже закладочки сделала, чтобы потом пересмотреть все тематические художественные произведения, что есть в мировых музеях (благо, теперь это можно сделать электронным способом).
Мне страшно нравится, что в меневском описании все ветхозаветные пророки словно еще на шаг или полшага не приблизились к тому пониманию любви, о каком в Нагорной проповеди говорит Иисус. То есть не то что они неправы, просто еще не дошли, им еще – не дано. Потребуется много времени, чтобы что-то понять, на какую-то ступень подняться. Это очень понятная идея, которая и сейчас может быть применима. Ведь среди нас, в нашем, в каком-то смысле ветхозаветном, времени появляются (и появлялись) люди, которые как будто бы на шаг впереди среднестатистического понимания, уровень ответственности которых и уровень понимания более глубокий, чем у других.
– Например?
– Улицкая, например. Сахаров – совершенно точно: человек, который, сотворив зло, дав его в руки другим, немедленно начал борьбу против применения этого зла и против всех, кому он его дал в руки. Ты можешь говорить, что он такой совестливый появился случайно, но это тоже та самая ноосфера, вечная жизнь и залог ее – люди, которые не боятся сказать, которые честны какой-то звенящей честностью, которые говорят и делают что-то, что не позволяет времени и нам в нем оставаться прежними. Их существование – залог того, что мы двигаемся в верном направлении, что ситуация не вышла и не выйдет из-под контроля. В это я верю и чувствую это достаточно ясно: всё под контролем, мы – точка в вечности. Это классное ощущение. Оно позволяет не суетиться.
– За хроникой каких текущих событий ты следишь?
– Никаких. Вся эта собачья свадьба с предвыборными кампаниями, с журналистикой, особенно политической, с которой я была очень долго связана, – мне больше неинтересна. Это, правда, собачья свадьба. Щеночки, иногда хорошенькие, родятся. Иногда нет. Если кобелек трахает кобелька, – а такое же у собачек тоже бывает, – то не родятся, а просто шум стоит. Да и наплевать. Мне неинтересно.
– Ты легко научилась жить вне контекста?
– В этом нет ничего трудного. Непросто бывает, когда бедный Ясин пытается со мной говорить о том, какой такой-растакой Сечин и какой вообще кошмар происходит, я ему неизменно отвечаю: «Папа, да. Но давай мы не будем об этом разговаривать».
– О чем же тогда вы говорите?
– К сожалению, в последнее время о бытовых проблемах всё больше.
– Почему «к сожалению»? Это плохо?
– Ему это неинтересно. А мне, наоборот, стало интересно намного больше: надо вести дом, хозяйство, принимать практически важные бытовые решения, касающиеся нас лично, а не всей страны вообще.
В коридоре включают свет. Шуршание. Крик: «Мам, это я!» Из Москвы за город к маме приехала дочь Варя, успешная молодая женщина. Через несколько минут из соседнего дома придет Евгений Ясин, отец Ирины, выдающийся российский экономист, с 1994-го по 1997-й – министр экономики России. Младореформаторы, в числе которых Егор Гайдар, Анатолий Чубайс, Сергей Кириенко, часто называют Ясина своим учителем. Варя и Евгений Григорьевич тихонько шепчутся в коридоре, ожидая конца интервью и возможности соблюсти традицию: уже несколько лет, когда позволяет время, три поколения Ясиных усаживаются в эти кресла у камина, чтобы спокойно беседовать до самой ночи. О чем? О каких-нибудь, наверное, сиюминутно важных вещах, которые в пересказе посторонним делаются грубее и проще, оказываясь в конце концов совершенно непонятными.
– Осталось что-то, с чем ты так и не смогла совладать?
– Я не могу сказать, что ничего не боюсь, потому что боюсь, конечно. Больше всего боюсь разрушения вот этого своего мирка, в котором я живу со своими книжками, белками, сойками, девчонками и папой.
– А старости, маразма или смерти?
– Нет. Старость у меня уже есть, потому что старость – это беспомощность, а я беспомощна. Маразма у меня не будет, потому что я учу стихи, считаю в уме и тренирую мозг. Чего еще можно бояться в моем положении? Бедности. Бедности я боюсь очень сильно. Потому что в моем состоянии бедность особенно печальна. Ведь я могу за счет расходов компенсировать какие-то свои немощи – это самое важное. Таблетки, которые немного тормозят развитие рассеянного склероза моей формы, тоже дорого стоят.
– Сколько?
– Четыре тысячи долларов в месяц. И у меня есть эти таблетки все восемь лет, с того самого момента, как появились. Спасибо моему другу М. Сначала, пока был жив мой [спутник жизни] Гоша, мне покупал Гоша. Не стало Гоши, стал покупать М., за что ему низкий поклон. При этом есть Л., есть еще В., есть еще Ю., каждый из которых говорит: «Я тоже готов». Это дает мне возможность не так сильно бояться, как я могла бы.
– Ты, скорее, боишься смерти или, скорее, ждешь ее?
– Я хочу жить долго и хочу обязательно умереть дома, то есть не в больнице. Я вспоминаю мамино даже не желание, ее мольбу о том, чтобы не умереть в больнице в реанимации голой с включенным светом. Но она именно так и умерла. Более того, отец, когда она уже переставала дышать, согласился на интубацию. И она еще три дня провела на аппарате искусственной вентиляции легких.
– Видимо, он очень ее любил?
– Он понимал, что это – всё, конец, ничего не удержишь. Но так было принято: бороться до последнего.
– Думаешь, не надо?
– Не надо бороться до последнего, надо бороться до комфортного.
– Так мы до эвтаназии договоримся.
– Если кому-то так комфортно, то да.
– Ты бы – смогла?
– Если бы у меня были нестерпимые боли, да, конечно. Я боюсь боли очень сильно. Боюсь и не умею ее переносить. Слава Богу, у меня хоть ничего и не работает, но ничего и не болит.
– Сколько ты хочешь прожить?
– Мне кукушка в прошлом году насчитала девятнадцать лет. Я хочу, чтобы хотя бы девятнадцать. Сейчас уже восемнадцать осталось.
Интервью девятнадцатое Людмила Улицкая
Машина едет по ночной разбитой пыльной дороге. В машине все, кроме нас двоих, спят. Мы едем к границе Армении и Азербайджана, на спорные территории Нагорного Карабаха. Сидеть неудобно, спать – трудно. Но все спят как-то.
Не спим мы с Улицкой. Пытались поговорить, но все спящие сквозь сон шикают. Машину трясет, пыль из-под колес облаком садится на лобовое стекло. Обезумевшие ночные мотыльки вылетают из тьмы и разбиваются о несущуюся машину насмерть. Водитель включает дворники, смывает их вместе с пылью. В окно почти ничего не видно: ночь и ни одного фонаря по пути. Ни одной встречной машины. Никого. Когда глаз привыкает, можно различить вдоль обочины бесконечно тянущуюся колючую проволоку, развалины бывших домов, остовы бывших зениток и бывшие чьи-то сады, полные деревьев, тяжелых поспевшими гранатами. Гранаты уже давно созрели и тянут, выгибают вниз ветви. Но собирать их некому. Это – мертвая земля. Здесь никто не живет. Всю жизнь съела война[76].
Мы едем по мертвой земле, которая недавно была живой. «Знаешь, а я ведь никогда раньше не бывала в зоне военных действий. Но всегда представляла себе поле, оставленное войной, именно так», – говорит Улицкая. Машина останавливается. Водителю нужно передохнуть.
Мы выходим. Слышно, как где-то внизу шумит горная речка. «Здесь, наверное, красиво», – говорит Улицкая. Но ничего не видно: темно. На ощупь подходим к краю обрыва, чтобы надышаться рекой. Река шумит, тревожно вскрикивает разбуженная нашей машиной птица. Курим и молчим. Так молча и возвращаемся в машину. Все спят.
Улицкая спрашивает: «Может, у тебя есть в компьютере что-нибудь посмотреть?» У меня в компьютере – «Великая красота» Паоло Соррентино.
Мы делим по-подростковому пополам наушники и смотрим: розовые фламинго, задумчивые жирафы, интеллектуальная элита Италии, художники, проходимцы, придуманные или подсмотренные Соррентино. Красота. В самых абсурдных эпизодах фильма мы хохочем, закрывая друг другу рты, чтобы никого не разбудить.
И если честно, этот великолепный ночной фильм из компьютера, случившийся в машине, подскакивающей на каждой кочке разбитой военной дороги, вместе с Люсей – теперь навсегда – мое счастливое воспоминание.
Об этом неловко говорить посторонним, но Людмила Улицкая – мой самый большой и самый дорогой в жизни друг. Подруга.
Мы познакомились по переписке: я снимала фильм о раке и о тех, кто эту болезнь победил. Написала Людмиле Евгеньевне Улицкой. Она перезвонила: «Пожалуйста, зовите меня Люсей».
Лично мы впервые встретимся поздней осенью 2011-го в израильской деревне Эйн Керем. Крошечная, коротко стриженная седая женщина – Улицкая оказалась именно такой – немедленно начинает рассказывать: «Деревня Эйн Керем до 1948 года была арабской, а потом, в один день, после того как арабы ушли в Иорданию в день объявления независимости Израиля, стала еврейской, как две тысячи лет тому назад. Здесь родился Иоанн Креститель. Здесь встретились две самые знаменитые еврейки, мать Иисуса Мариам и мать Иоханаана Элишева. Мария и Елизавета. Здесь есть источник, у которого они встретились».
В общем, мы познакомились у источника, где когда-то стояли Мария и Елизавета. Мне так хочется, чтобы в этом был знак. Возможно, он – был! Нарисованная будто бы детской рукой красно-синяя икона – Мария и Елизавета – из любимого Люсиного монастыря Сестер Сиона теперь висит над моим рабочим столом. На столе – засохший лимон – оттуда же. С собой в еженедельнике я ношу ее письмо, то самое, первое, о болезни и о том, что бывает после нее. Письмо, нас познакомившее. Вот оно:
Из письма Людмилы Улицкой от 13 июня 2011 года.
«…Если исходить из того, что за каждым человеком есть свыше какой-то присмотр и добрые ангелы ходят за нами толпами, можно предположить, что страдания разного рода дают возможности для роста… Но и это не особо приятно – чувствовать себя в вольере подопытным животным…
Все рассуждения этого условно высшего порядка отходят далеко за горизонт перед лицом поступков и действий, которые совершают люди, чтобы лечить, избавлять от страданий и давать надежду на жизнь больным людям, особенно детям. Я биолог, даже генетик по образованию, и болезни человека не заложены в программу, а есть следствие сбоя в программе, ошибки, несовершенства общего плана, иногда – плата за гениальную эволюцию, которая всё еще происходит и пошла по совершенно прежде невозможному пути: люди начали вмешиваться в ее ход и исправлять некоторые ошибки природы. Это и подтверждает величие общего замысла о человеке и его расширяющихся возможностях. И лучшая метафора здесь – ночная борьба Иакова при потоке Иавок. Бог вызвал человека на состязание, и Он даже хочет видеть человека борцом… Ну и как можно обо всем этом говорить? Еще написать кое-как можно… Привет, Люся У.».
С тех пор мы много говорим: о болезни и предначертанности, о долге и вере, о книжках, о детях, о мужьях. Говорим и теперь, когда над разбитой пыльной дорогой, разрезавшей надвое брошенные людьми сады и поля, встает большое и равнодушное оранжевое солнце.
– Вы понимали, куда вы едете?
– Совершенно не понимала, Катя. Поехать меня пригласила [учредитель фонда помощи хосписам «Вера»] Нюта Федермессер. Сказала, что жена нового премьер-министра Армении Анна Акобян пригласила эдакий женский десант в свою страну. Я согласилась немедленно.
– Почему?
– Если честно, потому, что я очень люблю Нюту, мы дружим, можно сказать, во втором поколении, начиная с ее матери, Веры Миллионщиковой. И дело, которым Нюта занимается, – великое. Но общаемся мы с Нютой очень мало, меньше, чем хотелось бы. Так что идея провести вместе три дня в Армении с не вполне определенным, но вполне положительным знаком, мне понравилась. Картина изменилась, как только я увидела участников группы: это были очень разных слоев, кругов и жизненных установок женщины. Точка, в которой всё сходились, – стремление прекратить убийства: в Приднестровье, в Абхазии, в Донецке, в Карабахе, в любом месте, где с двух сторон воображаемой границы убивают молодых мужчин. Кому-то они отцы, мужья, братья, а нам – сыновья. Здесь и раздумывать нечего: полное единогласие. Сама же поездка в Карабах просто перевернула мой взгляд на мир.
– Каким образом?
– Судьба меня прежде близко к войне не ставила. А тут я вдруг увидела многокилометровые развалины домов, руины, торчащие из земли железяки, полусожженные машины, трактора и покрытые плодами гранатовые деревья – а убирать урожай некому. Нет людей. В одном месте торчит из разрушенного дома сохранившаяся печь, а в другом – чудом выжившая посреди руин мечеть. Мы долго ехали сквозь эту апокалиптическую картинку.
А потом приехали «на позиции»: окоп, помост, смотровая щель. Мальчики-солдаты, с виду подростки, у меня внук такого возраста, – каждого могут ночью убить случайным выстрелом. И того, который через полкилометра отсюда, с другой стороны, вражеской, такого же восемнадцатилетнего, тоже могут убить. Им бы во дворе в «войнушку» играть с деревянными ружьями, а они по правде убивают. Им разрешили. Это чувство словами не описать. Хочется каждого схватить и унести отсюда в нормальную жизнь, чтоб учился, книги читал, на гитаре бренчал, за девушками бегал.
– Вы действительно думаете, что можете что-то изменить своим приездом в зону противостояния, где тридцать лет новейшей истории – хотя на самом деле гораздо дольше, почти сто пятьдесят лет – идет война?
– Нет, не думаю. Но я помню «Лисистрату» Аристофана. А это, Катя, V век до нашей эры, между прочим: там тоже идет война – греков с персами. И эту войну женская забастовка останавливает. Это очень хорошая история. Ну, или, во всяком случае, тема для размышлений.
Знаешь, на самом деле война длится не тридцать лет и не сто пятьдесят, а с тех пор, как первый Каин убил первого Авеля, но сегодня на карту поставлен не клочок земли, который два враждующих брата не могут поделить, а элементарное выживание рода человеческого. Соображение не новое, нокогда видишь разгроханную землю и живых мальчиков, которых могут сегодня-завтра убить или умереть, хочется кричать: «Вы с ума сошли, остановитесь!» Ну вот мы и покричали немного. И немного поплакали.
– Каждый день появляются новости о том, что объединившиеся женщины сворачивают какие-нибудь горы. Свежий пример – «Марш матерей», во многом благодаря которому две девочки, сидевшие в СИЗО по делу «Нового величия», оказались дома. Мне кажется важным, что женщины, пришедшие на этот марш, объединились не из-за единства политических взглядов, а на том просто основании, что они – женщины, мамы. И вышли за своих детей. Таких не остановить ничем. Это – новая для России сила.
– О да. Как у Пастернака: «Что сравнится с женскою силой? Как она безумно смела!» Думаешь, эта женская сила в России уже проснулась?
– Как минимум, просыпается.
– К этому шло последние сто лет. С 1904 года в России не было и трех лет, когда бы не убивали мужчин: начиная с Русско-японской войны – война и репрессии, репрессии и война.
За эти сто лет из-за постоянной убыли лучших, сильных, храбрых, погибающих в войнах и конфликтах мужчин вышло так, что женщины в России оказались гораздо более высокого качества и самих их – больше. Пока мужчины гибли в войнах и лагерях, на женские плечи падали все традиционные женские заботы плюс заботы по содержанию и защите семьи, которые обычно несут мужчины.
В этом смысле западная феминистическая повестка у нас совершенно ожидаемо не была понята: она не состыковывалась с потребностями российских женщин. Западным феминисткам хотелось, чтобы женщины так же, как и мужчины, работали, принимали участие в общественной, социальной и трудовой жизни. А наши женщины, замученные двойной нагрузкой, мечтали как раз иметь положение, против которого на Западе так протестовали. Когда пашешь, как лошадь, знаменитые три К – Kinder, Küche, Kirche – это мечта: сидеть дома, варить суп, делать с детьми уроки и ходить в церковь.
Впервые я столкнулась с этим, на грани комического, непониманием в восьмидесятые, когда американские феминистки приехали в СССР и стали говорить о том, что их волнует, а наши их вообще не поняли. Те феминистки требовали разрешить аборты (там они были запрещены), настаивая на свободе женщины заводить ребенка, когда она хочет, а русские девочки сидели и кивали: «Да-да, аборт – это ужасно, обезболивания никакого, просто по живому дерут». Вопросы и ответы были прямо перпендикулярны друг другу, а проблемы практически ни в чем не совпадали: одних беспокоило одно, других – другое. Но я не сторонник феминистических идей, хотя и получила несколько лет назад премию имени Симоны де Бовуар.
– Она же идеолог мирового феминизма.
– Да! На награждении я оказалась в компании ярых феминисток, жутко агрессивных – не самая приятная для меня компания.
– Начало XXI века войдет в историю как время, когда уже не только какие-то отдельные продвинутыеженщины борются за свои права и свободы. Женщины по всему миру объединяются и выступают против того, что прежде считалось в порядке вещей и даже воспринималось как, например, завоевания сексуальной революции.
– Мне эта ажитация вокруг #metoo кажется дико глупой. Прямо начиная с дела Вайнштейна, которое было своего рода спусковым крючком всей этой кампании. Знаешь, люди, которые в кино или театре немного побывали со стороны кулис, прекрасно знают, что режиссеры и продюсеры от баб отбиваются: молодые (или немолодые) актрисы в своем страстном желании получить роль обычно ни перед чем не останавливаются и готовы на всё. И уж я не знаю, какая здесь пропорция между негодяями-мужчинами, которые жаждут воспользоваться девичьей слабостью и желанием построить карьеру, и женщинами, готовыми глотку перерезать себе, подружкам и конкуренткам, для того чтобы получить роль и оказаться в удачном месте. Я все-таки немножко в театре постояла и кое-что знаю про него, мне вся эта история смехотворна.
– Но она тем не менее не сбавляет обороты.
– Эта кампания мне кажется направленной против одной из мощнейших индустрий XX века, которая собиралась хозяйничать и в XXI. Речь идет об индустрии украшения женщины. Всё настроено на то, чтобы женщина с каждым годом становилась все более привлекательной и сексапильной. Мода заточена на этот сексапильный облик как раз с шестидесятых годов прошлого века, о которых ты говоришь как о времени сексуальной революции. Знаешь, что было ее символом?
– Что?
– Мини-юбка.
– У вас была?
– А как ты думаешь? Конечно, была. Кожаная, из кожаного дивана лично мною сооруженная: я содрала старую обшивку и сделала себе кожаную мини-юбку, первую у нас в округе. Но не в этом дело. Дело в том, что эти голенькие ножки, которые открывает мини-юбка, до сих пор находятся в противофазе с теми, которые прикрывают шароварами или длинными платьями адепты другого культурного кода. Есть совершенно гениальный эпизод у Стриндберга: начало XX века, муж умирает от желания развестись, так как семейная жизнь не складывается. Но вот он спускается к завтраку, чтобы сообщить жене о скором разводе, они садятся и тут… она делает одно-единственное движение: слегка приподнимает юбку так, что становится видна часть ноги, крошечный кусочек – где-то внизу около ступни. Он смотрит на эту ножку и понимает, что развестись он не может. Представляешь?!
Я думаю, очень полезно смотреть, как изменилась за XX век вся эта гендерная история. Хотя две глобально важные стратегии по-прежнему живы и правят миром.
– Какие?
– Первая – маленький пальчик, выпущенный из черных одежд: он блеснет, мужчина умрет от восхищения и выберет его обладательницу. Вторая – в русле маховика индустрии красоты. Она направлена на то, чтобы женщина выглядела всё более и более сексуально привлекательной, зовущей – взять хотя бы то, сколько женщины тратят денег, сил и времени на косметику, наряды, белье; я тут видела бюстгальтеры за полторы тысячи евро, прямо обалдела. Согласно этой стратегии, максимально продемонстрировавшая себя женщина – косметика, отсутствие одежд – как будто говорит: вы на меня обратите внимание, а я уж сама выберу, кто мне из вас понравится. Эти две стратегии абсолютно противоречат друг другу. Но кажется, победила та, при которой женщина – выбирает.
– Так это и есть одна из линий феминизма.
– И да, и нет. Ведь выбирает она, по сути, из тех, кто выбрал ее. Но всё это прекрасно сочетается: с одной стороны, феминистки суровы и жаждут равноправия, с другой – им хочется быть выбранными.
Здесь масса дико смешных вещей, но вот тебе актуальная проблема культурной антропологии: как в этих новых обстоятельствах растить детей, девочек, например? Как их ориентировать? Покупать им бело-розовые платьица или спортивные костюмы? Кроссовки или лакированные туфельки?
Мою внучку Марьяну ее мама всегда наряжала очень по-девчачьи, но теперь она подросла, и я вижу, как сама она выбирает моду, исключающую половую или сексуальную маркировку: джинсы, кроссовки. Да и мы все вокруг стали носить одинаковые куртки с капюшонами. Если и есть отличие – так в том, на какую сторону пуговицы застегиваются. Я так и одеваюсь.
– Сразу после кожаной мини-юбки перешли на одежду унисекс?
– В юности тряпки меня занимали, если честно, и я всегда одевалась очень экстравагантно. Мама моя приходила в ужас, когда я надевала свою кожаную мини-юбку, сверху – купленную в комиссионном магазине защитного цвета армейскую американскую рубашку, подпоясывалась и вставала на пятнадцатисантиметровые шпильки. Я считала, что очень круто одета. Я шла по улице, и на меня оборачивались. А потом как-то всё утихло. Я очень спокойно теперь одеваюсь, хотя и не надеваю на себя ничего случайного. И есть, разумеется, вещи, которые я не надену никогда.
– Например?
– Вечернее платье.
– Никогда не пробовали?
– У меня один раз в жизни было вечернее платье, я его собственноручно сшила из синего хлопчатобумажного бархата: открытое, без бретелек. Я пару раз его надела, очень была собой довольна, а потом – повесила в шкаф, и оно провисело до тех пор, пока я не отдала его какой-то более молодой или более озабоченной нарядами подружке.
– Если Нобелевскую премию дадут, наденете?
– Нет, не надену. Меня лет двадцать тому назад впервые в жизни пригласили на прием во французское посольство. И все мои подруги забегали: кто-то несет туфли, кто-то – брошку, колготки какие-то суперские. Мой муж смотрит на всю эту суету и говорит: «Люся, это они должны одеваться, те, для которых написан дресс-код. А мы – художники. Мы можем ходить в том, в чем нам хочется». Андрей, конечно, гений. Эта фраза меня раз и навсегда освободила от идеи, что я надену то, что мне не нравится, вместо того, в чем мне удобно и комфортно. Маленькое черное платье? Да никогда в жизни!
– Не в контексте платья, вы всё-таки задумывались о Нобелевской премии?
– Этот вопрос для меня исчерпан.
– Даже не надеетесь?
– В 2018 году, как известно, из-за скандала с утечкой сведений Нобелевскую премию по литературе не дают.
– А потом, в следующем году, через год?
– Катя, слушай, я для себя прекрасно понимаю, что эта премия абсолютно никак мне не грозит! И меня это и не волнует, и не беспокоит.
– Почему?
– Дело в том, что там существует такая шарманка: в этом году получает американец, в будущем году – китаец, потом – хорошо бы негра, потом – не забыть женщину, а потом – давайте дадим паралитику. Идея всеобщего политкорректного равенства, которая во всей этой истории постоянно вылезает, мои скромные шансы уничтожила: русскоязычной женщине-писательнице Нобелевскую премию уже дали, это была Светлана Алексиевич. И я ее от души поздравила.
– Вы, кстати, были одной из немногих, кто поздравил от души.
– Конечно! Ее награда полностью избавила меня от беспокойства, и я наконец смогла, освободившись от некоторой нервозности – всё время ведь просачивалась какая-то информация, и я знала, что где-то там, в каких-то списках моя фамилия фигурировала, – выдохнуть.
Но ты понимаешь еще в чем штука, весь мир – это повсюду, не только в России – совершенно неправильно оценивает значение Нобелевской премии в области литературы. Когда эту премию получила Алексиевич, то в России писатели просто попадали в обморок и впали в негодование: «Как это так! Ей дали, а Набокову не дали!» Но штука-то в том, что в положении Нобелевского комитета критерии литературной премии сформулированы как «достижения в гуманитарной области». То есть это премия за идеалы человечества, она не про литературу, строго говоря. В отличие, например, от Букеровской английской премии – вот она про литературу. И список букеровских лауреатов – это всегда действительно литературный факт. Хотя и там есть нюансы: гораздо важнее попасть в шорт-лист, чем получить первую премию.
– Почему?
– Потому что – и так очень со многими премиями – шорт-лист – это довольно независимый список: эксперты, не связанные друг с другом, высказывают свои предпочтения. Но когда речь заходит о первом месте, начинаются колоссальные интриги. Так в Англии, так и у нас. И то, что я трижды была в шорт-листе русского Букера, для меня гораздо ценнее, чем то, что однажды я ее получила.
– А какая из ваших премий для вас самая ценная?
– Премия города Будапешта. Мне дали ее лет пятнадцать тому назад, когда на стенах Будапешта еще были видны шрамы от выстрелов, сделанных во время подавления восстания 56-го года. Но город дал мне – русскому еврею – свою премию. Для меня это значило полную победу культуры над политикой.
– Всякий раз, листая новостную ленту, я изумляюсь вашей способности быть в ста местах одновременно. Зачем?
– Да? А у самой меня складывается грустное ощущение, что я не догоняю. Но на самом деле всё упирается в то, что в жизни каждого из нас всегда есть задача. Иногда мы не отдаем себе отчет, в чем она состоит. Но чаще начинаем отвечать прежде, чем успеваем понять и принять этот вызов. В моем случае я точно знаю, что написала все свои большие книги.
– То есть как это – все?
– Большой роман я больше не подниму. Я его придумала, он висит где-то в воздухе, но напишет его уже кто-нибудь другой, не я.
– Устали? Лень? Что?
– Страшно, Катя. Мне семьдесят пять лет, времени объективно мало. Это не половина жизни у меня впереди, и не треть, а маленький кусочек остался. Поэтому я хотела бы какие-то маленькие задания себе давать – и даю, и выполняю.
– Например?
– Немножечко рассказов написала, что для меня большая радость, потому что они меня, мне казалось, давно бросили, а тут вдруг – вернулись. Я очень радуюсь. Мне по-прежнему интересно и нравится работать. Но роман – это четыре года ты ни о чем другом думать не можешь – и во сне думаешь. Наяву разговариваешь с кем-то абсолютно о других вещах и всё равно об этом думаешь. Он тебя съедает полностью. Я не умею по-другому работать.
Другие – могут. Например, Борис Акунин в ответ на вопрос, как он работает, недавно гениально ответил: два часа утром. Я, конечно, не поверила: за два часа нельзя столько произвести. Но какая должна быть внутренняя дисциплина, чтобы со всем своим творческим вдохновением в два часа уложиться?! Значит, решила я, во всё остальное время он думает! А у меня, видимо, просто меньше мощности, я так не могу.
Когда я пишу большую книжку, я там с потрохами, целиком, а в жизни меня нет. Хорошо, если этого люди не замечают, потому что я, находясь физически с ними, на самом деле отсутствую. А отсутствовать я больше не хочу, хочу посмотреть по сторонам, порадоваться жизни, сколько осталось. Это «радование» ко мне не так уж давно пришло: я в молодые годы была большим мизантропом, мне всё не нравилось, все не нравились, и только с годами, благодаря отчасти раку, который я пережила и, слава Богу, выскочила, у меня сейчас изменилось отношение к проживанию дня, минуты, часа. И радость от этого проживания.
– Но тратите вы свою жизнь в итоге не на это, а на поездку в Петрозаводск на суд к Дмитриеву и на стояние на площади с плакатом в поддержку Сенцова.
– Это стояние заняло пятнадцать минут моей жизни. И я должна была это сделать. Потому что при полном ощущении, что ничего сделать нельзя, есть еще ощущение, что ничего не делать – хуже. Вот и полезла. Ничего особенного не произошло: Пушкинское метро от меня в десяти минутах, доехала, постояла пятнадцать-двадцать минут, это имело абсолютно нулевой эффект. Даже интересно, до какой степени прохожие не обращали внимания на эту маленькую группку старых придурков.
– Пришли только «ваши», потому что ваше поколение – покрепче? Покрепче духом в том числе?
– Да нет, что ты. Так сложилось конкретно в этот раз. Во мне нет никакого ворчания, мне нравится и ваше поколение, и те два, что за вами выросли.
– Но отличия есть?
– Есть, конечно. Самое существенное – мы в нашем поколении друг без друга просто не выживали. Жизнь была так устроена, что для того, чтобы пойти к врачу, надо было попросить подружку посидеть с ребенком. Для того, чтобы достать билет в Ленинград, надо было позвонить двоюродной сестре твоей знакомой, чтобы она тебе билет купила. Быт был чрезвычайно сложен: я приходила в мясную лавку в подвал, где у меня был знакомый мясник, и всегда покупала шесть кусков мяса: себе, Раде, Наташе, Тане, Диане, Ире, – потому что я не каждый день туда ходила, да и ни черта не было. Эти шесть кусков мяса я притаскивала домой, и дальше шла раздача. Социальность была гораздо выше, чем сейчас. И степень зависимости – дружеской, любовной – была гораздо более высокой, чем в теперешней жизни.
– Хорошо это?
– Это не хорошо, это качество. Сейчас всё по-другому. Вы друг за друга держитесь только по личному выбору, никакой бытовой надобности нет: можно позвонить и вызвать бебиситтера к ребенку, мясо – на дом, мужа на час – холодильник починить, да что угодно. А я не хочу выходить из привычного своего мира и прежних отношений. Это создает невероятный жизненный комфорт: я чувствую себя окруженной Великой китайской стеной друзей.
– Но весь наш XXI век – это борьба с тем, чтобы покупать билеты, доставать продукты или класть в больницу по блату.
– Милая моя, это не блат. Это на эмпатии всё работает. В этом ничего плохого нет. Вот когда человек не может позвонить по телефону в «скорую помощь», и к нему не приедут помогать, спасать, лечить – это плохо. А то, что я звоню знакомому Васе, Пете, Юре, Наташе и говорю: «Наташка, хреново. Как ты думаешь, мне управиться самой или все-таки звать врача?» – это счастье моей жизни. Вокруг меня есть люди, которым я абсолютно доверяю и передоверяю решение многих своих вопросов. И они решаются вручную, с затратой огромного количества усилий, что позволяет мне испытывать дикое удовольствие.
– Почему?
– Да потому, что ты чувствуешь благодарность и получаешь в ответ, если что-то сделал, благодарность. А это чрезвычайно важная вещь – чувствовать себя включенным в социум положительным образом.
– Тогда все идеи «похорошевшей», автоматизированной и роботизированной современной Москвы вам должны быть неблизки.
– Да, мне это не нравится. Я считаю, что все эти похорошения – на самом деле декорации дурного вкуса.
– Прямо все?
– Да, глаз мой протестует, при этом я сама себе говорю: «Стоп! Успокойся, это городу нужно: это пространство для гуляния, эти сияющие тротуары скользкие – всё это выглядит гораздо более благообразно, чем пятьдесят лет назад». Я думаю, что здесь большое значение имеет то, что называется в биологии импринтинг: первые картинки, первые запахи, первые ощущения, зрительные образы – всё то, что с нами остается навсегда и что нам нравится на протяжении всей жизни. Именно поэтому так много людей вспоминают о своем тяжелом детстве с умилением: это было время открытия мира и счастья. И это осталось внутри, в виде отпечатка. Тут я ничем не отличаюсь. Москва моей памяти – другая.
Знаешь, я недавно шла от метро «Пушкинская» к памятнику Юрию Долгорукому, под хвостом которого был устроен некий балаган, где я должна была выступать. Маршрут этот я знаю семьдесят лет. Там, где сейчас стоят «Известия», в моем детстве во дворе стояла музыкальная школа, куда меня водили, и туда приходил один господин, одетый необычайно, в костюм в мелкую клеточку, – много лет спустя я узнала, что это называется «пепита», «куриная лапка». У господина в каждой руке было по девочке. Девочки мне казались довольно невзрачными, но, когда они выросли, оказалось, что господином был Александр Вертинский, а девочками – две его дочки: Настя и Марианна.
Рядом со школой помню аптеку, которая стояла на том месте, где сейчас новый Пушкинский сквер. Я помню, как памятник Пушкину стоял на другой стороне, напротив себя нынешнего. Я иду дальше и узнаю каждый дом, в котором у меня были друзья. Всё это выглядит иначе, да и все умерли, никого нет. Но я помню их поименно. Например, режиссер Витя Новацкий в Гнездниковском переулке, к которому ходили все театральные люди, художники, музыканты, потому что не было человека, который лучше бы знал культуру авангарда и театр. Его квартира в знаменитом доме Нирнзее – тайная Мекка московской интеллигенции.
В соседнем доме жила Мария Сергеевна Павлова, когда-то – секретарь дирекции Малого театра, еще до того – актриса. Фамилия ее девичья – Муханова. Если дешифровать, то выйдет, что Мухан – это как Набоков или Шахновский, как вся русская знать, произошедшая из татарских корней триста лет назад. Это всё их потомки. Они здесь родились, выросли, умерли.
Это всё – город. Он живет и стареет вместе со своей историей. Старый, стареющий город, сохраняющий свои сюжеты, – это органично. Сегодняшняя Москва не наследует никакому своему прошлому. На всем небольшом отрезке моего пути я нашла неизменившимся только Елисеевский магазин. Внутри, кажется, даже люстры висят те же самые. Остальное – молодится и бесконечно обновляется, боясь застыть даже на секунду. Гонится за ускользающей молодостью.
– Это теперь самый актуальный вид спорта!
– Соглашусь. Никогда еще не было такого тренда быть молодым – от увлечений до одежды. Всегда была возрастная одежда, и пожилые люди и одевались, и вели себя определенным образом. Сегодня все хотят быть молодыми. И у многих, кстати, получается.
– А многим такая помолодевшая Москва нравится!
– Нравится, и хорошо. Важно понимать, что все перемены, произошедшие на протяжении последних семидесяти лет, то есть одной жизни человека, – это невообразимые перемены для биографии города. И единственное, о чем бы я просила своих более молодых современников – пишите! Пишите, пишите, потому что всё, что сегодня в Москве еще есть, через следующие семьдесят лет окажется восхитительно волнующим свидетельством из прошлого для ваших детей и внуков.
– Есть хотя бы что-то, что вам в Москве этой нравится?
– Да, бывают какие-то красивые фонтаны. Стало больше света. Но когда я выезжаю на Третье кольцо, у меня ощущение, что я нигде. Я не понимаю, что это за город, где он, на каком континенте, в какой точке мира – такое среднее место. Почему ты смеешься? Конечно, я понимаю, что Москва не Питер, у нее нет такого острого характера и архитектурно выраженного лица. Но существует понятие – образ города. И образ Москвы, всегда очень скромный, на самом деле сегодня изменился не каким-то естественным образом, а по придумке архитекторов и градостроителей. Мне это не нравится, но я с этим соглашаюсь: о’кей, так стало удобнее. Я продала машину, стала ездить на метро, потому что только так можно рассчитать свое время теперь в этом городе.
– Это норма жизни в мегаполисе.
– Я это понимаю. В метро иногда бывает давка, но, благодаря моей роскошной жизни без офисных обязательств, я на работу не езжу. И в часы пик могу позволить себе в метро не спускаться. Кроме того, я обожаю эскалатор! Вот эти разглядывания: лицо за лицом, такие разные морды, такие потрясающие. Это ежедневное приключение – встреча с огромным количеством людей.
Знаешь, мой муж Андрей в молодые годы всё время рисовал в метро. Иногда стеснялся и рисовал уже приходя домой какие-нибудь из метро взятые лица: молодые и старые, новые и не новые. Вот под землей, в метро ничего не меняется. А сверху – все эти моды на вечную молодость, которые лет тридцать назад было трудно себе представить.
– Возможно, это опять антитеза к тридцатилетней давности моде на геронтократию, когда у руля во всех областях и в мире, и в России стояли в основном очень пожилые люди.
– В этом смысле в России наблюдается удивительное постоянство: здесь правят те, кто уже ухватился за власть. Это не геронтократия. Это ненасытность: ухватившись за власть, у нас молоденький становится стареньким. Отсутствие во власти молодых, ее несменяемость плоха и неправильна прежде всего тем, что человек пожилой отвечает на вопросы своего времени, до него проблемы сегодняшнего дня не доходят: эти полководцы всегда готовятся к прошлой войне. Это всех касается. Вот мы приехали в Нагорный Карабах с довольно общей фразой «Женщины против войны». Но этой фразы теперь недостаточно. Мы разве мало знаем мужчин, которые против войны? И что еще мы сделали антивоенного, кроме того, что приехали сюда и произнесли эту фразу?
– Что, по-вашему, надо было бы сделать?
– Это очень общий вопрос. Давай сузим его до малого: что может сделать мать?
– Что?
– Сделать всё возможное, чтобы ее сын не пошел в армию. Это – посильный вклад в борьбу с войнами. Мне кажется, в самой ближайшей перспективе мы должны добиться того, чтобы по всему миру срочная служба была отменена. Чтобы армия стала делом профессионалов.
– Ваши сыновья служили?
– Нет.
– Как вам это удалось?
– Когда дети мои стали подходить к армейскому возрасту, я поняла, что я решительно не хочу, чтобы они служили в армии. И заметалась. Мне была глубоко отвратительна идея дать взятку, а это было распространенной практикой. Я знаю семьи, которые давали взятки в военкомате, в медкомиссии, тем людям, от которых это зависит, – это отвратительно со всех сторон.
Альтернативная служба была бы идеальным шансом, не унижаясь, армии избежать, делать что угодно, любое социально неприятное дело, но только не связанное с оружием и убийством. Увы, в те годы альтернативной службы не было. Но мне повезло, отец моих сыновей, он ученый, в то время работал в Америке, в университете. И я сначала отправила туда старшего сына, который уже учился в институте и ему стукнуло восемнадцать.
– С ним вы это обсуждали?
– Да, конечно. Сама идея поехать в Америку – а это самое начало девяностых – была очень увлекательной, это был вызов. Он поехал и поступил в колледж, окончил его за год и очень быстро, сдав все экзамены, поступил в бизнес-школу Колумбийского университета. Это было, кстати, очень дорогое учение, а денег у меня на такое предприятие не было. И Алеша совершенно героически работал и учился и вытянул всё это самостоятельно.
Когда младшему исполнилось шестнадцать, а он, надо сказать, человек совсем не тривиальный, со своим особым миром, и уж для него армия была бы катастрофой, я его отправила опять-таки к отцу, он там пожил какое-то время, поучился в школе, поступил в университет, но всё быстро бросил. Мальчики мои прожили в Америке в общей сложности десять лет. Оба вернулись. Старший – специалистом в сложных областях бизнеса, а младший – как сбежал в Америке джаз играть, так сейчас по-прежнему и играет, он в это влюблен. Он блестящий переводчик-синхронист и музыкант. Оказалось, это близко лежащие профессии.
– Необходимость десять лет жить врозь с сыновьями – это нормальная плата за то, чтобы избежать армии?
– Мне было так за них страшно, что я готова была с ними расстаться: только что закончилась Афганская война, вовсю полыхали войны распадающейся империи, начиналась Чеченская война. Я категорически не хотела, чтобы они воевали. И это был не только страх за их жизнь, но и страх, что и они вынуждены будут убивать. Я не понаслышке знаю, как психика человеческая деформируется убийством и как человек потом никогда не возвращается к себе прежнему.
Я очень сожалею, что в своей жизни ограничилась тем, что спасла от армии только своих сыновей. Теперь я понимаю, что надо ставить вопрос шире и жестче, выступая против призыва. Матери не должны пускать своих детей воевать, должны перестать выполнять это требование законодательства и требовать законодательство такое переменить: пусть воюют профессионалы, то есть те люди, которые выбрали себе это профессией. Пусть только те, кто сознательно сделал этот выбор, убивают и рискуют быть убитыми.
Вот это я сейчас здесь поняла, в Нагорном Карабахе: если выполнения этих материнских требований добиться, то еще через один поворот истории эта профессия – профессия убивать – неизбежно умрет. А если она не умрет, то умрет наша Земля, третьего не дано.
– А что вдруг такое случится?
– Сумма агрессии, которая сегодня скопилась в мире, дойдет до критической массы. Человек уничтожит себя сам: он будет уничтожать соседей, а соседи будут уничтожать его, а потом эта тотальная война приобретет новые формы. Какие войны будут за следующим поворотом – нетрудно предположить, потому что уже сегодня легко можно создать вирус, который, допустим, будет убивать всех блондинов ростом выше метра восьмидесяти, или всех кривоногих, или всех китайцев. У меня даже киносценарий про это есть: как в течение трех суток вирус, распыленный в аэропорту, спасает человечество, потому что другое событие его может погубить.
– Как называется?
– Называется «Босховы детки», но там сложная история. А простая наша сегодняшняя история заключается в том, что если не остановить войны, которые нас окружают, то потом шансов спастись не будет.
– В коротком промежутке человеческой жизни это в принципе неважно. Люди обычно не думают о будущем всего рода человеческого каждый день.
– Ну и зря, потому что подумать не мешало бы. Человек будущего будет отличаться от человека сегодняшнего, как мы отличаемся от крысы. Между прочим, это Циолковский сказал, не я. Это возможно, это интересно, это захватывающе. А перебить друг друга – ума много не надо. Причем новое прекрасное будущее – это не эвфемизм какой-то, мы уже живем одной ногой в мире, разительно отличающемся от прежнего.
Вот простой пример: у меня украли компьютер. Я сначала слегка переживала и думала, какой теперь буду покупать. Но через пятнадцать минут я запаниковала, сообразив, что вообще-то у меня украли часть моего мозга, моих воспоминаний, моей интеллектуальной деятельности – часть меня, короче. Потом я опять пришла в себя, вспомнив, что у меня есть внешний резервный диск от этого компьютера. И вот там-то в продублированном виде вся эта часть меня хранится.
Это захватывающее ощущение. И так во всем: ты теряешь мобильный телефон и понимаешь, что не помнишь ни одного номера, кнопки есть, а нажимать – нечего. Вот это то, осязаемое, в чем видно, что мы перешли абсолютно принципиальную границу между XX веком и XXI, желая того или не желая. Скорость, с которой теперь всё происходит, несоизмерима с той, что была прежде. Первый рисунок человека сделан сорок тысяч лет тому назад. Нашей, человеческой культуре всего сорок тысяч лет, секунда с точки зрения планетарного времени, а мы уже столького достигли.
– Но для каждого отдельного человека и эти сорок тысяч, и четыре тысячи, и просто сорок лет – срок большой. Причем смысл всего совершенно непонятен: зачем жить, если придется умереть?
– Нет, нет, это один из незаконных вопросов. Смотри, как всё меняется, как меняется качество жизни, как меняются жизненные сроки: на нашей памяти детская смертность уменьшилась по миру невероятно, длительность жизни увеличилась, минимум, вдвое по сравнению с людьми далекого прошлого, чьи скелеты раскапывают археологи. Там стариков вообще нет.
Про болезни мне не надо тебе говорить: сколько неизлечимых болезней стали излечимыми и как бурно идет этот процесс. Количество приставок, которыми мы пользуемся с того момента, как были изобретены очки, увеличилось в десятки, в сотни раз: пятьсот лет назад была изобретена линза, а завтра у нас уже будут искусственные глаза. Потом – искусственная кожа, суставы, внутренние органы. Всё это происходит очень быстро.
Но конечно, длительность человеческой жизни с временем существования планеты несоизмерима, тем увлекательнее жить, потому что дико, захватывающе интересно, как быстро при тебе переменится вот этот отпущенный тебе кусок. И это – прекрасная мотивация для того, чтобы жить.
– Обычно люди вашего возраста на перемены сердятся.
– Нет, я в кайфе. Я могу сердиться на себя, что не всегда догоняю, хоть и стараюсь поспевать: я работаю с компьютером с тех пор, как они появились. Но мой внук это делает лучше, что объяснимо.
– Вы часто возвращаетесь в воспоминаниях к тому моменту, когда вам поставили диагноз «рак» и перед вами встала необходимость с этим диагнозом жить или от этой болезни умереть?
– Нет. Во-первых, это было ожидаемое, потому что я из «раковой» семьи, и я время от времени проверялась, зная, что это должно произойти рано или поздно. Мне было обидно, когда потом выяснилось, что врач, к которой я ходила на проверки, мой рак пропустила: я начала лечиться, когда у меня уже была третья стадия. Когда меня прооперировали, мне сказали: «О, мы такую большую опухоль давно не видели» или «никогда не видели» – я уж не помню.
– Страшно было?
– Нет, не страшно, совсем не страшно. Я была озабочена. Я пришла первый раз к хирургу, израильтянину, на прием, он посмотрел на меня, а потом говорит человеку, с которым я пришла: «Впервые вижу пациента, который бы в этом кресле не плакал и так себя вел». Почему я именно так себя вела? Не знаю. Может быть, потому что была готова из-за семейной истории. А может, потому, что моя мама умерла в пятьдесят три. И с тех пор каждый год я говорила: «Вот я уже на пять лет старше мамы, вот на десять, вот на двадцать», – это был подсчет времени как будто дополнительно выданного, я подсчитывала эти годы с благодарностью. Я вообще-то живу с ощущением благодарности. И оно только усилилось оттого, что это – я имею в виду исход, который мог бы быть у моего рака, – пролетело.
– Когда вы поняли, что всё, что «пролетело»? Когда книжка дописалась?
– Во-первых, я была очень озабочена тем, чтобы дописать книжку, это был «Зеленый шатер». Я понимала, если сейчас рак прижмет меня, я закончить не смогу. Конечно, у меня была сильная мотивация: вылезти поскорее, закончить, а там посмотрим. И я – вылезла. Потом приезжала через полгода на проверку, потом через год, потом хирург, который меня оперировал, сказал: «Иди, иди». Сейчас я стала халтурить – уже года полтора или два не была. Поеду, поеду, поеду обязательно.
– В чем вас переменила болезнь? Обычно в момент тяжелой болезни люди цепляются за веру.
– У меня как раз ровным счетом наоборот. Я, конечно, благодарна судьбе и высшим силам за то, что мне этот подарок – несколько дополнительных лет после рака – сделали. Но за эти годы мною полностью овладел мой Даниэль Штайн, то есть Освальд Руфайзен[77]. Знакомство с ним, отношения и общение – всё это вызвало во мне и в моем отношении к вере острый кризис. Я часто вспоминаю, как мы с ним сидели у меня дома, беседовали, и он сказал фразу, которая меня глубоко поразила: «Я Символ Веры целиком не могу читать на литургии, там есть вещи, которых я не могу принять. Например, мы не знаем, что такое Троица».
– В каком смысле?
– Он сказал: мы не знаем толком, что такое электричество, откуда мы знаем, как Бог устроен? Он меня этой фразой освободил от ужасного рабства: верить в то, что я тоже не до конца понимаю. Троица, непорочное зачатие – это догматы, которые церковь выставляет нам как необходимое условие веры. Мой опыт общения с Освальдом Руфайзеном, священником и монахом, убедил меня, что можно и без этого. И я стала потихонечку от церкви отодвигаться и приходить к идее Даниэля, которая, по сути, идея апостольская – дела. Я стараюсь жить делами… И церковь мне для этого не нужна.
– Трудно?
– Нет, совершенно. Меня больше богословские вопросы не занимают. Я в молодые годы прочла кучу книг, вся русская философия прочитана – с трудом или с удовольствием. Но вдруг наступил момент, когда это перестало иметь значение. Сейчас я эти книжки могу подарить, ибо точно знаю: я к ним больше не вернусь. При этом я совершенно не отрицаю своего христианского опыта: христианство в мою жизнь вошло благодаря нескольким замечательным людям. Они были для меня образцами жизни: прекрасные люди, замечательные христиане, мне хотелось быть с ними и я с ними была очень долго. Причем это все в мощный советский период, когда по телевизору Пасхальную службу, разумеется, не показывали. Наоборот, устраивали какую-нибудь премьеру «Семнадцати мгновений весны», чтобы, не дай Бог, в церковь не пошли люди. А тех, кто пошел, встречали дружинники, выуживали там кого-то, кого-то – записывали. В общем, сам поход в церковь – это был поступок. Поэтому я так долго, наверное, и простояла на этом месте.
Сегодня из тех, кто тогда так привлек меня в христианство, в живых осталось, может быть, двое или трое. Это мои сверстники, священники. Я захожу к ним в церковь, я полна к ним любви и симпатии. Я очень хорошо знаю церковную службу, люблю ее, поэтому и прихожу…
Но у меня нет больше потребности подходить к причастию, а это была практика моей жизни на протяжении десятилетий. И вот – закончилась.
– Не страшно? Знаете, говорят: в падающем самолете нет атеистов.
– Я не атеист, Катя. Я человек верующий, просто мне, для того чтобы верить, перестала быть нужна церковь. Русская православная церковь перестала быть нужна. И Католическая – не нужна. Никакая не требуется, вот ведь какое дело.
Особенно после болезни я стала с благодарностью смотреть по сторонам и видеть. Вот именно что полноценно видеть то, на что смотрю. Раньше я хуже видела. Это для меня и есть религиозное чувство: чувство спонтанной благодарности. Куда направлен этот вектор, я знаю: можно сказать – Творец, Высшие силы, что угодно. В этом смысле и Эйнштейн был человеком верующим. Но, видишь ли, мне стало неинтересно об этом не то что говорить, даже думать. Чем более я приближаюсь к смерти, тем менее интересна религиозная тематика.
– Что тогда интересно?
– Сегодняшний день, минута. Я теперь живу в гораздо большей степени здесь и сейчас, чем многие годы назад. Какая-то появилась эффективность жизни. Мне стало очень важно сделать хорошо то, что я в данный момент делаю. И речь не о литературной работе. Наверное, я сейчас более счастливый человек, чем когда бы то ни было в жизни. Это может поменяться в любой момент, я понимаю.
Машина останавливается. Перед нами блиндаж, полный маленьких перепуганных срочников, командир которых затейливо предлагает подъехавшим «посмотреть через оптический прицел на сторону противника».
На сторону противника смотреть не хочется. В луже у блиндажа возится трехцветный полковой котенок. Срочник в гимнастерке не по размеру шлепает носком кирзача по луже. И котенок играет с отражением.
Улицкая первой находится. Встает под навес полевой кухни и говорит в микрофоны подоспевших журналистов, в глаза изумленных солдат, в лица всех людей, неожиданно большим числом собравшихся вокруг покрытого клеенкой в цветочек полкового стола: «Я сейчас выступаю по эту сторону фронта, но я с такой же готовностью выступлю и по ту. И по все стороны всех фронтов. Мы не рожаем наших детей для того, чтобы они воевали, не растим их для этого и не воспитываем. Нет войне». Это звучит очень странно в трех метрах от боевого окопа, из которого – это нам рассказали сразу по приезде – три ночи назад стреляли боевыми. Но это – звучит!
Она – маленькая, седая, бесстрашная, – говорит и говорит. И от ее слов все военные атрибуты, начищенные и чуть ли не украшенные к нашему приезду – орудие, автоматы, блиндаж, бинокль – кажутся неуместными.
В синей дымке горизонта видны полные несобранных гранатов сады. Я смотрю на них и вспоминаю, как совсем недавно мы гуляли с Люсей по крутому берегу моря и она вдруг сказала: «Ты знаешь, Катька, никогда я не жила с такой интенсивностью, как сейчас! Я как будто получила какой-то неведомый подарок. И тороплюсь им воспользоваться, пока щедрость посылающего не закончилась. Эта моя часть жизни, пожалуй, оказалась самой прекрасной, чего я не ожидала, не ждала. Но мне в ней интересно жить. И я ее воспринимаю как что-то данное мне сверх договора и потому особенно ценное», – говорит Улицкая. И я знаю, что «Третьей попыткой» она называет и эту часть жизни, и книгу, про которую еще не уверена, что она выйдет. Но я – очень ее жду.
Иллюстрации
Светлана Бодрова, Сергей Бодров, Алексей Балабанов.
Сергей и Светлана Бодровы. Конец 1990-х. Фотографии из личного архива С. Бодровой
Мария Парфёнова с родителями Еленой Чекаловой и Леонидом Парфёновым. 2015. Фото Е. Чесноковой / РИА Новости.
Андрей Кончаловский. 2017. Фото В. Астапковича / РИА Новости.
Любовь Аркус. 2012. Фото В. Мельникова / РИА Новости.
Наталия Солженицына. 2018. Фото музея-заповедника «Царицыно».
Кирилл Серебренников. 2019. Фото В. Мельникова / РИА Новости.
Светлана Сорокина. 1998. Фото В. Горячева.
Алексей Уминский. 2016. Фото Ю. Роста.
Татьяна Тарасова. 2009. Фото О. Павловой.
Елена Грачёва. 2013. Фото С. Гусейновой.
Константин Хабенский. 2018. Фото Е. Чесноковой / РИА Новости.
Екатерина Гениева. 2012. Фото А. Житенева / РИА Новости.
Людмила Улицкая. 2011. Фото А. Рыбакова.
Ксения Собчак. 2018. Фото И. Питалева / РИА Новости.
Антон Долин. 2018. Фото Р. Ситдикова / РИА Новости.
Людмила Алексеева. 2011. Фото А. Куденко / РИА Новости.
Авдотья Смирнова. 2014. Фото О. Павловой.
Ирина Ясина. 2018. Фото Е. Рифеншталь.
Кантемир Балагов. 2019. Фото А. Есаянца / РИА Новости.
Катерина Гордеева. 2019. Фото А. Шмитько.
Примечания
1
Впервые опубликовано в интернет-издании Colta.ru 2 ноября 2017 г.
(обратно)2
Роман Бутовский, ныне – главный режиссер Первого канала, режиссер-постановщик программ «Времена», «Пусть говорят» и др., парадов на Красной площади и «Прямых линий» с президентом.
(обратно)3
Иван Демидов, один из основателей телекомпании ВИD, в начале девяностых – руководитель программ телекомпании на ТВ-6.
(обратно)4
Андрей Разбаш, продюсер, телеведущий, один из соучредителей телекомпании ВИD.
(обратно)5
Сергей Бодров-старший, режиссер кино, отец Сергея Бодрова.
(обратно)6
Фильм журналиста Юрия Дудя о Сергее Бодрове вышел на YouTube-канале «вДудь» в августе 2017 г.
(обратно)7
Александр Любимов, тележурналист и медиаменеджер, один из сооснователей, а с 2017 г. – президент телекомпании ВИD.
(обратно)8
Сергей Сельянов, режиссер, продюсер, основатель и глава кинокомпании СТВ.
(обратно)9
Лариса Синельщикова, медиаменеджер, экс-президент телекомпании ВИD, экс-супруга генерального директора Первого канала Константина Эрнста.
(обратно)10
Речь идет о фильме Режиса Варнье 1999 г.
(обратно)11
Любимов после работы на ВГТРК и РБК ТВ в 2014-м вернулся в ВИD и занял пост президента компании.
(обратно)12
Идея книжной серии «Мой двадцатый век. Действующие лица» – в соединении большой и «малой», личной, истории; Кушнерёв успел написать и выпустил в 2016–2017 гг. первые два тома: «1900» и свои воспоминания.
(обратно)13
Мария Шукшина, которая вела «Жди меня» с 2000-го по 2014 г.
(обратно)14
«Другая жизнь» – передача телекомпании ВИD, выходила на Первом канале. Чулпан Хаматова вела ее в 2000 г.
(обратно)15
Впервые опубликовано в интернет-издании «Медуза» 26 декабря 2016 г.
(обратно)16
Фильм Александра Сокурова «Франкофония» участвовал в конкурсе Венецианского фестиваля 2015 года, но не получил главных наград.
(обратно)17
Речь, произнесенная российским президентом Владимиром Путиным на Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности 10 февраля 2007 г. Выступление было посвящено однополярности современной мировой политики и месту и роли России, с точки зрения Путина, в современном мире с учетом его реалий и угроз.
(обратно)18
Речь о картине Андрея Кончаловского «Белые ночи почтальона Тряпицына» (2014).
(обратно)19
В 2013 г. автомобиль, за рулем которого находился Андрей Кончаловский, попал в аварию на юге Франции. Его дочь Маша не была пристегнута и получила тяжелые травмы. С тех пор она находится в коме.
(обратно)20
Впервые опубликовано в интернет-издании «Правмир» 18 марта 2019 г.
Мария Пиотровская, дочь директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского.
(обратно)21
В 2012 г. в России был принят «Закон об иностранных агентах», обязывающий регистрироваться в качестве таковых неправительственные организации, получающие финансирование из-за рубежа (даже в рамках грантов или пожертвований) и занимающиеся «политической деятельностью». В 2014 г. Госдума приняла закон, который позволяет Минюсту вносить НКО в реестр «иностранных агентов» принудительно. Так в нем оказались десятки организаций, которые занимаются правозащитой, помощью ВИЧ-инфицированным, защитой экологии и социологическими опросами.
(обратно)22
Впервые опубликовано в интернет-издании Colta.ru 30 января 2018 г.
(обратно)23
Средний сын Александра и Наталии Солженицыных, родившийся в Москве в 1972 г., концертирующий пианист и дирижер, профессор Филадельфийской консерватории (Институт Кёртиса).
(обратно)24
Впервые опубликовано в интернет-издании «Правмир» в 2018 г.
Ирина Штрих, помощница Любови Аркус, фотограф.
(обратно)25
Герой фильма Л. Аркус «Антон тут рядом».
(обратно)26
Главный внештатный специалист паллиативной медицинской помощи Минздрава России.
(обратно)27
Художник Надежда Васильева.
(обратно)28
Зоя Попова, директор Центра «Антон тут рядом».
(обратно)29
Впервые опубликовано в интернет-издании «Медуза» 16 марта 2017 г.
(обратно)30
Эйхманс Федор Иванович, латышский стрелок, сотрудник ВЧК-ОГПУ-НКВД СССР, первый комендант Соловецкого лагеря особого назначения, один из организаторов сталинских репрессий.
(обратно)31
Лацис Отто Рудольфович, советский журналист, доктор экономических наук.
(обратно)32
Акция солидарности участников протеста против фальсификаций на выборах проходила в Москве в январе 2012 г.
(обратно)33
Батайск – пригород Ростова-на-Дону.
(обратно)34
Алексей Малобродский, бывший генеральный продюсер АНО «Седьмая студия», подрядчика по проведению проекта «Платформа».
(обратно)35
Впервые опубликовано в интернет-издании «Медуза» 18 февраля 2016 г.
(обратно)36
«Ямой» работники телевидения называют телецентр на 5-й улице Ямского Поля.
(обратно)37
Сергей Морозов, в настоящее время специальный корреспондент информационной редакции RTVI.
(обратно)38
В 2000 г. Владимир Михайлович Кулистиков возглавлял службу информации НТВ.
(обратно)39
Впервые опубликовано в интернет-издании «Медуза» 11 сентября 2015 г.
(обратно)40
Сын отца Алексия Уминского Дамиан трагически погиб.
(обратно)41
Лида Мониава, заместитель директора детского хосписа «Дом с маяком», волонтер, подвижница и одна из основоположниц хосписного движения в России.
(обратно)42
Впервые опубликовано в интернет-издании «Медуза» 21 марта 2019 г.
Александра Стычкина, дочь Кати Сканави и Евгения Стычкина, выдающаяся пианистка.
(обратно)43
Александр Карелин, трехкратный чемпион Олимпийских игр, борец классического стиля, депутат Госдумы с 1999 по 2017 г.
(обратно)44
Анатолий Тарасов ушел с поста тренера сборной СССР в 1972 г. после победы своих игроков на Олимпиаде в Саппоро. Его жена Нина Тарасова позднее вспоминала, что в Японии на тренера пытались надавить, предлагали сборной СССР сыграть вничью с командой Чехословакии (тогда бы чехи стали вторыми, СССР в любом случае был первым). Сборная СССР выиграла, а тренерский штаб попал в опалу.
(обратно)45
Речь о том моменте, когда Анатолий Тарасов, тренер ЦСКА, во время матча решил, что судьи подсуживают «Спартаку». И увел в знак протеста всю команду в раздевалку на тридцать пять минут. После матча Тарасова лишили звания заслуженного тренера СССР.
(обратно)46
Впервые опубликовано в интернет-издании «Правмир» 31 октября 2018 г.
(обратно)47
Речь о видеоклипе, придуманном Чулпан Хаматовой для фонда «Подари жизнь» в 2014 г.
(обратно)48
Олег Табаков, художественный руководитель и директор МХТ им. А.П.Чехова в 2000–2018 гг.
(обратно)49
У Анастасии Федосеевой (1975–2008), первой жены Хабенского, в 2007 г. была диагностирована опухоль головного мозга.
(обратно)50
Александр Абдулов (1953–2008), популярный советский и российский артист театра и кино, артист Ленкома, народный артист РСФСР.
(обратно)51
Александр Цыпкин, популярный писатель.
(обратно)52
Впервые опубликовано в интернет-издании «Правмир» 2 апреля 2019 г.
(обратно)53
Галина Чаликова (1959–2011), первый директор благотворительного фонда «Подари жизнь».
(обратно)54
Government relationships – взаимоотношения со структурами власти.
(обратно)55
Павел Гринберг, один из основателей и исполнительный директор фонда AdVita.
(обратно)56
Речь о клинике имени Раисы Горбачевой, которой помогает фонд AdVita.
(обратно)57
Капитан Немо, крупный анонимный благотворитель, на протяжении полутора десятков лет помогавший некоторым российским фондам.
(обратно)58
Это интервью было опубликовано в интернет-издании «Медуза» 16 марта 2016 г.
(обратно)59
Один из прогрессивных методов терапии аутизма.
(обратно)60
Впервые опубликовано в интернет-издании «Медуза» 3 июля 2015 г.
(обратно)61
Джеймс Хедли Биллингтон (1929–2018), американский историк, тринадцатый директор библиотеки Конгресса США.
(обратно)62
Впервые опубликовано в интернет-издании «Такие дела» 12 января 2018 г.
(обратно)63
В апреле 2019 г. Антон Долин ушел из ВГТРК, обвинив телеканал «Россия-24», входящий в холдинг, в подготовке «лживого и гнусного», по его словам, репортажа о нем и его семье.
(обратно)64
Впервые опубликовано в интернет-издании «РБК Стиль» 5 июня 2018 г.
(обратно)65
Вероятно, имеется в виду активное участие Собчак в протестном движении 2011–2012 гг.
(обратно)66
Вдова Анатолия Собчака, сенатор Людмила Нарусова – один из главных героев фильма.
(обратно)67
Сергей Боярский, друг детства Ксении Собчак, сын популярного артиста и музыканта Михаила Боярского.
(обратно)68
Впервые опубликовано в интернет-издании «Правмир» 16 декабря 2018 г.
(обратно)69
20 июля 2017 г. Алексеевой исполнилось девяносто лет.
(обратно)70
Это интервью было опубликовано в интернет-издании «РБК Стиль» 28 июля 2017 г.
(обратно)71
13–14 октября 2005 г. в Нальчике боевики напали на силовые структуры: отделения милиции, ФСБ, воинскую часть. Считается, что в планах у террористов было захватить город и держать его под контролем, но этого не случилось. Погибли 14 мирных жителей и 35 сотрудников милиции и силовых структур, ранены более 240 человек, из них 129 сотрудников правоохранительных органов.
(обратно)72
Впервые опубликовано в интернет-издании «Правмир» в 2018 г.
(обратно)73
ЧОН – части особого назначения, «коммунистические дружины», «военно-партийные отряды», создававшиеся при заводских партийных организациях с 1917 по 1925 гг.
(обратно)74
Евгения Воскобойникова, в прошлом модель, ведущая телеканала «Дождь».
(обратно)75
С 13 декабря 1981-го по 22 июля 1983 г. в Польше было введено фактическое военное положение: руководство страной осуществлял Военный совет национального спасения во главе с Войцехом Ярузельским. Главной целью военного положения было подавление оппозиции.
(обратно)76
Впервые опубликовано в интернет-издании «Правмир» 15 октября 2018 г.
Речь идет о конфликте между азербайджанцами и армянами, который приобрел остроту в годы перестройки (1987–1988) и перерос в 1991–1994 гг. в масштабные военные действия, жертвами которых стали тысячи человек. Поездка состоялась осенью 2018-го.
(обратно)77
Освальд Руфайзен (1922–1998), католический монах-кармелит еврейского происхождения, брат Даниэля.
(обратно)

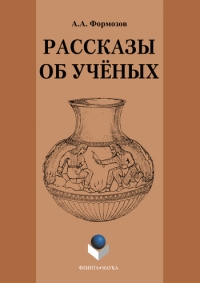


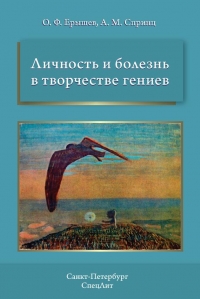
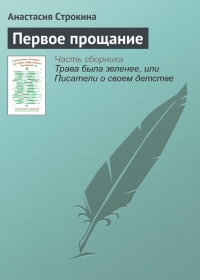
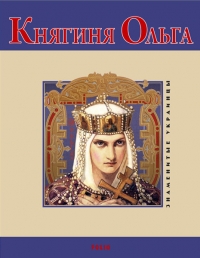


Комментарии к книге «Человек раздетый», Катерина Владимировна Гордеева
Всего 0 комментариев