Нора Букс Владимир Набоков Русские романы
Серия «Биография эпохи»
Дизайн серии Виктории Лебедевой
Фото на переплет предоставлено Science Source/LOC/Science Source/DIOMEDIA
В оформлении книги использованы иллюстрации Аиды Лисенковой-Ханемайер
Издательство благодарит за помощь в работе над книгой Ефима Курганова
© Нора Букс, 2019
© ООО «Издательство АСТ», 2019
* * *
Светлой памяти моей матери
Глава I Писатель Владимир Сирин
Лучшую биографию В. Набокова написал сам писатель Набоков. Отчасти в романах и рассказах, в разной пропорции наделяя своих героев отдельными элементами собственного детства или юности. Правда, Набоков терпеть не мог, когда любопытные заглядывали через окно произведений в его жизнь и демонстративно преуменьшал, разрывал личные биографические связи с художественным текстом. Так, в предисловии к английскому переводу «Дара» он писал, предупреждая читателя: «Я жил в Берлине с 1922 года, то есть одновременно с молодым героем этой книги, но ни это обстоятельство, ни кое-какие общие наши интересы, как например литература и лепидоптера[1], не дают оснований воскликнуть „ага!“ и уравнять рисовальщика и рисунок»[2]. В 1964 году в интервью журналу «Playboy» он с раздражением сказал: «Люди недооценивают силу моего воображения и мою способность выращивать многочисленных „я“ в моих сочинениях. И потом, конечно, существует особый тип вынюхивающего критика, энтузиаста „человеческого содержания“, радостного пошляка»[3].
Оказавшись в Америке, Набоков написал свои мемуары на английском «Conclusive evidence. A Memoir»[4], но вскоре переделал их в автобиографию «Память, говори», а затем с некоторыми изменениями перевел на русский под названием «Другие берега».
Вот как об этом рассказывает он сам: «…нью-йоркское издательство “Харпер и Братья” выпустило в 1951 году под названием “Убедительное доказательство” – убедительное доказательство моего существования. К сожалению, эта фраза наводила на мысль о детективе, так что я задумал назвать английское издание “Мнемозина, говори”, однако мне сказали, что “старушки не станут спрашивать книгу, названия которой они не смогут выговорить” […] так что мы в конце концов остановились на “Память, говори” (лондонского. – Н.Б.) издательства “Виктор Голланц”, 1951 и “Юниверсал Лайбрери”, Нью-Йорк, 1954»[5].
В 1954 году в нью-йоркском издательстве имени А. П. Чехова, в том самом, где двумя годами ранее был впервые издан полный текст романа «Дар» (включая IV главу «Жизнь Чернышевского»), увидела свет автобиография «Другие берега», представленная как перевод автора. Однако Набоков оговорил, что, «удержав общий узор, изменил и дополнил многое. Предлагаемая русская книга относится к английскому тексту, как прописные буквы к курсиву…»[6]. Позднее он вновь вернулся к своей книге воспоминаний, и в 1967 году на английском в нью-йоркском издательстве вышел еще один вариант его автобиографии «Speak Memory. An Autobiography Revisited» («Память, говори. Исправленная автобиография»).
Все варианты автобиографии, на русском и на английском, охватывают период жизни писателя без малого в сорок лет: от трех лет от роду до сорока, а точнее, до 20 мая 1940 года, когда Набоковы покинули охваченную войной Европу. Примечателен выбор отправной точки биографии. Не рождения, нет, а момента рождения сознания. Именно он для Набокова ценен и важен, потому что позволяет отделить собственное, уникальное, личное «Я» от общей неоформленной магмы предшествующего ему бессознательного. И в этом выборе, как в капле воды, отражен набоковский обостренный индивидуализм, его позиция одиночки, его отстаиваемая оригинальность, неизменная независимость суждений. Это был самоуверенный человек, знавший о своей гениальности и умевший ее ценить и служить своему дару. Он был предан литературе, своему искусству, своей памяти, своему удивительному, волшебному языку. И еще он верен был своему прошлому, где, как в амфоре, хранилась его Россия, живая, с пением птиц и шелестом деревьев, о которых он мог рассказать все с научной точностью и поэтической яркостью, и это прошлое понималось им как часть его творческой личности, его писательского зрения и стиля. «Я бы сказал, что воображение – это форма памяти»[7], – заявил Набоков в интервью А. Аппелю.
Он писал в воспоминаниях: «Заклинать и оживлять былое я научился бог весть в какие ранние годы – еще тогда, когда в сущности никакого былого не было»[8]. «Полагаю, кроме того, что моя способность держать при себе прошлое – черта наследственная. Она была и у Рукавишниковых и у Набоковых»[9].
Прошлое завораживало его рисунком судеб предков, в который он всматривался и искал переплетений со своей жизнью.
Легенда гласит, что дворянский род Набоковых идет от обрусевшего татарского князька по имени Набок-Мурза. Среди предков писателя также был немецкий композитор Карл Генрих Граун, известный и как прекрасный тенор. Он служил при дворе Фридриха II, был автором двадцати восьми опер и известной оратории «Смерть Иисуса». Набоков считал, что ген Грауна достался его сыну, Дмитрию, оперному певцу. Писатель иронизировал, что картина Адольфа фон Менцеля, изображающая Фридриха Великого, играющего на флейте сочинение Грауна, преследовала его «по всем немецким пансионам, в которые (он. – Н.Б.) селился за годы изгнания»[10].
Набоков в «Других берегах» рассказывает о баронессе фон Корф, кузине его «пра-пращура, женившегося на дочке Грауна»[11], вдове полковника русской армии, которая прославилась тем, что одолжила свой паспорт и свою роскошную карету королеве Франции Марии Антуанетте, когда королевская семья бежала из Версальского дворца в Варенн, где они были узнаны и арестованы. «Мария Антуанетта ехала как Мадам де Корфф»[12], – писал Набоков. Этот эпизод, произошедший 20–21 июня 1791 года, подробно изученный французскими историками, в частности Жюлем Мишле, не совсем точно приведен Набоковым. С паспортом баронессы Анны де Корф ехала воспитательница королевских детей маркиза де Круа де Турель, а у королевы был паспорт мадам Рош, гувернантки детей баронессы. Но для литературного эффекта набоковский вариант истории был гораздо лучше.
Другой предок писателя, Иван Набоков, участвовал в наполеоновской кампании, был женат на сестре Ивана Пущина, близкого друга А. С. Пушкина, и служил комендантом Петропавловской крепости, когда туда доставили арестованного Ф. М. Достоевского. По словам Владимира Набокова, он давал Достоевскому книги из своей библиотеки.
Дед писателя Дмитрий Набоков занимал пост министра юстиции при Александре II и Александре III. Способствовал продвижению либеральных судебных реформ. Он передал императору прошение сыновей Чернышевского об облегчении участи их отца. Чернышевский к тому времени провел шесть лет в сибирской тюрьме и двенадцать лет в Якутии. Александр III разрешил ему поселиться в Астрахани.
Дмитрий Набоков был сухой, немногословный чиновник, но именно с ним была связана красочная романтическая семейная история. Он был любовником жены генерала, матери трех дочерей, красавицы баронессы Нины фон Корф (в девичестве Шишковой). Чтобы не расставаться с возлюбленным во время путешествий, баронесса решила выдать за Набокова свою старшую дочь, 17-летнюю Марию.
Владимир Набоков в «Других берегах» рассказывает, что вычитал во французском еженедельнике «L’Illustration» за 1859 год о скандале, который произошел с Ниной фон Корф в Париже. Баронесса и Дмитрий Набоков были приглашены на бал к блистательному герцогу Морни, внуку Жозефины де Богарнэ, первой жены Наполеона I, послу Франции в России, женатому на русской княжне Софье Трубецкой, о которой говорили, что она незаконная дочь царя Николая I. Баронесса заказала для дочерей «костюмы цветочниц, по 225 франков за каждый»[13], что тогда представляло огромную сумму. Но когда их привезли, «баронессе костюмы показались слишком открытыми, и она отказалась принять их»[14]. Дочери рыдали и не поехали на бал. А Набоков пытался выбросить в окно судебного пристава, которого прислала портниха. Баронесса подала в суд и выиграла дело. Ей не только вернули деньги за костюмы, но и заплатили тысячу франков за моральный ущерб.
А Дмитрий Набоков вскорости женился на Марии. Брак этот был несчастным, но у них родилось девять детей. Шестым был Владимир – отец писателя.
Он с отличием закончил юридический факультет Петербургского университета по кафедре уголовного права и выбрал академическую карьеру. Восемь лет, с 1896 по 1904 год, он читал лекции в Училище правоведения, но затем из-за своей политической оппозиционной деятельности оставил преподавание.
Владимир Дмитриевич Набоков был одним из благороднейших людей России – либерал, человек высокого кодекса чести, юрист-правовед, один из основателей конституционно-демократической партии, а также либерально-оппозиционной газеты «Право» и газеты кадетской партии «Речь». В 1906 году был избран членом первого российского парламента – Государственной думы, в 1917-м он – управляющий делами Временного правительства, а в 1919-м – министр юстиции в Крымском краевом правительстве Соломона.
14 ноября 1897 года Владимир Дмитриевич обвенчался с молоденькой, очаровательной девушкой Еленой Ивановной Рукавишниковой, соседкой по имению, дочерью миллионера-золотопромышленника. Богатство семьи Рукавишниковых, происходившей из мелкопоместного дворянства, объяснялось приисками в Пермской губернии, которыми они владели с XVIII века. Василий Рукавишников, брат деда писателя, был известен как крупнейший землевладелец России. Сам же дед, Иван, был обладателем миллионного состояния, но, как писал о нем внук, был тиран, «тревожно-размашистый чудак с дикой страстью к охоте»[15]. Его сын, Василий, «много натерпелся от […] странного, тяжелого, безжалостного к нему отца»[16]. Женился Иван Васильевич на девушке образованной, дочери Николая Козлова, первого президента Российской императорской медико-хирургической академии, знаменитого врача патологоанатома, ученого, автора известной в медицинской науке работы о «Сужении яремной дыры у людей помешанных и самоубийц». Не усматривал ли Набоков связующий рисунок между собственными научно-художественными опытами в создании литературных героев, страдающих разными видами психических отклонений, и научными работами знаменитого прадеда?
Из восьми детей Рукавишниковых выжили только двое, Василий и младшая дочь Елена. Василий служил по дипломатической части. Елена вышла замуж за Набокова. Молодые поселились в Петербурге, в аристократическом элегантном районе, на Большой Морской в доме номер 47 – роскошном особняке из розового гранита. В 1901 году был надстроен третий этаж, украшенный золотой полосой из мозаики, здесь разместили спальни детей и комнаты гувернанток.
В этом доме 10 апреля (по старому стилю) и 23 апреля (по новому) 1899 года родился мальчик, которого назвали в честь отца – Владимиром. Даты, в которые впоследствии писатель Набоков пристально всматривался, в обращении с которыми был всегда придирчиво точен, носили для него смысл судьбоносных знаков, а в творчестве обретали функции художественных приемов, позволявших наводить мосты и ориентиры в мире литературы. «Как и Пушкина, меня зачаровывают пророческие даты», – говорил Набоков в интервью А. Аппелю[17]. Вполне естественно, что в дате своего рождения он увидел символы собственного творческого предназначения. Набоков родился через сто лет после Пушкина, в день рождения Шекспира.
И действительно, два этих великих литературных имени предсказали два языка литературной карьеры Набокова и мировой масштаб его литературной славы. Впоследствии Набоков, поэт и писатель, считал Пушкина своим духовным отцом. И если Пушкину так и не удалось пересечь границы России, то Набокову не удалось пересечь эту границу в обратном направлении: он не вернулся в отечество из эмиграции. Забавно и то, что в детстве репетитором у Набоковых служил «розовый, полнолицый студент с рыжеватой бородкой»[18] по фамилии Ленский. Пушкинский голос звучит в большинстве произведений Набокова, и его литературный диалог с Пушкиным не прерывался никогда. Во Франции к столетней годовщине гибели поэта Набоков на виртуозном, блистательном французском написал эссе «Пушкин, или Правда и правдоподобие», в Америке в 1942 году написал заключительную сцену к пушкинской «Русалке», а в 1964 году, в канун 165-й годовщины со дня рождения А. С. Пушкина, издал в переводе на английский «Евгения Онегина» и «Комментарий» к нему в объеме более 1100 страниц, над которым работал в течение пятнадцати лет.
Голос Шекспира звучит приглушеннее в его романах, где, однако, немало к нему аллюзий. Прекрасны набоковские переводы сонетов Шекспира и монолога Гамлета, которые он осуществил по окончании романа «Подвиг», где отчетливо проводится гамлетовская тема. В декабре 1924 года он написал стихотворение «Шекспир».
Надменно-чужд тревоге театральной, ты отстранил легко и беспечально в сухой венок свивающийся лавр и скрыл навек чудовищный свой гений под маскою, но гул твоих видений остался нам: венецианский мавр и скорбь его; лицо Фальстафа – вымя[19] с наклеенными усиками; Лир бушующий… Ты здесь, ты жив, – но имя, но облик свой, обманывая мир, ты потопил в тебе любезной Лете. И то сказать: труды твои привык подписывать – за плату – ростовщик, тот Виль Шекспир, что «Тень» играл в «Гамлете»…[20]Набоков считал, что автор, подобно Творцу, не открывает своего лица, и в собственном творчестве реализовал этот принцип по-своему, – ни откровений с читателями, ни разъяснений критикам…
Родители души не чаяли в сыне. За год до его рождения Елена Ивановна потеряла первого ребенка при родах. Владимир навсегда остался любимцем семьи, несмотря на то, что со временем у него появились еще два брата и две сестры.
Он рано стал проявлять способности. «Я научился счету и слову почти одновременно, в возрасте очень раннем»[21], – писал Набоков. Обнаружилось, что Владимир, как и его мать, наделен «цветным слухом». Объяснение, которым писатель сопровождает рассказ о появления цветовой окраски звука, иллюстрирует его уникальную, практически физическую, чувственную способность воспринимать буквы и звуки. «Не знаю, впрочем, правильно ли тут говорить о “слухе”, – размышлял Набоков, – цветное ощущение создается, по-моему, осязательным, губным, чуть ли не вкусовым путем. Чтобы основательно определить окраску буквы, я должен буквально просмаковать, дать ей набухнуть или излучиться во рту, пока я воображаю ее зрительный узор»[22]. И далее: «Чернобурую группу составляют: густое, без галльского глянца А; довольно ровное […] Р, крепкое каучуковое Г […] Переходя к спектру, находим: красную группу с вишнево-коричневым Б […] розово-фланелевым М и розовато-телесным В…»[23].
Набоков вспоминал, что в детстве у него проснулись недюжинные способности к математике, которые потом пропали. Некоторые собственные признания, сделанные уже зрелым писателем, позволяют догадываться о восприимчивости его натуры, обозначившейся рано, о богатстве и импульсивности его детской фантазии. В воспоминаниях он писал: «Я всегда был подвержен чему-то вроде легких, но неизлечимых галлюцинаций. Одни слуховые, другие зрительные…»[24] и далее: «У меня вырастали из рубиновых оптических стигматов и Рубенсы, и Рембрандты, и целые пылающие города. Особого толчка, однако, не нужно для появления этих живописных призраков, медленно и ровно развивающихся перед закрытыми глазами»[25].
Или другое свидетельство: «Всю жизнь я засыпал с величайшим трудом и отвращением. Люди, которые, отложив газету, мгновенно и как-то запросто начинают храпеть в поезде, мне столь же непонятны, как, скажем, люди, которые куда-то баллотируются или вступают в масонские ложи…»[26]. «…в детстве предстоящий сон казался мне палачом в маске, с топором в черном футляре и с добродушно-бессердечным помощником, которому беспомощный король прокусывает палец. Единственной опорой в темноте была щель слегка приоткрытой двери в соседнюю комнату, где горела одна лампочка из потолочной группы и куда Mademoiselle (швейцарская гувернантка. – Н.Б.) из своего дневного логовища часов в десять приходила спать. Без этой вертикали кроткого света мне было бы не к чему прикрепиться в потемках, где кружилась и как бы таяла голова»[27].
И неожиданное, редчайшее набоковское откровение:
«Был я трудный, своенравный, до прекрасной крайности избалованный ребенок, – признавался писатель. И добавлял: – Балуйте детей побольше, господа, вы не знаете, что их ожидает!»[28].
Набоков вспоминал, как в раннем детстве «мать во всем потакала (его. – Н.Б.) ненасытному зрению. Сколько ярких акварелей она писала при мне, для меня!»[29] «Как я любил кольца на материнской руке, ее браслеты! Бывало, в петербургском доме, в отдаленнейшей из ее комнат, она вынимала из тайника в стене целую груду драгоценностей, чтобы позабавить меня перед сном»[30].
Родители, и особенно мать, с готовностью и радостью исполняли желания своего любимца. Набоков рассказывает, как во время болезни мать поехала «купить мне (В.Н. – Н.Б.) очередной подарок: планомерная ежедневность приношений придавала медленным выздоравливаниям и прелесть и смысл»[31]. Эпизод с покупкой подарка из реального детства был перенесен писателем в текст главы I романа «Дар» – герой в подробностях представляет поездку матери и в своем воображении видит, куда она едет и что покупает ему. И мать действительно приносит ему столь желанный большой рекламный карандаш, висевший в витрине магазина Ф. Треймана на Невском, 18. Таково перенесенное в роман свидетельство силы воображения и интуитивного видения маленького Владимира.
Родители писателя, воспитывая сына в роскоши и любви, научили его видеть хрупкую, уникальную красоту окружающего мира, восхищаться ею и ценить ее превыше вещественного богатства. «“Вот запомни”, – говорила она (мать. – Н.Б.), с таинственным видом предлагая моему вниманию заветную подробность: жаворонка, поднимающегося в мутно-перламутровое небо бессолнечного весеннего дня, вспышки ночных зарниц, снимающих в разных положениях далекую рощу, краски кленовых листьев на палитре мокрой террасы, клинопись птичьей прогулки на свежем снегу. Как будто предчувствуя, что вещественная часть ее мира должна скоро погибнуть, она необыкновенно бережно относилась ко всем вешкам прошлого, рассыпанным и по ее родовому поместью и по поместью свекрови…»[32].
Набоков вспоминает в «Других берегах», как брат матери, Василий Рукавишников, приезжал к ним в поместье летом и «с обещанием дивного подарка в голосе […] он подводил меня к ближайшей липке и, изящно сорвав листок, протягивал его со словами: “Pour mon neveu, la chose la plus belle au monde” (“Моему племяннику – самая красивая вещь в мире”)»[33]. Когда Владимиру исполнилось семнадцать лет, Василий Рукавишников умер. Миллионное состояние и богатое имение Рождествено он оставил любимому племяннику. Целый год Владимир Набоков пребывал миллионером. В автобиографии, подходя в рассказе к этому моменту, Набоков ввел коротенькую главку-отступление. Привожу ее основную мысль: «Мое давнишнее расхождение с советской диктатурой никак не связано с имущественными вопросами. Презираю россиянина-зубра, ненавидящего коммунистов, потому что они, мол, украли у него деньжата и десятины. Моя тоска по родине лишь своеобразная гипертрофия тоски по утраченному детству»[34].
И правда, потеряв огромное состояние, оказавшись на чужбине практически без средств, Набоков никогда не казался обездоленным. Вот каким вспоминает его в эмиграции Иосиф Гессен, близкий друг его отца, возглавлявший вместе с ним в Берлине газету «Руль» и издательство «Слово»: «Передо мной был высокий, на диво стройный, с неотразимо привлекательным тонким, умным лицом, страстный любитель и знаток физического спорта и шахмат… Больше всего пленяла ненасытимая беспечная жизнерадостность, часто и охотно прорывавшаяся таким бурным смехом, таким беспримесно чистым и звонким, таким детски непосредственным, добродушно благостным, – что нельзя было не поверить ему, что “так лучезарна жизнь и радостей так много… что сижу я дивлюсь. Пусть хмурится сосед мой нерадивый, а я, я радуюсь всему”»[35].
Научившись в детстве видеть и наслаждаться богатством природы, Набоков знал и умел ценить истинную живую роскошь мира, которую выхватывал зорким зрением и переливал в свою сверкающую самоцветами, дышащую, звучащую гениальную прозу.
Страсть к бабочкам перешла к Владимиру от отца. Начиная с 7-летнего возраста он собирал коллекции, изучал их, с упоением «зачитывался энтомологическими журналами» в библиотеке отца и в конце концов превратился в ученого-энтомолога, продолжавшего охоту на бабочек в течение всей жизни. Первую научную статью о них писатель опубликовал на английском в первый семестр обучения в Кембридже. Она называлась «Несколько заметок о лепидоптере Крыма». Увлечение бабочками позволило Набокову постичь некоторые таинственные явления природного мира, одним из шедевров которого является загадка мимикрии. Набоков пишет о ней в «Даре»: «Он (отец. – Н.Б.) рассказывал о невероятном художественном остроумии мимикрии, которая не объяснима борьбой за жизнь (грубой спешкой чернорабочих сил эволюции), излишне изысканна для обмана случайных врагов […] и словно придумана забавником-живописцем как раз ради умных глаз человека… он рассказывал об этих магических масках мимикрии: о громадной ночнице, в состоянии покоя принимающей образ глядящей на вас змеи; об одной тропической пяденице, окрашенной в точное подобие определенного вида денницы, бесконечно от нее отдаленной в системе природы…»[36].
Набоков, с ювелирным изяществом описывая примеры мимикрии в своей прозе, трансформировал ее в изобразительный прием. Так, сама природа становится источником его поэтики. Мимикрия во многих его романах обретает пародийное наполнение – в частности, в «Даре» писатель создает персонажей, чьи черты внешности пародийно отражают сущность их занятий: казначей, «мощно кривя набитый драгоценностями рот, стал читать… посыпались, как искры, цифры, запрыгали металлические слова […] Дочитав, казначей закрыл со щелком рот»[37].
Несомненно и то, что дисциплина научного описания, приобретенная Набоковым-энтомологом, обусловила точность его удивительной поэтической и яркой метафоры, всегда стоящей на твердых ногах исследовательского знания. В главе «Звуки и запахи» этой книги приведены примеры воплощения известного в поэзии образа поэта-певца-соловья в романе «Машенька», при художественном изображении которого соблюдены описанные в науке признаки этой певчей птицы. В интервью, данном журналу «Playboy» в 1964 году, Набоков сказал: «…художник должен знать данный ему мир. Воображение без знания ведет лишь на задворки примитивного искусства, к каракулям ребенка на заборе или речам безумца на рыночной площади. Искусство не бывает простым»[38].
Редчайшее научное знание природы, приобретенное в детстве и пополняемое годами ее изучения, позволило писателю вдохнуть в свои произведения «правдивую» художественную жизнь. Приведу в пример отрывок из «Дара», где с невероятной красотой и эротичностью и вместе с тем с безукоризненной научной точностью дано описание насекомых:
«Он (отец героя. – Н.Б.) научил меня, как разобрать муравейник, чтобы найти гусеницу голубянки, там заключившую с жителями варварский союз, и я видел, как, жадно щекоча сяжками один из сегментов ее неповоротливого, слизнеподобного тельца, муравей заставлял ее выделить каплю пьяного сока, тут же поглощаемую им, – а за то предоставлял ей в пищу свои же личинки, так как если б коровы нам давали шартрез, а мы – им на съедение младенцев»[39].
Бабочка – Психея, душа. Как изумительно подходит эта страсть к писательскому ремеслу. Но я хочу сказать вот о чем. Увлечение бабочками, их собирание, рассматривание в микроскоп создало особую оптику писателя Набокова. На лекциях в Корнельском университете он обращал внимание студентов на оптику Джойса. И Набоков знал, о чем говорил, ибо его собственная изобразительная уникальная манера письма во многом определена его особой оптикой. Она создается целым набором приемов зрительской регистрации мира от внезапного приближения рассматриваемого и описываемого объекта, или отмены границ реального зрения и вплоть до постоянно меняющейся точки зрения в повествовании и т. д. Вот как сказал об этом сам Набоков: «Мне думается, что в гамме мировых мер есть такая точка, где переходят одно в другое воображение и знание, точка, которая достигается уменьшением крупных вещей и увеличением малых: точка искусства»[40].
Россия детства и юности Владимира Набокова состояла из двух локусов, Петербурга и семейных имений, находящихся, как говорил сам писатель, «в пятидесяти милях от Петербурга»[41]: Выра, принадлежащая его матери, Рождествено – дяде Василию Рукавишникову и Батово – имение Набоковых, где жила еще бабушка писателя, – все они расположены по соседству, вдоль двух рукавов реки Оредежь. И в этом летнем, зеленом пространстве, которое будущий писатель нежно любил и впоследствии воссоздавал в своих произведениях, повсюду обнаруживались следы литературные: усадьбой Батово с 1805 года владела мать поэта Кондратия Рылеева. В «Память, говори» Набоков назвал его «второстепенным поэтом, журналистом и прославленным декабристом»[42]. Рылеев «проводил в этих местах большую часть летних месяцев, посвящая элегии Оредежи…»[43]. В «Комментариях» к «Евгению Онегину» Набоков рассказал о малоизвестной пистолетной дуэли между Пушкиным и Рылеевым в 1820 году, где Дельвиг и Павел Яковлев были секундантами. По мнению комментатора, дуэль произошла «между 6 и 9 мая в окрестностях Петербурга, возможно, в имении матери Рылеева Батово»[44]. После дуэли, по мнению Набокова, Пушкин сразу же уехал на юг. Набоков пишет в «Память, говори»: «Судьба поколебалась с миг, не зная, что ей предпочесть – преградить ли героическому мятежнику путь на виселицу, лишить ли Россию “Евгения Онегина”, – но затем решила не ввязываться»[45]. Приблизительно в году 1846-м Батово приобрела Нина Шишкова, в замужестве баронесса фон Корф, и по наследству передала его младшей дочери Марии, бабушке писателя. Набоков добавляет маленькую деталь, демонстрирующую уровень отношений в России прошлого. Сын казненного Кондратия Рылеева, генерал, был другом царя Александра II и министра юстиции Дмитрия Набокова.
Поместье Рождествено, которое досталось в наследство Владимиру, в начале XVIII века было известно как Куровицкие угодья, находившиеся в собственности сына Петра Великого, царевича Алексея. И, как писал Набоков, «из этого дворца, по этому тракту, ведущему в Польшу и Австрию, царевич и бежал лишь для того, чтобы агент царя, граф Петр Андреевич Толстой, бывший одно время послом в Константинополе (где он приобрел для своего властелина арапчонка, внуку которого предстояло стать Пушкиным), выманил его из самого Неаполя в отцовский пыточный застенок»[46]. Фигура Пушкина как водяной знак проступает на всем жизненном пути Набокова.
Но, кажется, больше всего Набоков любил Выру с ее большим просторным домом, с ее парком, аллеями, лесом… Он описал ее в «Машеньке», в «Даре».
Выра, Рождествено, Батово и Петербург – вот она, Россия Набокова. Но описания этих конкретных географических локусов в романах так щедры и так подробны, что обретают эффект метафорического обобщения, втягивающего в пространство поэтического образа всю Россию. А вот в Москве Набоков ни разу не бывал, он гордился своей элегантной петербургской речью и к Первопрестольной относился с некоторой долей снобизма, что проскользнуло в его произведениях. Так, об одном своем герое из романа «Отчаяние», бездарном художнике, рисовавшем натюрморты, он писал: «…Был он москвич и любил слова этакие густые, с искрой, с пошлейшей московской прищуринкой»[47].
«Я всегда был ненасытным пожирателем книг»[48], – говорил о себе Набоков. Несомненным сокровищем для него была библиотека отца в Петербурге, насчитывавшая 10 тысяч томов. Юный Набоков, в отличие от своих родителей, страстных театралов и меломанов, кроме литературы предпочитал живопись. И родители даже полагали, что со временем он станет художником. Его первым учителем рисования был бывший учитель матери. А с 1912-го по 1914 год – знаменитый Мстислав Добужинский. «Вы были самым безнадежным учеником из всех, каких я когда-нибудь имел»[49], – признавался ему впоследствии Добужинский. Но, несомненно, занятия с ним позволили юному Набокову «отточить глаз». В память об учителе в его комнате в эмиграции стояла открытка работы М. Добужинского из его серии «Типы Петербурга», «Извозчики». Когда оба, учитель и ученик, оказались в Америке, Добужинский прислал Набокову еще несколько открыток из этой серии, а также акварель «Лиловая Дама», написанную для постановки набоковской пьесы «Событие» в 1941 году в Нью-Йорке, костюмы и декорации к которой делал М. Добужинский. А в 1926 году Набоков, посетив выставку своего бывшего учителя в Берлине, посвятил ему стихотворение «Ut pictura poesis».
«В обиходе таких семей как наша, – писал Набоков в «Других берегах», – была давняя склонность ко всему английскому: это слово, кстати сказать, произносилось у нас с классическим ударением (на первом слоге), а бабушка М. Ф. Набокова говорила уже совсем по старинке: аглицки»[50]. Так, кстати сказать, произносил это слово и сын писателя, Дмитрий Набоков.
Маленький Владимир научился читать по-английски раньше, чем по-русски. В «Других берегах», где писатель вспоминает своих гувернанток и учителей, почти целая главка уделена шотландцу мистеру Бэрнесу, который тренировал его в диктантах и на прощание произносил «лимерик (нечто вроде пятистрочной частушки весьма строгой формы»[51]) о какой-то леди, кричавшей, когда ее сжимали. Набоков в мемуарах поместил свой перевод на русский этой очаровательной частушки:
Есть странная дама из Кракова: орет от пожатия всякого, орет наперед и все время орет — но орет не всегда одинаково[52].Позднее Набоков узнал, что мистер Бэрнес был в Эдинбурге одним из лучших переводчиков русских стихов на английский.
Когда Владимиру было шесть лет, к нему и его брату взяли французскую гувернантку, которая на самом деле была швейцаркой, совсем как швейцарский гувернер Онегина. Мадмуазель Сесиль Миатон провела в доме Набоковых около восьми лет и научила его такому французскому, о котором могут мечтать некоторые современные французские писатели. В 1922 году, будучи со своим кембриджским товарищем в Лозанне, Набоков навестил мадмуазель Миатон и написал о ней трогательный рассказ «Пасхальный дождь»[53].
Русский алфавит Набоков выучил уже в возрасте семи лет. Обучил его грамоте сельский учитель, «милейший Василий Мартынович»[54], которого летом в Выре пригласили в набоковский дом.
В 1911 году отец решил отдать двух старших сыновей в школу. Сергей пошел в бывшую гимназию отца, а для Владимира было выбрано Тенишевское реальное училище, считавшееся одним из лучших частных реальных училищ в России. Там несколькими годами ранее учился Осип Мандельштам, которого Набоков назовет «восхитительным поэтом, лучшим поэтом из пытавшихся выжить в России при Советах»[55]. Звездой Тенишевского училища был талантливый поэт В. В. Гиппиус.
Владимир начал писать стихи в весьма юном возрасте и долгое время считал себя поэтом. Собственно, он продолжал сочинять их всю жизнь. Последний его поэтический сборник – «Стихи», «почти полное собрание стихов»[56], отобранных самим Набоковым, но изданных уже посмертно. Однако еще в Берлине, после успеха романа «Машенька», Набоков сам понял, что проза заняла в его творчестве первые ряды. Приговор себе он огласил в «Даре»: героиня говорит Годунову-Чердынцеву: «Мне нечего тебе говорить, как я люблю твои стихи, но они всегда не совсем по твоему росту, все слова на номер меньше, чем твои настоящие слова»[57].
Первый сборник юного поэта был издан им в 1914 году, но не сохранился. Набоков печатался и в журнале Тенишевского училища «Юная мысль», где был одним из четырех редакторов. Его стихотворение было опубликовано в солидном журнале «Вестник Европы». А в 1916 году он выпустил сборник «Стихи», включавший 68 стихотворений, обращенных к Валентине Шульгиной. Набоков вспоминал, как ставший тогда директором Тенишевского училища «В. В. Гиппиус […] принес как-то экземпляр моего сборничка в класс и подробно его разнес при всеобщем, или почти всеобщем, смехе»[58].
Валентина Шульгина (Люся) была первой любовью шестнадцатилетнего Набокова. В автобиографии писателя она фигурирует под именем Тамары, а в его первом романе – Машеньки. Они познакомились на прогулке в Выре летом 1915 года. Люся проводила это лето на даче в Рождествено. Парки и леса Выры и Рождествено сделались пейзажем их ежедневных встреч, наполнились для Владимира дополнительным очарованием. «Я водил мою возлюбленную по всем потаенным лесным уголкам, в которых прежде так пылко грезил о том, как встречу ее, как сотворю. И в одной сосновой рощице все стало по местам, я разъял ткань вымысла и выяснил вкус реальности»[59]. Их встречи продолжались в Петербурге. Но следующим летом наметился разлад, пришло разочарование. Тем не менее Набоков никогда не забывал своей первой любви, ее образ всплывает со дна памяти в его прозе и стихах.
В листве березовой, осиновой, в конце аллеи у мостка, вдруг падал свет от платья синего, от василькового венка. Твой образ легкий и блистающий как на ладони я держу и бабочкой не улетающей благоговейно дорожу[60].Осенью 1916 года от сердечной болезни умер дядя Владимира, Василий Рукавишников. Он скончался в одиночестве в лечебнице Сан-Манде под Парижем, в бывшем поместье Фуке, несчастного министра финансов Людовика XIV, так внезапно лишившегося власти и богатства. Был ли в этом некий знак его наследнику?
Владимир продолжал учиться в Тенишевском училище. Осенью 1917-го, после октябрьского переворота и падения Временного правительства Набоковы опасались возможной мобилизации старших сыновей в большевистскую армию. Графиня С. В. Панина предложила семье Владимира Дмитриевича свое поместье в Гаспре, в Крыму. Но В. Д. Набоков, которого выдвинули в Учредительное собрание, должен был оставаться в Петербурге. Он написал поразительный по точности, честности и разоблачительной силе документ-воспоминания «Временное правительство и большевистский переворот», который затем был издан в Берлине И. Гессеном. Первыми в Крым уехали Владимир и Сергей. В свой последний день в столице (15 ноября 1917 года) Набоков написал стихотворение, посвященное матери, в котором сожалел, что ей больше не придется гулять по любимой Выре.
Большая семья Набоковых, братья, их жены и дети, перебралась в Крым. Владимир Набоков пробыл в Крыму с ноября 1917-го по апрель 1919 года. Это была короткая репетиция долгой эмиграции, которая ему предстояла. Но «жизнь семьи коренным образом изменилась, – вспоминал Набоков. – За исключением некоторых драгоценностей, случайно захваченных и хитроумно схороненных в жестянках с туалетным тальком, у нас не оставалось ничего»[61].
Владимир Дмитриевич стал министром юстиции в Крымском краевом правительстве, возглавляемом Соломоном Крымом, и уехал в Симферополь. Его семья поселилась в Ливадии. Владимир переписывался с Люсей. «Этим письмам ее, этим тогдашним мечтам о ней, я обязан, – писал Набоков, – особому оттенку, в который с тех пор окрасилась тоска по родине. Она впилась, эта тоска, в один небольшой уголок земли, и оторвать ее можно только с жизнью»[62]. Эти слова сказаны писателем, которому было уже за пятьдесят, и что касается тоски по родине, то к этому времени он успел вкусить всю силу и мучительность этой хронической боли.
В Крыму Владимир познакомился с М. Волошиным, сыграл в пьесе А. Шницлера «Забава», посетил Бахчисарай, страстно штудировал метрическую систему Андрея Белого, а также с восторгом перечитывал его «Петербург». Это произведение позднее он относил к четверке великих романов века: «Превращение» Кафки, «Улисс» Джойса, «В поисках утраченного времени» Пруста и «Петербург» Андрея Белого.
В 1918-м в Петербурге вышел сборник стихов его и Андрея Балашова, товарища по Тенишевскому училищу. Эта книжечка, куда включены двенадцать стихотворений Набокова, считается сегодня истинным раритетом. Есть подозрение, что она сохранилась чуть ли не в нескольких экземплярах.
В Ялте Владимир нашел учителя латыни, у которого стал брать уроки. И читал, читал запоем. «Именно в Ливадии, – вспоминал Набоков, – я завершил в 1918 году освоение русской поэзии и прозы»[63]. И еще в Крыму он увлекся составлением шахматных задач. И, конечно, писал стихи:
Еще безмолвствую и крепну я в тиши. Созданий будущих заоблачные грани Еще скрываются во мгле моей души Как выси горные в предутреннем тумане[64].Но над Крымом нависли тучи Гражданской войны. Красные уже боролись за Перекоп. Был получен приказ эвакуироваться. 8 апреля Набоковы отправились из Ливадии в Севастополь. Город был полон беженцами. Семья министра Набокова разместилась в гостинице. В ту ночь Владимир написал стихотворение:
Не то кровать, не то скамья. Угрюмо-желтые обои. Два стула. Зеркало кривое. Мы входим – я и тень моя. ………………………………… Я замираю у окна, И в черной чаше небосвода, Как золотая капля меда, Сверкает сладостно луна.В сумятице чувств и толчее бегства юный поэт не теряет своего мастерства: в стихотворении ведущим становится мотив желтого цвета, непосредственно связанный в культурной общей памяти с «желтым домом» – сумасшедшим домом. Но если в первой строфе он появляется именно в этом смысловом значении, то в последней – в виде поэтического знака сладостного освобождающего соединения с природой. Набоков тут (возможно, впервые) использует прием, который потом доведет в своем творчестве до ювелирного совершенства, прием выстраивания собственного художественного образа на буквализации прочтения затертой идиомы. В этом случае «медовый месяц» – первый месяц супружества – превращен им в яркий образ луны, напоминающей «золотую каплю меда» в «черной чаше небосвода».
Министры и их семьи должны были отправиться на корабле в Константинополь. Но французское командование, союзное правительству, запросило отчет о фондах правительства и потребовало денег. Отчет был предоставлен, а денег не было. Семьи семи министров общим числом 35 человек перевели на грязное греческое судно с символическим названием «Надежда». Несколько дней, в ожидании разрешения на выход в море, люди спали на деревянных скамьях. Лишь когда с берега стали слышны пулеметные очереди и стало понятно, что красные захватили высоты вокруг города, «Надежде» разрешили покинуть порт. 15 апреля 1919 года в 11 часов вечера Набоков увидел исчезающий берег России в последний раз.
Вот как он написал об этом сам: «Порт уже был захвачен большевиками, шла беспорядочная стрельба, ее звук, последний звук России, стал замирать, но берег все еще вспыхивал, не то вечерним солнцем в стеклах, не то беззвучными отдаленными взрывами, и я старался сосредоточить мысли на шахматной партии, которую играл с отцом (у одного из коней не хватало головы, покерная фишка заменяла недостающую ладью), и я не знаю, что было потом с Тамарой»[65].
Эта сцена шахматной игры в драматический момент жизни – своеобразная иллюстрация силы личности отца и сына. Набоков, как и его отец, обладал истинным аристократизмом духа. Они никогда не теряли собственного достоинства, не поддавались панике, умели владеть собой во всех жизненных обстоятельствах. В основе такого характера лежала глубокая убежденность, что внутренний мир человека находится целиком в его собственной власти и никогда внешние события не могут поколебать душевного равновесия и привлечь к себе внимание в ущерб духовной жизни индивидуума.
В день своего двадцатилетия Владимир ступил на землю Греции. Там их ждали два брата отца с семьями. Набоковы пробыли в Афинах три недели. Кузены поехали все вместе смотреть Акрополь. Уже в Англии Набоков написал стихотворение «Акрополь».
За исключением Акрополя, Афины Набоковым не понравились. Пребывание там Владимиру скрасила короткая связь с некой русской замужней дамой, старше его, по фамилии Новотворцева. История отозвалась в «Подвиге», и остается только гадать, было ли нечто общее у героини Аллы Черносвитовой и реальной афинской возлюбленной двадцатилетнего Владимира. 18 мая 1919 года Набоковы отправились в Марсель на американском лайнере «Паннония», который плыл в Нью-Йорк «на двадцать один год раньше, чем требовалось»[66], как написал Набоков в своей автобиографии.
В танцевальном зале лайнера Владимир научился ловко танцевать фокстрот. Из Марселя на поезде семья отправилась в Париж. Три дня они прожили в фешенебельной гостинице «Grand Hotel Terminus», где обычно останавливались богатые туристы из Англии, так как поблизости был вокзал Сан-Лазар, откуда шли поезда в Лондон.
В эти дни Владимир был отправлен к Картье на роскошную улицу Мира номер 13, чтобы продать жемчужное ожерелье матери. Его костюм вызвал подозрение у приказчиков, и те уже было вызвали полицию, но, к счастью, Владимиру все-таки удалось убедить их, что он именно тот, за кого себя выдает.
Из Парижа Набоковы отправились в Лондон, где их встретил брат отца, Константин, служивший в посольстве давно свергнутого Временного правительства. Поначалу они сняли квартиру в южном Кенингстоне – дорогом районе Лондона. Но затем пришлось переехать в Челси, юго-западный район города, что был поскромнее. Денег, вырученных от продажи драгоценностей, которые «дальновидная старая горничная перед самым отъездом матери из Петербурга в 1917 году смела с туалетного столика в nécessaire»[67], хватило семье на год жизни в Англии и позволило оплатить Владимиру и Сергею два года учебы в Кембридже.
В Лондоне к тому времени стали появляться русские, Владимир случайно встретил своего приятеля по Тенишевскому училищу Самуила Розова, который приехал поступать в Лондонский университет. Розов одолжил Набокову аттестат об окончании училища. Когда Набоков в Кембридже предъявил этот документ членам комиссии и объяснил, что у него точно такой же, те, не зная русского, решили, что он показывает им свой аттестат, и зачислили его.
1 октября 1919 года Владимир Набоков стал студентом знаменитого Тринити-колледжа Кембриджского университета, где учились Байрон и Ньютон. Его брат, Сергей, поступил в Оксфорд, но потом также перебрался в Кембридж.
Набокову пришлось узнать непреложные правила поведения в этом университете: не валяться и не ходить по траве, носить мантию даже вечером, не возвращаться домой после полуночи, иначе штраф. Студенческий этикет требовал: никогда не здороваться за руку, не кланяться и не желать доброго утра, приветствовать знакомого широкой улыбкой, не носить пальто и шляпу, даже в холод. У каждого студента был свой университетский наставник, следивший за посещением лекций, поведением, ругавший за штрафы. Свободолюбивый Набоков, которому никто никогда ничего не запрещал, был неприятно поражен тем, что кто-то осмеливается читать ему нотации. Его наставником был известный филолог-классик Е. Гаррисон, отношения с ним у Владимира не сложились. Студентов размещали по двое в квартиру, так, чтобы у каждого была своя спальня. Соседом к Набокову подселили «белого русского», Михаила Калашникова, но, по свидетельству Владимира, он через несколько месяцев университет оставил, что, кажется, не особенно совпадает с фактами биографа. «Я часто простужался, – вспоминал Набоков, – хотя утверждение […] будто зимой в кембриджских спальнях стоит такая стужа, что вода в умывальном кувшине промерзает до дна, совершенно неверно. На самом деле все ограничивалось тонким слоем льда на поверхности, да и тот легко разбивался зубной щеткой на кусочки, издававшие звон […] В основном вылезание из постели не сулило никакого веселья»[68].
В первый семестр в Кембридже Владимир занимался зоологией (а возможно, и ихтиологией, как он говорил в поздние годы), но потом перешел к филологии. При ее выборе требовалось знание двух иностранных языков, в его случае: русского и французского. Во время первого семестра в Тринити он написал свою первую научную статью о бабочках Крыма – это была его первая публикация на английском языке.
В Кембридже Набоков испытал сильный приступ ностальгии. Есть поразительный по силе чувств отрывок из письма Владимира матери, написанного в кембриджский период. Его приводит в своей книге Б. Бойд:
«Мамочка, милая, – вчера я проснулся среди ночи и спросил у кого-то, не знаю у кого, – у ночи, у звезд, у Бога: неужели я никогда не вернусь, неужели все кончено, стерто, погибло? […] мамочка, ведь мы должны вернуться, ведь не может же быть, что все это умерло, испепелилось, – ведь с ума сойти можно от мысли такой! Я хотел бы описать каждый кустик, каждый стебелек в нашем божественном вырском парке – но не поймет этого никто …»[69].
В своей книге «Другие берега» Набоков пишет, что скоро понял, что «настоящая история моего пребывания в английском университете есть история моих потуг удержать Россию»[70]. «Из моего английского камина заполыхали на меня те червленые щиты и синие молнии, которыми началась русская словесность. Пушкин и Толстой, Тютчев и Гоголь встали по четырем углам моего мира»[71]. На книжном развале Владимир случайно увидел потертый четырехтомный словарь Даля, купил и стал читать его по несколько страниц ежедневно. «Страх забыть или засорить единственное, что успел я выцарапать, довольно, впрочем, сильными когтями, из России, стал прямо болезнью»[72]. Этим единственным богатством Набокова был его русский язык. Он играл в футбол и в теннис, танцевал на лондонских балах, крутил романы с прелестными женщинами, которые встречались на его пути, но главным его занятием была литература.
В начале августа 1920 года родители Набокова переехали в Берлин. Они сняли квартиру в Грюневальде у вдовы переводчика русской литературы. В их распоряжение была отдана большая русская библиотека. Владимир Дмитриевич вместе со своим старым соратником И. Гессеном стал издавать и редактировать новую русскую эмигрантскую газету «Руль», а также организовал издательство «Слово».
И. Гессен рассказывает, как они встретились с Владимиром Дмитриевичем после двух с половиной лет разлуки: «…к великой радости нашей, в Берлине мы встретили его ни на йоту не изменившимся после всех пережитых потрясений и полной потери миллионного состояния и с детства усвоенных удобств жизни. Он остался таким же бодрым, душевно уравновешенным, уверенно стоящим на раз и навсегда избранной позиции»[73].
Выход первого номера «Руля» совпал с крушением Врангеля. «…телеграмма о врангелевской катастрофе, – писал Гессен, – была получена утром 15 ноября, когда мы уже собирались выпускать первый номер (газета выходила днем, в три часа, и помечалась следующим днем – поэтому на первом номере значится вторник 16 ноября)»[74].
«Руль» был политической газетой, но в ней очень быстро появился большой литературный раздел, совсем как бывало в крупных русских политических газетах до революции. А позднее к «Рулю» добавилось отдельное литературное приложение «Наш мир». Первыми литературными публикациями в газете были рассказ И. Бунина и стихотворение Владимира Набокова, скрывшегося под псевдонимом Cantab. А в день Рождества 7 января 1921 года на страницах «Руля» впервые появилось имя В. Сирин. Им были подписаны фантастический рассказ «Нежить» и три стихотворения «Сказания».
Герой рассказа «Нежить» – несчастный Леший, который был изгнан из родных лесов и оказался в эмиграции: «Помнишь лес наш, ель черную, березу белую? – обращается он к рассказчику. – Вырубили… жаль было мне нестерпимо; вижу, березки хрустят, валятся, – а чем помогу? В болото загнали меня, плакал я, выл, выпью бухал, – да скоком, скоком в ближний бор. Тосковал я там; все отхлипать не мог… Только стал привыкать – глядь, бора и нет, одно сизое гарево»[75]. «Я знаю, ты тоже тоскуешь, – снова зазвенел яркий голос, – но твоя тоска, по сравненью с моею буйной, ветровой тоской, – лишь ровное дыхание спящего. И подумай только, никого из племени нашего на Руси не осталось. Одни туманом взвились, другие разбрелись по миру […] А ведь мы вдохновение твое, Русь, непостижимая твоя красота, вековое очарованье… И все мы ушли, изгнанные безумным землемером»[76]. Леший так же внезапно исчезает, как и появляется, «только в комнате чудесно-тонко пахло березой да влажным мхом…»[77] О рассказе «Нежить» вспоминает в мемуарах И. Гессен: «Так трудно удержаться, чтобы не развернуть здесь перед глазами всю эту пышную словесную ткань, не насладиться проникновенной лирикой, как молния ослепляющими сравнениями…»[78] Ему, опытному редактору, было понятно, что Владимир Сирин – новый русский писатель.
Владимир Набоков выбрал псевдоним, чтобы дистанцироваться от отца, который был соредактором газеты «Руль» и часто выступал там со статьями. Выбор псевдонима был тщательно продуман: Сирин (от греч. Сирены) – райская птица из славянской мифологии с женской головой и грудью, поет дивной красоты песни о счастье и завораживает ими слушателей. Впредь все свои произведения, написанные на русском, Набоков подписывал псевдонимом – Владимир Сирин.
Летом 1921 года после блестяще сданных экзаменов Владимир и его сосед по Кембриджу Михаил Калашников отправились в Берлин. Там Калашников познакомил Набокова со своими двоюродными сестрами, Татьяной и Светланой Зиверт. Владимир сразу же увлекся младшей, шестнадцатилетней Светланой, а она – им, стройным, спортивным, светским юношей. Роман развивался стремительно, и стихи Набокова лились рекой.
Жизнь потихоньку стала выравниваться. Родители переехали в большую квартиру в центре Берлина. Там собирались их друзья и знакомые, политики и люди литературно-артистического мира русского Берлина. Отец Владимира стоял во главе большой русской газеты, а также крупного издательства «Слово» (больше его было только издательство Гржебина). В декабре 1921 года, после окончания семестра Набоков и его кембриджский друг де Калри отправились кататься на лыжах в Сан-Морис. На обратном пути они остановились в Лозанне и навестили бывшую гувернантку писателя мадмуазель Сесиль Миотон.
Несколько ранее Владимир заключил с отцом пари, что сможет перевести на русский «Кола Брюньона» Ромена Роллана и преуспел, при этом сохранив сочную телесную лексику Роллана, множество фразеологизмов и пословиц, частично придуманных самим автором. Набоков русифицировал имена героев, и в его переводе произведение стало называться «Николка Персик». Когда Владимир вновь приехал в Берлин на пасхальные каникулы, его перевод был уже набран в издательстве «Слово» и Гессен, как главный редактор, внес в корректуру свои поправки. Но Владимир не изменил ничего и все исправления стер резинкой.
28 марта 1922 года в Берлине должна была состояться лекция П. Н. Милюкова в зале Филармонии. К этому моменту в партии кадетов наметились серьезные расхождения. На съезде в Париже «Милюков и Набоков скрестили шпаги, – писал Гессен, – в результате часть кадетов вошла в образовавшийся Национальный комитет (“коалиция направо”), часть – в Учредительное собрание (“коалиция налево”)»[79]. Набоков считал, что надо опираться не на один класс, в частности на крестьянство, которое, по мысли Милюкова, должно восстать против большевиков, а создавать объединенный фронт всех демократических сил России. Милюков, возглавлявший крупную русскую парижскую газету «Последние новости», вел активную полемику с «Рулем».
Гессен вспоминает, как утром того же дня в редакции Набоков предложил ему напечатать приветствие Милюкову, которое заранее написал. Гессен обрадовался этой идее и поехал на встречу с Милюковым со свежеотпечатанным номером газеты с приветствием к нему. Но Милюков был непреклонен и считал примирение невозможным. Вечером зал Филармонии был полон. Лекция Милюкова называлась «Америка и восстановление России». Когда закончилась первая часть, из зала выскочил человек и с криком «За царскую семью и за Россию!» выстрелил в Милюкова. Но промахнулся. Прежде чем окружающие поняли, в чем дело, Владимир Дмитриевич Набоков сбил стрелявшего с ног и пытался его обезоружить. И тогда на сцену выскочил второй человек и три раза выстрелил в Набокова. Две пули попали в позвоночник, одна – в сердце. Набоков умер на месте. Первым стрелявшим был Петр Шабельский-Борк, вторым – Сергей Таборицкий. Оба они принадлежали к русским ультра-правым, которые считали, что Милюков в ответе за Февральскую революцию. С приходом Гитлера к власти С. Таборицкий и П. Шабельский-Борк стали членами национал-социалистической партии, а в 1936-м – заместителями председателя управления по делам российской эмиграции (УДРЭ), организации, которую курировало гестапо.
Сохранилась дневниковая запись Владимира о трагическом вечере 28 марта. Он рассказывает, как после счастливого дня со Светланой был вечером дома с матерью и читал ей стихи Блока об Италии. И вдруг раздался телефонный звонок. Звонил Гессен, который сообщил, что с отцом «большое несчастье», и просил приехать в зал Филармонии. Владимир пишет, как пытался успокоить мать, но она, как и он, почувствовала, что отца больше нет. По дороге в такси он вспоминал вечер накануне, разговор с отцом об опере «Борис Годунов». И о том, как отец передал ему газеты в дверную щель, от этого жеста Владимиру стало страшно, потому что руки не было видно[80].
Стоп! Не воспоминание ли об этом последнем разговоре подсказало Набокову первую часть фамилии для его героя, пишущего роман о погибшем отце, – Годунов – в «Даре»?! Цепкая память писателя сохраняла все детали произошедшей катастрофы.
На смерть отца Набоков написал стихотворение «Пасха», которое было напечатано в «Руле».
В мае Владимир вернулся в Кембридж, нужно было сдавать последние экзамены. И он их сдал блестяще. 20 июня состоялась церемония награждения: Владимир и Сергей Набоковы оба получили степень бакалавра второго класса.
На следующий день Владимир поехал в Берлин.
«Николка Персик» печатался в августовских и сентябрьских номерах газеты «Руль» и в том же 1922 году вышел отдельной книгой в издательстве «Слово». Спор с отцом Владимир выиграл, но отца в живых уже не было. Тогда же летом Набоков подписал с издательством «Гамаюн» в Берлине договор о переводе «Алисы в Стране чудес».
В декабре 1923 года Елена Ивановна, сильно постаревшая после гибели мужа, с тремя младшими детьми перебралась в Прагу, где правительство Т. Масарика выплачивало русским эмигрантам пособие в рамках так называемой Акции помощи.
Владимир переживал тяжелую депрессию. Он сделал предложение Светлане, и ее родители согласились на помолвку при условии, что он найдет себе постоянное место. Братья Набоковы устроились в банк, но Владимир ушел оттуда в тот же день, а Сергей через неделю. Подневольная жизнь служащего была для Набокова неприемлема. Для творчества ему нужна была свобода. Владимир предпочитал зарабатывать на жизнь уроками французского, английского, тенниса и бокса.
К счастью, жизнь в Берлине после инфляции резко подешевела. Немецкая рейхсмарка находилась в состоянии свободного падения. Если в сентябре 1921 года доллар стоит 101 марку, то в октябре 1922 года – уже 4475 марок, а в ноябре 1923 года – 4,2 миллиарда марок. Все больше эмигрантов перебирались в столицу Германии из-за дешевизны. К концу 1921 года этот город стали называть «мачехой городов русских». Только книжных русских издательств там было 86.
В 1922-м у Набокова вышел перевод повести Роллана «Николка Персик», а в 1923-м – сказки Льюиса Кэрролла «Аня в стране чудес». Специалисты и по сегодняшний день считают его одним из лучших переводов этой книги на русский. Кроме того были опубликованы два сборника стихов В. Сирина: «Гроздь» в декабре 1922 года и «Горний путь» в январе 1923 года.
Но эти успехи молодого литератора не убедили Зивертов, что их дочь с Владимиром ждет материальное благополучие. Условия выполнены не были, и 9 января 1923 года ему объявили, что помолвка со Светланой расторгнута. Девушка подчинилась воле родителей. Зинаида Шаховская вспоминала, что встретилась со Светланой в 1946 году, когда приехала в Бельгию навестить мать. Светлана жила в Льеже и была замужем за русским эмигрантом, у нее был сын. Она показалась Шаховской статной, красивой, но грустной.
Боль от потерь мучила Владимира, и чтобы набраться сил, он решил наняться сезонным рабочим в поместье, где управляющим был агроном и виноградарь Соломон Крым, бывший глава Крымского краевого правительства, в котором отец Набокова занимал пост министра юстиции.
Восьмого мая, за два дня до поездки на юг Франции, Набоков отправился на благотворительный бал русских эмигрантов. На балу он обратил внимание на женщину в черной маске. Ее профиль напоминал волчий. Они познакомились, но она маску снять отказалась. Это была Вера Слоним.
На юге, на ферме он написал стихотворение «Встреча», к которому взял эпиграфом строку из «Незнакомки» А. Блока: «И странной близостью закованный…»:
Тоска, и тайна, и услада… Как бы из зыбкой черноты Медлительного маскарада — На смутный мост явилась ты… И ночь текла, и плыли молча В ее атласные струи — Той черной маски профиль волчий И губы нежные твои…[81]Таинственное предчувствие прорвалось в последних строках стихотворения:
Еще душе скитаться надо. Но если ты – моя судьба…[82]Работа на ферме вернула Владимира к жизни. Он собирал черешни, абрикосы, персики, работал в поле, пил дешевое вино с другими рабочими, плавал в реке, загорал, ловил бабочек, когда выдавались свободные часы, и писал. Он подружился с Соломоном Крымом. Ему дали отдельную комнату, и он написал стихотворную драму «Дедушка».
Действие в ней происходит в 1816 году во Франции. В дом к зажиточному крестьянину заходит прохожий и просит разрешения укрыться от дождя. Он оказывается беглым аристократом, который недавно вернулся на родину и живет у брата в соседнем замке. Он рассказывает, как во времена революции в 20-летнем возрасте был приговорен к смерти Трибуналом «за то ли, / что пудрил волосы, иль за приставку / пред именем моим…»[83]. Центральным событием пьесы становится его подробный рассказ о казни, в роковой момент которой вспыхивает пожар, и благодаря ему приговоренному удается бежать. Он оставляет Францию и бродит по миру, «пока над ней холодный Робеспьер»[84] и «Корсиканец» правили. «Но нелегко жилось мне на чужбине»[85], – рассказывает герой.
В заключение оказывается, что хозяева прежде пригрели у себя в доме полоумного старика. Странник узнает в нем своего палача. А палач – свою сбежавшую жертву. Старый палач пытается занести над героем топор, довести казнь до конца, но в схватке умирает.
Эта тема – повторной встречи палача и жертвы – еще раз появляется в творчестве Набокова в рассказе «Бритва», опубликованном 19 февраля 1926 года в газете «Руль». Дело происходит в берлинском парикмахерском салоне, где работает русский эмигрант Иванов, бывший военный, для которого «ножницы да бритва, несомненно, холодные оружия»[86] и их «постоянный металлический трепет»[87] приятен его душе. В один прекрасный день в кресло к нему садится клиент. В этом человеке Иванов узнает своего бывшего следователя. Он намыливает лицо клиенту и, предупредив, что может зарезать его, начинает брить и вспоминать их прошлую встречу. Страх настолько овладевает клиентом, что когда сеанс благополучно заканчивается, он не в состоянии двинуться с места. Страх превращает для него акт бритья в казнь.
Тема казни у Набокова появляется сначала в варианте повторной встречи с палачом, своеобразного реванша жертвы, но далее найдет отдельное художественное воплощение в романах «Отчаяние», «Приглашение на казнь», «Дар» и в некоторых рассказах.
В стихотворении 1927 года «Расстрел» казнь описана как неминуемое наказание за возвращение на родину. Но герой готов принять его ради нескольких минут жизни на родной земле:
Бывают ночи: только лягу, В Россию поплывет кровать; И вот ведут меня к оврагу, Ведут к оврагу убивать. ……………………………. Оцепенелого сознанья Коснется тиканье часов, Благополучного изгнанья Я снова чувствую покров. Но сердце, как бы ты хотело, Чтоб это вправду было так: Россия, звезды, ночь расстрела И весь в черемухе овраг[88].Финальные строки набоковского стихотворения перепевают блоковские: «Ночь, ледяная рябь канала, / Аптека, улица, фонарь»[89] и отчасти повторяют рамочную конструкцию стихотворения – и тем самым вносят петербургский смысл в образ родины.
В конце июня 1923 года «Руль» опубликовал новое стихотворение В. Сирина «Встреча», где Вера Слоним, давно следившая за его стихами, легко узнала себя. Они обменялись письмами. Вера печатала в «Руле» свои переводы, в частности рассказ «Безмолвие» Э. По. Когда Набоков в августе вернулся в Берлин, они встретились.
Вера была еврейка. Она родилась 5 января 1902 года в Петербурге. Отец ее, Евсей Лазаревич Слоним, был адвокат, которому пришлось оставить адвокатскую практику, ибо он отказался креститься. Он занялся экспортом леса, но во время революции потерял все свое состояние. Семья бежала в Киев, потом в Одессу, а оттуда в Крым. Отсюда они эвакуировались на канадском судне накануне окончательного падения Крыма. В Берлине отец Веры вновь занялся бизнесом, но к 1924 году из-за инфляции снова потерял все свои деньги.
У Веры Евсеевны не было университетского образования, но она знала иностранные языки, переводила, была хорошо образована, знала очень много стихов наизусть и каждую строчку, написанную Набоковым. Вера обладала прекрасным чувством юмора, что Владимир высоко ценил, и так же, как он, умела восхищаться миром, замечать его детали и мелочи. Она была скрытным и сдержанным человеком, с сильной волей, подозрительной, не терпела жестокости и пошлости и судила о людях строго. В свою личную жизнь Вера никого не допускала.
Вера и Владимир стали встречаться. Пока Елена Ивановна жила в Берлине, Вера ни разу не пришла к ним в дом. Вечерний Берлин стал их пейзажем. Владимир много писал. И писал замечательно. Он стал называть себя «поэтом прозы». Тогда, в 1923 году, появились рассказы «Звуки», «Удар крыла», «Боги», «Говорят по-русски». В его репертуарном портфеле уже были пьесы: «Смерть», «Дедушка», «Полюс», «Трагедия господина Морна».
В марте 1924 года у «Руля» появилось воскресное приложение «Наш мир», где Владимир печатал свои стихи и крестословицы.
Для русского кабаре «Карусель» в Берлине, а точнее, для его одноименного журнала, он по-английски написал стихотворение «Русская песня» и два коротких эссе: «Смех и сны» и «Расписное дерево». А для кабаре «Синяя птица» вместе с писателем-эмигрантом Иваном Лукашем они написали сценарий пантомимы «Вода жизни» и сценарий для балета «Кавалер лунного света» на музыку Александра Илюшина. Следующий их номер назывался «Китайские ширмы».
В те годы в Берлине и в Париже были очень популярны поэтические вечера и чтения, которые устраивались в частных домах. Сирин читал в доме у Владимира и Раисы Татариновых стихи, в доме у И. Гессена – «Трагедию господина Морна», в кафе Леон, где собирался Литературный клуб во главе с Юлием Айхенвальдом, – стихи и рассказы.
В 1924 году Набоков написал трогательный рассказ о карлике – «Картофельный эльф», где впервые появляется персонаж фокусник и идея произведения искусства как своеобразного фокуса. Сам карлик – естественный фокус творения, облик его хранит тайну игры природных сил. И рассказ о нем, который в финале сворачивается в трюк иллюзиониста, построен по подобию фокуса.
Тем временем Вера нашла ему комнату в немецком пансионе прямо за углом от дома, где она жила с родителями на Траутенауштрассе 6. Набоков не любил Берлин, но понимал, что осел в нем. Вера, возможность писать для кабаре, «Руль», где он регулярно печатался… И еще он продолжал бегать по урокам, потому что денег все равно не хватало.
В середине февраля 1925 года образовалось литературно-издательское объединение «Арзамас», в числе его членов были Ю. Айхенвальд, И. Лукаш и В. Сирин. А через неделю с большим успехом прошла премьера балета Лукаша и Сирина «Кавалер лунного света».
15 апреля 1925 года Вера и Владимир сочетались браком в берлинской мэрии. Вечером на ужине у Слонимов Вера просто сказала, что они сегодня поженились.
Вера стала Набокову верной и преданной женой. Свою жизнь она посвятила мужу. Разделила с ним все трудности жизни, была его секретарем, вела все его дела, помнила все его тексты и, понимая, что ее муж – гений, служила ему верой и правдой. Набоков посвятил ей все свои романы, кроме одного, «Дара», посвященного матери (правда, его английский вариант посвящен Вере). Владимир, который видел в датах судьбоносные знаки, выбрал, видимо, день бракосочетания не случайно. Ровно 6 лет назад в этот день он покинул Россию. Брак с Верой означал обретение любви и близкого по духу, преданного ему человека. Так оно и вышло. Они прожили вместе более полувека, у них никогда не было своего дома, но зато у них был союз, который позволил Набокову стать великим, уникальным писателем и выйти победителем из самых сложных испытаний.
Первым семейным жильем Набоковых были две комнаты на Луитпольдштрассе 13. Они всю жизнь спали в разных комнатах, из-за бессонницы Владимира и из-за его склонности работать ночами, выкуривая пачки папирос. Тогда же, весной 1925 года, он начал писать свой первый роман. Первоначальное его название было «Счастье», но Набоков вскоре отказался и от названия, и от первоначального замысла.
В итоге роман был назван «Машенька». Набоков говорил, что он – самый автобиографический. В этом произведении писатель рассказал о своей первой любви – Люсе (Валентине) Шульгиной. Образ девушки невольно смыкается с образом родины, райских парков и лесов, в которых прошли детство и юность героя и автора и в которых расцвела его любовь к Машеньке. Это первое крупное произведение В. Сирина, как будто бы непретенциозное, незамысловатое, легко доступное широкому кругу читателей, на самом деле было изысканно выстроенным, с богатой системой литературных реминисценций и аллюзий, сложной внутренней структурой и совершенно оригинальной лирической тональностью (подробный анализ романа см. во второй главе). Критика встретила произведение благожелательно, но разглядела его плохо. Одни увидели в нем «добротную социально-бытовую повесть из эмигрантской жизни», другие отнесли его к «неотургенизму».
Публицист и общественный деятель А. С. Изгоев (наст. фамилия А. С. Ланде) в своей рецензии, опубликованной в «Руле», упрекал героя романа Ганина за то, что он «растратил все свои силы на мечтание о Машеньке»[90], и припоминал тургеневскую «Асю» и написанную по ее поводу «Н. Г. Чернышевским статью “Русский человек на rendez-vous”! За 70 лет этот национальный облик русского интеллигента все еще не изменился, несмотря на революцию. А пора бы!»[91] – восклицал разочарованно Изгоев. Критик и литературовед, профессор К. В. Мочульский в «Звене» корил автора, что «в романе […], написанном с литературным умением, есть какая-то дряхлость»[92]. Журналист и писатель М. Осоргин в «Современных записках» утверждал: «“Машенька” написана с редкой простотой и хорошим литературным языком. На отдельных спорных или неудачных выражениях (вроде: “и с пронзительным содроганием стыда я понял” и пр.) решительно не стоит останавливаться»[93]. Но в целом роман был принят хорошо, и это был успех.
В том же 1925 году, едва вчерне закончив «Машеньку», Набоков написал рассказ «Возвращение Чорба». Содержание его сводится к описанию возвращения героя из полугодового свадебного путешествия в город, в котором он встретил свою жену и обвенчался с ней. Чорб приезжает один, потому что жена его погибла в Ницце, дотронувшись до электрического провода рукой. Он повторяет их маршрут в обратном направлении, собирая, как из элементов мозаики, из деталей внешнего мира, отмеченных женой, ее образ. Вернувшись в город, он останавливается в дешевой, дурного пошиба гостинице, расположенной за углом городской оперы, в том же номере, где они с женой провели первую после свадьбы ночь. Чорб приводит в номер проститутку, не глядя на нее, ложится к стене и засыпает, но вскоре внезапно просыпается: «Он проснулся среди ночи, повернулся на бок и увидел жену свою, лежащую рядом с ним. Он крикнул ужасно, всем животом. Белая женская тень соскочила с постели. Когда она, вся дрожа, зажгла свет, – Чорб сидел в спутанных простынях, спиной к стене, и сквозь растопыренные пальцы сумасшедшим блеском горел один глаз. Потом он медленно открыл лицо, медленно узнал женщину […] И Чорб облегченно вздохнул и понял, что искус кончен»[94].
Накануне этой сцены проститутка, прежде чем лечь в постель, подходит к окну и видит здание оперы: «…в бархатной бездне улицы виден был угол оперы, черное плечо каменного Орфея…»[95] Упоминание в рассказе Орфея не случайно. Безусловно, миф о певце и музыканте, чье искусство завораживало диких зверей и сдвигало скалы, – важный референтный текст рассказа, точнее даже не сам миф, а опера, написанная по его мотивам.
Указания на сближения с ней рассказа встречаются в повествовании многократно. Миф об Орфее, поэте и музыканте, фактически символизирует оперное искусство, и этот сюжет был многократно воспроизведен в европейской музыке: на него написаны оперы К. Монтеверди, Х. Глюка, Й. Гайдна, Г. Ф. Телемана, Х. Каннабиха и даже художника Оскара Кокошки. Г. Берлиоз создал кантату «Смерть Орфея», Ф. Лист – симфоническую поэму, Ф. Шуберт – песню, И. Стравинский – балет и т. д. Список этот можно продолжить. Какую же оперу имел в виду Набоков? Как показало изучение репертуара Берлинского государственного оперного театра, в период, совпадающий с написанием Набоковым рассказа, на его сцене шла, пожалуй, самая известная и самая красивая опера об Орфее и Эвридике – Х. Глюка. При сопоставлении оперного либретто и рассказа заметно, что повествование развивается по композиционному плану оперы. Так, например, в рассказе, как и в опере, действие начинается уже после гибели возлюбленной жены. Но чем же объясняется желание автора следовать именно оперному образцу? Ответ кроется в развязке: если в мифе Орфею не удается вызволить Эвридику из царства мертвых, то в опере Глюка, как и в первых операх на тему Орфея, финал счастливый: боги возвращают ему Эвридику и даруют ей жизнь. По этой причине Чорб и выбирает оперный маршрут Орфея.
Реконструкция ориентации рассказа на миф об Орфее обнаруживает раннее проявление одной из важнейших художественных тенденций набоковской прозы – нарушение границы между реальностью и искусством. На этом принципе будет построен и его роман «Подвиг».
Писание художественных текстов молодой Набоков весьма удачно сочетал с трудом для заработка. Кроме частных уроков английского и французского, он стал своего рода гувернером двух юношей из богатых семей: Александра Зака и Сергея Каплана. Сводилось эта работа не только к преподаванию языков, но и бокса, тенниса, совместным поездкам со своими подопечными на разные курорты. Иногда они отправлялись в поездки вместе с Верой. В этот период Владимир зарабатывал достаточно, чтобы помогать матери. Елена Ивановна несколько раз приезжала в Берлин. И Вера с Владимиром ездили в Прагу.
В Берлине у Набокова сложился круг друзей: Иван Лукаш с женой (но они уехали в 1925 году в Ригу), Михаил Каминка, сын Августа Каминки, старого друга отца Владимира, а также сестра Михаила Елена и ее муж Николай Яковлев, возглавлявший русскую гимназию в Берлине, тонкий знаток русской литературы, а также Георгий Гессен, сын Иосифа Гессена – редактора «Руля», прекрасный спортсмен и шахматист, сохранивший дружбу с Набоковым на долгие годы. В круг их знакомых входили Раиса и Владимир Татариновы, он писал в «Руле» статьи на темы науки, она, юрист по образованию, работала во французском посольстве в Берлине. В 1925 году Раиса Татаринова и Юлий Айхенвальд организовали литературный кружок, в нем участвовал и Набоков. Кружок собирался по два раза в месяц и просуществовал вплоть до 1933 года. Первое выступление Набокова в нем было посвящено красоте спорта и искусству бокса.
В 1926 году гувернерство Набокова закончилось. Ему нужно было искать новые источники заработка. Он стал писать рецензии для «Руля». За три последующих года отрецензировал более тридцати поэтических сборников. Критик он был строгий.
Писал он постоянно: рассказы, стихи, «Университетскую поэму», пьесу «Человек из СССР», которая с успехом была поставлена режиссером Ю. Офросимовым в театре «Группа».
В пожилом возрасте Набоков любил говорить о том, что в Берлине вел одинокую жизнь и чуждался всяких кружков и собраний. Но на самом деле в молодости в Берлине он с большой охотой и энтузиазмом принимал участие в литературной жизни русской колонии. На вечере Союза писателей была поставлена пьеса Н. Н. Евреинова «Самое главное», и Владимир исполнял роль самого Н. Н. Евреинова. Несколько ранее на другом вечере Союза писателей, где был устроен шуточный суд над героем «Крейцеровой сонаты» Л. Толстого, Набоков изображал Позднышева и придумал для него довольно оригинальную речь, объясняющую совершенное им убийство жены. Он часто выступал с чтением своих произведений на заседаниях Союза русских журналистов и литераторов, в кружке Татариновой и Айхенвальда, новой литературной группы «На чердаке», в которую входил Юрий Офросимов, и даже участвовал в жюри, отбирающем претенденток на звание Королевы русской колонии 1928 года.
В январе 1928 года Набоков засел за новый роман. Назывался он «Король, дама, валет». Но пока он сочинял его, неожиданно «оживился» первый. Ранней весной Набоков подписал договор с одной из главных германских газет «Vossische Zeitung» о переводе «Машеньки» на немецкий. Газета эта, наравне с еще дюжиной газет и журналов, издавалась крупнейшим в Германии издательским домом Улльштейнов, во главе которого стояли пять братьев. В его систему входило и русское издательство «Слово», половиной акций которого владел дом Улльштейнов. И. В. Гессен в своих воспоминаниях с восторгом описывает мощную организацию этого издательского и газетного концерна.
Второй роман Набокова был написан на немецком материале и представлял собой тонкую пародию, выстроенную оригинально и неожиданно (об этом романе см. главу «Роман-вальс»). В «Руле» рецензию на него написал Ю. Айхенвальд: «…“Король, дама, валет”, при всех наших оговорках, представляет собою солнечными лучами дарования пронизанное, в высшей степени оригинальное художественное произведение – картину высокого мастерства»[96], – заявлял критик. Его рецензия была лучшей. Роман вышел в сентябре 1928 года, и ровно через месяц издательский дом Улльштейнов подписал с Набоковым договор о правах на немецкое издание «Короля, дамы, валета».
Летом 1928 года Вера потеряла отца и мать. Она взяла на себя долги, которые остались после их продолжительного лечения. Вера устроилась на дополнительную работу в контору торгового атташе при французском посольстве и поступила на курсы секретарей, чтобы овладеть немецкой стенографией, что ей очень пригодилось в будущем.
Но получив деньги за немецкий перевод второго романа, Набоковы в начале февраля 1929 года расплатились с долгами и укатили в Париж. Пробыв там пару дней и встретившись с Глебом Струве, они поехали в Перпиньян и дальше в Восточные Пиренеи ловить бабочек. Никаких практических соображений у них никогда не было, и они никогда не задумывались о завтрашнем дне. Они остановились в четырех километрах от испанской границы в Ле-Булу, курортном городке, известном своими лечебными водами. Здесь Вера под руководством мужа впервые отправилась на охоту за бабочками. Немного погодя Набоковы переехали в Сора. Они пробыли в Восточных Пиренеях до начала лета и только в конце июня вернулись в Берлин. Владимир был доволен, он собрал прекрасную коллекцию бабочек. На оставшиеся от поездки деньги они с Верой приобрели небольшой участок земли, с березами и кусочком пляжа, в Кольберге и собирались построить там скромный домик. В июле они даже переехали в Кольберг. Владимир писал «Защиту Лужина», которую начал еще в Ле-Булу. Большую часть времени они проводили на озере. К ним приезжали из Берлина друзья. Все складывалось обнадеживающе. Рассказ Набокова «Бахман» был напечатан в газете «Vossische Zeitung», а в издательстве «Слово» вышел его сборник «Возвращение Чорба», под одной обложкой объединивший прозу и стихи.
Завершая роман «Защита Лужина», Набоков раздумывал, где его напечатать. Он обратился в «Современные записки», чья редакция была в Париже. Это был солидный литературно-общественный журнал, основанный в 1920 году и издававшийся вплоть до 1940 года. Всего вышло 70 номеров. Сирин уже печатал там стихи в 1921 и 1922 годах, а в 1927 году – «Университетскую поэму» и рассказ «Ужас». С 1929 года в журнале будут напечатаны семь романов Сирина.
Начиная с «Защиты Лужина» Владимир Сирин стал новым русским звездным писателем. Вот как вспоминала о своем впечатлении от чтения этого произведения Нина Берберова: «Огромный, зрелый, сложный современный писатель был передо мной, огромный русский писатель, как Феникс, родился из огня и пепла революции и изгнания. Наше существование отныне получило смысл. Все мое поколение было оправдано»[97].
Роман был напечатан в 1929–1930 годах в №№ 40–42 «Современных записок» и также в 1930 году вышел отдельной книжкой в берлинском издательстве «Слово». Отзывы на него появились в большинстве эмигрантских газет и журналов. Но среди восторженных отчетливо звучали и голоса врагов. «“Защита Лужина” – вещь западная, европейская, скорее всего французская»[98], – писал в газете «Последние новости» злобный гонитель Набокова Георгий Адамович, средней руки поэт и ядовитый критик, которого Сирин выведет в «Даре» в образе критика Христофора Мортуса. «Роман написан безукоризненно чистым, вольно льющимся и вместе с тем своеобразным, одному автору принадлежащим языком»[99], – хвалил критик А. Савельев (Савелий Шерман) в «Руле»; «Роман рассудочен и довольно искусственен по стилю и замыслу. Он чуть-чуть “воняет литературой”, как выражается Тургенев»[100], – заявлял Г. Адамович в «Иллюстрированной России». Собственно, ему, Адамовичу, удалось все-таки отправить в будущее свою отравленную стрелу о «нерусскости» прозы Набокова, об ее искусственности, «сделанности». Сам Набоков в предисловии к переводу романа на английский, через 35 лет после его появления, писал: «Из всех моих написанных по-русски книг “Защита Лужина” заключает и излучает больше всего “тепла”, – что может показаться странным, если принять, до какой степени шахматная игра почитается отвлеченной. Так или иначе, именно Лужин полюбился даже тем, кто ничего не смыслит в шахматах или попросту терпеть не может всех других моих книг»[101].
Набоков в свой берлинский и парижский период всегда с удовольствием выступал с чтением своих произведений. Так, 27 февраля 1930 года он читал главу из повести «Соглядатай» в кафе Шмидта, на вечере, организованном Союзом русских писателей, а в кружке Айхенвальда прочел свою статью о советской литературе «Торжество добродетели».
В мае 1930-го Набоков начал писать новый роман. Первое его название, «Воплощение», уступило место «Золотому веку», а потом писатель остановился на «Подвиге». Тем временем Берлин переживал депрессию. Но Вере все-таки удалось устроиться секретаршей в контору, и они оба давали уроки французского, только денег все равно стало катастрофически не хватать. За книги, которые выходили на русском, платили гроши, «Рулю» грозил крах.
В Берлине побывал фактический редактор журнала «Современные записки» И. И. Фондаминский, как писал о нем Набоков, «святой, героический человек, сделавший для русской эмигрантской литературы больше, чем кто бы то ни было, и умерший в немецкой тюрьме»[102]. Фондаминский был душой журнала. Услышав, что Набоков работает над новым романом, тут же предложил купить его. Черновой вариант «Подвига» был завершен в конце октября, а в 1931–1932 годах появился в «Современных записках», в №№ 45–48. В критике произведение хвалили, но не скрывали своего недоумения по поводу его странной и таинственной развязки. Я приглашаю читателя к главе под названием «Кросс-жанр», посвященной «Подвигу».
Заканчивая этот роман, Набоков перевел знаменитый монолог Гамлета «Быть или не быть», монолог «Есть ива у ручья» и сцену у могилы Офелии. В его намерении было перевести всю трагедию Шекспира. Обращение к переводу «Гамлета» объясняется нескрываемой связью романа с этим произведением.
Следующий роман, который начал В. Сирин, был об ослепляющей силе любовной страсти и назывался он – «Камера обскура». Свою рецензию на эту книгу В. Ходасевич начал так: «Дрянная девчонка, дочь берлинской швейцарихи, смазливая и развратная, истинное порождение “инфляционного периода”, опутывает порядочного, довольно обыкновенного, но неглупого и образованного человека, разрушает его семью, обирает его, сколько может, и всласть изменяет ему с таким же проходимцем, как она сама; измена принимает тем более наглый и подлый вид, что совершается чуть ли не в присутствии несчастного Кречмара, потерявшего зрение по вине той же Магды; поняв наконец свое положение, Кречмар пытается застрелить ее, но она вырывает браунинг и сама его убивает. Такова общая фабула нового романа, который недавно выпущен В. Сириным»[103]. Ходасевич говорит о синематографичности романа, и считает, что в произведении затронута тема, «ставшая для всех нас роковой, о страшной опасности, которая нависла над всей нашей культурой…»[104].
Русское население Берлина заметно уменьшалось. К весне 1931 года оно составляло всего около 30 тысяч человек. Многочисленные издательства закрывались. Прекращали работу русские кафе и рестораны. Финансовое положение «Руля» ухудшалось с каждым днем. А. Каминка щедро поддерживал газету из собственных средств, но было понятно, что газета переживает свои последние дни. Так оно и случилось: «13 октября – “Руль” бесславно скончался, – писал Гессен. – Только с помощью хитрости удалось выпустить последний номер, чтобы проститься с читателями и выразить уверенность, что дело “Руля” найдет продолжателей»[105].
Сирин начал печататься в парижских «Последних новостях», во главе которых стоял П. Н. Милюков. Его рассказы появлялись на страницах этой влиятельной эмигрантской газеты с завидной регулярностью: «Обида», «Занятой человек», «Terra incognita», «Встреча», «Лебеда», «Музыка».
В парижской «Новой газете», двухнедельнике литературы и искусства, в пятом и последнем его номере Набоков напечатал сатирическое антифрейдовское эссе «Что всякий должен знать?»: «У людей была мораль, но они ее убили и закопали и на камне не написали ничего. Вместо нее появилось нечто новое, появилась прекрасная богиня психоанализа и по-своему (к великому ужасу дряхлых моралистов) объяснила подоплеку наших страданий, радостей и мучений»[106]. И далее: «Господа, вы ничего не разберете в пестрой ткани жизни, если не усвоите одного: жизнью правит пол. Перо, которым пишем возлюбленной или должнику, представляет собой мужское начало, а почтовый ящик, куда письмо опускаем, – начало женское. Вот как следует мыслить обиходную жизнь. Все детские игры основаны на эротизме… Мальчик, яростно секущий свой волчок, – подсознательный садист; мяч (предпочтительно большого размера) мил ему потому, что напоминает женскую грудь; игра в прятки является эмиратическим (тайным глубинным) стремлением вернуться в материнскую утробу. Тот же эдипов комплекс отражен в некоторых наших простонародных ругательствах»[107].
Георгий Адамович и Георгий Иванов при поддержке их окружения организовали новую атаку на Сирина. Главная идея заключалась в формулировке четкого упрека – в бездушности сиринских романов. «У Сирина все механизировано»[108], – писал Адамович о «Камере обскура». – «Роман легковесный и поверхностный. Он полностью исчерпывается течением фабулы и лишен замысла. Он придуман, а не найден»[109].
В декабре 1931 года Сирин написал рассказ «Уста к устам». Его герой, пожилой одинокий графоман, пишет под таким названием роман о любви стареющего мужчины к молодой женщине. Когда он заканчивает свое произведение, его начинает обхаживать критик Евфратский и предлагает пристроить его опус в журнал. И журнал действительно принимает роман к публикации, но есть опасность, что его закроют, потому что у издания нет денег. Взволнованный герой готов помочь журналу, только бы увидеть свою вещь напечатанной. Но случайно в театре он узнает правду, что его роман опубликовали ради денег.
Рассказ Сирина был принят к печати газетой «Последние новости», и его уже сдали в набор, когда вдруг в редакции догадались, что автор разоблачает журнал «Числа», который после четвертого номера был на грани финансовой смерти, и чтобы выжить, редактор Николай Оцуп со своими приятелями Георгием Адамовичем и Георгием Ивановым стали обхаживать состоятельного, но бездарного писателя Александра Бурова. Повесть Бурова, а также хвалебная рецензия на нее, были целиком напечатаны в нескольких номерах «Чисел». Впрочем, рассказ Сирина все равно увидел свет, он был включен автором в сборник «Весна в Фиальте», который был издан в 1956 году издательством А. П. Чехова в Нью-Йорке.
Тридцатые годы Набоковых в Берлине были отмечены борьбой с безденежьем. Мест и средств заработка становилось все меньше. Владимир стал выступать в частных домах на литературных вечерах. В феврале 1932 года он выступил с чтением главы из «Камеры обскура», своих стихов и нового рассказа «Музыка», в котором действие происходит на частном музыкальном концерте, где герой среди публики замечает свою бывшую жену. И за это короткое время, пока звучит музыка, он вновь переживает вспышку любви к ней и боль их разрыва. Когда концерт заканчивается, он замечает, что жена быстро направляется к выходу, прощается и уходит, и герой понимает, что «музыка, в начале казавшаяся тесной тюрьмой, в которой они оба, связанные звуками, должны были сидеть друг против друга на расстоянии трех-четырех саженей, – была в действительности невероятным счастьем, волшебной стеклянной выпуклостью, обогнувшей и заключившей его и ее, давшей ему возможность дышать с нею одним воздухом, – а теперь все разбилось, рассыпалось, – она уже исчезает за дверью…»[110]
В начале апреля 1932 года Набоков отправился в Прагу, повидать мать, брата и сестер. Он пробыл там более двух недель и по возвращении в Берлин в поезде начал писать рассказ «Хват». Герой его – циничный пошляк, этакий молодой расторопный коммивояжер, который своего не упустит. Действие начинается в поезде, где он знакомится с молодой женщиной и в беседе с ней выдает себя за разоренного революцией русского помещика. Девушка в свою очередь рассказывает попутчику свою шаблонную женскую историю, в которой герой, сам обманщик, легко распознает ложь. Постоянная смена точки зрения в рассказе, от рассказчика к герою, раскрывает внутренний мир последнего с разоблачающей яркостью. Мужчина высаживается вместе с женщиной и едет с ней на квартиру. Между ними все понятно без слов. Героиня берет у него деньги и уходит купить угощенье. В ее отсутствие приходит знакомый, чтобы сообщить, что у ее отца удар и он не доживет до утра. Женщина возвращается, и между ней и героем происходит близость, «но неудачно, неудобно и преждевременно»[111]. Герой раздражен и разочарован и считает приключение «расточительством». Он уходит под предлогом купить себе сигару и обещает купить пирожных для женщины, а она бережно раскладывает по тарелкам «розоватые ломти ростбифа, который ей не приходилось есть вот уже больше года»[112]. На самом деле мужчина возвращается на вокзал, подсчитывая в уме, сколько ему стоило это приключение. Уже сидя в поезде, он вспоминает о случившемся с отцом женщины, но считает, что «избавил ее от тяжелых минут у смертного одра»[113].
Содержание рассказа, замкнутое в короткую паузу дорожной остановки, остается в памяти читателя картинкой устрашающей банальности, разрушительной животной хитрости, иллюстрирующей распространенный тип личности ловкого пошляка. К удивлению автора, рассказ «Хват», предложенный им в «Современные записки», был журналом отвергнут «за грубость», и, как пишет комментатор, он был отвергнут и газетой «Руль», что, впрочем, понятно, потому что «Руль» закрылся еще в октябре 1931 года. «Хват» напечатала рижская газета «Сегодня», чья читательская аудитория была достаточно велика.
Политическая обстановка в Германии с сентября 1932-го и особенно в 1933-м обретала пугающие грозовые черты. Но, несмотря на приход Гитлера к власти, Набоковы прожили в Берлине еще около пяти лет. По иронии судьбы именно в эти годы у них появилась наконец уютная, удобная квартира (они занимали две комнаты в четырехкомнатной квартире родственницы Веры, пианистки Анны Фейгиной, второй жены ее отца, с которой дружили всю жизнь) и у Веры была постоянная работа секретаря.
Летом Набоков засел за новый роман – «Отчаяние». А в конце октября он отправился в Париж, где планировались его выступления. Мысли о переезде приходили к нему все чаще, но Вера пока на это не соглашалась. В Берлине у нее был твердый заработок.
Владимир Сирин был встречен в Париже как литературная знаменитость. Его выступление состоялось на 5 rue Las Cases (Лас Кас) в так называемом «Социальном музее» («Musée Social»), в 7-м районе Парижа. Зал был полон. Писатели старшего и младшего поколений, журналисты и просто любители литературы с интересом ждали новую звезду. Сирин был в смокинге, одолженном у приятеля, но этого никто не знал, и выглядел он, стройный, спортивный, очень элегантно и держался просто. Он всегда начинал свое чтение со стихов. Так было и в тот раз. Каждое стихотворение прерывалось аплодисментами. Он читал наизусть, скорее как актер, чем как поэт, очень выразительно, и о нем ходила слава как о талантливом чтеце.
За стихами следовал рассказ «Музыка», а после перерыва – первые две главы нового романа «Отчаяние». Вечер прошел с большим успехом.
В Париже Владимир перезнакомился с русским и французским литературным и издательским миром. Он почти ежедневно бывал у Фондаминских и даже какое-то время ночевал у них. Там же он познакомился с Александром Керенским, с Марком Вишняком и Вадимом Рудневым, редакторами «Современных записок». Сирин побывал в «Последних новостях», подружился с Марком Алдановым, чей «проницательный ум и милая сдержанность»[114] высоко ценились им, Ниной Берберовой, недавно бросившей В. Ходасевича, встретился с друзьями отца, Павлом Милюковым, Александром Бенуа. Вот как вспоминает об этом Нина Берберова: «В “Последних новостях” он в те годы был гостем. Когда приезжал из Берлина, кругом него были люди, восторженно его встречавшие, люди, знавшие его с детства, друзья Владимира Дмитриевича (его отца, одного из лидеров кадетской партии в Думе), русские либералы, Милюков, вдова Винавера, бывшие члены Петербургской масонской ложи, дипломаты старой России, сослуживцы Константина Дмитриевича (дяди Набокова), русского посла в Лондоне… Для всех этих людей он был “Володя”, они вспоминали, что он “всегда писал стихи”, был “многообещающим ребенком”, так что не удивительно, что теперь он пишет и печатает книги, талантливые, но не всегда понятные каждому (странный русский критический критерий)»[115].
Длинный ряд новых лиц состоял из писателей Михаила Осоргина, восхищавшегося талантом Сирина, Бориса Зайцева, хранившего обиду на него за жестокую рецензию, Александра Куприна, чья проза Сирину нравилась. «В тридцатых годах помню Куприна, – писал Набоков в «Других берегах», – под дождем и желтыми листьями поднимающего издали, в виде приветствия, бутылку красного вина»[116]. Но особенно близко он сошелся с Фондаминским, Алдановым и Ходасевичем, к которому ездил знакомиться на окраину Парижа в его тесную темную квартиру. На встречу с Сириным Ходасевич пригласил молодых поэтов: Нину Берберову, Юрия Терапиано, Владимира Вейдле, Валерия Смоленского. «Я сошелся с Ходасевичем, – вспоминал Набоков, – поэтический гений которого еще не понят по-настоящему. Презирая славу и со страшной силой обрушиваясь на продажность, пошлость и подлость, он нажил себе немало врагов. Вижу его так отчетливо сидящим со скрещенными худыми ногами у стола и вправляющим длинными пальцами половину “Зеленого капораля” в мундштук»[117]. Нина Берберова в мемуарах приводит разговор Сирина и Ходасевича: «Оба раза в квартире Ходасевича (еще недавно и моей, а сейчас уже не моей) в дыму папирос, среди чаепития и игры с котенком происходили те прозрачные, огненные, волшебные беседы, которые после многих мутаций перешли на страницы “Дара”, в воображаемые речи Годунова-Чердынцева и Кончеева. Я присутствовала на них и теперь – одна жива сейчас, свидетельница этого единственного явления: реального события, совершившегося в октябре 1932 года (улица Четырех Труб, Биянкур, Франция), ставшего впоследствии воображаемым фактом…»[118]
Сирин побывал в двух крупнейших французских издательствах, «Грассе» и «Файяр» – они скоро станут издавать его книги во Франции. Познакомился с переводчиками своих романов – Денисом Рошем, который перевел «Защиту Лужина», и Дусей Эргаз, которая в будущем переведет «Камеру обскура» и станет его главным литературным агентом в Европе. Он был представлен Жану Полану (Jean Paulhan), центральному персонажу парижской литературной жизни. Полан был в восторге от рассказа о швейцарской гувернантке Набокова «Mademoiselle O» и предложил напечатать его в журнале «Mesures», где был главным редактором. Это Полан предложил Набокову в 1937 году написать для Nouvelle Revue Française, главного французского литературного журнала, эссе о Пушкине, которым и стало «Пушкин, или Правда и правдоподобие» («Pouchkine, ou le vrai et le vraisemblable»). И еще. Владимир завязал теплые отношения с французским философом и драматургом Габриэлем Марселем.
В Париже Набоков наслаждался атмосферой доброжелательности и восхищения, которая встречала его повсюду. Он вернулся в Германию через Бельгию, где по приглашению княгини Зинаиды Шаховской выступил перед русской публикой.
Возвратившись в Берлин, Сирин закончил роман «Отчаяние» и приступил к новому – «Дару».
Работа над произведением началась с написания IV главы – «Жизни Чернышевского». А точнее, с чтения и собирания для нее материала. На это занятие ушли 1933 и 1934 годы. Всю зиму 1933 года Владимир провалялся в постели с острыми приступами межреберной невралгии. Друзья приносили ему книги из государственной и университетской библиотек.
Приход Гитлера к власти изменил атмосферу и в русской колонии Берлина. Правые русские стали упрекать Набокова за его сотрудничество с евреями, в частности в «Современных записках». В июле 1933 года в Берлине стала выходить газета «Русское слово», основанная как независимая газета русской колонии в Германии, но она «очень рано стала финансироваться ведомством А. Розенберга»[119]. Вера и Владимир Набоковы сделались невольными свидетелями, как 1 апреля 1933 года штурмовики и члены СС громили еврейские предприятия, писали на витринах «Jude» и звезду Давида, маршировали по городу, выкрикивая антисемитские лозунги, громили еврейские магазины, нападали на евреев на улицах. С этого дня постоянно происходили еврейские погромы, избиения, насилие. Доносы на евреев принимали масштабный характер. Фирма, где работала Вера, закрылась. Начался бойкот еврейских магазинов. А в мае стали жечь костры из книг. Летом Набоков написал рассказ «Королек», он был напечатан в конце июля в парижских «Последних новостях». Текст представлял собой бытовую зарисовку, которая отражала новую атмосферу насилия, торжества грубой силы, агрессивности по отношению к выделяющимся из толпы людям в гитлеровской Германии. Главные герои рассказа: два брата – работяги, чья философия сводится к простому идеалу: «Мы устроим мир так: всяк будет потен, и всяк будет сыт…»[120]; «Бездельникам, паразитам и музыкантам вход воспрещен»[121]. Братья замечают, что в их дом вселился новый жилец. И когда он еще только вкатывал свою тележку, «безошибочным своим нюхом они почуяли: этот – не как все»[122]. И стали его травить. И как ни увертывался сосед, братья двигались на него как судьба. И в конце концов убили, думая, что убили поэта. А когда пришла полиция, оказалось, что парень был фальшивомонетчик, королек, из тюрьмы вышел, чтоб деньги рисовать. И тут братья вспомнили, что всучили ему трубку, а он им десятирублевкой заплатил. «Подсунул, надул мошенник!»[123].
Теперь Вера работала гидом с иностранными туристами и переводчицей на конференциях. А Набоков изучал материалы о Чернышевском. Как сообщает Б. Бойд, в январе 1934 года Николай Яковлев прислал Набокову из Риги список дворянских родов, откуда писатель и взял фамилию Чердынцев. Эта версия не исключает, однако, другую, непосредственно связанную с Чернышевским, которая представлена мной в главе «Роман-оборотень», посвященной «Дару».
10 мая 1934 года у Набоковых родился сын. О беременности Веры почти никто не знал. Она скрывала свое положение. Извещены были только Анна Фейгина и Иосиф Гессен. Даже мать Владимира, Елена Ивановна, ничего не знала о предстоящем событии. Родители назвали сына Дмитрием.
«Ты помнишь все наши открытия (предположительно делаемые всеми родителями): идеальную форму младенческих ногтей на миниатюрной руке, которую ты без слов мне показывала у себя на ладони, где она лежала, как отливом оставленная маленькая морская звезда…»[124] – эти строки в автобиографии «Память, говори» звучат в особой тональности нового для писателя чувства – родительской любви. В начале лета 1934 года, работая над текстом о Чернышевском, Набоков вдруг начал новую вещь – «Приглашение на казнь». Он написал ее быстро и потом перерабатывал вплоть до 15 сентября и отослал в «Современные записки».
Подробно роман этот рассмотрен в главе «Эшафот в хрустальном дворце».
В 1934 году доходы Сирина были скудными, но все-таки они были: «Отчаяние» и «Камеру обскура» должны были издавать в Англии, «Камеру обскура» – во Франции и Чехии, «Защиту Лужина» – в Швеции. В начале 1935 года во Франции на французском появился «Соглядатай». Но денег на жизнь катастрофически не хватало. В апреле Иосиф Гессен устроил на квартире литературный вечер Сирина. Пришло более ста человек. И Сирин читал отрывок из завершенного жизнеописания Чернышевского. Зинаида Шаховская пригласила Сирина на литературный вечер в Брюссель, где просила прочитать что-нибудь по-французски. И Владимир за три дня написал свой французский рассказ «Mademoiselle O», который произвел столь сильное впечатление на Жана Полана.
В середине января 1936 года Сирин отправился в Брюссель, где с успехом выступил в ПЕН-клубе, а несколько дней спустя – в Русском еврейском клубе, где читал последние главы из «Приглашения на казнь».
Из Брюсселя писатель отправился в Париж. Он остановился в большой квартире Фондаминского. И туда вскорости нагрянул Бунин. Вот как о встрече с Буниным рассказывает сам Набоков: «Помнится, он пригласил меня в какой-то – вероятно, дорогой и хороший – ресторан для задушевной беседы. К сожалению, я не терплю ресторанов, водочки, закусочек, музычки – и задушевных бесед. Бунин был озадачен моим равнодушием к рябчику и раздражен моим отказом распахнуть душу. К концу обеда нам уже было нестерпимо скучно друг с другом. “Вы умрете в страшных мучениях и совершенном одиночестве”, – сказал он мне, когда мы направились к вешалкам. Худенькая девушка в черном, найдя наши тяжелые пальто, пала, с ними в объятьях, на низкий прилавок. Я хотел помочь стройному старику надеть пальто, но он остановил меня движением ладони. Продолжая учтиво бороться – он теперь старался помочь мне, – мы медленно выплыли в белую пасмурность зимнего дня. Мой спутник старался было застегнуть воротник, как вдруг лицо его перекосилось выражением недоумения и досады. Общими усилиями мы вытащили мой длинный шерстяной шарф, который девица засунула в рукав его пальто. Шарф выходил очень постепенно, это было какое-то разматывание мумии, и мы тихо вращались друг вокруг друга. Закончив эту египетскую операцию, мы молча продолжали путь до угла, где простились»[125].
В этот приезд Сирин выступал на литературном вечере вместе с Ходасевичем, а затем снова вместе с ним на вечере, где участвовали также Адамович, Берберова, Бунин, Гиппиус, Иванов, Мережковский, Одоевцева, Смоленский и Цветаева. Букет был богатый, но состоял из неравных сил. Кажется, на этом вечере Адамович сказал, что в романе «Приглашение на казнь» чувствуется влияние Кафки. Это вызвало резкую отповедь Сирина.
Владимир возвратился в Берлин в конце февраля 1936 года и снова засел за «Дар». Это время интенсивной работы над романом. За три с лишним года черновой вариант был завершен, и Сирин принялся за правку и переписывание текста. Из Парижа и Брюсселя его снова приглашали выступать. Он написал на французском новое произведение – эссе о Пушкине. 18 января 1937 года он отправился в Брюссель, а потом в Париж. Больше в Германию Набоков никогда не вернется.
В Бельгии он остановился у Зинаиды Шаховской и вечером 21 января читал эссе о Пушкине в брюссельском Дворце искусств. И оттуда – в Париж. Так же, как когда-то в Берлине, теперь во Франции жило около полумиллиона русских эмигрантов. Здесь сконцентрирована была влиятельная и активная эмигрантская пресса, оставалась культурная среда, серьезная читательская аудитория. Набоков подумывал о переселении в Париже, но получить во Франции разрешение на работу было исключительно сложно. А прокормить семью только на заработки в эмигрантских газетах и журналах было невозможно. Набоков прекрасно владел французским, у него было признанное литературное имя, но все равно шансы устроиться во Франции были ничтожно малы.
Как и в прошлый раз, Владимир остановился у Фондаминского. Его первое выступление 24 января состоялось снова в зале «Социального музея» на улице Лас-Кас. Вступительное слово произнес В. Ф. Ходасевич. Владимир читал два отрывка из неоконченного романа «Дар» и, как явствует из отчета о вечере, опубликованном в газете «Возрождение» за 30 января 1937 года, «особенно блестящ – второй отрывок, изображающий в слегка сатирических тонах эмигрантское литературное собрание»[126]. Красота сиринской прозы, ее художественная изысканность, ее остроумие, выразительность и точность пародийных попаданий вызывала восхищение одних и яростную зависть других. Гораздо позднее в «Память, говори» Набоков так написал о себе самом и о восприятии собственной прозы читателями: «На русских читателей, вскормленных решительной прямотой русского реализма и повидавших фокусы декадентского жульничества, сильное впечатление производила зеркальная угловатость его (Сирина. – Н.Б.) ясных, но жутковато обманчивых фраз и сам факт, что подлинная жизнь его книг протекала в строе его речи…»[127]. 13 февраля в газете «Возрождение» в рубрике «Книги и люди» появилась статья В. Ф. Ходасевича «О Сирине», где тонкий и проницательный критик сформулировал главную тему Сирина – «жизнь художника и жизнь приемов в сознании художника»[128].
Но тогда на вечере в «Социальном музее» к окруженному слушателями автору подошла Вера Кокошкина и пригласила на обед его, Фондаминского и Зензинова. Не принять предложение было невозможно. Вера и Владимир Кокошкины были люди одного с Набоковым петербургского круга. Брат Владимира, второго мужа Веры, Федор Федорович Кокошкин, был одним из руководителей конституционно-демократической партии (Партии народной свободы), как и отец Набокова. Он был убит вместе с А. И. Шингаревым 11 декабря 1917 года большевиками прямо в больнице. Владимир помнил это страшное событие и в годовщину гибели Кокошкина и Шинкарева еще в Крыму в 1918-м посвятил им стихотворение. Теперь Вера Кокошкина держала недорогой ресторан в Пасси. Ее дочь от первого брака, Ирина Гуаданини, писала стихи и была пламенной поклонницей творчества Сирина. Их знакомство состоялось еще на вечере 24 января и неожиданно для Владимира довольно быстро переросло в нечто большее. Ирина была стройная миловидная 32-летняя женщина с правильными чертами лица и несколько меланхолическим выражением. Она вышла замуж за полковника П. В. Малахова, человека немолодого, служившего в Бельгийском Конго, но ехать за мужем в Экваториальную Африку отказалась, осталась в Париже и с Малаховым развелась. Она была хорошо образована, сама писала стихи, была наблюдательна, иронична и без ума от Набокова. Их стали замечать вместе в городе, и, конечно, поползли слухи, а кто-то из «доброжелателей» сообщил Вере в Берлин.
А Набоков не на шутку увлекся. И чем сильнее действовало на него очарование Ирины, тем острее и мучительнее он страдал из-за сложившейся ситуации. За спиной были счастливые годы брака с Верой, ее бесконечная преданность и его глубокие чувства к ней, маленький сын и опасное положение Веры с ребенком в Берлине. У Владимира начался псориаз, депрессия, он был готов наложить на себя руки. Он писал жене ежедневно, умоляя ее поскорей приехать, и сам цепенел от мысли, что вынужден будет с Ириной расстаться. Вера предлагала поехать в Прагу. Владимир переубеждал ее, что незачем забираться в далекую Прагу, где он будет отрезан от издателей.
Набоков дорабатывал свое французское эссе о Пушкине, когда ему позвонил Габриэль Марсель с предложением заменить заболевшую венгерскую писательницу Йолан Фолдес на вечере, который должен состояться через несколько часов. Владимир согласился. Когда он поднялся на сцену, представители венгерской колонии, поняв, в чем дело, потянулись к выходу. В зале остались только те, кого успел пригласить Набоков, и – Джеймс Джойс.
Набоков сделал попытку устроиться в Англии. В конце февраля он отправился в Лондон, выступил на литературном вечере Общества северян, встретился с Глебом Струве, который преподавал в Институте восточных и славянских языков, но ни в академической среде, ни в кинематографической (были надежды, что Ф. Кортнеру, артисту и режиссеру, бежавшему из нацистской Германии из-за своего еврейского происхождения, удастся поставить «Камеру обскура») шансов на работу не было.
В конце апреля Вера с сыном поехала в Прагу. И Набоков, с большим трудом получивший новый нансеновский паспорт (прежний истек) и чешскую визу, в конце мая отправился к ним. Разорвать с Ириной Владимир пока не мог. Ирина писала ему в Прагу до востребования на имя баронессы фон Корф. В Чехии Набоковы отправились в Франценсбад, где Вера принимала ванны от ревматизма. Но Владимир очень скоро вернулся в Прагу к матери и провел у нее пять дней. Он выступил на литературном вечере, который организовала его мать. Они проговорили все пять суток, которые судьба дала им перед последней разлукой. 23 июня Владимир простился с матерью и отправился в Мариенбад к Вере. Больше матери он не увидел.
В Мариенбаде Набоков написал «Облако, озеро, башня», самый таинственный и самый пронзительный свой рассказ. Герой его, русский эмигрант, «скромный, кроткий холостяк и прекрасный работник»[129], которого автор называет «одним из моих представителей»[130], на благотворительном балу выигрывает увеселительную поездку. Первым желанием его было отказаться, но так как сделать это оказалось чрезвычайно сложно, он сдается и собирается в дорогу. На вокзале он узнает, что едет не один, а в группе «из четырех женщин и стольких же мужчин»[131], таких же счастливчиков, как и он. Набоков остроумно и одновременно пугающе описывает тиранию коллектива. Героя заставляют петь хором песни, играть в идиотские игры, делить общую трапезу, при этом «его любимый огурец из русской лавки»[132] под общий смех выбрасывают в окно. После изнурительного путешествия на поезде, ночевки на соломенных тюфяках и пешего марша они наконец оказываются перед озером: «…и открылось ему (герою рассказа. – Н.Б.) то самое счастье, о котором он как-то вполгрезы подумал.
Это было чистое синее озеро с необыкновенным выражением воды»[133]. А над ним висело облако и на горе высилась башня. Ничего особенного в этом виде не было. Но «по невыразимой согласованности его трех главных частей, по улыбке его, по какой-то таинственной невинности, – любовь моя! послушная моя! – был чем-то таким, таким единственным и родным, и давно обещанным…»[134]. Герой, убежденный, что нашел свое счастье, хочет остаться у озера навсегда, но компания считает его сумасшедшим и насильно увлекает с собой в Берлин. Рассказ кончается тем, что герой, постаревший и опустошенный, приходит к автору и просит его отпустить. И автор его, разумеется, отпускает. Безусловно, это рассказ о насилии общества над индивидуумом; безусловно, он об агрессии толпы, восприятие которой так остро недавно пережито было Набоковым в Германии, но кроме этих очевидных тем в нем звучит трагический мотив невозможности обретения человеком лишь ему одному понятного счастья, не общего, а его личного рая. И еще, кажется, звучит в этом рассказе едва произнесенная, словно случайно прозвучавшая нота потаенной, обреченной любви.
Из Мариенбада они уехали в Париж. Набоков вел переговоры с издательством «Галлимар» о продаже прав на перевод романа «Отчаяние» на французский. Этот перевод будет осуществлен не с русского, а с английского языка. Такая судьба ждала большинство его русских произведений.
В Париже Набоков встречался с Ириной. Но буквально через неделю он с семьей отправился в Канны. Они поселились в дешевой маленькой гостинице у железнодорожного моста на границе старого города. И Набоков признался жене, что влюблен в Ирину. Вера сказала, что тогда надо ехать к Ирине в Париж. Но Владимир остался, хотя переписку с Ириной не прекратил.
В апреле в «Современных записках» появилась первая глава «Дара». Вторая глава требовала еще серьезной доработки, и Владимир решил нарушить нумерацию и отправить в редакцию главу IV – «Жизнь Чернышевского», которая была готова и которой сам Набоков был доволен. Пакет с текстом был отправлен в начале августа. Но Вадим Руднев, прочитав главу, категорически отказался ее печатать. Ситуация возникла скандальная. На протяжении своей 20-летней истории «Современные записки» были журналом чрезвычайно терпимым, защищающим принципы свободы слова. Однако в этот момент редакторы его почувствовали свою партийную принадлежность, все они были эсерами, для которых фигура Чернышевского являлась сакральной. Между журналом и автором возник идеологический конфликт. Набоков написал Рудневу, попытался переубедить его, но напрасно. Редактор предложил Набокову напечатать все остальные главы романа, за исключением «Жизни Чернышевского». И просил через неделю прислать следующую, вторую главу. Бойд пишет, опираясь на переписку Руднева и Набокова, что ночью накануне назначенного дня для присылки текста редактор не мог сомкнуть глаз, опасаясь, что утром увидит пустой почтовый ящик[135]. Но Набоков, который испытывал в этот момент настоящую нужду, доработал и прислал рукопись.
Драматический оборот приняла и романтическая линия жизни Владимира. Вера узнала о его тайной переписке с Ириной. В семье бушевали страсти. И Ирина решила приехать в Канны. Она встретила Владимира с сыном на пляже. Что сказали они друг другу в это последнее свидание? Известно только, что Владимир остался с Верой. Позднее он прислал Ирине все ее письма и попросил вернуть свои. Так завершилась короткая лирическая глава в большой, долгой и счастливой книге жизни Владимира и Веры Набоковых.
Судьба Ирины сложилась несчастливо. Она осталась одна. Зарабатывала на жизнь стрижкой пуделей. Была членом Объединения молодых писателей и поэтов Парижа. После войны работала машинисткой на радиостанции «Свобода». В 1962 году в Мюнхене вышла маленькая книжечка ее стихов под названием «Письма». Последнее называлось «Лазурный берег»:
Я не вдыхаю запах розы На благосклонном берегу, Но ярких дней апофеозы, Как клад, в душе я берегу… Лазурный берег в дымке тает, Стремится к берегу волна — Она поет, она сверкает, Она уходит, набегает, Минутной прелести полна. …………………………………. О призрак радости и счастья, Ты за руку ведешь меня С улыбкой нежного участья К концу земного бытия…[136]В октябре 1937-го Набоковы переехали в Ментону, они сняли комнаты в пансионе. Город им понравился. Они загорали на пляже, гуляли. К ним приезжали друзья. Зимой 1937–1938 годов при ближайшем участии Ильи Фондаминского в Париже начали создавать Русский театр. Он открылся по адресу: улица Ришелье, 100. Для репертуара нужны были пьесы. И Набоков откликнулся на призыв к русским писателям и засел за пьесу. Он написал «Событие», а в начале 1938 года закончил «Дар» (роману «Дар» посвящены две последние главы книги). Зиму и весну 1938-го Набоковы прожили в Ментоне. Владимир старательно зарабатывал на хлеб составлением шахматных задач. Пьеса «Событие» хоть и имела успех, но денег не принесла. В апреле в США вышел на английском языке роман «Смех в темноте». Так Набоков перевел название своей «Камеры обскура». Получив гонорар за книгу, писатель был разочарован. Половина денег ушла на уплату налога с издания. Это был период, когда Набоков с семьей испытывал настоящую нужду. Он писал об этом знакомым, и его крик о помощи услышал Сергей Рахманинов, который высоко ценил его искусство. Рахманинов отправил писателю 2500 франков.
В поисках более дешевого жилья Набоковы оставили Ментону и переехали в Мулин, деревеньку в Приморских Альпах, а оттуда снова вернулись на побережье в русский пансион в Кап д’Антиб. Там Набоков написал еще одну пьесу – «Изобретение Вальса» – для Русского театра в Париже.
Осенью Набоковы наконец, вернулись в Париж. Они сняли однокомнатную маленькую квартирку на 8 рю де Сайгон, поблизости от Булонского леса. Когда приходили гости, их принимали на кухне, чтобы не мешать спать Дмитрию. В этой тесной, неудобной квартирке Набоков работал в ванной комнате и написал там два рассказа, «Посещение музея» и «Лик».
В декабре 1938 года он приступил к своему первому роману на английском языке – «Подлинная жизнь Себастьяна Найта». Думал ли Набоков тогда, что станет англоязычным писателем? Так или иначе, несомненно, он решил попытаться, как пишет Бойд, «прорваться в англоязычный мир»[137]. В реальности проекта убеждали его собственные переводы своих романов на английский, которые художественно превосходили работы профессиональных переводчиков. Но мысль о расставании с русским языком тогда не допускалась Набоковым. Едва закончив английский роман, он стал думать о продолжении «Дара».
Это было время лихорадочных поисков выхода. Набоков не оставляет надежды устроиться в Англии, едет в Лондон в апреле, а затем еще раз в мае в Манчестер по приглашению профессора Винавера. Но судьба упрямствовала.
Второго мая в Праге умерла Елена Ивановна. Она умерла в больнице, в общей палате, потому что на лучшие условия средств не было. Первый биограф писателя Э. Фильд рассказывает, как Набоков вышел к своим друзьям Георгию Гессену и Михаилу Каминке и сказал спокойным, ровным голосом: «Сегодня утром у меня умерла мать»[138]. Некоторые знавшие Набокова принимали его умение владеть собой за душевную холодность и даже черствость. Но достаточно прочитать страницы его автобиографии, посвященные матери, чтобы понять, как глубоки были его любовь и привязанность к ней.
Четырнадцатого июня умер Владислав Ходасевич. Набоков откликнулся «Некрологом», опубликованным в «Современных записках», книге LXIX. «Крупнейший поэт нашего времени, литературный потомок Пушкина по тютчевской линии, он останется гордостью русской поэзии, пока жива последняя память о ней»[139], – писал Набоков. И далее: «В России и талант не спасает; в изгнании спасает только талант. Как бы ни были тяжелы последние годы Ходасевича, как бы его ни томила наша бездарная эмигрантская судьба, как бы старинное, добротное человеческое равнодушие ни содействовало его человеческому угасанию, Ходасевич для России спасен…»[140] Набоков всегда высоко ценил талант Ходасевича-поэта. А Ходасевич, как никакой другой критик среди эмигрантских рецензентов, сумел проникнуть в суть творчества Сирина и оценить его художественное слово. Их знакомство состоялось 23 октября 1932 года, когда Набоков впервые приехал на квартиру Ходасевича на окраине Парижа. В автобиографии «Другие берега» и «Память, говори» Набоков дал портрет поэта. В романе «Дар» Ходасевич выведен в образе поэта Кончеева, с которым Годунов-Чердынцев дважды ведет мысленный диалог. Восхищение мастерством Ходасевича Набоков пронес через всю жизнь.
Случались в жизни Набоковых в этот тяжелый период европейских сумерек и приятные сюрпризы. Так, неожиданно в начале лета 1939-го рассказ «Картофельный эльф» приняли в журнал «Esquire» – и появились деньги. Их было немного, но хватало, чтобы летом поехать к морю, и Набоковы, верные своей неизменной непрактичности, отправились отдыхать.
В сентябре, по возвращении в Париж, их снова ждали неприятности. Первый английский роман Набокова «Подлинная жизнь Себастьяна Найта» не взяло ни одно издательство. Набоков по-английски написал очерк о военном Париже, но и он не был принят ни американскими, ни английскими журналами. Безденежье снова поселилось в их квартире. К счастью, Набоковым помогал их старый друг Самуил Кянджунцев, тот самый, что одолжил писателю свой смокинг для первого выступления в Париже. Теперь он, владелец кинотеатра, помогал ему деньгами. Владимир опять стал давать уроки английского.
Одним из последних его произведений, написанных в Европе по-русски, стала повесть «Волшебник». Она оставалась долго в архивах писателя и увидела свет впервые по-английски в 1986 году. Ее перевел и напечатал сын, Дмитрий Набоков. Повесть кажется своеобразной предтечей будущей «Лолиты», но и сама по себе представляет шедевр набоковской зрелой прозы. Содержание ее сводится к следующему: герой, сорокалетний мужчина, испытывающий страсть к девочкам, женится на больной вдове, у которой есть 12-летняя дочь. Когда жена умирает, он увозит падчерицу на отдых, планируя, что постепенно приучит ее к сексуальным играм. Но в первую же ночь, не совладав со своей страстью, начинает ласкать девочку. Та в ужасе поднимает крик. Герой бросается на улицу и погибает под колесами грузовика. В один из вечеров 1940 года Набоков прочитал повесть некоторым своим друзьям, в числе которых были Фондаминский, Зензинов, Алданов. Кажется, ему посоветовали повесть не печатать. Во всяком случае, Бойд сообщает, что «Современные записки» не приняли ее. А позднее, видимо, и сам Набоков потерял к ней интерес, а потом и «Лолита» оттеснила ее в тень.
В апреле 1940 года в 70-м номере «Современных записок» появился фрагмент будущего продолжения «Дара», который, по мнению Б. Бойда, должен был стать его второй главой. Назывался он «Solus Re» («Одинокий король»). Эта книжка журнала была последней. Эпоха расцвета эмигрантской культуры заканчивалась.
Что чувствовал Набоков в эти тревожные, безнадежные, тяжелые дни?
О Набокове этого периода оставила воспоминание Нина Берберова: «В последний раз я видела его в Париже в начале 1940 года, когда он жил в неуютной и временной квартире (в Пасси), куда я пришла его проведать: у него был грипп, впрочем, он уже вставал. Пустая квартира, то есть почти без всякой мебели. Он лежал бледный, худой в кровати, и мы посидели сначала в его спальне. Но вдруг он встал и повел меня в детскую, к сыну, которому тогда было лет 6. На полу лежали игрушки, и ребенок необыкновенной красоты и изящества ползал среди них. Набоков взял огромную боксерскую перчатку и дал ее мальчику, сказав, чтобы он мне показал свое искусство, и мальчик, надев перчатку, начал изо всей своей детской силы бить Набокова по лицу. Я видела, что Набокову было больно, но он улыбался и терпел. Это была тренировка – его и мальчика. С чувством облегчения я вышла из комнаты, когда это кончилось»[141].
Спасение, однако, все-таки пришло. Добрым ангелом для Набокова стал Марк Алданов. Получив приглашение от профессора Стэнфордского университета прочесть лекции по русской литературе в Летней школе при университете в 1940 году, Алданов порекомендовал вместо себя Набокова. Тот с радостью принял предложение хоть и на временную, но работу. Началось мучительное собирание документов, а потом и денег на билет. Как пишет Бойд, Набоковым не хватало 560 долларов, сумма, которую они сами собрать не могли. Набокову устроили благотворительный вечер, где он читал свой рассказ «Облако, озеро, башня». Несколько состоятельных евреев помогли ему деньгами, как и некоторые старые друзья. Когда все приготовления были закончены, Набоков пошел прощаться. Многих он уже не увидит никогда. В том числе и брата Сергея, который погибнет в немецком лагере. 10 мая немцы начали наступление на Францию. Наступление шло с невероятной быстротой, и пароход, который должен был отбывать из Гавра, уходил из Сен-Назера. В Америку, в новую эмиграцию отплывал Владимир Набоков.
Писатель Владимир Сирин оставался на континенте русской культуры навсегда.
Но воздушным мостом мое слово изогнуто Через мир, и чредой спицевидных теней Без конца по нему прохожу я инкогнито В полыхающий сумрак отчизны моей[142].Глава II Звуки и запахи «Машенька»[143]
Полная достоверность —
только в мечтах.
Эдгар ПоПервый роман В. Набокова-Сирина «Машенька» был опубликован в 1926 году в Берлине в эмигрантском издательстве «Слово». Несмотря на кажущуюся бесхитростность и традиционность, это произведение молодого Набокова обнаруживает черты поэтики его зрелой прозы. Текст «вырастает» из центральной метафоры, элементы которой разворачиваются в романе в самостоятельные тематические мотивы. Указанием на нее служит прием литературной аллюзии, доведенный в более поздних произведениях до изысканной законспирированности, но в «Машеньке» реализованный с уникальной авторской откровенностью – с прямым называнием адресата. Отсылка размещена в условной сердцевине текста, в точке высокого лирического напряжения, в момент символического обретения героем души (подробнее об этом мотиве – см. ниже), в сцене на подоконнике «мрачной дубовой уборной», когда 16-летний Ганин мечтает о Машеньке.
«И эту минуту, когда он сидел… и тщетно ждал, чтобы в тополях защелкал фетовский соловей, – эту минуту Ганин теперь справедливо считал самой важной и возвышенной во всей его жизни».
Стихотворение «Соловей и роза» Афанасия Фета, которого Набоков считал тончайшим русским лириком, и другое стихотворение этого поэта, написанное без глаголов, «Шепот, робкое дыханье…», возникнет в последнем «русском» романе «Дар» как разоблачение «бесслухого» Чернышевского. В «Машеньке» «Соловей и роза» проступает в форме скрытого цитирования и становится метафорой-доминантой произведения. Драматизм сюжета фетовского стихотворения обусловлен разной темпоральной природой лирических протагонистов: роза цветет днем, соловей поет ночью.
Ты поешь, когда дремлю я, Я цвету, когда ты спишь…В романе Набокова: Ганин – персонаж настоящего, Машенька – прошлого. Соединение героев возможно в пространстве, лишенном временны́х измерений, каковым и являются сон, мечта, воспоминание, медитация… Набоковское структурное решение темы отсылает нас к таким произведениям как «Сон» Байрона, стихотворению о первой любви поэта, обращенному к Мэри Энн Чаворт, «Ода к соловью» Дж. Китса и к уже названному «Соловью и розе».
Главному герою романа, Ганину, свойственны некоторые черты поэта, чье творчество предполагается в будущем. Свидетельство тому – его мечтательное безделье, яркое воображение и способность к «творческим подвигам». Ганин – изгнанник, фамилия фонетически закодирована в эмигрантском статусе (другое прочтение – см. ниже), живет в Берлине, в русском пансионе, среди «теней его изгнаннического сна». У Фета:
Рая вечного изгнанник, Вешний гость я, певчий странник…Вторая строка цитаты отзывается в тексте «Машеньки» так: «…тоска по новой чужбине особенно мучила его (Ганина. – Н.Б.) именно весной». В портрете героя произведения просматривается намек на птичьи черты: брови, «распахивавшиеся как легкие крылья», «острое лицо» отражает острый клюв соловья[144]. Подтягин говорит Ганину: «Вы – вольная птица».
Соловей – традиционный поэтический образ певца любви. Его песни заставляют забыть об опасностях дня, превращают в осязаемую реальность мечту о счастье. Именно такова особенность мечтаний Ганина: счастливое прошлое для него трансформируется в настоящее. Герой говорит старому поэту: «У меня начался чудеснейший роман. Я сейчас иду к ней. Я очень счастлив».
Соловей начинает петь в начале апреля. Именно в этом месяце начинается действие романа («Нежен и туманен Берлин, в апреле, под вечер»), основным содержанием которого становятся воспоминания героя о первой любви. Повторность переживаемого отражается в пародийной весенней эмблематике, маркирующей пространство (внутреннее) русского пансиона, где живет герой: на дверях комнат прикреплены листки из старого календаря, «шесть первых чисел апреля месяца».
Пение соловья раздается с наступлением сумерек и длится до конца ночи (ср. англ. Nightingale, нем. Náchtigall). Воспоминания о любви, которым предается в романе Ганин, всегда носят ноктюрновый характер. Символично и то, что сигналом к ним служит пение его соседа по пансиону, мужа Машеньки: «Ганин не мог уснуть… И среди ночи, за стеной, его сосед Алферов стал напевать… Когда прокатывала дрожь поезда, голос Алферова смешивался с гулом, а потом снова всплывал: ту-у-у, ту-ту, ту-у-у». Ганин заходит к Алферову и узнает о Машеньке. Сюжетный ход пародийно воплощает орнитологическое наблюдение: соловьи слетаются на звуки пения, и рядом с одним певцом немедленно раздается голос другого. Пример старых певцов влияет на красоту и продолжительность песен. Пение соловья разделено на периоды (колена) короткими паузами. Этот композиционный принцип выдержан в воспоминаниях героя, берлинская действительность выполняет в них роль пауз.
Ганин погружается в «живые мечты о минувшем» ночью; сигнальной является его фраза: «Я сейчас иду к ней». Характерно, что все его встречи с Машенькой происходят с наступлением темноты. Впервые герой видит ее «в июльский вечер» на дачном концерте. Семантика соловьиной песни в романе реализуется в звуковом сопровождении сцены. Цитирую: «И среди… звуков, становившихся зримыми… среди этого мерцанья и лубочной музыки… для Ганина было только одно: он смотрел перед собой на каштановую косу в черном банте…»
Знакомство Ганина и Машеньки происходит «как-то вечером, в парковой беседке…», и все их свидания – на исходе дня. «В солнечный вечер» Ганин выходил «из светлой усадьбы в черный, журчащий сумрак…» «Они говорили мало, говорить было слишком темно». А через год, «в этот странный, осторожно-темнеющий вечер… Ганин, за один недолгий час, полюбил ее острее прежнего и разлюбил ее как будто навсегда».
Свидания Ганина и Машеньки сопровождаются аккомпанементом звуков природы, при этом голоса людей либо приглушены, либо полностью «выключены»: «…скрипели стволы… И под шум осенней ночи он расстегивал ей кофточку… она молчала…» Еще пример: «Молча, с бьющимся сердцем, он наклонился к ней… Но в парке были странные шорохи…»
Их последняя встреча также происходит с наступлением темноты: «Вечерело. Только что подали дачный поезд…» В этой сцене наблюдается изменение оркестровки: живые голоса природы заглушены шумом поезда («вагон погрохатывал») – этот звук соотнесен в романе с изгнанием героя. Так, о пансионе: «Звуки утренней уборки мешались с шумом поездов». Ганину казалось, что «поезд проходит незримо через толщу самого дома… гул его расшатывает стену…»
Переживаемый заново роман с Машенькой достигает апогея в ночь накануне ее приезда в Берлин. Глядя на танцоров, «которые молча и быстро танцевали посреди комнаты, Ганин думал: “Какое счастье. Это будет завтра, нет, сегодня, ведь уже за полночь… Завтра приезжает вся его юность, его Россия”». В этой последней ночной сцене (напомню, что первая встреча героев произошла на дачном концерте) намеком на музыку служит танец. Однако она не звучит, повтор не удается («А что, если этот сложный пасьянс никогда не выйдет во второй раз?» – думает Ганин), и счастье его не осуществляется.
Исчезновение музыки в финале прочитывается в контексте ведущего тематического мотива романа, мотива музыкального: пения соловья. Именно звуковое наполнение и придает воспоминаниям Ганина смысл ночных соловьиных мелодий. «Машенька, – опять повторил Ганин, стараясь вложить в эти три слога все то, что пело в них раньше, – ветер, и гудение телеграфных столбов, и счастье, – и еще какой-то сокровенный звук, который был самой жизнью этого слова. Он лежал навзничь, слушал свое прошлое». Приведенная цитата: три слога женского имени, наполненных смыслом любовного чувства, прочитываются как ранний эскиз первых строк «Лолиты». Цитирую русский вариант текста:
«Лолита, свет моей жизни, огонь моих чресел. Грех мой, душа моя. Ло-ли-та: кончик языка совершает путь в три шажка вниз по нёбу, чтобы на третьем толкнуться о зубы. Ло. Ли. Та».
Пение птицы затихает на рассвете (ср. у Набокова: «За окном ночь утихла»). И вместе с ним исчезает волшебная действительность, «жизнь воспоминаний, которой жил Ганин», теперь она «становилась тем, чем она вправду была – далеким прошлым».
С наступлением дня начинается и изгнание героя. «На заре Ганин поднялся на капитанский мостик… Теперь восток белел… На берегу где-то заиграли зорю… он ощутил пронзительно и ясно, как далеко от него теплая громада родины и та Машенька, которую он полюбил навсегда». Образы родины и возлюбленной, которые, как отмечают многие исследователи, сближаются в романе, остаются в пределах ночной соловьиной песни, трансформируются из биографических в поэтические. Иначе говоря, становятся темой творчества.
В работах о «Машеньке» писали об автобиографичности романа, в образе Ганина обнаруживали авторские черты. Предположение обретает дополнительный игровой смысл: сходство героя и автора аналогично сходству соловья и Сирина – псевдонима, которым Набоков подписывал свои произведения на русском языке.
Его выбор в качестве псевдонима имени райской птицы из славянской мифологии, поющей счастливые песни, может быть прочитан как игровое отражение другой известной «птичьей» писательской фамилии, но настоящей – Гоголь. Симптоматично и то, что в следующем псевдоавтобиографическом романе «Подвиг» Набоков выбрал для своего героя имя Мартын Эдельвейс, сочетание птицы (мартын – водяная птица типа чайки, Larus Sterna) и горного цветка – эдельвейса, объединив в одном персонаже два доминантных образа «Машеньки».
2
Образ главной героини вбирает черты фетовской розы. Об этом свидетельствуют многочисленные примеры скрытого цитирования. Так, из письма Машеньки Ганину: «Если ты возвратишься, я замучаю тебя поцелуями…» А у Фета: «Зацелую тебя, закачаю…» Ганин постоянно вспоминает нежность образа Машеньки: «нежную смуглоту», «черный бант на нежном затылке». Сравним у Фета: «Ты так нежна, как утренние розы…» Алферов о Машеньке: «жена моя чи-истая». У Фета: «Ты так чиста…» Поэт Подтягин говорит о влюбленном Ганине: «Недаром он такой озаренный». У Фета: роза дарит соловью «заревые сны».
Образ розы в емкой системе цветочного кода занимает главное место. Роза – символ не только любви, радости, но и тайны. Ср. латинское sub rosa как обозначение тайны[145]. И не случайно, что в романе, где рассыпано немало цветов, роза, символизирующая первую любовь героя, не названа ни разу. Таково зеркальное отражение приема называния: героиня, чьим именем озаглавлено произведение, ни разу не появляется в реальности.
Намек на скрытый смысл, заложенный в имени, делается уже в первых строках романа: «Я неспроста осведомился о вашем имени, – беззаботно продолжал голос. – По моему мнению, всякое имя… всякое имя обязывает» (о потаенном значении имени – см. далее).
Образ розы как аллегории Машеньки возникает в зашифрованной отсылке во фразеологию другого языка. Так, Ганин, сидя рядом с Алферовым, «ощущал какую-то волнующую гордость при воспоминаньи о том, что Машенька отдала ему, а не мужу, свое глубокое благоухание». А по-французски: «Elle a perdu sa rose» (буквальный пер.: она потеряла свою розу) – это о потере девственности.
Умышленное непроизнесение имени, погружение его в тайну либо подмена другим, условным, – известный прием сакрализации образа. Любовь в сознании героя связана с тайной. Так, о летнем романе Ганина и Машеньки: «дома ничего не знали…» И позже, в Петербурге: «Всякая любовь требует уединенья, прикрытия, приюта…»
Переживая заново свое чувство в Берлине, Ганин скрывает его, ограничивается намеками, которые лишь подчеркивают таинственность происходящего. Он говорит Кларе: «У меня удивительный, неслыханный план. Если он выйдет, то уже послезавтра меня в этом городе не будет». Старому поэту Ганин делает псевдоисповедальное заявление о начале своего счастливого романа.
Примером десакрализации чувств, разглашения тайны, демонстративного показа счастья и немедленной его утраты служит в романе поведение Людмилы, любовницы Ганина. Она рассказывает Кларе «еще не остывшие, до ужаса определенные подробности», приглашает подругу вместе с Ганиным в кино, чтобы «щегольнуть своим романом…»
Сокрытие образа героини, аналогичное приему умолчания имени[146], прочитывается в романе Набокова как аллюзия на сонеты Шекспира, обращенные к возлюбленной. Названные в стихах черты послужили определением ее условного образа, в шекспироведении она названа «Смуглой Леди сонетов». Лирическая отсылка обусловлена внешним сходством героинь и вместе с тем их духовным контрастом. (Ср. Сонеты 127–154, посвященные «Смуглой Леди».)
С другой стороны, «нежная смуглота» Машеньки – поэтическое эхо «Песни Песней». «Не смотрите на меня, что я смугла; ибо солнце опалило меня…» Другим условием аллюзии является аромат, связанный с образом героини, девы-розы, – в «Песне Песней» – связанный с образом возлюбленной: «…и благовоние мастей твоих лучше всех ароматов!»
Третий источник, с которым связан образ Машеньки, девы-розы, – это «Цветы зла» Ш. Бодлера. Пародийная отсылка к воспетой поэтом возлюбленной, мулатке Жанне Дюваль, в текстах не названной, сопряжена с названием сборника. Между тем аллюзия набоковского образа ведет и к «Стихотворениям в прозе» Ш. Бодлера – в частности, к «Приглашению к путешествию», в котором поэт обращается к возлюбленной, используя метафору цветов.
«Что до меня, я отыскал свой черный тюльпан и свой голубой георгин. Несравненный, вновь обретенный тюльпан, мифический георгин – не правда ли, только там и могут они вырасти, в этой прекрасной стране, такой спокойной и мечтательной, где повсюду цветет жизнь?»
Стихотворение в прозе Ш. Бодлера «Приглашение к путешествию» так же, как и связанное с ним музыкальное произведение «Приглашение на вальс» К. Вебера, появляются в качестве референтных текстов и в более поздних романах Набокова, в частности, во втором романе «Король, дама, валет», что будет рассмотрено ниже. Отмечу по ходу одну характерную для набоковской художественной практики черту: лирический образ, выведенный автором в одном романе, затем появляется в пародийном обличье – в другом. Например, образ девы-розы, засекреченный приемом аллюзии в «Машеньке», возникает в «Подвиге» в сниженном обличье официантки Розы «богини кондитерской», с которой у героя завязывается короткий роман.
К текстам-адресатам первого романа Набокова следует отнести и стихи А. Фета, связанные с трагически погибшей Марией Лазич. Любовь к ней стала тайной жизни поэта. Сохраняя в сердце образ возлюбленной, Фет, однако, за сорок лет не посвятил ей ни одного стихотворения. Более того, как замечает В. Н. Топоров, «неназывание ее имени стало сутью внутреннего запрета для поэта»[147].
Пред тенью милою коленопреклоненный, В слезах молитвенных я сердцем оживу. И вновь затрепещу, тобою просветленный, — Но всю тебя не назову.В статье «Скрытое имя в русской поэзии» В. Н. Топоров на примере четырех стихотворений Фета («Измучен жизнью…», «В тиши и мраке», «Подала ты мне руку», «Моего тот безумства желал, кто смежал…») продемонстрировал, как имя Марии Лазич становится объектом анаграммирования. Исследователь составляет целый словарик из, как он определяет, «з-слов», образующих звуковой лейтмотив стихотворений, который связывается у Фета с образом умершей возлюбленной, а также с образом розы. В. Н. Топоров поддерживает мнение Т. Венцловы, который считает, что «все следы ведут к погибшей в огне Марии Лазич. Это ей посвящено стихотворение “Роза”»[148]. Так структурная аллюзия набоковского романа к Фету смыкается с сюжетной и тематической.
Вернусь, однако, к приведенной выше цитате о «глубоком благоухании» Машеньки, отданном ею Ганину. Цитата отзывается в стихотворении А. Фета: «Для тебя у бедной розы / Аромат, краса и слезы…» Благоухание, аромат, запах как основной признак розы, цветка – символа любви, приобретает в романе Набокова самостоятельность тематического мотива.
Категория запаха утверждается в «Машеньке» как осязаемое присутствие души. В тексте воплощен весь семантический ряд: запах – дух плоти – дух – дыхание – душа. Креативная функция памяти реализуется в реставрации запахов прошлого, что осознается как одушевление образов прошлого: «…как известно, память воскрешает все, кроме запахов, и зато ничто так полно не воскрешает прошлого, как запах, когда-то связанный с ним».
Уникальность запаха приравнена к уникальности души. Так, Ганин о Машеньке: «…этот непонятный, единственный в мире запах ее». В этом запахе запечатлен сладковатый аромат розы. «И духи у нее были недорогие, сладкие, назывались “Тагор”». Пародийный ход – использование в названии духов имени знаменитого индийского поэта Р. Тагора, автора душистых и сладковатых поэтических сочинений, – связан с известным его стихотворением «Душа народа», ставшим национальным гимном Индии. Такое ироническое упоминание Тагора спровоцировано, по-видимому, огромной популярностью индийского поэта в Советской России в 20-е годы.
Развитие темы от аромата цветка к душе связано с греческим мифом о Психее, в частности, с одним из его воплощений – сказкой С. Аксакова «Аленький цветочек». Адресат аллюзии возвращает мотив к исходной метафоре – доминанте романа.
Итак, воскрешение воспоминания связано у Набокова с воскрешением его живого духа, запаха, осуществляемого буквально: как вдохнуть в образ душу. Художественное воплощение мотива «запах – дух – дыхание – душа» восходит к библейскому тексту, Книге Бытия (II, 7): «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душею живою». У Набокова сказано о Ганине: «Он был богом, воссоздающим погибший мир…»
Запах оживляет самые первые сцены воспоминаний героя: «Лето, усадьба, тиф… Сиделка… от нее идет сыроватый запах, стародевичья прохлада». На дачном концерте, где Ганин впервые видит Машеньку, «пахло леденцами и керосином».
Условие воскрешения – вдыхание духа – запаха – души реализуется не только по отношению к образам прошлого, но и по отношению к автору воспоминаний, Ганину. На берлинской улице он чувствует запах карбида: «…и теперь, когда он случайно вдохнул карбид, все ему вспомнилось сразу…», «он выходил из светлой усадьбы в черный журчащий сумрак…». Герой обретает силы в ожившем прошлом, хотя еще недавно, до известия о Машеньке, он чувствовал себя «вялым», «обмякшим», превратившимся в тень на экране, утратившим живую душу.
Фаза развития мотива «душа – дыхание» связана с приходом любви. Условное обретение героем души происходит в уже упоминавшейся сцене с «фетовским соловьем». Приведу цитату полностью: «Ганин отпахнул пошире раму цветного окна, уселся с ногами на подоконник… и звездное небо между черных тополей было такое, что хотелось поглубже вздохнуть. И эту минуту… Ганин теперь справедливо считал самой важной и возвышенной во всей его жизни». В тексте воплощается и обратный вариант: утрата любви ведет к омертвлению души. Так, Ганин, покинув родину, Машеньку, чувствует, как «душа притаилась». Воскресение Ганина связано с вернувшимся чувством к Машеньке. «Машенька, Машенька, – зашептал Ганин. – Машенька… – и набрал побольше воздуха, и замер, слушая, как бьется сердце».
В финале романа он, переживший в воображении первую любовь, ощущает силы для новой жизни: «Грудь дышала ровно и глубоко». Он «давно не чувствовал себя таким здоровым, сильным, готовым на всякую борьбу».
Отсылка мотива к тексту Ветхого завета подкреплена и цифровой символикой. Алферов ждет Машеньку семь дней, Ганин переживает роман с ней за четыре дня. Адам, как известно, обретает душу на 4-м часе, женщину – на 7-м. Для Алферова Машенька – жена, для Ганина – синоним его души.
В романе Ганин, поэт, чье творчество предполагается в будущем, обретает новое дыхание, тогда как старый поэт, Подтягин, чье творчество принадлежит прошлому, задыхается и умирает. Сцена проигрывается дважды, такая репетиция смерти освобождает сюжетный ход от возможного мелодраматизма. Ночью Подтягин во время сердечного приступа стучит к Ганину: «опираясь головой о стену и ловя воздух разинутым ртом, стоял старик Подтягин… И вдруг Подтягин передохнул… Это был не просто вздох, а чудеснейшее наслажденье, от которого сразу оживились его черты». В финале романа он умирает. «Его дыхание… звук такой… страшно слушать», – говорит Ганин госпоже Дорн. «…Боль клином впилась в сердце, – и воздух казался несказанным, недостижимым блаженством». В «Машеньке» представлено и пародийное воспроизведение темы утраты души как утраты паспорта, причины, фактически вызывающей сердечный приступ и смерть Подтягина. Герой так сообщает об этом Кларе: «Именно: уронил. Поэтическая вольность… Запропастить паспорт. Облако в штанах, нечего сказать». Цитата – отсылка к В. Маяковскому, поэту, превратившему душу в знамя. В поэме «Облако в штанах»:
…вам я душу вытащу, растопчу, чтоб большая! — и окровавленную дам, как знамя.Эта набоковская аллюзия наделена смыслом гениального предвидения, а именно: вопреки хронологии она отзывается в двух произведениях Маяковского: поэме «Облако в штанах», где декларируется любовь напоказ, и в «Стихах о советском паспорте», написанных почти через четыре года после «Машеньки». Этим, однако, роковое совпадение не исчерпывается. Маяковский, торжественно провозгласивший:
Я достаю из широких штанин дубликатом бесценного груза. Читайте, завидуйте, я — гражданин Советского Союза, —написал это стихотворение незадолго до самоубийства, по сведениям советских комментаторов – в июле 1929 года, и тогда же отдал его в редакцию «Огонька». Публикация была задержана, и стихотворение появилось в печати уже после смерти Маяковского, среди материалов, посвященных его памяти. Жизнь тем самым подражает искусству, параллель возникает в пределах пародийно означенной темы паспорта как бюрократического удостоверения души. Русский поэт-эмигрант Подтягин умирает, потеряв паспорт, советский поэт Маяковский погибает, прославив свое обладание «краснокожей паспортиной». Показательно в этом контексте высказывание Набокова: «Истинным паспортом писателя является его искусство».
Вернусь к центральному мотиву романа. Отправным условием воскрешения образов прошлого служит картинка, снимок. Ганин погружается в роман-воспоминание, увидев фотографию Машеньки. Показывает ее Ганину Алферов, муж героини произведения. «Моя жена – прелесть, – говорит он. – …Совсем молоденькая. Мы женились в Полтаве…» Полтава – место женитьбы пожилого Алферова на молоденькой Машеньке – пародийная отсылка к поэме А. Пушкина «Полтава», где юная Мария бежит к старику Мазепе.
По мере того как пространство прошлого оживает в памяти героя, обретает звуки и запахи, берлинский мир теряет живые признаки, превращается в фотографию: «Ганину казалось, что чужой город, проходивший перед ним, только движущийся снимок».
Для старого поэта Подтягина Россия – картинка, он говорит о себе: «…я ведь из-за этих берез всю свою жизнь проглядел, всю Россию». Выделенная единственная визуальная регистрация мира определяет характер его творчества. Не случайно стихи-картинки Подтягина печатались в «журналах “Всемирная иллюстрация” да “Живописное обозрение”».
Утрата признаков реального существования, в частности запаха-души, обусловливает трансформацию живого образа в зрительный объект, что равноценно его умиранию, уничтожению. Отсюда и Россия, оставшаяся только в визуальной памяти других персонажей романа, исчезает из реальности. «А главное, – все тараторил Алферов, – ведь с Россией – кончено. Смыли ее, как вот знаете, если мокрой губкой мазнуть по черной доске, по нарисованной роже…»
Условие это реализуется в романе многократно. Так, смерти Подтягина предшествует условный переход его образа в фотографию. «Снимок, точно, был замечательный: изумленное, распухшее лицо плавало в сероватой мути». И далее: «…Клара ахнула, увидя его мутное, расстроенное лицо».
Одной из активных сил, уничтожающих запах, в романе провозглашается ветер. Ганин, встречаясь с Машенькой в Петербурге, «на ветру, на морозе», чувствует, как «мельчает, протирается любовь». Период свиданий в зимнем городе, который герой называет «снеговой эпохой их любви», содержит отсылку к сборнику А. Блока «Снежная маска». У Блока:
Я опрокинут в темных струях И вновь вдыхаю, не любя, Забытый сон о поцелуях, О снежных вьюгах вкруг тебя.У Набокова: в снах / воспоминаниях Ганина: «…и в ледяных вихрях в темном переулке он обнажал ей плечи, снежинки щекотали ее…» Другой адресат набоковской отсылки – текст Пушкина (об этом см. ниже). Таким образом, свойство полигенетичности, т. е. наличия у аллюзии нескольких адресатов, обнаруживается уже в первом романе Набокова.
Зловещий образ ветра, губящего запах / живое присутствие души, трансформируется в повествовании в «железные сквозняки» изгнания. Разрушительная функция ветра – отсылка к поэме А. Блока «Двенадцать».
Черный вечер. Белый снег. Ветер, ветер! На ногах не стоит человек. Ветер, ветер, — На всем божьем свете!Именно такова уничтожающая роль ветра в судьбе старого поэта Подтягина. Отправляясь с Ганиным в полицейское управление, «он поежился от свежего весеннего ветра». На империале Подтягин забывает с трудом добытый паспорт, потому что «вдруг схватился за шляпу, – дул сильный ветер».
Уже в «Машеньке» появляется прием буквального прочтения фразеологического оборота, применяющийся широко в зрелых произведениях Набокова. Примером служит упомянутая выше шляпа. Выходя из полицейского управления, Подтягин радостно восклицает: «Теперь – дело в шляпе», полагая, что наконец выберется из Берлина. По дороге за визой во французское посольство ветер сдувает с него шляпу; схватившись за нее, поэт забывает паспорт.
Уничтожению запаха как присутствия живой души противопоставлено в романе его сохранение посредством перевода в текст, в произведение, что отождествляется с переводом в бессмертие. Глядя на умирающего Подтягина, Ганин «подумал о том, что все-таки Подтягин кое-что оставил, хотя бы два бледных стиха, зацветших для него, Ганина, теплым и бессмертным бытием: так становятся бессмертными дешевенькие духи…» Вечное цветение, сохранение аромата / души возможно для образов поэтических, принадлежащих к пространству креативному. Характерно отсутствие живых цветов в призрачном мире изгнания: в пансионе стоят две пустые хрустальные вазы для цветов, «потускневшие от пушистой пыли». Жизнь Ганина до воспоминаний о Машеньке – «бесцветная тоска».
Маршрут мотива «запах-душа», достигая категории бессмертия, возвращается к исходному доминантному образу романа – розе, цветку загробного мира, с которым также связана идея воскресения, – напомню о датировке действия апрелем.
Роман «Машенька» реализует поэтическое воскресение мира прошлого, первой любви героя под знаком sub rosa, что создает пародийную оппозицию каноническому литературному образу розы – символу прошедшей любви и утраченной молодости. Пародируемым адресатом может быть целая серия произведений, а именно: стихотворение И. Мятлева «Розы»; стихотворение в прозе И. Тургенева, названием и рефреном которого стала первая строка из произведения И. Мятлева: «Как хороши, как свежи были розы…» Отмечу, что сцена в «Машеньке», когда Ганин, сидя на подоконнике уборной, мечтает о девушке, – пародийное отражение тургеневской сцены: девушка в летний вечер в окне «пристально смотрит в небо…» И наконец, в выстраиваемом ряду адресатов следует назвать стихотворение И. Северянина «Классические розы», эпиграфом к которому служит первая строфа из Мятлева. Написанное в том же году, что и роман «Машенька», оно обнаруживает с ним особенно близкое тематическое соседство.
Прошли лета, и всюду льются слезы… Нет ни страны, ни тех, кто жил в стране… Как хороши, как свежи ныне розы Воспоминаний о минувшем дне!3
В романе «Машенька» все женские образы связаны с цветочным кодом. Хозяйка пансиона, госпожа Дорн (по-немецки – шип) – пародийная деталь увядшей розы. Госпожа Дорн – вдова (шип в цветочной символике – знак печали), «женщина маленькая, глуховатая», т. е. уже глуха к песням соловья. Внешне она похожа на засохший цветок, ее рука «легкая, как блеклый лист», или «морщинистая рука, как сухой лист…» Она держала «громадную ложку в крохотной увядшей руке».
Любовница Ганина Людмила, чей образ отмечен манерностью и претенциозностью, «влачила за собой ложь… изысканных чувств, орхидей каких-то, которые она как будто страстно любит…»[149] В романе цветок орхидеи – эмблема «изысканных чувств» – является пародийной аллюзией на подобное его воплощение в поэзии начала века. Конкретным адресатом может быть стихотворение К. Бальмонта «Орхидея».
Склонясь над чашей поцелуйной, ………………………………………….. Вдыхал я тонкий сладкий яд, Лелейно-зыбкий, многоструйный. Как будто чей-то нежный рот, Нежней, чем рот влюбленной феи, Вот этот запах орхидеи Пьянит, пьянит и волю пьет.У Набокова находим сниженное воспроизведение той же сцены с Людмилой: «И тоскуя и стыдясь, он чувствовал, как бессмысленная нежность… заставляет его прижиматься без страсти к пурпурной резине ее поддающихся губ, но нежностью этой не был заглушен спокойный насмешливый голос, ему советовавший: “А что, мол, если сейчас отшвырнуть ее”».
«Орхидея» К. Бальмонта вошла в сборник «Птицы в воздухе», в котором отразились впечатления поэта от путешествия в Мексику. На ту же тему им написана книга очерков «Змеиные цветы». Одним из поэтов, в чьих стихах «цвело» немало экзотических цветов и растений, был В. Брюсов. Отсылки к нему присутствуют в романе. «Его (Ганина. – Н.Б.) тяготила томная темнота… блеск луны на лопастях магнолий». Сравним у Брюсова:
Тень несозданных созданий Колыхается во сне, Словно лопасти латаний На эмалевой стене…Образы птиц и цветов, максимально экзотично представленные в поэзии начала прошлого века, воспроизводятся у Набокова с лирической простотой, которая и обеспечивает их обновление. Этот прием оговорен автором в романе «Дар»: «…обедневшие некогда слова, вроде “роза”, совершив полный круг жизни, получали теперь в стихах как бы неожиданную свежесть…»
Образ Клары связан с цветами апельсинового дерева, знаком девственности, и в контексте цветочного символа прочитывается как аллюзия на стихотворение В. Брюсова «Мечты о померкшем».
Мечты о померкшем, мечты о былом, К чему вы теперь? Неужели С венком флёрдоранжа, с венчальным венком, Сплели стебельки иммортели?Каждое утро, идя на работу, Клара покупает «у радушной торговки… апельсины». В финале романа, на вечеринке, она «в неизменном своем черном платье, томная, раскрасневшаяся от дешевого апельсинового ликера». Черное платье понимается как траур по несостоявшемуся женскому счастью, т. е. служит пародийным знаком вечной женственности. Черный наряд героини контрастирует с ее именем: Клара. Clarus (лат.) – светлый.
Связанный с символикой цветов мотив запаха в романе приобретает смысл характеристики персонажей. Так, в комнате у Клары «пахло хорошими духами». У Людмилы «запах духов, в котором было что-то неопрятное, несвежее, пожилое, хотя ей самой было всего двадцать пять лет». Ни Клара, ни Людмила не увлекают Ганина, хотя обе влюблены в него. Романная ситуация вновь отзывается в стихотворении А. Фета:
Рая вечного изгнанник, Вешний гость я, певчий странник; Мне чужие здесь цветы. ………………………….. Друг мой, роза, дева-роза, Я б не пел, когда б не ты.Запашок Алферова, души поистершейся, утратившей свежесть, подобен запаху Людмилы. «Алферов шумно вздохнул; хлынул теплый, вялый запашок не совсем здорового, пожилого мужчины. Есть что-то грустное в таком запашке».
Исследователи отмечали, что обитатели русского Берлина в романе «Машенька» воспроизведены как обитатели мира теней. И не случайно. Эмигрантский мир у Набокова содержит отсылку к «Аду» в «Божественной комедии» Данте (подробнее об отсылке к Данте см. ниже). Это закреплено и в запахах. Приведу два примера. В полицейском управлении, куда эмигранты приходят за визой на выезд, «очередь, давка, чье-то гнилое дыхание», – ситуация подобна картине переправы через Ахерон у Данте.
Прощальное письмо Людмилы Ганин разорвал и «скинул с подоконника в бездну, откуда веяло запахом угля».
С образом Людмилы связан и вариант профанации запаха как признака души. Получая ее письмо, герой замечает, что «конверт был крепко надушен, и Ганин мельком подумал, что надушить письмо – то же, что опрыскать духами сапоги для того, чтобы перейти через улицу». Сравнение Ганина пародийно воспроизводит научное название цветка из семейства орхидей (цветка-знака Людмилы) – Sabot de Venus (Сабо Венеры).
Запахи и звуки оживляют пространство «Машеньки». Симптоматично, что первая сцена романа происходит в темноте; знаками проявления жизни, начала действия становятся звуки и запахи. Ганин отмечает у Алферова «бойкий и докучливый голос», и последний узнает его по звуку, чья национальная опознаваемость обретает гротескный смысл. Алферов говорит: «Вечером, слышу, за стеной вы прокашлялись, и сразу по звуку кашля решил: земляк».
Мотив звуков в романе восходит к образу соловья. Ганин и Алферов оказываются соперниками и обнаруживают сходные «птичьи» черты. Алферов «сахаристо посвистывал», у него «маслом смазанный тенорок». Ганин по ночам слышит, как тот поет от счастья. Пение его: «…голос Алферова смешивался с гулом поездов, а потом снова всплывал: ту-у-у, ту-ту, ту-у-у» – звуковая пародийная отсылка к песне соловья в «Пасторальной», шестой симфонии Бетховена. В первой же сцене романа оба соперника, как две птицы, оказываются запертыми в «клетке» остановившегося лифта. На вопрос Ганина: «Чем вы были в прошлом?» – Алферов отвечает: «Не помню. Разве можно помнить, чем был в прошлой жизни, – быть может, устрицей или, скажем, птицей…»
Так же как женские образы в романе маркированы цветочной символикой, мужские обнаруживают связь с певчими птицами. В облике этих персонажей в первую очередь выделен голос. О поэте Подтягине говорится: «У него был необыкновенно приятный голос, тихий, без всяких повышений, звук мягкий и матовый». Звук голоса отражает характер поэтического дарования Подтягина, эпитет «матовый» отсылает к его стихам-картинкам, печатавшимся в журналах о живописи (см. приведенную выше цитату).
Образы птицы и цветка восходят к доминантной метафоре романа – «соловью и розе», отсюда их обязательное парное появление в тексте. Многократная пародийная проекция метафоры создает в романе вариативность пар. Приведу примеры. Машенька и Алферов. Алферов рассказывает за обедом:
«– Бывало, говорил жене: раз я математик, ты мать-и-мачеха…
– Одним словом, цифра и цветок, – холодно сказал Ганин».
Далее следует пародийное развитие темы: «Да, вы правы, нежнейший цветок… Прямо чудо, как она пережила эти годы ужаса. Я вот уверен, что она приедет сюда цветущая… Вы – поэт, Антон Сергеевич, опишите такую штуку, – как женственность, прекрасная русская женственность сильнее всякой революции, переживет все – невзгоды, террор…» Предлагаемая Подтягину тема – игровая отсылка к поэме Н. Некрасова «Мороз, Красный нос», к знаменитому гимну русской женщине: «Есть женщины в русских селеньях». Аллюзия реализуется в пределах мотива «женщина – цветок – цветение».
Идут они той же дорогой, Какой весь народ наш идет, Но грязь обстановки убогой К ним словно не липнет. Цветет Красавица, миру на диво…Набоковский отсыл к этой поэме Некрасова возвращается в текст романа: «Он (Ганин. – Н.Б.) никогда не видел ее (Машеньку. – Н.Б.) простуженной, даже озябшей. Мороз, метель только оживляли ее…»
Другую пародийную пару составляют в романе танцоры-гомосексуалисты, Колин и Горноцветов. Фамилия Горно-цветов предопределяет его роль цветка с фальшивой претензией на чистоту и непорочность. Черты его внешности – карикатурное отражение образа Машеньки. «Лицо у него было темное… длинные загнутые ресницы придавали его карим глазам ясное, невинное выражение, черные короткие волосы слегка курчавились, он по-кучерски брил сзади шею…» А у Машеньки «нежная смуглота», «темный румянец щеки, уголок татарского горящего глаза», «темный блеск волос», «черный бант на нежном затылке». Обращает внимание регистрация обоих персонажей со спины: Машеньки как образа прошлого, которому Ганин условно смотрит вслед, во взгляде на Горноцветова пародийно конституируется гомосексуализм танцора.
Образ Машеньки в романе связан с еще одним воплощением души – бабочкой. Ганин вспоминает, как «она бежала по шуршащей темной тропинке, черный бант мелькал, как огромная траурница…» Греческое слово Психея означает, как известно, «душа» и «бабочка». Образ бабочки не раз возникает в романе, в частности в эпизоде, когда Ганин и Машенька обмениваются письмами. «И было что-то трогательно-чудесное, – как в капустнице, перелетающей через траншею, – в этом странствии писем через страшную Россию». В потустороннем мире русского пансиона образ бабочки дан в пародийном воплощении: у госпожи Дорн «старая такса… с седою мордочкой и висячими ушами, бархатными на концах, как бахрома бабочки».
Черный бант-бабочка Машеньки трансформируется в пародийном образе Горноцветова в «пятнистый галстук», который тот «завязывал бантиком».
Колин, чья фамилия образует фонетическую параллель с фамилией Ганин, отличается сходством с ним, но реализованным с учетом пародийного сдвига. Танцор Колин носит грязный «японский халатик», а молодой поэт Ганин «умел, не хуже японского акробата, ходить на руках» – эта ремарка с иронией воплощает знаменитое высказывание Поля Валери: «Поэт – самое уязвимое существо на земле. В сущности, он ходит на руках».
У Колина «круглое, неумное, очень русское лицо». (Тогда как Ганин казался госпоже Дорн «вовсе не похожим на всех русских молодых людей, перебывавших у нее в пансионе».) Он – пародийное воплощение образа соловья. И тут следует отметить научную точность набоковской художественной детали. Одежда Колина: «грязный крахмальный воротничок», грязная нательная рубашка и пестрый халатик – воспроизводит окраску соловья: буроватую верхнюю часть тела и грязно-белую – нижнюю.
Колин «подпрыгивает с быстрой ножной трелью», танцоры говорят «с птичьими ужимками», Ганин замечает «голубиное счастье этой безобидной четы». В их «комнате тяжело пахло ориганом», танцоры натирают лицо и шею «туалетной водой, душистой до тошноты». Избыточный цветочный запах – пародийный вариант легкого, сладковатого аромата розы – символа любви, так же, как танец любви, который исполняют в финале романа танцоры («Как стучат эти скачущие юноши. Скоро ли они кончат плясать…» – думает Ганин), представляет собой пародию на песнь любви, исполняемую поэтом-певцом, главным героем романа. В свою очередь этот танец влюбленных в свете доминантных образов романа прочитывается как аллюзия на известный балет «Видение Розы», показанный труппой С. Дягилева в Париже впервые в 1911 году. Отсылка подкреплена несколькими условиями. Во-первых, сюжетом балета, который условно представляет зеркальное отражение сюжета романа (девушка засыпает в кресле, и во сне роза в ее руке превращается в юношу, с которым она проводит счастливую ночь и который с наступлением дня исчезает). Второе условие – декорации, которые были выполнены Л. Бакстом. Известна близость семьи Набокова художникам «Мира искусства». Л. Бакст написал портрет матери В. Набокова, а сам Набоков учился рисованию у М. Добужинского, – все это подтверждает гипотезу, что этот балет был известен писателю. И наконец, третье условие – музыка. «Видение Розы» было поставлено на музыку К. Вебера «Приглашение на вальс», сочинение, являющееся адресатом аллюзий в разных текстах Набокова.
Ведущие образы романа, птица и цветок, проступают, как водяные знаки, в маргинальных деталях «Машеньки», сохраняя игровое разнообразие вариантов. Приведу несколько примеров. Уходя от Людмилы, Ганин смотрит «на роспись открытого стекла – куст кубических роз и павлиний веер». В усадьбе, где он жил, «скатерть стола, расшитая розами», и «белое пианино», которое «оживало и звенело». В заключительной сцене романа Ганин выходит в утренний город и видит «повозку, нагруженную огромными связками фиалок…» и то, как «с черных веток спархивали… воробьи».
Символика соловья и розы, векторных образов текста, констатирует их причастность как реальному, так и потустороннему мирам, что не только оправдывает присутствие этих образов в двумирном пространстве романа, но и обеспечивает его сращенность. Ганину «казалось, что эта прошлая, доведенная до совершенства жизнь проходит ровным узором через берлинские будни».
4
Организация художественного пространства в романе «Машенька» заслуживает особого внимания. Представляется, что мир прошлого, России, и мир настоящего, Берлина, оказываются условно опрокинутыми друг в друга. «То, что случилось в эту ночь, то восхитительное событие души, переставило световые призмы всей его жизни, опрокинуло на него прошлое». В финале романа Ганин, пережив заново любовь к Машеньке, с рассветом покидает дом – прошлое и настоящее демонстративно размыкаются: «Все казалось не так поставленным, непрочным, перевернутым, как в зеркале. И так же как солнце постепенно поднималось выше и тени расходились по своим местам, – точно так же, при этом трезвом свете, та жизнь воспоминаний, которой жил Ганин, становилась тем, чем она вправду была, – далеким прошлым».
Однако на протяжении всего повествования романное пространство образует вертикальную структуру из двух повернутых друг к другу сфер (прошлого и настоящего), разделенных водной поверхностью, обеспечивающей их взаимное отражение. Роль водораздела исполняют в романе река, канал, море, слезы, зеркало, блестящий асфальт, оконное стекло и т. д.
Река, которая в прошлом Ганина связана с его любовью («Он ежедневно встречался с Машенькой, по той стороне реки…»), в стихах Подтягина – с Россией («Над опушкою полная блещет луна, / Погляди, как речная сияет волна»), в настоящем меняет смысловое содержание, из символа счастья становится символом его утраты. Вода приобретает значение границы между живым миром родины и потусторонним миром изгнания. Синонимом реки выступает море. Пересекая его, герой попадает в пространство мира теней. «Судно, на которое он (Ганин. – Н.Б.) попал, было греческое, грязное… заплакал толстоголовый греческий ребенок… И вылезал на палубу кочегар, весь черный, с глазами, подведенными угольной пылью, с поддельным рубином на указательном пальце». «Греческое судно» в контексте эмиграции Ганина прочитывается как отсылка к «Одиссее», герой которой в своем морском путешествии попадает и в «иной» мир. Образ «кочегара с рубином на указательном пальце» – аллюзия на «Божественную комедию» Данте. Пародийное сходство кочегара с бесом (а именно в поэме Данте Харон – бес, по переводу М. Лозинского: «А бес Харон сзывает стаю грешных, вращая взор, как уголья в золе…») придает путешествию Ганина смысл переправы через Ахерон.
Намек на Ахерон возникает в романе еще раз, когда Ганин и Подтягин идут в полицейское управление за паспортом. Подтягин, у которого наконец появляется надежда перебраться во Францию (в другую страну эмиграции; ср. у Данте: Ахерон отделяет второй круг ада от третьего), обращается к Ганину: «Вода славно сверкает, – заметил Подтягин, с трудом дыша и указывая растопыренной рукой на канал».
Сам эпизод хождения двух поэтов в полицейское управление, обстановка которого напоминает описание из III песни «Ада», – пародийная отсылка к «Божественной комедии». Там – старший поэт, Вергилий, сопровождает младшего, Данте, у Набокова – младший, Ганин, сопровождает старшего, Подтягина. Пародийное сходство Подтягина и Вергилия закреплено голосами. Вергилий появляется перед Данте осипшим от долгого молчания. Подтягин говорит «матовым, чуть шепелявым голосом». Вергилий – умерший поэт, Подтягин – еще живой человек, но как поэт – уже скончавшийся. Он говорит о себе Ганину: «Теперь, слава богу, стихов не пишу. Баста». Последнее итальянское слово – еще одна ироническая отсылка к Данте.
Водная граница – горизонтальное сечение вертикально организованного художественного пространства романа. Россия и прошлое оказываются погруженными на дно памяти / на дно воды. Такая организация пространства допускает предположение об отсылке произведения к «Легенде о граде Китеже». Условие погружения в воду реализуется в причастности к морскому дну разных персонажей романа. Подтягин «похож на большую поседевшую морскую свинку», Алферов говорит, что в прошлой жизни был, «возможно, устрицей», голос Машеньки дрожит в трубке, «как в морской раковине», в одном из писем к Ганину она восхищается стихотворением: «Ты моя маленькая бледная жемчужина».
Подтягин, глядя на сахар на дне стакана, думает, «что в этом ноздреватом кусочке есть что-то русское…» В комнате Клары висит «копия с картины Беклина “Остров мертвых”». Она появляется в разных набоковских романах. Известно по меньшей мере пять версий этой работы – условие, которое не прошло для Набокова незамеченным. Примечательно, что у этого полотна есть литературный источник – по предположению критиков, это Готфрид Келлер. В романе Набокова «Машенька» изображенный на картине остров становится синонимом русского пансиона, оставшегося над поверхностью воды, в которую погрузилась родина. Условие закреплено в топографии: одной стороной дом обращен к железнодорожному полотну, другой – на мост, отчего кажется, будто он стоит над водой. У Клары, чьи окна выходят на мост, впечатление, что она живет в доме, «плывущем куда-то».
Погружение на дно воды как вариант пародийного сюжетного хода несколько раз воспроизводится в романе. Ганин, уходя от брошенной любовницы, слышит, как «во дворе бродячий баритон ревел по-немецки “Стеньку Разина”». А в народной песне атаман Стенька Разин по требованию казаков бросает в Волгу полюбившуюся ему персидскую княжну.
Другой пример пародийного использования ситуации утопления: встреча Ганина и Машеньки в Петербурге, где фактически погибает их летняя любовь, «они встретились под той аркой, где – в опере Чайковского – гибнет Лиза».
Смерть, забвение, переход в статус прошлого воплощаются в произведении движением вниз.
Умирающий Подтягин чувствует, что падает «в бездну». Уход Ганина в эмиграцию, из Севастополя в Стамбул, воплощен в географическом маршруте вниз, на юг. Последняя встреча Ганина и Машеньки на площадке синего вагона кончается тем, что Машенька «слезла на первой станции», т. е. уходит вниз, становится воспоминанием.
Именно со дна памяти извлекает герой свое прошлое. Ганин наделен «зеркально-черными зрачками». Прошлое, в которое он так пристально всматривается, возникает как отражение, и из пространства дна / низа перемещается в высоту, над зеркальной поверхностью водной границы. «И вдруг мчишься по ночному городу… глядя на огни, ловя в них ослепительное воспоминание счастья – женское лицо, всплывшее опять после многих лет житейского забвения».
Воскресение образа Машеньки связано с его пространственным перемещением в высоту, т. е. по другую сторону зеркала. «“Неужели… это… возможно…” – огненным осторожным шепотом проступали буквы», повторяя в небе мысль Ганина о возвращении Машеньки в его жизнь. Увлеченный своим воспоминанием / отражением, сам Ганин как бы перемещается в центр этого воскрешенного прошлого, расположенного теперь в верхней части романного пространства. Мир Берлина, в свою очередь, смещается и кажется ему расположенным внизу. Ганин выходит пройтись по Берлину, «он… влез на верхушку автобуса. Внизу проливались улицы».
Мир родины и мир изгнания отражаются друг в друге. В усадьбе Ганина картинка: «нарисованная карандашом голова лошади, что, раздув ноздри, плывет по воде». В финале романа, укладывая в чемодан вещи, Ганин обнаруживает «желтые, как лошадиные зубы, четки». В беседке, во время знакомства с Машенькой, герой с досадой замечает, «что черный шелковый носок порвался на щиколотке». В Берлине среди вещей он находит «рваный шелковый носок, потерявший свою пару». Эффект отражения реализуется иногда в этом первом романе Набокова буквально. Например, «в зеркале прихожей он (Ганин. – Н.Б.) увидел отраженную глубину комнаты Алферова… и теперь страшно было подумать, что его прошлое лежит в чужом столе» – в этом столе лежит фотография Машеньки. Письменный стол Алферова, в котором «всплывает» прошлое Ганина: «громада с железной чернильницей в виде жабы и с глубоким, как трюм, средним ящиком…»
Пародийным указанием на вертикальную ось романного мира служат слова пьяного Алферова: «Я вот – вдрызг, – не помню, что такое перпе… перпед… перпендикуляр, – а сейчас будет Машенька…» Вертикальная организация пространства этого романа – структурный отсыл к поэме Данте. «Омытая» погружением в летейские воды, отсылка возвращается в другой набоковский текст: в романе «Защита Лужина» в кабинете героя «книжный шкап, увенчанный… Данте в купальном шлеме».
Движение вверх / вниз реализуется буквально в романе «Машенька» как механика начала и конца повествования. В первой сцене Ганин поднимается на лифте в пансион (этому соответствует в дальнейшем поднятие со дна памяти прошлого) – в финале герой спускается по лестнице вниз, покидает пансион, и его прошлое вновь опускается на дно памяти.
Вертикальное движение сюжета подъем / спуск проецируется на один из главных приемов поэтики романа. Он может быть сформулирован как снижение традиционного пафоса любовной лирики, патетических клише и параллельное возвышение / поэтизация категории простого, милого, естественного, оцениваемого как домашнее, будничное, родное. Одним из примеров снижения может служить уже приводимая выше сцена условного обретения героем души, происходящая на подоконнике «мрачной дубовой уборной». Во имя снижения патетики темы воскресения этот локус выбран автором как точка соприкосновения двух миров: русского и берлинского. В пансионе госпожи Дорн: «туалетная келья, на двери которой было два пунцовых нуля, лишенных своих законных десятков, с которыми они составляли некогда два разных воскресных дня в настольном календаре господина Дорна».
Наравне с этим в произведении осуществляется поэтизация «простенького», «родного»: бессмертие обретают «дешевенькие духи» Машеньки, «сладость из травяного стебля», «ландриновые леденцы», смешные глуповатые песенки, банальные сентиментальные стихи, да и само простенькое имя героини: «Ему (Ганину. – Н.Б.) казалось в эти дни, что у нее должно быть какое-нибудь необыкновенное, звучное имя, а когда узнал, что ее зовут Машенька, вовсе не удивился, словно знал наперед, – и по-новому, очаровательной значительностью, зазвучало для него это простенькое имя». Имя героини приобретает значение милой простоты, теплой естественности, трогательной нежности.
Вслед за Данте, Гёте, Соловьевым Набоков создал в своем романе образ Вечной Женственности, но в ее простенькой, милой, домашней ипостаси. И на этом уровне «Машенька» Набокова представляет лирическую антитезу «Стихам о Прекрасной Даме» А. Блока.
5
Несколько слов о цифровой символике романа. Цифровое присутствие сопряжено с маргинально воспроизведенной темой математики как науки земной, логической, противопоставляющей себя поэзии. «Я советую вам здесь остаться… – говорит Алферов Подтягину. – Это, так сказать, прямая линия. Франция скорее зигзаг, а Россия наша, та – просто загогулина. Мне очень нравится здесь… Математически доказываю вам, что если уж где-нибудь жительствовать…» Олицетворяет в романе математику Алферов, который с Машенькой образует пару: «цифра и цветок». Мотив чисел соперничает, таким образом, с мотивом соловьиной песни, обнаруживая поэтическое содержание цифровых знаков.
Приведу примеры.
Девять. Встреча Ганина и Машеньки произошла «девять лет тому назад». И, погружаясь в воспоминания, Ганин снова стремится приблизиться к образу Машеньки «шаг за шагом, точно так же, как тогда, девять лет тому назад». Девять – число Беатриче, первой любви Данте, число, символизирующее любовь. Отсыл к Данте подкреплен следующими цифровыми примерами. Беатриче умирает в возрасте 25 лет. Ганин полюбил Машеньку, когда им обоим было по 16 лет. Через девять лет Машенька приезжает в Берлин, но в утро ее приезда герой понимает, что она фактически умерла для него, сделалась «далеким прошлым».
25 лет – роковой возраст и для других героинь романа. Людмила (ей 25 лет) после слов Ганина о разрыве «лежала как мертвая». Клара говорит, что по телефону «у нее был загробный голос». Кларе в последнюю ночь романа исполняется 26 лет, и она остается вместе с другими обитателями пансиона в «доме теней».
Пять – число, традиционно связанное с розой, символизирующее ее пять лепестков. Пять в романе – цифра Машеньки. Ганин хранит ее «пять писем». Узнав о ее приезде, Ганин видит, как в небе «огненным осторожным шепотом проступали буквы… и остались сиять на целых пять минут…» Он выходит на улицу и замечает «пять извозчичьих пролеток… пять сонных… миров в купеческих ливреях…» Воскресение образа Машеньки ощущается героем как собственное воскресение, знаком которого служит возвращение пяти чувств[150].
Семь. «Семь русских потерянных теней» обитают в берлинском пансионе. Причастность персонажей миру потустороннему прочитывается как отсылка к семи смертным грехам. Цифра «семь», с которой связана полнота человеческого образа, приобретает в воплощении этого произведения очевидный пародийный смысл.
Роман длится семь дней, замкнутый цикл, неделю, время сотворения мира. Упомяну приводившуюся выше цитату о том, что Ганин «был богом, воссоздающим погибший мир». Семь, число законченного периода, принято связывать с переходом к новому, неизвестному, открытому, каким и видит свой дальнейший путь Ганин.
Семнадцать — число глав романа. В них укладывается воскрешенный и прожитый заново роман с Машенькой. В финале эта полная живая жизнь кажется герою исчерпанной до конца: «он до конца исчерпал свое воспоминание, до конца насытился им…» Представляется, что Набоков заимствует символику числа 17 у древних римлян, считавших его роковым. Цифры, его составляющие, при переводе в буквы и перестановке: XVII–VIXI – значат на латыни: «я жил». Именно таково смысловое содержание романа «Машенька».
6
В финале произведения Ганин покидает русский пансион, уезжает из Берлина. «Он выбрал поезд, уходивший через полчаса на юго-запад Германии… и с приятным волненьем подумал о том, как без всяких виз проберется через границу, – а там Франция, Прованс, а дальше – море». Еще ранее в разговоре с Кларой он говорит: «Мне нужно уезжать… Я думаю в субботу покинуть Берлин навсегда, махнуть на юг земли, в какой-нибудь порт…» Каков же смысл ганинского маршрута, на юг земли, к морю, в порт?
Еще до воспоминаний о Машеньке Ганин, «испытывая тоску по новой чужбине», отправляется гулять по Берлину: «Подняв воротник старого макинтоша, купленного за один фунт у английского лейтенанта в Константинополе… он… пошатался по бледным апрельским улицам… и долго смотрел в витрину пароходного общества на чудесную модель Мавритании, на цветные шнуры, соединяющие гавани двух материков на большой карте».
Описанная картинка содержит скрытый ответ: цветные шнуры маркируют его маршрут: из Европы – в Африку. Ганин, молодой поэт, ощущает себя литературным потомком Пушкина. Пушкин и есть неназванный Вергилий Набокова, чье имя, как и главный образ романа, зашифровано посредством аллюзии.
Фамилия героя – Ганин – фонетически возникает из имени пушкинского знаменитого африканского предка – Ганнибал (другой смысл имени см. выше)[151]. Знаменательна в этом контексте научная подробность ведущего образа романа, соловья, символа певца любви, поэта, т. е. самого Ганина. «Общеизвестны два европейских вида соловья: восточный и западный. Оба вида зимуют в Африке». Путь Ганина в обратном направлении повторяет путь Ганнибала: Россия – Константинополь / Стамбул – Африка. Остановка в Берлине осознается героем как тягостная пауза. Тоска Ганина «по новой чужбине» и предполагаемый маршрут – аллюзия на стихи Пушкина:
Придет ли час моей свободы? Пора, пора! – взываю к ней; Брожу над морем, жду погоды, Маню ветрила кораблей. Под ризой бурь с волнами споря, По вольному распутью моря Когда ж начну я вольный бег? Пора покинуть скучный брег Мне неприязненной стихии, И средь полуденных зыбей, Под небом Африки моей, Вздыхать о сумрачной России, Где я страдал, где я любил, Где сердце я похоронил.Эта 50-я строфа из первой главы «Евгения Онегина», а также сделанное к ней примечание Пушкина о своем африканском происхождении стали много лет спустя объектом исследования Набокова. Оно опубликовано в качестве первого приложения к «Комментариям» и переводу «Евгения Онегина»[152]. Составившие работу научные разыскания были сделаны Набоковым, конечно, позднее, однако его интерес к Пушкину наметился в ранней юности, а внимательное всматривание / вчитывание в произведения и биографию поэта совпадают, по крайней мере, с выбором собственного писательского пути.
Отсюда в образе Ганина, героя первого романа Набокова, молодого поэта, духовного потомка Пушкина, возникают знаки биографии знаменитого пушкинского предка. Вспомним принцип зеркального отражения прошлого и настоящего в «Машеньке». Так, у Ганина «два паспорта… Один русский, настоящий, только очень старый, а другой польский, подложный». Ср.: Абрама Ганнибала крестили в 1707 году. Крестным отцом его был Петр I, а крестной матерью – жена польского короля Августа II[153].
Потаенное пушкинское присутствие проявляется и в метафоре-доминанте романа. Возможно, сюжет стихотворения «Соловей и роза» Фет заимствовал не непосредственно из ориентального источника[154], а у Пушкина. (См. его стихи «О дева-роза, я в оковах», «Соловей»[155].) Симптоматично, что отсылка к Пушкину содержит наряду с мужским и женский центральный образ романа. Например, описание Машеньки в упомянутых выше свиданиях влюбленных зимой: «Мороз, метель только оживляли ее, и в ледяных вихрях… он обнажал ей плечи… снежок осыпался… к ней на голую грудь», – прочитывается как отсылка к героине стихотворения Пушкина «Зима. Что делать нам в деревне?».
И дева в сумерки выходит на крыльцо: Открыта шея, грудь, и вьюга ей в лицо! Но бури севера не вредны русской розе. Как жарко поцелуй пылает на морозе!Так, именно пушкинские строки, в свою очередь, служат указанием на скрытый, неназванный образ Машеньки – розы.
Обнаружение адресата набоковской аллюзии (маршрут героя – маршрут Ганнибала) чрезвычайно важно для взгляда на структуру романа. Автор одной из лучших статей о «Машеньке», Ю. Левин, отмечал «нестрогую рамочную конструкцию» произведения, «где вложенный текст – воспоминания героя – перемешан с обрамляющим – жизнь героя в Берлине».
Представляется, однако, что истинная рамка романа «Машенька» построена Набоковым гораздо искуснее. Ее роль исполняет пушкинский текст. Первый роман молодого литератора начинается эпиграфом из 47-й строфы первой главы «Евгения Онегина» («…Воспоминая прежних лет романы, / Воспоминая прежнюю любовь…») и заканчивается аллюзией на 50-ю строфу первой главы пушкинского романа в стихах:
Под небом Африки моей, Вздыхать о сумрачной России, Где я страдал, где я любил, Где сердце я похоронил.Глава III Роман-вальс «Король, дама, валет»[156]
Однообразный и безумный,
Как вихорь жизни молодой,
Кружится вальса вихорь шумный;
Чета мелькает за четой.
А. Пушкин. «Евгений Онегин»[V. XLI. 1–4]Второй роман Набокова-Сирина «Король, дама, валет» был напечатан через два года после первого, но в отличие от «Машеньки», показавшейся критикам романом бесхитростным и традиционным, он удивил публику новаторством и оригинальностью. Остроту эксперименту придавало использование расхожего литературного сюжета, воспроизведенного в сниженном варианте бульварного романа. Исследователи заметили в произведении пародию, в первую очередь, на «Анну Каренину» и «Мадам Бовари». Эта мысль в критике держалась довольно устойчиво, но такое прочтение оставляет в стороне сложный художественный механизм романа. Справедливым кажется общее указание на пародию, но она осуществлена здесь Набоковым не только на внешнем сюжетном уровне, но и на скрытом, глубинном уровне структуры произведения.
1. Музыкальная модель
Роман В. Набокова «Король, дама, валет» является своеобразным продолжением опыта, осуществленного в русской литературе Андреем Белым, его четырьмя «Симфониями», эпическим повествованием, написанным по принципу музыкального контрапункта. Образцом для своего произведения Набоков также избрал музыкальную модель – танец, вальс – и литературно воспроизвел его композиционную схему и структурную организацию.
В контексте обиходной жизни и в сопоставлении с ней танец представляет действие развлекательное, игровое и искусственное. Движение осуществляется чередованием фигур, набор которых заранее определен, а порядок повторяем.
Оно подчинено звуковому сигналу, музыкальному сопровождению, определяющему его размер и темп. Как известно, музыка каждого танца имеет свою ритмическую фигуру, которой соответствует фигура танцевальная. Ритмическая зависимость движения от звукового сопровождения, его хореографическая запрограммированность придает танцу характер автоматизма. А неестественность танцевального шага по отношению к бытовой ситуации оценивается как его искусственность.
Между тем соблюдение правил танца выполняется участниками с немалой долей энтузиазма, что объясняется его социальной и психологической развлекательной функцией.
Аналогом танца выступает игра, поэтому его правила воспринимаются участниками как правила игры.
В парном танце, в частности в вальсе, игровая ситуация возникает уже при образовании пар. Танцевальная пара воспроизводит жизненную модель, соединение партнеров в танце легко прочитывается как игровая имитация любовных пар.
Графика движения в вальсе определена кружением пар «вокруг себя» (см. значение немецкого слова «walzen» и латинский эквивалент «volvere») и – по кругу. Это двойное кружение организует структуру танца. Она возникает из кружения внутреннего (головокружения), воспроизводимого хореографически и переживаемого танцорами эмоционально, и кружения внешнего – по общему маршруту вальса. При этом внешнее представляет крайний круг расходящегося кружения внутреннего, чей центр условно расположен в каждом из партнеров, а значит, вальсовые круги определяются его точкой зрения.
Отсюда следует, что головокружение является организующей вальс фигурой. Ее семантическая характеристика – exstasis, т. е. качественный скачок, мгновенный переход из одного состояния в другое. Фигура экстаза в литературе и искусстве блестяще разработана в сочинении С. Эйзенштейна «Неравнодушная природа»[157]. Транзитивное свойство головокружения проецируется в структуру романа, превращает ее в структуру экстатическую.
2. Игра как прием
Вальс в истории танца отличается устойчивой популярностью, как, впрочем, и сюжет, выбранный для этого романа Набоковым. Вальс возник в предместьях Вены в середине XVII века. Его принято считать танцем немецким и, хотя он был допущен на балы Европы, простонародным. Как пишет Ю. Лотман в Комментариях к роману «Евгений Онегин», вальс в двадцатых годах девятнадцатого века пользовался репутацией непристойного, излишне вольного танца. В расписании бала – он был вторым по счету. И набоковский выбор модели вальса для своего романа прочитывается как изящная структурно-историческая аллюзия на текст «Евгения Онегина» и пушкинскую эпоху.
Немецкая и городская природа вальса закреплена в произведении. Действие происходит в буржуазной городской среде в Берлине, впрочем, нигде не названном, а только означенном словом «столица», чья национальная принадлежность предлагается к узнаванию по целому ряду признаков. «Столица… В самом названии этой незнакомой еще столицы, – в увесистом грохоте первого слога и в легком звоне второго, – было для него что-то волнующее».
Такое умышленное неназывание имени города можно объяснить нулевым значением точного места действия романа. Однако последовательное перечисление характерных черт Берлина предполагает прием загадывания, камуфлирования смысла, литературную игру, которая в произведении является отражением игровой, развлекательной природы танца. Фактически такое приглашение читателя к узнаванию предполагает реализацию условия «работы» метафоры.
Прием игры делается одним из главных, моделирующих художественное пространство в «Короле, даме, валете». С его помощью романный мир утверждается на одном уровне как игра в жизнь, а на другом – как игра в роман.
Примеров игры в жизнь в произведении множество: постоянно подчеркивается игра Драйера в жизнь, которая, в сущности, составляет для него забавное развлечение (Драйеру кажется, что «мир, как собака, – стоит, служит, чтобы только поиграли с ним»), изобретение движущихся манекенов, в подражание Творцу («Тайна… движения (манекенов. – Н.Б.) лежала в гибкости вещества, которым изобретатель заменил живые мускулы, живую плоть»), разыгрывание вариантов убийства Драйера в воображении и разговорах Марты и Франца (например, сценарий убийства в лесу. Герои разыгрывают два его варианта). Наконец, весь мир романа с его персонажами оказывается игрой сумасшедшего старика, возомнившего себя фокусником Менетекелфаресом («…Он (старик-хозяин. – Н.Б.) отлично знал, что все эти люди – Франц, подруга Франца, шумный господин с собакой и даже его же, Фаресова, жена, тихая старушка в наколке (а для посвященных – мужчина, пожилой его сожитель, учитель математики, умерший семь лет тому) – все только игра его воображения, сила внушения, ловкость рук»).
Имя старика – игровая отсылка к эпизоду из Ветхого завета. Оно сплавлено из трех слов: «Мене», «Текел», «Фарес» («Исчислено», «Взвешено», «Разделено»), – появляющихся на стене во время пира царя Валтасара, на котором царь и его вельможи пьют из священных сосудов, вынесенных из Иерусалимского храма (Книга Пророка Даниила, гл. V. 16.27.28).
Аргументами в пользу второго тезиса – игры в роман – служат излагаемые ниже наблюдения. Их цель – доказать, что «Король, дама, валет» – не только литературное произведение, написанное в танцевальном жанре, вальсе, чьим сюжетом становится вращательное движение пар, но также – своеобразный литературный танец, исполняемый в хорошо знакомом читателю жанре романа.
Игра в роман начинается с заглавия «Король, дама, валет», которое в критике часто интерпретируется как «вечный треугольник». Представляется, однако, что заглавие служит указанием, во-первых, на тройной счет вальса, который устойчиво сохраняется на протяжении всего повествования. Он реализуется стилистической фигурой тройного повтора, чрезвычайно распространенной в романе. Несколько примеров: Марта понимает, что Франц неминуемо станет ее любовником: «Все стало как-то сразу легко, ясно, отчетливо. Она с удовольствием выругала Фриду за то, что пес наследил на ковре; она съела кучу мелких сандвичей за чаем; она деловито позвонила в кассу кинематографа, чтобы оставили ей два билета на премьеру…» Еще пример: вагон второго класса был для Франца «как рюмка густого белого кюрасо, как трехминутная поездка в таксомоторе, как тот огромный помплимус, похожий на желтый череп, который он как-то купил по дороге в школу».
Во-вторых, заглавие произведения служит указанием на ведущий прием поэтики в романе, прием игры – карты выступают ее символом. Интерес к вальсу обнаруживается в творчестве Набокова и позднее. В 1938 году, через десять лет после романа, он написал пьесу «Изобретение Вальса». Игровой ход в ней заключался в обманности очевидного: вальс в пьесе не танец, а фамилия героя. Но Сальвадор Вальс – не только автоаллюзия на «Короля, даму, валета», но и пародийная отсылка к героине романа А. Тарасова-Родионова «Шоколад» – Елене Вальц, балерине, служащей в ЧК. Советский писатель А. Тарасов-Родионов встречался с Вл. Набоковым в Берлине в декабре 1931 года и уговаривал его вернуться на родину. Пародийные аллюзии к роману Родионова-Тарасова «Шоколад» Набоков выстроил и в «Отчаянии», напечатанном через год после его встречи с советским коллегой.
Отсылка к вальсу возникает еще раз у Набокова в названии романа, созданного в 1934 году, «Приглашение на казнь», которое служит пародийным перепевом названия известного сочинения Карла Вебера «Приглашение на вальс», что подкреплено в самом тексте романа сценой из гл. I, когда в камеру к Цинциннату входит тюремщик Родион и предлагает ему тур вальса: «Цинциннат согласился. Они закружились».
В произведении «Король, дама валет» танец не только определяет структуру, но и образует важный тематический сквозной мотив романа. Он возникает в самом начале первого визита Франца к Драйерам. Марта с раздражением думает о муже: «Он танцует плохо. Он всегда будет танцевать плохо. Он не любит танцевать». Мысль возникает у Марты внезапно, формулируется как приговор и утверждается как неизменное, но обязательное условие предчувствуемого будущего развития сюжета. Стилистически она подкреплена тройным повтором, еще одним скрытым указанием на размер вальса.
Танец в романе – метафора любовной страсти, которая возникает между Мартой и Францем. По мере развития сюжета мотив танца набирает темп: «Когда же, под напором ее ладони, он научился кружиться, когда наконец его шаги стали отвечать ее шагам, когда в зеркале она мимоходом заметила не кривой урок, а гармонический танец, тогда она ускорила размах, дала волю нетерпеливому волнению и сурово порадовалась его послушной быстроте».
Мотив танца достигает апогея в одной из финальных сцен, в курортном ресторане. В этом последнем танце участвует одна Марта, все еще одержимая своей страстью; Франц, который ее разлюбил, и Драйер, которого она не любит, неподвижны. Их кружение остановлено. Охваченная все ускоряющимся темпом, Марта впадает в состояние бреда, наступают ее болезнь и смерть. Таким образом, все трое покидают круг вальса.
Тема танца развивается в романе по экстатической схеме: сцены нанизываются по принципу эмоционального возрастания, пока наконец тема не достигает качественного скачка, – танец Марты трансформируется в смерть, Франца – в смех.
Другой, смежный тематический мотив образует музыка. Она появляется в повествовании как звуковое сопровождение действия, чем дополнительно подчеркивает его танцевальный характер. Участвует в сцене, как правило, пара. Из описания любовного свидания Марты и Франца: он трогал ее «скорыми, как бы музыкальными прикосновениями». Из сцены встречи Драйера с его бывшей подругой Эрикой: «Одновременно говорила и она, так что этот разговор трудно записать. Надобно бы нотной бумаги, два музыкальных ключа».
В понятие музыки включены разные звуки: жужжание, хруст, звон… Из сцены посещения Францем дома Марты: «Тогда-то начиналась музыка… Всегда было то же самое: жужжание калитки, сырое дыхание газона, хруст гравия, звонок, улетающий в дом в погоню за горничной… и вдруг – жизнь, нежный гром музыки из трубы радио…» Звуковой пассаж строится в форме музыкального вступления к сцене встречи с возлюбленной, но внезапно он завершается заземляющим аккордом, образом радио, прозаической конкретизацией темы. Это придает всему отрывку оттенок пародийности.
К проявлению приема игры в романе можно отнести всевозможные загадки, над которыми ломают голову герои и ответы на которые даются в тексте позднее. Моделью для выстраивания пародии служат, по-видимому, публикации шарад, загадок, крестословиц в популярных газетах и журналах и ответов на них в последующих номерах. Так, в качестве задачи предлагается тема – убийство нелюбимого мужа. Варианты ее сюжетных решений разрабатываются и отвергаются героями один за другим: «Слова “пуля” и “яд” стали звучать столь же просто, как “пилюля” или “яблочный мусс”. Способы умерщвления можно было так же спокойно разбирать, как рецепты в поварской книге». Подходящий ответ находится неожиданно, по образцу загадки. «Одно слово “вода” все разрешило. В ключе к сложнейшей задаче нас поражает именно его простота, его гармоническая очевидность, которая открывается нам лишь после нескладных искусственных попыток. По этой простоте Марта и узнала разгадку. Вода. Ясность. Счастье».
Однако не всегда нужное слово декларируется как ответ. Оно произносится в тексте, но обнаружить его разрешительную способность предлагается читателю в качестве очередного игрового упражнения. Так, Францу снится повторяющийся сон: «Драйер медленно заводил граммофон, и Франц знал, что сейчас граммофон гаркнет слово, которое все объяснит и после которого жить невозможно». Но песня продолжалась, и «Франц вдруг замечал, что тут обман, что его хитро надувают, что в песенке скрыто именно то слово, которое слышать нельзя, – и он с криком просыпался…»
В уже упомянутой сцене в курортном ресторане ситуация воспроизводится повторно, только на этот раз песенку слушает Драйер (ср.: смена точек зрения в парном танце, указанная ниже). Он, согласно сну, знает ответ и выделяет в тексте ключевое слово: «Драйер… слушал сильный голос певицы, нанятой дирекцией. Певица небольшого роста, плотная, невеселая, надрываясь, орала, приплясывая: “Монтевидэо, Монтевидэо, пускай не едет в тот край мой Лэо…” …и с тоской Драйер вспоминал, что этот “Монтевидэо” он слышал и вчера, и третьего дня…» В тексте выдержано соответствие повторяемости сна-загадки и сна-ответа. Витальность слова-решения абсурдируется. Им оказывается имя столицы далекой страны, в котором, по принципу словесной игры, размещено другое слово – название гостиницы, где Франц провел свою первую ночь в столице и где поселился «синещекий» изобретатель движущихся манекенов, тоже приехавший попытаться найти свое счастье.
Ответ загадки простой: столицей оказывается место, где визуализируются провинциальные мечты. По такому же принципу не назван в романе Берлин, где важнее имени города его столичный статус. Тема зримого воплощения мечты возникает и в романе «Камера обскура». Решение темы и во втором романе, и в четвертом, как всегда у Набокова, неожиданно: желаемое осуществляется, но в своей жизненной полноте оно включает черты, не предусмотренные мечтой, которые и превращают ее в кошмар. Невеселые причитания певицы косвенно адресуются Францу. Словесная игра, сближающая содержание произведения с затертой песенкой, служит пародийным указанием на демонстративную банальность выбранного сюжета.
3. Экстатическая структура
Как было сказано выше, вальс, по модели которого построен роман, представляет собой ритмизированное вращательное движение пар, осуществляемое по экстатической структуре. Головокружение – организующая текст доминанта. Герои часто испытывают его. Франц: «Головокружение стало для него состоянием привычным и приятным, автоматическая томность – законом естества…» Драйер: «Было что-то такое в воздухе, от чего забавно кружилась голова…» Именно головокружение нанизывает вальсовые круги действия на возрастающую темпа, пока наконец не происходит переход в другое состояние.
Произведение начинается в момент рождения движения – отъезда героя в столицу, в момент качественного скачка: «Огромная черная стрела часов, застывшая перед своим ежеминутным жестом, сейчас вот дрогнет, и от ее тугого толчка тронется весь мир…» Примечательно, что возникающему движению придается вращательный танцевальный характер: «…люди, люди, люди на потянувшейся платформе, переставляя ноги и все же не подвигаясь, шагая вперед и все же пятясь, – как мучительный сон, в котором есть и усилие неимоверное, и тошнота, и ватная слабость в икрах, и легкое головокружение, пройдут, отхлынут, уже замирая, уже почти падая навзничь…»
От первых и до последних страниц кружение разворачивается все шире, все быстрее, вовлекая практически всех героев. Сцены построены хореографически и исполняются парой или несколькими парами одновременно. Танцем является «фантастический урок» торговли, который дает ночью Драйер своему племяннику. Он вводит его в огромный пустой магазин, как в танцевальный многолюдный зал: «Драйер взял его под руку и молча подвел к одной из пяти, в ряд сиявших, витрин. В ней, как в оранжерее, жарко цвели галстуки, то красками переговариваясь с плоскими шелковыми носками, то млея на сизых и кремовых прямоугольниках сложенных рубашек… Но Драйер не дал Францу засмотреться; он быстро провел его мимо остальных четырех витрин: чередой мелькнули: оргия блестящей обуви, фата-моргана пиджаков и пальто, легкий полет шляп, перчаток, тросточек…»
Танец – прогулка Франца по ночным улицам столицы. От нее у героя, как от вальсового кружения, возникает ощущение «головокружительной, геометрической разноцветности». Его партнершами в этом своеобразном танце становятся уличные женщины: «…на каждом углу, как знак небывалого счастья, стояла светлоногая женщина, – но времени не было заглянуть ей в лицо, уже звала вдали другая, за нею – третья…»
Вернувшись домой, Франц чувствует себя как после танцевального вечера: «Он провел ладонями по своим теплым мохнатым ногам, вытянулся со странным ощущением кружения и легкости». По схеме танца разрабатываются варианты намечаемого убийства Драйера, игра в теннис, демонстрация манекенов.
В кружении вальса участвуют животные: «Том и такса, оба желавшие друг дружку понюхать под хвост, довольно долго вращались на одном месте»; насекомые: «…стекляшками кружились мухи, садясь все на то же место»; деньги: «…деньги, находящиеся в постоянном плодотворном вращении, движутся по инерции и движутся быстро…»; гости в доме Драйера превращаются в «одно слитное веселое существо… кружащееся вокруг самого себя»; кружатся предметы: «Белоснежный стол на оси хрустальной вазы описал медленный круг», «багровая фабрика закружилась и отошла»; в автобусе «кружащаяся лесенка». Вальсовая структура своеобразно реализуется Набоковым в буквальном прочтении фразеологизмов. Например, «круглые сутки», «круговорот дел», «оборотни случая».
Общее кружение, в котором участвуют в романе персонажи и предметы, прочитывается как аллюзия на стихотворение В. Бенедиктова «Вальс».
Все блестит: цветы, кенкеты, И алмаз, и бирюза, Ленты, звезды, эполеты, Серьги, перстни и браслеты, Кудри, фразы и глаза. Все в движенье: воздух, люди. Блонды, локоны, и груди, И достойные венца Ножки с тайным их обетом, И страстями, и корсетом Изнуренные сердца.Всеохватывающий танец превращает пространство романа в огромный курзал, традиционно декорированный зеркалами. Впечатление от интерьера регистрируется в ощущениях героев, в часто испытываемом чувстве «головокружительной зеркальности». Герои непрерывно смотрятся в зеркала, отражаются в них, в зеркалах продолжается их движение. «Драйер решил подождать Марту. В зеркале отражалась его широкая спина… Он быстро обернулся, будто почувствовал, что кто-то смотрит на него, отодвинулся, и в зеркале остался только ярко-белый угол накрытого стола…» Марта: «В зеркале отразилось ее зеленое платье, нежная шея… Она даже не почувствовала, что зеркало на нее глядит…» Франц «познал одуряющий паркетный разлив огромных зал… Он увидел себя и Марту в пресыщенных зеркалах». Роль зеркал исполняют разные отражающие поверхности: Драйер «щурился от неожиданных белых молний, которые отскакивали от передних стекол проезжающих автомобилей», «…но что поделаешь, когда недавняя жизнь человека еще отражена на всяких предметах, на всяких лицах…»
В этом сказывается пародийная установка на игру зеркальных отражений в «Петербурге» Андрея Белого, при помощи которой создается мистическое апокалиптическое пространство.
Так же как и вальс, роман «Король, дама, валет» представляет законченный экстатический период. Он начинается с рождения движения (см. приведенную выше цитату), т. е. качественного скачка, и завершается другим – переходом движения в звук.
В финале Франц, измученный страхом, что Марта выживет, возвращается в гостиницу у моря и узнает о ее смерти. Он идет в свой номер: «Приложив ладонь ко рту, чтобы как-нибудь удержать смех, душивший его… Смех наконец вырвался. Он рванул дверь своей комнаты. Барышне в соседнем номере показалось спросонья, что рядом, за стеной, смеются и говорят, все сразу, несколько подвыпивших людей».
Exstasis (переход из одного состояния в другое), как организующая фигура вальсового движения, разрабатывается Набоковым на разных уровнях текста. Можно выделить три основные функции «перехода» в романе.
Первая – exstasis как самостоятельная ситуация. Так, «Драйер нашел фиолетовую ленточку в книге, заложил страницу и, выждав секунды две, как будто не мог сразу перейти из одного мира в другой…» Франц переходит из вагона третьего класса в вагон второго: «Так в мистерии, по длинной сцене, разделенной на три части, восковой актер переходит из пасти дьявола в ликующий парадиз». Переход из провинциального мира в столичный, который осознается героем как сон: «Франц в то утро… не проснулся действительно, а только перешел в новую полосу сна».
Вторая функция – реализация качественного изменения: например, превращение случайно купленного портрета в фамильный портрет, живого Франца – в автомат, манекенов – в живых людей, спящего Франца – в мертвеца, подвижного Драйера – в труп.
Третья функция – переход от одной точки зрения к другой. В их постоянной смене художественно воплощается ритмизированная очередность, с которой перед наблюдающим вальс (в данном случае читателем) возникают лица танцующих. Приведу несколько примеров. Франц во сне видит «Марту, сидевшую на краю постели. Он быстро подошел… и уже почти прикоснулся к ней, но вдруг не сдержал вскипевшего блаженства.
Марта вздохнула и открыла глаза. Ей показалось, что ее разбудил близкий шум. Действительно, на соседней постели особенно развязно храпел ее муж».
Еще пример. Марта показывает Францу полученную от мужа фотографию: «На снимке улыбался Драйер, в лыжном костюме, с палками в руках, и лыжи лежали параллельно, и кругом был яркий снег, и на снегу – тень фотографа.
Когда фотограф – свой брат лыжник щелкнул и разогнулся, Драйер, продолжая сиять, двинул вперед левую лыжу… лыжа скользнула дальше, чем он предполагал, и, взмахнув палками, он довольно грузно повалился на спину».
Третий пример: Франц стоит перед дверью комнаты, где умирает Марта. Ему «опять показалось, что он услышал бормотание Марты, быстрый рокот бреда… он повернулся… поспешно ушел. Бред остался в полутемной комнате.
И по волнам, по мелким круглым волнам… Марта плыла в белой лодке, и на веслах сидели Драйер и Франц».
Во всех этих примерах при смене точки зрения ситуация качественно преображается: 1 – из сна в явь, 2 – от изображения к изображаемому, 3 – из реальности в бред. Переход оказывается двойным.
Многие критики в поисках литературного влияния сопоставляли творчество Набокова и Джойса. Не входя в споры, приведу отрывок из лекции Набокова о Джойсе. Постоянно меняющуюся доминанту стиля в романе Джойса Набоков объяснял свойством его литературной оптики, которая создается смещением точки зрения. В доказательство писатель привел эксцентричный пример:
«…постоянная смена точки зрения разнообразит знание и позволяет смотреть на предмет свежим взглядом с разных сторон. Постарайтесь наклониться и снизу посмотреть назад между коленями – вы увидите мир в совершенно ином свете… Этот трюк с изменением взгляда, изменением угла и точки зрения можно сравнить с новой литературной техникой Джойса…»
Эта сцена задолго до этих лекций воспроизведена молодым Набоковым в романе «Король, дама, валет» и служит автопародией на собственные поиски в области художественной оптики, в частности освоения приема смены угла зрения. Цитирую: «Когда около десяти вернувшись домой, Франц на цыпочках проходил по коридору, он услышал глухое хихиканье за хозяйской дверью. Дверь была полуоткрыта… Старичок хозяин, в одном нижнем белье, стоял на четвереньках и, нагнув седовато-багровую голову, глядел – промеж ног – на себя в трюмо».
4. Повторяемость и парность
Повторяемость вальсовых фигур, свидетельствующая о лимитированности вальсового набора и об упорядоченности кажущегося свободным вальсового движения, является одним из важных признаков романной структуры. Почти каждая сцена разыгрывается в произведении дважды. Например, приезд Франца на поезде в столицу в начале романа и в конце – перед смертью Марты. В обоих случаях регистрируется один и тот же момент – въезд в вокзал. Экскурс в историю преступлений, который совершают Марта и Франц, а также Драйер и изобретатель. Марта и Франц подыскивают способ убиения Драйера. Драйер и изобретатель – способ оживления манекенов.
Повторяемостью наделены и детали. В частности, гостиница «Видео», где останавливаются сначала Франц, а потом – изобретатель. Оба приезжают в столицу для осуществления своей мечты. Дважды возникает счастливое число 21: в номере такси, на котором уезжает Драйер («22221»), и на дверях комнаты в гостинице, где умирает Марта. Счастливое число прочитывается как пародийный отсыл к карточной игре, в которой 21, очко, считается выигрышным. Репетитивны в романе и образы. Так, например, лицо случайного попутчика в поезде и лицо манекена. Глядя на манекен, Франц «пробовал вспомнить, где он уже видел такое лицо. Да, конечно, давным-давно, в поезде». И еще: «Иностранка в синем платье и загорелый мужчина в старомодном смокинге… они мелькали как повторный образ, как легкий лейтмотив…». Набоков говорил, что изобразил в этой паре себя и Веру.
Содержание повторяемости как свойства вальсовой структуры произведения по-настоящему выявляется только в свете его смыслового назначения, тесно связанного с движением пар. Замечу, что репетитивность вальса, воплощенная в повествовании, является одновременно отсылкой к пушкинскому определению этого танца в «Евгении Онегине»:
Однообразный и безумный, Как вихорь жизни молодой, Кружится вальса вихорь шумный; Чета мелькает за четой.Другим текстом-адресатом служит поэма Баратынского «Бал».
Но вернемся к кружению и возникновению пар в романе. Пара является основной сюжетной и структурной единицей в произведении. Развитие сюжета в «Короле, даме, валете» осуществляется образованием и движением пар, на которые разбивается «вечный треугольник». Знакомство Франца с семейством Драйера (они возникают впервые как пара в купе) приводит к формированию новых пар: Марта – Франц и Франц – Драйер. Пародийно-эротический смысл второй пары зарегистрирован в сцене переодевания Франца перед игрой в теннис: «Драйер, пыхтя от нетерпения, боясь, что вот, сейчас, раздуется в небе дождевая туча, помчал его наверх (в спальню. – Н.Б.) и выдал ему пару белых фланелевых штанов. Подбоченясь и склонив голову набок, он с тревогой смотрел, как Франц переодевается… Франц был в бледно-лиловых кальсонах. Ужас длился. Было невыносимое мгновение, когда он прыгал на одной ноге, натягивая на другую штанину, меж тем как Драйер делал смутные движения протянутой рукой, точно хотел помочь… Драйер облегченно усмехнулся: штаны оказались впору. Он взял Франца за локоть, повернул его так и этак и ладонью плотно хлопнул его по заду».
Пары возникают поочередно, в секрете одна от другой, но совершают практически аналогичные сюжетные круги. Урок танцев: Марта – Франц, и урок торговли: Драйер – Франц; свидания Франца и Марты в квартире Франца и свидания Франца и Драйера в магазине последнего; их игра в теннис и танцы Марты и Франца в курзалах. Однако движение пар разнонаправленно, и каждая, вычерчивая аналогичный маршрут, стремится к уничтожению другой – и в этом реализуется разрушительная функция повторяемости. Так, пара Драйер – Франц посещением квартиры Франца, места, где обычно возникает пара Марта – Франц, т. е. места их любовных встреч, едва не разрушает эту вторую пару. Пара Марта – Франц, в свою очередь, стремится уничтожить пару Марта – Драйер (многочисленные планы убийства, включая последнюю попытку).
Парами в романе возникают как главные герои, так и второстепенные. Образование их пародирует многочисленные варианты жизненной парной модели. Среди них можно выделить следующие группы:
1. Пары, основанные на супружеском союзе
Пример. «Сходя по лестнице, она (Марта. – Н.Б.) встретила на повороте чужого господина (мужа. – Н.Б.), который быстро поднимался, посвистывая и ударяя стеком по балюстраде. “Здравствуй, моя душа”, – сказал он, не останавливаясь». Сцена построена как танцевальный эпизод, свист и ритмическое постукивание стеком указывают на музыкальное сопровождение.
Другой пример пародийного воспроизведения супружеской модели – старик хозяин и его жена, на самом деле – умерший сожитель, учитель математики (см. приводившуюся выше цитату).
2. Пары, основанные на любовном союзе
Такова пара Марта – Франц; она переживает в романе эволюцию, но совершенно разную с точки зрения каждого из ее членов. Марта все сильнее любит своего любовника, Франц все острее чувствует, что его «опутала и привязала к себе стареющая женщина, – красивая, пожалуй, – а все-таки чем-то похожая на большую белую жабу». (Пародийный синоним сказочной Царевны-лягушки. См. о нем гл. VIII настоящего издания.) Другой пример – пара: мать и дочь. «Сестра Франца, такая бледная, в этот ранний час, нехорошо пахнущая натощак в клеенчатой пелерине, какой, небось, не носят в столице, – и мать, маленькая, круглая, вся в коричневом, как плотный монашек». Мотивировка союза дана в тексте: предпочтительная любовь матери к дочери, о которой с горечью вспоминает Франц.
3. Пары, основанные на внешнем сходстве
Пример: «…две плюшевые старушки, дебелая женщина с корзинкой яиц на коленях и белокурый юноша»; «танцмейстер и студент» оба темные, молодые, подвижные; создатели движущихся манекенов: «скульптор, похожий на ученого, и профессор, похожий на художника».
4. Пары, основанные на сходстве / различии
«Лица немытых, плохо одетых убийц, – одутловатые лица их жертв, ставших после смерти похожими на них же». Различие в этих парах провозглашается как эквивалент сходства. Соединение партнеров в паре понимается как проявление раздвоения. Так, «Драйер раздвоился. Был Драйер опасный, докучливый, который ходил, говорил, хохотал, – и был какой-то отклеившийся от первого, совершенно схематический Драйер». Раздвоение осознаётся и заболевшей Мартой.
Надо отметить, что при образовании пар сексуальный принцип заменен игровым, что обращает его в одно из пародируемых условий.
5. Заключение
Вернусь к гипотезе, выдвинутой в начале главы о пародийности романа Набокова, реализуемой на уровне структуры. «Король, дама, валет» – произведение, написанное в музыкальной традиции, основанной в русской литературе Андреем Белым. Его обращение к жанру симфонии было продиктовано возвышенным пониманием этой формы. Симфония представлялась им как совершенная художественная форма, воплощающая абсолютную гармонию законов мироздания, и понималась как соответствие «мировому оркестру» (ср. у Блока понятие «мирового оркестра»).
Музыкальной моделью своего романа Набоков выбрал вальс. Этот сниженный жанр воспроизведен как литературная пародия на высокую форму симфонии у Андрея Белого. Структура романа пародийно отражает общее символистское представление о мире: «броуново движение» – в эмпирии и гармония – в высшем, сущностном. Вальс – форма, имитирующая хаотическое кружение, – реализуется у Набокова гармонией автоматизма и репетитивности, которая пародийно противостоит провозглашаемой символистами гармонии высших законов. Пародийная задача стимулирует широкое использование игрового приема.
И все яснее слышится, как в набоковском романе «мировому оркестру» вторит «гром из трубы радио».
Глава IV Случай в психиатрии «Защита Лужина»[158]
Трудно найти писателя, который по силе презрения к психоаналитикам был бы равен Набокову. «На всех моих книгах должна стоять печать: “Фрейдисты, держитесь подальше”», – писал он в 1963 году.
Психоанализ, который он называл «Патентованным средством “фрейдизм для всех”», высмеивался им безжалостно. «Куда ни кинем глаз или взгляд, – всюду половое начало», – писал в 1931 году Набоков в эссе «Что всякий должен знать?». И далее: «Филологи подтвердят, что выражения: барометр падает, падший лист, падшая лошадь – все намеки (подсознательные) на падшую женщину. Сравните также трактирного полового или половую тряпку с половым вопросом. Сюда же относятся слова: пол-года, пол-сажени, пол-ковник и т. д.».
В психоанализе писатель видел упрощающую попытку свести индивидуальное к разным типам личности, сделать общедоступным внутренний потаенный мир человека. Он понимал его как варварское разрушение образности, многозначности слова; иначе говоря, Набоков отказывался увидеть на дне своих «прозрачных вещей» то, что предлагал Фрейд. Но, издеваясь над психоанализом, Набоков проявлял острый интерес к психопатологии. Об этом свидетельствуют, в первую очередь, герои его собственных книг. Из них вполне можно составить список пациентов лечебницы для душевнобольных. Главные персонажи или второстепенные, но почти в каждом романе они присутствуют.
Примечательно, что в лекциях по русской литературе в Корнельском университете Набоков укорял Достоевского за излишний интерес к патологии. Он говорил, что поведение «буйнопомешанного или больного, которого только что выпустили из сумасшедшего дома и вот-вот заберут обратно», до того причудливо, что художник, стремящийся «исследовать движение человеческой души» на таком материале, оказывается перед невыполнимой задачей.
Между тем набор воспроизведенных самим Набоковым психических отклонений поражает разнообразием. Из текстов становится ясно, что психотики в понимании писателя противопоставлялись невротикам[159] как более яркие индивидуальности и мир их сознания был для Набокова своеобразным резервуаром творческих возможностей – от сюжетного и структурного построения текста до воспроизведения в нем художественной оптики, обусловленной психическими аномалиями. Несомненно, что один из ведущих приемов его поэтики – размывание границ между искусствами, языками, жанрами, процессом творчества и текстом или текстом и не-текстом – был сформирован, по-видимому, по модели бредовых состояний. Размывание границ, доступное, по Набокову, всем видам творческого сознания, а также памяти, бреду, мечтаниям, противопоставлено непроницаемости границ политических, государственных, обретших особую жесткую непреодолимость в связи с изгнанием.
Замечу, что российский философ Вадим Руднев определяет «главную культурную коллизию XX века как поиск границы между подлинным и воображаемым, сном и явью, вымыслом и реальностью и симптоматичным считает, что специфическим искусством XX века стало кино. Ту же проблематику, – по мнению В. Руднева, – провоцировал психоанализ»[160]. В творчестве Набокова прием размывания границ появляется уже в русский период, в одном из ранних рассказов, написанном в сентябре 1924 года, – «Венецианка». Психические отклонения становятся темой и развертываются в сюжет в «Соглядатае», в «Волшебнике», в «Отчаянии», формируют художественную оптику в романе «Король, дама, валет», галлюцинаторные эффекты описаны в «Машеньке», в «Даре», в «Приглашении на казнь», явления аутоскопии – в «Отчаянии» (особенно в английском варианте романа) и т. д.
Важно помнить, что артистическая фантазия Набокова всегда опирается на глубокие знания описываемого, а художественная поэтика, богатая вариативностью приемов, неизменно вбирает в себя точность научных характеристик. Отдельные тропы и целые образы в его сочинениях вырастают из информации, из конкретных исследовательских сфер. И, естественно, напрашивается заключение, что важными подтекстами произведений Набокова, наравне с творениями литературы, изобразительного искусства, текстами мемуарного и биографического наследия, являются работы из области естественных наук, и в частности, труды по психопатологии. Однако рассматривать их до сих пор в набоковедении избегали, по-видимому, под гипнотическим воздействием резких высказываний писателя в адрес психоанализа[161].
Известно, как тщательно скрывал Набоков свои источники. Восстановить круг его чтения редко удается традиционным путем, через архивы. Гораздо продуктивнее попытаться реконструировать истину через сам художественный текст.
В этой главе я остановлюсь на третьем романе Набокова «Защита Лужина», написанном в 1929 году и тесно связанном с научными открытиями, сделанными в это время в психиатрии. Речь идет об аутизме. Модель аутистического изоляционирующего сознания, заявленная и описанная в медицине незадолго до создания произведения, воспроизводится писателем художественно, становится организующей доминантой романа.
Но прежде чем перейти к текстуальной иллюстрации этой гипотезы, предлагаю короткий экскурс в историю исследования болезни.
Автором термина «аутизм» (от древнегреческого autos – сам) был Эйген Блейлер, знаменитый швейцарский психиатр, профессор университета города Цюриха, директор психиатрической клиники при этом университете. Его сотрудником и ассистентом в течение девяти лет являлся К. Г. Юнг. К заслугам Блейлера следует отнести то, что благодаря его усилиям психоанализ Фрейда был введен в академическую науку. Сам Блейлер занимался клинической патологией и много лет изучал болезнь, которую другой крупнейший психопатолог Э. Крепелин назвал «Ранней деменцией».
В 1911 году Блейлер выпустил свой знаменитый труд, ставший библией современных исследователей, – «Ранняя деменция, или Группа шизофрений». В этой работе он утвердил новый медицинский термин – шизофрения (от древнегреческого: schizo – раскалываю, phren – рассудок) и подробно изложил концепцию означаемой им болезни.
Блейлер назвал четыре основных симптома шизофрении. Это четыре «А»: аффективность, ассоциативность (в обоих случаях речь идет о нарушениях), амбивалентность (термин, который прижился в науке, и в частности филологической, и который означал в теории Блейлера сосуществование антагонистических эмоций, идей или желаний по отношению к одному и тому же лицу или ситуации) и аутизм. Последний, по Блейлеру, – прямое следствие шизофренической логики несоответствия. Умственные затруднения, наступающие как результат ослабления ассоциаций, создающие новое руководство мыслям. Определяющим для больного становится принцип удовольствия. То, что неприятно, отбрасывается им, то, что приятно, поддерживается. На этом основании, как отмечал французский психиатр Анри Эй, происходит разрыв с внешним миром, с ценностями действительности, и это – аутизм. А ранее Блейлер писал: «Аутизмом мы называем бегство от реальности с одновременным относительным или абсолютным преобладанием внутренней жизни»[162]. Иначе, аутизм – это такая форма, которая овладевает психической жизнью, чтобы организоваться в замкнутую систему личности и ее мира, это болезнь изоляции.
«Аутистический мир для больных, – считал Блейлер, – столь же реален, как и сама действительность, – он может быть более реален, чем внешний мир. Содержание аутистической мысли составляют желания и страхи. Самую большую роль здесь играет символизм»[163].
Его работа имела огромный успех и в скором времени была переведена на разные языки, в том числе на русский.
Аутизм как термин и концепт был быстро подхвачен и распространился в психиатрии и философии. Об открытии Блейлера писал в 1913 году в своей знаменитой книге «Общая психопатология» философ и психиатр Карл Ясперс.
В 1922 году появилась работа Эрнста Кречмера[164], посвященная классификации типов телосложения и темпераментов человека. В ее основе лежит идея о том, что между поведенческими проявлениями и телосложением существуют важные связи. Кречмер посвятил целый раздел описанию морфологии аутистов (он называет их шизоидами).
В 1927 году выходит книга французского психопатолога Эжена Минковского «Шизофрения». Она широко обсуждалась в прессе и имела шумный успех.
Минковский постулирует в качестве основной черты шизофренического существования создание прогрессирующего аутистического мира, закрытого для реальности. Аутизм делается синонимом замыкания человека в себе, а феномены сна и грез становятся реальной жизнью больного. «Аутистическая мысль не стремится быть переданной, быть понятой и не соотносит поведение с требованиями окружающего мира, – считал Минковский, – она максимально субъективна и служит лишь самому индивидууму»[165]. Таким образом, аутизм душевнобольных есть избыточный субъективизм.
Минковский впервые предложил различать формы богатого и бедного аутизма. К первому ученый причисляет сознание, пребывающее в воображаемом мире, созданном по образцу сна или мечты. Бедный аутизм – это форма слабоумия, которая выражается в полной самоизоляции больного.
Такова кратко представленная научная картина описания аутизма к моменту создания Набоковым «Защиты Лужина». К 1928–1929 годам концепция этого заболевания как одного из определяющих симптомов шизофрении утвердилась в мировой психопатологии. Работы Блейлера были переведены на русский язык: в 1919 году в Одессе напечатана его книга «Аутистическое мышление», в 1920 году в Берлине вышел его основной труд под названием «Руководство по психиатрии», а в 1927 году – «Аффективность, внушаемость, паранойя», где в качестве приложения включено эссе об аутизме. Интерес к работам Блейлера был велик, они быстро вошли не только в научный, но и в культурный оборот.
В качестве иллюстрации того, что литература быстро усваивала научные медицинские открытия, приведу фрагмент из романа Ильфа и Петрова «Золотой теленок», написанного на несколько лет позже «Лужина».
В главе «Рассказ бухгалтера Берлаги… о том, что случилось с ним в сумасшедшем доме» приводится рассказ одного из обитателей этого заведения, Михаила Александровича, выдающего себя за человека-собаку:
«Возьмите, например, меня… – тонкая игра. Человек-собака. Шизофренический бред, осложненный маниакально-депрессивным психозом, и притом, заметьте, Берлага, сумеречное состояние души. Вы думаете, мне это легко далось? Я работал над источниками. Вы читали книгу профессора Блейлера “Аутистическое мышление”?
– Нет, – ответил Берлага…
– Вы не читали Блейлера? – спросил Кай Юлий удивленно. – Позвольте, по каким же материалам вы готовились?
– Он, наверное, выписывал журнал «Ярбух фюр психоаналитик унд психопатологик», – высказал предположение неполноценный усач»[166].
Журнал, названный усачом, – это «Ежегодник психоаналитических и психологических исследований» (Jahrbuch für psychoanatytiche und psychopathologische Forschung), который Блейлер издавал совместно с Фрейдом с 1909 по 1913 год[167].
Документальных свидетельств знакомства Набокова с трудами Блейлера и упомянутых выше немецких и французских психиатров нет. Однако трудно представить, что писатель, столь жестко критиковавший Фрейда, делал это без предварительного ознакомления с его сочинениями. А имя Блейлера было тесно связано с Фрейдом, напомню об издаваемом ими вместе журнале. Более того, Блейлер в двадцатых годах был не менее известен, чем Фрейд. Его труды, фактически открывшие внутреннюю жизнь душевнобольных, были на слуху у читающей публики, и Набоков, создавая свой первый роман о герое с психопатологическим сознанием, не мог к ним не обращаться. Доказательством служит собственный набоковский текст, писавшийся, когда шло горячее обсуждение работ о шизофрении и аутизме.
Роман воспроизводит блейлеровскую концепцию патологического одиночества.
Герой Набокова – шахматист, который живет в воображаемом мире шахмат. «Стройна, отчетлива и богата приключениями была подлинная жизнь, шахматная жизнь…»; Лужин «…внешнюю жизнь принимал как нечто неизбежное, но совершенно незанимательное»; «…мутна была вокруг него жизнь […] такая тишина вокруг […] и в ушах шум одиночества». Произведение отражает типичный для аутизма разрыв между внутренней эмоциональной и внешней реальной жизнью больного. Художественно это воплощено в воспроизведении двух несовпадающих миров: одного, созданного аутистическим сознанием Лужина и управляемого его аффективными потребностями (действительность сюда входит лишь в качестве отдельных случайно выхваченных фрагментов), и мира реального, в котором личность героя кажется непроницаемой, окаменелой. Жена видит его «слепым[168] и хмурым», неподвижным, отсутствующим, «человеком другого измерения».
Иначе говоря, в пределах единого художественного пространства романа сосуществуют две формы мышления, которые создают у читателя впечатление взаимной непроницаемости: одна, по определению Блейлера, логическая, или реалистическая, вторая – аутистическая. Первая устанавливает связь с действительностью посредством словесных формул, ее носителями являются все герои произведения, кроме самого Лужина. (Это они всегда обращаются к нему с вопросами, инициатива контакта всегда исходит от других.) Вторая функционирует в форме грез и фантазирования, работает самопроизвольно, и контакт с окружающими ей не дается. Таково аутистическое мышление Лужина.
Одним из его опознавательных признаков является неспособность героя считывать истинный смысл ситуаций, поступков и слов окружающих. Возьмем, например, сцену, когда Лужин-старший возвращается на дачу из города после дня, проведенного у любовницы, которая рассказала ему об увлечении сына шахматами. Он предлагает мальчику научить его играть в шахматы. Лужин-младший идет за ними на чердак. «И все время, пока он искал, а потом нес шахматы вниз, на веранду, Лужин старался понять, случайно ли отец заговорил о шахматах или подсмотрел что-нибудь, – и самое простое объяснение не приходило ему в голову».
Набоков воспроизводит характерное для аутиста неразличение во внешнем мире одушевленных и неодушевленных предметов. Лужин, гуляя в больничном саду, опасливо склоняется «над цветком, который – бог его знает, – мог укусить». Намек на его психическую ненормальность подкреплен аллюзией на рассказ Гаршина «Красный цветок», где сумасшедший герой видит в цветке «все зло мира».
Шахматные фигуры Лужину кажутся ожившими – очевидный эффект галлюцинаторного типа.
Особое внимание привлекает речь героя. «Речь его была неуклюжа, – думает невеста, – полна безобразных, нелепых слов, – но иногда вздрагивала в ней интонация неведомая, намекающая на какие-то другие слова, живые, насыщенные тонким смыслом, которые он выговорить не мог».
Велик соблазн пристегнуть к приведенному примеру психолингвистические наблюдения о дихотомии языка и речи, отсылающие к трудам Фердинанда де Соссюра, в которых язык понимается как скрытый слой мышления, а речь – как маскирующая мысль, или связать с теоретическими установками столь ненавистного Набокову Фрейда, рассматривавшего речь как символический, узнаваемый слой утопленных в подсознании образов и явлений.
В контексте романа речь Лужина подобна зримому уровню шахматной игры. Аналогия подкрепляется многократными примерами того, как в его восприятии игра «вслепую», осуществляемая в воображении, противопоставляется игре зримой, при помощи фигур на доске, которые кажутся ему «мертвыми куклами»: «…игра вслепую, довольно дорого оплачиваемое удовольствие, которое он охотно давал. Он находил в этом глубокое наслаждение: не нужно было иметь дела со зримыми, слышимыми, осязаемыми фигурами, которые своей вычурной резьбой, деревянной своей вещественностью всегда мешали ему, всегда казались грубой земной оболочкой прелестных, незримых шахматных сил. Играя вслепую, он ощущал эти разнообразные силы в первоначальной их чистоте». Шахматным видимым, но бездушным фигуркам уподобляются слова, произносимые вслух Лужиным, слова, намекающие на другой, точный и выразительный язык, скрытый в его подсознании. Сопоставление отсылает к известным в истории культуры сравнениям языка с шахматной игрой, как полагал Фердинанд де Соссюр.
Однако наравне с этим прочтением возможно и иное, как бы расположенное по другую сторону сказанного, а именно: речь Лужина – это отражение той реальности, которую он воспринимает через призму языка. Наблюдение восходит к Людвигу Витгенштейну, утверждавшему в своем «Логико-философском трактате», написанном за восемь лет до романа Набокова, что «границы моего мира означают границы моего языка». Трактовка возвращает нас к аутизму с его редуцированным, выборочным и фрагментарным восприятием и смазанной, неточной, как сквозь туманное стекло, регистрацией окружающего мира: «…мутна была жизнь вокруг него (Лужина. – Н.Б.); он «смутно увидел ее (невесту. – Н.Б.) в розовом платье». Образ мутного, непрозрачного стекла, сквозь которое герой смотрит на окружающий мир, многократно возникает в романе.
По наблюдению Блейлера, у больных с аутистическим мышлением наблюдается снижение уровня смысловой определенности слов, заметно их неадекватное и странное использование. У Лужина это проявляется в странной стилистической смеси письменной и устной речи, отмеченной резкой сменой экспрессивной окраски.
Фраза героя включает несколько фрагментарных высказываний разного эмоционально-психологического содержания и разной модальности: от приказа до мольбы. Возьмем сцену предложения руки и сердца, которое он делает девушке в санатории: «Итак, продолжая вышесказанное, должен вам объявить, что вы будете моей супругой, умоляю согласиться на это, абсолютно было невозможно уехать, теперь будет все иначе и превосходно».
В тексте много примеров речи героя, определяемых психиатрами как отражение формального мышления, характерного для более проявленных форм аутизма. Так, будущая жена Лужина задает ему пустой светский вопрос, давно ли он играет в шахматы. «Он ничего не ответил, отвернулся, и она так смутилась, что стала быстро перечислять все метеорологические приметы вчерашнего, сегодняшнего, завтрашнего дня… Он вдруг повернул к ней лицо и сказал: “Восемнадцать лет, три месяца и четыре дня”».
Другой пример буквального ответа – сцена разговора героя с матерью невесты.
«Она:
– Скажите, ведь вы развратник, развратник?
– Нет, мадам…
– Мне придется навести справки… не больны ли вы какой-нибудь такой болезнью.
– Одышка, – сказал Лужин, – и еще маленький ревматизм.
– Я не про то говорю, – сухо перебила она…
– А в прошлом году был геморрой, – скучно сказал Лужин».
Диалог отражает его абсолютную неспособность догадаться о предполагаемом, но не озвученном смысле высказывания. Аутистическое мышление воспринимает слово в буквальном значении. Рецепция аутиста абсолютно бесхитростна и искренна. Его сознание не в состоянии домысливать скрытые мотивации поступков и слов. Поэтому Лужин видит людей такими, какими те хотят себя показать, то есть некую обманчивую поверхность человеческой личности. Знакомясь с матерью невесты, довольно банальной дамой из нуворишей, он говорит о ней: «Дама большого света, это сразу видно». Набоков изображает реакции своего героя согласно особенностям аутистического восприятия, описанным медицинской наукой. Такой человек регистрирует только видимый, очевидный смысл действия, только уровень означающих, которые принимаются им за означаемые. Иначе говоря, его мир подобен двумерной картинке, имеющей единственное смысловое прочтение. Эта модель аутистического сознания заимствуется Набоковым для организации структуры романа. (Об этом см. ниже.)
Образ Лужина строится по блейлеровской модели: селективно-организующими реальный мир героя выступают два чувства – страха и удовольствия. То, что внушает страх, резко отвергается им, то, что доставляет удовольствие, принимается.
Внешний мир для аутиста загадочен и враждебен. Главная причина аутистической реакции испуга – неразличение. И это художественно точно воспроизводится писателем в романе. К внешнему враждебному окружению герой относит живые лица и предметы, родителей и случайных людей. Их непрочитываемость, неузнаваемость внушает ему страх. Лужин-ребенок дичится родителей: «Сын сидел на передней скамеечке, закутанный в бурый лоден, в матросской шапке, надетой криво, но которую никто на свете сейчас не посмел бы поправить…»
Взрослый Лужин с отвращением думает об отце как о чужом: «[…] этот веселенький на вид старик в вязаном жилете, неловко хлопавший его по плечу, был ему невыносим […]».
Лужин-мальчик боится товарищей по школе, Лужин-взрослый в ужасе бежит от встреченного им на эмигрантском балу одноклассника.
Набоков с точностью воспроизводит характерный синдром аутизма – сверхчувствительность, проявляющуюся в непереносимости взгляда, голоса, прикосновения другого, во вспышках неожиданного гнева, маскирующих беспокойство и страх таких людей.
«Лужин-старший […] прислушивался к монологу в соседней столовой, к голосу жены, уговаривающей тишину выпить какао. “Страшная тишина, – думал Лужин-старший. – Он нездоров, у него какая-то тяжелая душевная болезнь […] пожалуй, не следовало отдавать в школу”. […]
“Съешь хоть кекса”, – горестно продолжал голос за стеной, – и опять тишина. Но изредка происходило ужасное: вдруг, ни с того ни с сего, раздавался другой голос, визжащий и хриплый, и, как от ураганного ветра, хлопала дверь».
«Если реалистическое мышление, – пишет Юнг, – создает новые приспособления, имитирует действительность и пытается видоизменить ее, то интроверсивное (т. е. обращенное в себя, замкнутое во внутреннем мире личности мышление, которое и является, по Юнгу, симптомом аутизма) – наоборот, уходит от действительности, освобождает субъективные желания и совершенно непродуктивно в смысле приспособления к реальной жизни»[169]. Страх Лужина перед внешним миром способствует развитию и расширению его воображаемого мира, который кажется герою понятным, гармоничным, подчиненным его воле: «…и с гордостью Лужин замечал, как легко ему в этой жизни (в шахматной. – Н.Б.) властвовать, как все в ней слушается его воли и покорно его замыслам».
Перемещение героя из одного мира в другой составляет интригу произведения. Оно прочитывается как минимум на двух уровнях: экзистенционально-метафизическом, где понимается как насильственное вытеснение из рая в жизнь. Под раем подразумевается дошкольное детство героя, протекавшее в эмоционально защищенном, изолированном пространстве дома. Собственно, роман и начинается с выталкивания мальчика из рая. Сигналом к этому служит фраза отца о том, что «с понедельника он будет Лужиным». Фамилия – общественное имя, связано с отправкой мальчика во внешний мир, в школу. Рай в сознании Лужина олицетворяется с понятием дома.
Герой постоянно стремится вернуться в рай, вернуться домой. После партии с Турати: «“Идите домой”, – вкрадчиво шепнул другой голос… Лужин улыбался. “Домой, – сказал он тихо. – Вот, значит, где ключ комбинации”». Другой пример: герой приходит в себя в санатории для душевнобольных, он думает: «По-видимому, я попал домой». Многократное воспроизведение образа дома включает не только смысл тоски по утраченному раю детства, но и служит отсылкой к «Медному всаднику» А. Пушкина, где категория дома и бездомности связана с безумием героя, в котором, в частности, происходит оживление статуи (ср. в романе – шахматных фигур).
Перемещение героя из одного мира в другой, являющееся частью сюжетного движения произведения, осуществляется не только на уровне перемещения Лужина из творческого духовного мира в мир вещественной реальности, но и на более сложном уровне постмодернистской проблематики построения текста – как отражение взаимоотношений автора и героя, где последний наделяется свободной волей, равной авторской. Именно такое прочтение романа Набокова мне кажется наиболее адекватным.
Начало сюжетного развития «Защиты Лужина» отождествляется с вытеснением мальчика из защищенного пространства дома, детства, как было сказано выше, и со своеобразным его убийством: «Больше всего его поразило то, что с понедельника он будет Лужиным. Его отец – настоящий Лужин, пожилой Лужин, Лужин, писавший книги, – вышел от него, улыбаясь, потирая руки, уже смазанные на ночь прозрачным английским кремом, и своей вечерней замшевой походкой вернулся к себе в спальню».
Жест потирания рук, смазанных кремом, понимаемый одновременно как жест довольства содеянным и как жест стирания следов, в сочетании с бесшумной походкой, обретает преступные коннотации. Условное убийство в свете отцовской писательской профессии понимается как превращение живого мальчика в героя сочинения Лужина-старшего (намек реализируется в сцене в школе, когда учитель приносит в класс повесть Лужина-отца «Приключения Антоши». «В течение двух тех месяцев Лужина звали Антошей». И в знак полного отожествления с героем книги отца мальчика заставляют озвучивать собственным голосом «Истории Антоши»), а реальный мир, в который насильно выталкивается мальчик, отныне отождествляется с текстом, создаваемым автором-отцом.
Но у Набокова Лужин-младший отказывается от навязываемой ему роли, создает свою собственную воображаемую, аутистическую реальность и бежит в нее. Шахматы изолируют его, воображаемый шахматный мир образует своего рода текст в тексте. Однако по мере развития действия самостоятельность каждого текста постепенно слабеет. После блистательного начала шахматной карьеры «Лужин попал в то положение, в каком бывает художник, который в начале поприща, усвоив новейшее в искусстве и временно поразив оригинальностью приемов, вдруг замечает, что незаметно произошла перемена вокруг него, что другие, неведомо откуда взявшись, оставили его позади в тех приемах, в которых он недавно был первым…» И Лужин-старший утрачивает способность писать, и последняя задуманная им повесть «Гамбит» (начало шахматной партии. – Н.Б.) так и остается неосуществленной), границы их размываются, жизнь обретает характер шахматной игры, а шахматная партия – смысл жизненного сражения с судьбой. Роман начинается превращением Лужина-младшего в литературного героя, героя литературной игры – и кончается его бегством из жизненной партии: «Единственный выход… Нужно выпасть из игры», – так объясняет свое предстоящее самоубийство Лужин.
Обретение героем утраченного имени в последних строках произведения сигнализирует его обратную метаморфозу. Фамилия в данном случае понимается не только как знак социальной, но и литературной условности. Этот смысл реализуется в аналогии приема, который подбирается из литературы: невеста, а потом жена героя, зовет его по фамилии, «как делали тургеневские девушки». Финальные фразы романа: «Дверь выбили. “Александр Иванович, Александр Иванович”, – заревело несколько голосов. Но никакого Александра Ивановича не было», – фразы, когда впервые произносится имя героя, которого уже нет в живых и нет в тексте, – аллюзия на финальную сцену рассказа Леонида Андреева о карточной игре «Большой шлем». В тексте романа имя Андреева не называется прямо. Невеста вспоминает, как «в дачной, еще петербургской Финляндии она несколько раз издали видела знаменитого писателя, очень бледного, с отчетливой бородкой, все посматривавшего на небо, где начинали водиться вражеские аэропланы» и далее: «…при этом снежном воспоминании всплывала вдруг опять на фоне ночи дача знаменитого писателя, где он умер…». Андреев умер в Финляндии в 1919 году. Его упоминание в произведении о безумном шахматисте не случайно: писатель страдал психической болезнью, несколько раз пытался покончить жизнь самоубийством и много писал о психических отклонениях. Но вернемся к его рассказу «Большой шлем». В этом произведении один из игроков, о котором другие участники ничего не знают, внезапно умирает в тот момент, когда на руках его оказываются карты, образующие редкую выигрышную комбинацию «Большой шлем». И тогда другой игрок понимает, что если «станет кричать над самым ухом (умершего. – Н.Б.) и показывать карты, Николай Дмитриевич никогда не узнает, потому что нет на свете никакого Николая Дмитриевича». В обоих текстах имя после смерти его носителя превращается в пустое означающее, лишенное означаемого, иначе – смерть воспроизводит характерную для аутизма семантическую ситуацию разрыва связи между означаемым и означающим.
Представляется, что скрытой темой «Защиты Лужина», задуманной по структурной аналогии скрытого мира героя-аутиста, – является бунт героя против автора. Герой отказывается быть игрушкой в руках своего создателя, самоизолируется в собственном творчестве, но, не обладая творческой оригинальностью (ибо он – креатура автора), множит заданные образы и повторяет сюжетные ходы, не находя выхода из текста.
Реализовать эту скрытую тему позволяет механизм аутистического мышления. Он мотивирует введение в текст другого фантастического измерения, абсолютно непроницаемого для других героев. Аутизм Лужина мотивирует стратегию его сюжетного поведения, объясняет его как будто непредвиденные поступки, которые на самом деле в силу психопатологической природы его мышления оказываются изначально запрограммированными в тексте. Этот прием Набокова является пародийно-полемической репликой, адресованной литературе реализма с ее подражанием жизненной непредсказуемости, в частности, известному восклицанию Льва Толстого по поводу самоубийства Анны Карениной. Примечательно и то, что фигура безумного Лужина, «мудрого идиота», есть постмодернистское отражение романтического высокого безумия творца, как например, в повести В. Одоевского о безумном композиторе «Последний квартет Бетховена».
В произведении Набокова воплощаются непреодолимое торможение и невозможность восприятия аутистом общей картины мира, происходящие из-за усиливающейся настойчивой фиксации внимания героя на отдельных деталях и ощущениях. Приведу пример такой фрагментарной регистрации действительности Лужиным: попадая в квартиру родителей невесты, он восхищен «умилительным красочным блеском, из которого на мгновение выскакивал отдельный предмет, – фарфоровый лось или темноокая икона…».
Во время игры в шахматы он замечает «пару дамских ног в блестящих серых чулках. Эти ноги явно ничего не понимали в игре, непонятно, зачем они пришли…».
Внешний мир воспринимается героем как мир плоскостный, двумерный. Вот как понимает Лужин внезапное знакомство с девушкой, которая становится его невестой, а потом женой:
«Он действительно почувствовал себя лучше среди этой зеленой декорации (санатория. – Н.Б.), в меру красивой, дающей чувство сохранности и покоя. И вдруг, как бывает в балагане, когда расписная бумажная завеса прорывается звездообразно, пропуская живое улыбающееся лицо, появился невесть откуда человек, такой неожиданный и такой знакомый».
По-видимому, большой описательный материал, составивший значительную часть главного труда Блейлера, сыграл для набоковского романа не меньшую роль, чем представленная там теоретическая разработка концепции аутизма. Можно предположить, что именно оттуда Набоков заимствует очень важное наблюдение о стереотипическом поведении такого человека. Позднее оно будет развито подробно в исследовательских работах психопатологов, но на исходе двадцатых годов оставалось только в качестве описанного феномена.
Важные черты поведения аутиста: страх перед новизной, многократная повторяемость действий передаются в романе герою. Лужин избегает «отвратительной новизны» и «с раннего детства любит привычку». Описанная Блейлером навязчивая повторяемость, проявляемая на двигательно-моторном уровне, воплощена в многочисленных бегствах героя по одному и тому же маршруту – через лес, мимо мельницы, домой или в его кружении по комнатам перед самоубийством («И тут началась странная прогулка…»). Она отражена и на уровне интеллектуальных операций. Лужин-ребенок осматривает свою детскую: «[…] обои были белые, а повыше шла голубая полоса, по которой нарисованы были серые гуси и рыжие щенки. Гусь шел на щенка, и опять то же самое, тридцать восемь раз вокруг всей комнаты».
Подобная повторяемость действий способствует извлечению аутистом приятных вестибулярных, тактильных, мышечных ощущений. Но это только одна причина. Вторая – обеспечение минимальной адаптации такого человека в реальности путем накопления им стереотипов. Живя в коммуникативной изоляции в мире, где означающие не означают ничего, аутист ориентируется только на собственные, зарегистрированные памятью следы и потому постоянно к ним возвращается. Этой особенностью аутистического мышления, мышления главного героя романа, объясняется композиционная организация текста, в основе которой лежит принцип повторения.
Повествование составляют две неравномерные части, разделенные периодом в 16 лет (число исходного количества фигур у каждого игрока в начале шахматной партии). В первой части Лужин-мальчик превращается в шахматного вундеркинда, во второй – он, утративший огонь и смелость шахматный маэстро, участвует в своем последнем турнире. Закон шахмат – закон атаки. Отказ от нападения означает проигрыш. Во второй части романа аутистический механизм, обуславливающий повторяемость повествования, обретает свою разрушительную силу. В этом снова проявляется научная точность художественного приема Набокова. Согласно описанной в психопатологии концепции, аутизм, зарождаясь как бегство в мир воображения, как бегство от наступательной жизненной реальности, в итоге становится саморазрушительным.
Вторая часть произведения как бы накладывается на первую. Воплощая механизм аутистического сознания, действие развивается, опираясь на зарегистрированные памятью образы. Первая часть романа исполняет роль такой модели, ориентируясь на которую, герой из фрагментов складывает/осмысляет ее повторение во второй.
Приведу несколько примеров. Появление в жизни Лужина будущей невесты вызывает у него «впечатление чего-то очень знакомого, он… с потрясающей ясностью вспомнил лицо молоденькой проститутки с голыми плечами, в черных чулках, стоявшей в освещенном проеме двери, в темном переулке, в безымянном городе. И нелепым образом ему показалось, что вот это – она, что вот она явилась теперь, надев приличное платье, слегка подурнев, словно она смыла какие-то обольстительные румяна, но через это стала более доступной».
В первой части произведения описано возвращение мальчика с дачи в город. На платформе Лужин замечает, как «справа, на огромном тюке, сидела девочка и, подперев ладонью локоть, ела зеленое яблоко». Спустя много лет в Берлине он приходит в дом родителей невесты, где «самый воздух был сарафанный». Войдя, он видит «яркую, масляными красками писанную картину». «Баба в кумачовом платке до бровей ела яблоко, и ее черная тень на заборе ела яблоко побольше». Живописное полотно, иконический знак, накладывается на зарегистрированный в детстве образ. Только во второй раз это уже не сценка из жизни России, а кусок «декорации», на которой изображена девочка, ставшая взрослой бабой в платке, но она все с тем же вечным яблоком.
Квартира родителей невесты, обставленная в русском духе, представляет собой случайное собрание симулякров: Они «[…] снова разбогатев, решили зажить в строгом русском вкусе […]». «И было много картин на стенах, – опять бабы в цветных платках, золотой богатырь на белом битюке, избы под синими пуховиками снега […]». Эти словесные пересказы картин русских художников: Ф. Малявина («Бабы»), В. Васнецова («Витязь на распутье»), М. Якунчиковой-Вебер («Городок зимой») – фрагментарный повтор живого мира России в виде полотен живописи.
Роман о шахматной игре строится по принципу пазла, игры творчески ограниченной, исключающей вариативность решений и в определенном смысле воспроизводящей структуру аутистического мышления. Пазл фигурирует и в первой, и во второй части произведения. Например, Лужин-мальчик «нашел мнимое успокоение в складных картинах. Это были сперва простые, детские, состоявшие из больших кусков […] Но в тот год английская мода изобрела складные картинки для взрослых – “пузеля” […] – вырезанные крайне прихотливо: кусочки всех очертаний, от простого кружка (часть будущего голубого неба) до самых затейливых форм […] по которым никак нельзя было разобрать, куда они приладятся […]».
Позднее у Лужина «в неизбежные минуты жениховского одиночества, поздним вечером, ранним утром было ощущение странной пустоты, как будто в красочной складной картине, составленной на скатерти, оказались не заполненные, вычурного очерка, пробелы».
Если в начале произведения пазл исполняет функцию одного из элементов общей картинки детства, то позднее он задает модель аутистического восприятия реальности.
Аутистическое мышление, будучи противопоставленным Блейлером мышлению реалистическому, не оценивается им, однако, как лишенное логики. Только логика аутиста особого свойства. Она обрабатывает совершенно случайные, неравноценные, как их называет Блейлер, «первопопавшиеся и ошибочные» понятия и образы, «отрывочные ассоциации» в свете аффекта. Эта патологическая дефектная логика психоза трансформирует их в бред, но бред, организованный по заданному изначально образцу.
Лужин оказывается замкнутым в своем мире, иначе – замкнутым в роман, он становится одним из его элементов, героем произведения, куклой, которой играет автор, шахматной фигурой, которой двигает Рок. Его претензия на творческую автономность ведет к проигрышу. Когда все части мира Лужина укладываются в его сознании на свое место, текст, как пазл-игра, исчерпывается.
«Ключ найден. Цель атаки ясна. Неумолимым повторением ходов она приводит опять к той же страсти […] Опустошение, ужас, безумие».
Принято считать, что герой-шахматист в финале сходит с ума. Но безумие это особого свойства. Это проявление аутистического мышления в той его завершающей фазе, когда оно, трагически стремясь к спасительному повтору, разрушает себя.
Отрыв от внешней реальности приобретает форму негативизма, сюжет романа, таким образом, завершается, и герой его выпадает из текста в другое измерение – в свою аутистическую вечность.
Глава V Кросс-жанр «Подвиг»
…не труден доступ к Аверну:
Ночи раскрыты
и дни ворота черного Дита,
Но шаги обратить
и на высший выбраться воздух, —
Это есть труд, – это есть подвиг.
Вергилий. «Энеида»(Пер. В. Брюсова[170])«Подвиг» писался Набоковым в Берлине в течение 1930 года и был опубликован в Париже, в издательстве «Современные записки» в 1932 году. При жизни писателя и под его контролем текст был переиздан без изменений в 1974 году в Америке в издательстве Ardis. Это каноническое издание легло в основу всех последующих переизданий романа на русском языке.
Роман прост и загадочен. Большой по объему, с демонстративно ослабленным сюжетом, он внезапно обрывается у порога главного действия, заявленного в заглавии. Подвиг героя остается за пределами произведения. Повествование трансформируется в предисловие, содержащее некоторые элементы развязки («Надо быть храброй, – тихо сказала самой себе Софья Дмитриевна (мать героя. – Н.Б.), – надо быть храброй. Ведь бывают чудеса. Надо только верить и ждать»), иначе говоря, становится рамкой главного текста, на самом деле выпущенного.
Роман структурно воплощает фигуру умолчания и прочитывается как аллюзия на стихотворение Ф. Тютчева «Silentium!»[171]. Примечательна и календарная деталь: стихотворение написано в 1830 году, ровно за сто лет до «Подвига», и, таким образом, условно параллельно ему во времени (о приеме биографического параллелизма см. ниже). Тематическая перекличка двух произведений очевидна. Состояние, в котором пребывает главный герой, Мартын, «блаженство духовного одиночества», погруженность в себя, в свои предчувствия, мечты, воспоминания, прочитывается как романное воплощение тютчевских деклараций: «Лишь жить в самом себе умей. / Есть целый мир в душе твоей…» – и утверждается как единственная форма духовной жизни личности, скрытая завесой тайны.
В романе ей противопоставлена деятельность общественная, где знание разделено группой, а поступок одного подчинен общей цели. Общественная мера понимания – норма – не позволяет постичь индивидуума, в частности, понять поведение Мартына. Следует отметить, что к категории общественного сознания Набоков причислил не только героев произведения, но и его читателей. Оставаясь наедине с читателем, Мартын не откровенничает, не посвящает в свои мысли, а, наоборот, скрывает их, отделывается намеками. В Швейцарии он чувствует, как «что-то счастливое, томное его издалека заманивало…» В Кембридже: «…дорожные волнения получили новую значительность. Мартын словно подобрал ключ ко всем тем смутным, диким и нежным чувствам, которые осаждали его». В чем ключ – остается загадкой для читателя.
Условие потаенности внутреннего мира героя сохраняется до конца повествования. Скрытыми остаются мотивы и цели подвига. Автор отказывается придать их общественному достоянию. Чтение романа превращается в самостоятельную попытку читателя приобщиться к таинству чужой души. Индивидуальное действие предполагает индивидуальное знание. Не случайно Набоков писал в своем эссе «Пушкин, или Правда и правдоподобие», созданном в 1937 году на блистательном французском: «Лучший читатель – это эгоист, который наслаждается своими находками, укрывшись от соседей».
Вместе с тем фигура умолчания, выбранная автором для художественного воспроизведения подвига, обусловливает его сакрализацию. Поступок героя теряет соотнесенность с личностью и биографией и трансформируется в миф. Этому способствует и сюжет романа.
«Подвиг» – произведение о странствующем герое, изгнаннике. «Счастливое и мучительное путешествие, которым обернулась жизнь» Мартына, начинается вынужденным бегством из Крыма и завершается добровольным возвращением на 24 часа в Россию – Зоорландию. Повествование обнаруживает два плана: реальный и фантастический, что подтолкнуло многих исследователей на поиски сходства романа со сказкой.
Представляется, однако, что «Подвиг» возникает на скрещении двух литературных форм: биографической и мифологической. Текст конструируется одновременно как биографический роман и мифологическая поэма. Прочтение возможно в системе каждого жанра, но скрытый смысл произведения обнаруживается на жанровом перекрестке.
Бинарная природа текста проявляется уже в заглавии. Согласно В. Далю, слово «подвиг» означает «доблестный поступок» и «путь, путешествие». Первое значение прочитывается как титр биографического повествования, в котором реализация сюжета сводится к воплощению образа главного персонажа. Подвиг – путь, путешествие служит заглавием мифологического произведения, и в этом случае реализация сюжета состоит в изображении единой картины мира.
1. Биографизм
Содержание «Подвига», биографического романа, составляет описание жизни молодого человека на протяжении шести с половиной лет. Действие дебютирует ранней весной 1918 года, когда на зов матери Мартын выходит из «кипарисовой аллеи», и обрывается поздней осенью 1924 года, когда он исчезает в темноте «тропинки в черном еловом лесу».
Аллея / тропинка – эмблематический образ пути – повторяет линеарную структуру биографического повествования и служит обманным сигналом читателю, что герой уходит по той же тропинке в текст, по которой вышел из него.
Сад / парк и лес заявлены конечными точками сюжетного движения. Образ сада / парка в «Подвиге» воспроизведен в традиционном значении земного аналога рая. Образ леса связан с непредсказуемой опасностью, погоней, убийством, смертью и отмечен оппозиционным смыслом. Позднее в романе «Приглашение на казнь» Набоков разовьет тематическую противопоставленность этих локусов, прибегнув к символизирующим их персонажам: садовнику и охотнику.
Финал «Подвига» неоднозначен. Согласно пониманию самого Мартына, он уходит в Зоорландию, страну мертвых, и лес, где он исчезает, подобен Стигийским лесам. С точки зрения других героев романа (к ним может причислить себя и читатель), Зоорландия – вымысел «с налетом фантастического». Мартын же уходит в реальную Россию, где его, видимо, ждет смерть.
Итак, мифологическое и биографическое в произведении соотносятся не только с категориями фантастического и реального, но с понятиями индивидуального и коллективного, уникального и расхожего, потаенного и названного. Иначе говоря, граница между литературными формами пролегает там, где кончается мир индивидуума и начинается мир группового сознания. Вопреки традиции, миф в «Подвиге» – не создание коллективного разума, а проекция мировоззрения личности, тогда как биографический роман возникает как отражение точки зрения большинства, персонажей и читателей. Примечательно в этой связи щедрое введение в текст автобиографического элемента, который форсирует узнаваемость именно биографической формы.
Очевидная установка на псевдоавтобиографизм отличает три набоковских романа европейского периода: «Машеньку», «Подвиг» и «Дар». Важно отметить, что образ главного героя в этих произведениях создается как проекция не собственно набоковской личности, а некоего условного, собирательного персонажа Автора. Он вбирает фрагменты биографий Набокова, Пушкина, в понимании Набокова поэта par excellence, и литературных героев, пушкинских и шекспировских. В этом сказывается игровая ориентация Набокова на совпадения биографических дат: он родился, как известно, через сто лет после Пушкина (1899) и, как любил утверждать, по новому стилю в день рождения Шекспира (23 апреля). Уже в «Подвиге» пародийно воплощается сформулированный в «Даре» принцип создания писательских биографий: «эти идиотские “биографии романсэ”, где Байрону преспокойно подсовывается сон, извлеченный из его же поэмы».
Герой «Подвига», Мартын Эдельвейс, чья биография напоминает набоковскую, лишен, однако, главного сходства с автором – у него нет литературного дара. Образ Мартына восходит не к Пушкину, а к пушкинскому герою Онегину. Модель выбрана с учетом календарного параллелизма: «Евгений Онегин», согласно авторской записи, закончен в 1830-м, «Подвиг» – в 1930-м. Оба начаты в мае (ср. у Пушкина – 9 мая, у Набокова в Предисловии к английскому переводу романа – «Glory» – говорится: «…роман начат в мае 1930…»). Сюда следует отнести и одинаковый возраст Пушкина и Набокова к моменту завершения текста. Так биографический, календарный параллелизм становится одним из условий сюжетостроения в произведении.
Онегин, с которым сам Пушкин чувствует сходство (отсюда необходимость «заметить разность»), не похож на своего создателя, он – не поэт.
Высокой страсти не имея Для звуков жизни не щадить, Не мог он ямба от хорея, Как мы ни бились, отличить.Сопоставим у Набокова о Мартыне: «…в литературных разговорах бывали с ним несчастные случаи: он раз спутал, например, Плутарха с Петраркой…» Отметим, что в предисловии к английскому переводу Набоков указал на черту, разрушающую портретное сходство героя с автором, – на отсутствие поэтического таланта.
Несколько слов о родословной героев. Мартын – русский лишь наполовину. Отец его – «швейцарец». На этот раз отсылка делается непосредственно к Пушкину: «Автор, со стороны матери, происхождения африканского…» В «Евгении Онегине» читаем: «Под небом Африки моей…» Обращает внимание пародийная цветовая контрастность переклички: дед Мартына «старик весь в белом…», а у Пушкина в «Моей родословной» «черный дед мой Ганнибал…»
Образ деда Мартына – самостоятельная отсылка к роману «Евгений Онегин». Эдельвейс – «швейцарец, воспитывавший в шестидесятых годах детей петербургского помещика Индрикова и женившийся на его дочери». А у Пушкина первоначальный вариант строк из первой главы «Евгения Онегина»:
Мосье Швейцарец очень [умный] Учил его всему шутя, Что<б> не измучилось дитя, Не докучая бранью [шумной].В «Комментарии» к роману Ю. Лотман, который и приводит указанный вариант, пишет: «В таком контексте обучение “шутя” воспринималось как изложение основ педагогики Руссо (“Швейцарец очень умный”). В Кишиневе Пушкин пережил увлечение Руссо…» Но набоковская аллюзия на Руссо реализуется не через пушкинский текст, а непосредственно: приведенная цитата о швейцарце, женившемся на дочери помещика Индрикова, прочитывается как пародийный вариант сюжетной развязки «Новой Элоизы». Отсылки к сочинению Руссо многократны в швейцарских пассажах текста.
Герой «Подвига», так же как герой Пушкина и сам Набоков, «родился на брегах Невы». Пушкинская фраза о небрежном обучении наукам:
Мы все учились понемногу Чему-нибудь и как-нибудь…отзывается в словах матери Мартына: «…в ялтинской гимназии как-нибудь доучишься…»
В характерах героев встречаются общие черты. Мартын в истории, «плохо запоминая даты и пренебрегая обобщениями […] жадно выискивал живое, человеческое, принадлежащее к разряду […] изумительных подробностей…»
У Пушкина об Онегине говорится:
Он рыться не имел охоты В хронологической пыли Бытописания земли; Но дней минувших анекдоты От Ромула до наших дней Хранил он в памяти своей.Нельзя не отметить поразительно тонкое понимание Набоковым жанра исторического анекдота. Например, у Вольтера в его главном историческом труде «Век Людовика XIV» есть особая глава «Частные подробности и анекдоты правления Людовика XIV». Иначе говоря, анекдот это и есть частная историческая подробность.
В «Подвиге» дядя Генрих дарит Мартыну на рождение «черную статуэтку, ненужную вещицу» и говорит: «В семнадцать лет человек уже должен думать об украшении своего будущего кабинета». А у Пушкина:
Все, что в Париже вкус голодный, Полезный промысел избрав, Изобретает для забав, Для роскоши, для неги модной, — Все украшало кабинет Философа в осьмнадцать лет.Пушкинская и онегинская страсть к полированию ногтей наследуется в «Подвиге» отцом и дядей Мартына: «пуще всего пилочка, которой он (отец. – Н.Б.) во всякое время терзал мягкие ногти, выводили ее (мать. – Н.Б.) из себя…» Дядя Генрих, став женихом Софьи Дмитриевны, «однажды даже вынул пилочку и начал с приятной грустью шмыгать ею по ногтям…» И отец, и дядя Генрих – швейцарцы. Пародийный смысл аллюзии в инверсивности ролей. Сравним у Пушкина:
Руссо (замечу мимоходом) Не мог понять, как важный Гримм Смел чистить ногти перед ним…Сочинения Руссо служат пародийной призмой, в которой преломляются набоковские отсылки к «Евгению Онегину».
Завязка «Подвига» повторяет начало этого произведения. У Пушкина действие дебютирует в первую неделю мая (Набоков обратил на это внимание в своих «Комментариях» к пушкинскому роману) известием об умирающем дяде, которое получает 25-летний Евгений. В «Подвиге» – весной 1918 года известием о смерти отца, которое 15-летнему Мартыну сообщает мать. Персонаж дяди, двоюродного брата отца, возникает в романе позднее. Уже в эмиграции мать Мартына выходит замуж за дядю Генриха, что Мартын воспринимает как «несомненную измену по отношению к памяти отца». Ситуация содержит аллюзию на «Гамлета» Шекспира. Трагедия включается в систему референтных текстов, сопровождающих роман, отсылки к ней осуществляются на протяжении всего повествования.
Приведу примеры. В последней, 5-й сцене I акта Гамлет после встречи с Призраком просит Горацио и Марцелла принести клятву молчания. Привожу в переводе М. Лозинского:
Горацио: О день и ночь! Все это крайне странно! Гамлет: Как странника и встретьте это с миром.Странным странником является Призрак, который приходит в мир живых сообщить Гамлету тайну. В «Подвиге» Мартын «вольным странником» отправляется в мир призраков ради приобщения к таинству. Набоков заимствует у Шекспира смысловое содержание категории странности как некоторой причастности потустороннему. Одно из проявлений ее – утрата рассудка. Горацио пытается удержать Гамлета от общения с Призраком, пугает его безумием. В переводе М. Лозинского:
…В вас низложит власть рассудка И ввергнет вас в безумие?Примечательно, что когда в финале Дарвин рассказывает Зиланову о поступке Мартына, тот восклицает в ответ: «Что за странная история… Каков, однако, сумасброд».
Внешний уровень определения странности поведения Мартына связан с непониманием его другими. Подвиг Мартына не подчинен общественной пользе, его цели и готовность к свершению вызревают в сознании героя без всякой соотнесенности с историческим временем и гражданской общепринятой логикой. Например, Дарвин думает о Мартыне: «Тут есть что-то странное. Спокойно сидел в Кембридже, пока была у них гражданская война, а теперь хочет получить пулю в лоб за шпионаж?» Непонимание Дарвина обусловлено и его собственным опытом, отвечающим общей норме: он, «прервав университетское учение, ушел восемнадцати лет на войну…» Мотив смелости/страха в «Подвиге» прочитывается как отражение аналогичного мотива в «Гамлете». Пересечение Мартыном границы географической отождествляется с пересечением границы экзистенциальной. В подтверждение герои романа воспринимают уход Мартына в Россию как его гибель. Сравним у Шекспира в знаменитом монологе Гамлета. Привожу в переводе Вл. Набокова:
…Кто б стал под грузом жизни кряхтеть, потеть, – но страх, внушенный чем-то за смертью – неоткрытою страной, из чьих пределов путник ни один не возвращался, – он смущает волю…В финальных сценах романа несколько раз пропевается сокращенная цитата из трагедии Шекспира: прощальные слова Призрака, которые Гамлет делает своим девизом: «Прощай, прощай! И помни обо мне».
Мартын в последний раз поднимается в свою комнату: «“Прощай, прощай”, – быстро пропела этажерка, увенчанная черной фигуркой футболиста…» В последней сцене с Дарвином: «“Прощай”, – сказал Мартын, но Дарвин промолчал. “Прощай”, – повторил Мартын».
Сквозная аллюзия романа на трагедию Шекспира допускает предположение, что в ней оглашена цель подвига героя. Она открывается Гамлету после посвящения в тайну пришельцем из потустороннего мира. Привожу в переводе М. Лозинского:
Век расшатался, – и скверней всего, Что я рожден восстановить его!Выдвигаемая гипотеза опирается на один из центральных мотивов «Подвига» – мотив века: «…Двадцатый век… ему (Мартыну. – Н.Б.) казалось, что лучшего времени, чем то, в которое он живет, прямо себе не представишь. Такого блеска, такой отваги, таких замыслов не было ни у одной эпохи. Все то, что искрилось в прежних веках, – страсть к исследованию неведомых земель, дерзкие опыты, подвиги любознательных людей… героические заговоры, борьба одного против многих, – все это проявлялось теперь с небывалой силой».
В предисловии к английскому переводу произведения, названного «Glory» («Слава»), Набоков привел его первоначальное название – «Романтический век», «Romantic times».
В «Подвиге», романе биографическом, строго соблюдается календарь исторического времени, которого писатель, по примеру Пушкина, всегда придерживался с большой точностью. Родители Мартына расстаются «в год, когда убили в Сараеве австрийского герцога…» Весной 1918 года – умирает отец героя, весной 1919 года – Мартын с матерью покидают Крым, а осенью 1919 года – он поступает в Кембридж. Начало учебы совпадает с событиями Гражданской войны: войска Юденича идут на Петроград. (Соня спрашивает Мартына, «собирается ли он ехать к Юденичу».) Вторая осень Мартына в Кембридже приходится на время врангелевской эвакуации из Крыма. (Мартын узнает от Сони, что муж ее сестры убит в Крыму.) В мае 1922 года Мартын заканчивает Кембридж. «Лето, осень, зиму» проводит у матери, а в апреле 1923 года приезжает в Берлин. Спустя год, в середине мая 1924 года, он едет на лето на юг Франции. В сентябре возвращается к матери в Швейцарию. Таким образом, его уход в Зоорландию приходится на осень этого года.
Вместе с тем повествование регистрирует несовпадение личной и общественной событийности. Летом 1921 года «Мартын представлял себе в живописной мечте, как возвращается к Соне после боев в Крыму… Но теперь было поздно, бои в Крыму давно кончились…» В романе разрушается всякая логическая зависимость поступка героя от коллективной истории. Дарвин пытается подыскать понятное объяснение нелегального перехода Мартына: «Ты полагаешь, может быть, что швейцарцу после того убийства в женевском кафе не дадут визы?» Речь идет об убийстве советского полпреда В. Воровского в кафе в Лозанне. Налицо типичный для набоковской поэтики прием смещения при переводе факта в текст. В данном случае – географического. Завуалированный намек – темпоральное свидетельство: убийство произошло 9 мая 1923 года.
Этот пример – показатель исторического времени в романе, но одновременно и демонстративной несоотнесенности с ним личного пути героя.
Дата ухода Мартына в Зоорландию выбрана с учетом не исторической, а пушкинской хронологии, что обусловлено уже отмечавшейся ориентацией биографического романа Набокова на пушкинскую модель. Мартын отправляется на север, в Россию, осенью 1924 года; в августе 1824-го Онегин возвращается на север, в Петербург, а Пушкин едет в ссылку в Михайловское (эту деталь Набоков отметил в своих «Комментариях» к «Евгению Онегину»). Синхронизация биографии героя и автора в «Подвиге» – отсылка к приему Пушкина. Заметим, что у Набокова начало изгнания его героя, Мартына, совпадает с отъездом в эмиграцию его самого. Как замечает в «Комментариях» Набоков, у Пушкина отъезд Онегина в деревню к дяде синхронизирован с его собственной высылкой с севера, состоявшейся ровно за три года до этого.
Согласно законам биографической формы, жизнь героя заключена в определенные временные пределы, отмеченные датой рождения и датой смерти (исчезновения из текста). День рождения Мартына в «Подвиге» предлагается установить читателю. Известно, что он наступает вскоре после приезда героя в Швейцарию. Мартын уезжает из Крыма ранней весной. Погода – «ненастное море и косо хлещущий дождь…» – характерна для начала марта[172]. Путь до Греции, пребывание там (не более трех недель), дорога до Марселя, а затем Лозанны, в целом длится более месяца. Если герой покидает Крым в начале марта, то день рождения его приходится на середину апреля. В английском переводе романа читаем: «…then in mid-April 1923, on his twenty-first birthday, he (Martin. – N.B.) announced to uncle Henry that he was leaving for Berlin» (…в середине апреля 1923 года в свой день рождения, когда ему исполнился двадцать один год, он объявил дяде Генри, что уезжает в Берлин).
Согласно церковным книгам 14 апреля – день именин Мартына[173]. Даль называет 14 апреля днем Мартына-лисогона. В тексте, однако, назван день именин героя, и примечательна его точность: вот письмо от 9 ноября – дня его именин. «В этот день, – писал Мартын, – гусь ступает на лед, а лиса меняет нору». Выбор даты символичен. 9 ноября – день именин Александра[174]. Отсылка к Пушкину закреплена в характеристике числа, которая представляет собой переведенную в прозу цитату из «Онегина»:
На красных лапках гусь тяжелый, Задумав плыть по лону вод, Ступает бережно на лед…Таким образом, дата рождения героя приходится на день его именин, а именины Мартына – на день именин Александра.
Прием утаивания и называния дат соотносится в романе с категориями общественной и личной. Дата именин, связанная с наречением, «называнием» человека и тем самым приобщением к миру общественному, оглашена. Даты рождения и смерти, принадлежащие пути личному, – скрыты.
Не названа и дата перехода Мартыном границы. Перед уходом в Зоорландию Мартын приезжает к матери, в сентябре 1924 года. Это приходится, видимо, на конец месяца. Свидетельство тому итоговая фраза, относящаяся к погоде: «Сентябрь был жаркий, погожий». Мартын проводит в доме дяди менее двух недель, в течение которых знакомится с Грузиновым.
В первую декаду октября, во вторник, который выпадает в 1924 году на 7 октября, Мартын едет в Берлин. Он прибывает туда в среду, т. е. 8 октября. Указание на начало октября делается в тексте посредством цитаты из Пушкина: «…прекрасны были теплые рыжие оттенки листвы, – “унылая пора, очей очарованье”…» Это строка из стихотворения «Осень», которое начинается со слов: «Октябрь уж наступил…»
Итак, 8 октября Мартын встречается с Дарвином и говорит: «Я дам тебе четыре открытки, будешь посылать их моей матери по одной в неделю, – скажем, каждый четверг». «В среду он (Дарвин. – Н.Б.) получил толстый пакет из Риги и нашел в нем четыре берлинских открытки…» Это была среда – 15 октября. «В четверг утром… он опустил первую» – 16 октября. «Прошла неделя, он опустил вторую» – 23 октября. «Затем он не выдержал и поехал в Ригу, где посетил своего консула, адресный стол, полицию, но не узнал ничего. Мартын словно растворился в воздухе».
Надо полагать, что Мартын перешел границу между 16 и 23 октября. Таким числом может быть 19 октября, лицейский праздник, многократно воспетый Пушкиным, день сходки друзей. На вопрос Грузинова: «Зачем?» – Мартын отвечает: «Повидать родных в Острове или Пскове». Близ Пскова в Михайловском отбывал свою северную ссылку Пушкин.
30 октября Дарвин опустил третью открытку, в пятницу 31 октября отправляется к Зиланову. «Прошло еще несколько дней…», и Дарвин едет в Швейцарию известить мать Мартына.
Описание природы в Швейцарии читается как законспирированная пушкинская строка: «Ноябрь вдруг отсырел после первых морозов». Сравним у Пушкина: «И вот трещат уже морозы…» Это начало той самой строфы «Евгения Онегина», из которой заимствован образ «гуся, ступающего на лед», поэтически маркирующий день именин героя – 9 ноября. Прозаическое воспроизведение пушкинских строк, связанных с определенной датой, служит своеобразным указателем на нее. Символично, что день перехода Мартыном границы (19 октября) и день извещения матери о его исчезновении, он же день его именин (9 ноября), приходятся в 1924 году на воскресенье (см. финал настоящей главы).
Образ Мартына содержит еще одну важную для понимания романа аллюзию на «Евгения Онегина». Онегин – фамилия речная. С рекой, путешествием по воде, связана главная тема Мартына – тема странствия. Перекличка реализуется в имени героя: согласно В. Далю, Мартын – общее название водных птиц (Larus Sterna), в число которых входят и чайка, и рыболов. Этот скрытый в имени образ – пародийное отражение пушкинского гуся, который оказывается эмблемой дня именин Мартына. И гусь и мартын – птицы водные, не певчие, как и сам герой романа, лишенный литературного дара.
2. Мифологизм
Содержание романа «Подвиг», как указывалось выше, изложено на двух уровнях: реальном и фантастическом. Восприятие действительности как мира волшебного обусловлено точкой зрения самого героя. «Подлинной жизнью» Мартына была та, «которой он жил в мечтах». Его сознание непрерывно переплавляет реальность в вымысел, а сфабрикованные фантазией образы утверждает как реальные. Фантастический смысл обретают картины прошлого. Например, Крымское побережье преображается в «Крымское лукоморье» – условие сказочности локуса реализуется за счет отсылки к пушкинской поэме-сказке, к прологу из Песни первой «Руслана и Людмилы». Это произведение, фантастическое по своей природе, становится одним из постоянных текстов, на который делаются аллюзии. Отмечу и календарную соотнесенность поэмы и романа: написанная в 1824 году, она воспроизводит сказочную Русь, в которую через сто лет (в 1924-м) уходит герой «Подвига». К числу текстов-адресатов отсылок произведения относится и «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» А. Пушкина. Некоторые образы романа прочитываются как очевидные аллюзии на сказку. Например, в сцене, когда Соня и Мартын воображают фантастическую страну: «Что-нибудь такое – северное, – говорит Соня. – Смотри, белка». Белка, играя в прятки, толчками поднялась по стволу и куда-то исчезла. А вот у Пушкина:
Ель в лесу. Под елью белка. Белка песенки поет Да орешки все грызет, А орешки не простые, Все скорлупки золотые…Появление белки в фантазиях героев о Зоорландии тем более уместно, что этот зверек в индоевропейском мифе о мировом дереве выступает в совершенно уникальной роли существа, которому доступно движение по вертикали, состоящее в пересечении разных онтологических сфер.
Обработке фантазией в «Подвиге» подчинены картины настоящего («…Сидя на камне и слушая журчание воды (традиционная поза сказочного героя. – Н.Б.), Мартын насладился сполна чувством путевой беспечности, – он, потерянный странник, был один в чудном мире…») и будущего («Мартын с замиранием, с восторгом себе представлял, как – совершенно один в чужом городе, в Лондоне, скажем – будет бродить ночью по неизвестным улицам. Он видел черные кэбы… полицейского в черном блестящем плаще, огни на Темзе…»).
Именно воображение Мартына становится его методом познания. Вместе с Соней «они изучали зоорландский быт и законы…» Представление о картине мира героя сочетает элементы реальные и ирреальные, что придает художественному пространству «Подвига» свойства пространства мифологического.
Сочинение Набокова прочитывается как роман-миф. Текст моделируется по образцам «Одиссеи» и «Энеиды» – двух канонических произведений о странствующем герое. Поэма Вергилия, как известно, была сознательно ориентирована на греческий образец. Римский поэт подчеркивал связь своего произведения с Гомером, почти все эпизоды его поэмы имеют прототипы у Гомера. Как пишет М. Л. Гаспаров, «Эней путешествует не по неведомым сказочным морям, а по местам, где уже побывали троянские и греческие колонисты»[175].
Набоков в «Подвиге» по-своему следует за Вергилием (см. финал главы) и создает произведение с постоянной установкой на «Энеиду» и, следовательно, на «Одиссею». В реальном пространстве романного мира то и дело проступают черты мифологического пространства, уже обжитого героями Вергилия и Гомера. Пребывая на юге Франции, по вечерам Мартын «шел покурить и погрезить к пробковой роще… Воздух был нежен и тускловат… и террасы олив, и мифологические холмы вдалеке… все было немного плоско и обморочно…»
1. Мифологический герой
Образ Мартына, главного героя, странствующего изгнанника, мыслится как отражение образов Одиссея и Энея. Подобно Энею, Мартын покидает берег родины весной. Изгнание обоих вынужденное.
Эней покидает Трою с отцом, Мартын с матерью. Эней – «роком ведомый беглец»[176], ему поручена великая задача: «Италийское царство и земли Рима добыть»[177]. У героя романа Набокова, как у Энея и как у Пушкина, – две родины. У Энея – Троя и Рим, у Пушкина – Россия и Африка, у Мартына – Россия и Швейцария. Мартын проникается сознанием своего таинственного долга, постигает назначение своего изгнанничества. В Кембридже он так и не выбрал бы науки, «если б все время что-то не шептало ему, что выбор его несвободен, что есть одно, чем он заниматься обязан […] он впервые почувствовал, что, в конце концов, он изгнанник, обречен жить вне родного дома. Это слово “изгнанник” было сладчайшим звуком […] Блаженство духовного одиночества и дорожные волнения получили новую значительность. Мартын словно подобрал ключ ко всем тем смутным, диким и нежным чувствам, которые осаждали его».
Но если задача Энея постоянно декларируется, прославляется, то цель путешествия Мартына, наоборот, замалчивается, окружается тайной. Пример из разговора Мартына в поезде: «Эта экспедиция научная, что ли?» – спросил француз… «Отчасти. Но – как вам объяснить? Это не главное. Главное, главное… Нет, право, не знаю, как объяснить».
Набоков прибегает к приему табуирования слова-объяснения, чем придает ему магический смысл. Запрет на произнесение ведет к характерному для мифологических текстов синонимическому варьированию, иносказанию. Пародийный эффект в подборе синонимических определений возникает в результате попытки уравнения сакрального и профанного.
Приведу еще пример из сцены разговора в поезде: «Дело в том (говорит Мартын. – Н.Б.), что я предполагаю исследовать одну далекую, почти недоступную область» […] «Я всегда утверждаю, – сказал француз, – что у наших колоний большая будущность. У ваших, разумеется, тоже». – «Я собираюсь не в колонии. Мой путь будет пролегать через дикие опасные места…» – «Вы, англичане, любите пари и рекорды […] На что миру голая скала в облаках? Или […] айсберги […] полюс, например?» – «…Но это не только спорт. Да, это далеко не все. Ведь есть еще […] любовь, нежность к земле, тысячи чувств, довольно таинственных».
Задача Мартына приобретает значение сакральной сверхзадачи. Она реконструирует, подчиняет себе мир героя, который в его глазах теряет прежние оценочные критерии. Для персонажей пространства общественного смысл задачи неясен. Дарвин говорит Мартыну: «Я только не совсем понимаю, зачем это все».
Вместе с тем в романе заявлен «зримый» маршрут героя. Мартын говорит Дарвину: «…я собираюсь нелегально перейти из Латвии в Россию […] на двадцать четыре часа, – и затем обратно».
В романе «Подвиг», как и в поэмах Гомера и Вергилия, в образе главного героя символическая значимость преобладает над образной конкретностью. Моделью поведения заявляется геройство. «В науке исторической Мартыну нравилось то, что он мог ясно вообразить, и потому он любил Карляйля». Шотландский писатель Томас Карлейль (1795–1881) – автор знаменитой книги «Герои, культ героев и героическое в истории».
Личность Мартына фактически условна, что отражено в многократно повторяемых определениях его как «никто», «ничто», «инкогнито». Например, Соня говорит Мартыну: «У него (Бубнова. – Н.Б.) есть, по крайней мере, талант […] а ты – ничто…» Или в сцене традиционно конфликтной, когда Черносвитов, муж, застает жену с Мартыном. Ни муж, ни жена словно не видят его. Другой пример – последняя встреча Мартына с Дарвином, во время которой герой незаметно уходит из комнаты и из текста: «…Дарвин […] повернул голову. Но в комнате никого не было […] Никто не вышел. Дарвин подошел и глянул в угол. Никого». Укрытие героя за определениями «ничто», «никто» – отсылка к знаменитому эпизоду с Циклопом, от которого Одиссей спасается, остроумно назвав себя «Никто».
В «Подвиге», как и в моделирующих его поэмах, герой условно равен своему назначению, сюжет реализуется в пределах оппозиционных характеристик героя, где одна маркирует роль Мартына в мире реальном, профанном, зримом, а вторая – в пространстве мифологическом, сакральном, потаенном. Он – «изгнанник» и «избранник» («ничто не могло в нем ослабить удивительное ощущение своей избранности»). Бинарная характеристика отсылает к образу Энея.
Другая оппозиционная пара характеристик героя: «барчук» / «батрак». Соня говорит Мартыну: «Ты просто путешествующий барчук». На юге Мартыну, «ввиду полного обнищания, пришлось наняться в батраки». Эта характеристика – аллюзия на Одиссея: царь Итаки возвращается в свой дом в облике старика, нищего. В противоположность гомеровскому, герой «Подвига» нанимается в батраки в чужом краю, а в свой – возвращается барином, т. е. вольным человеком. Аналогично понимается и еще одно парное определение Мартына: будучи «потерянным странником» в изгнании, он возвращается «вольным странником» в Россию / Зоорландию.
2. Мифологическое пространство
Художественное пространство «Подвига» наделено признаками пространства мифологического. Оно таинственно и вещно, фантастично и реально, репетитивно и уникально, а главное – его отличает цельность общей картины мира.
В романе постоянно наблюдается характерное для мифа взаимодействие верхнего и нижнего миров. Медиатором является, как правило, герой. Мартын «смотрел на небесную реку, между древесных клубьев, по которой тихо плыл». Земной мир отражает высший – и наоборот. «Дорога была светлая, излучистая […] слева […] долина, где серповидной пеной бежала вода…»
Примечательно, что оценочные характеристики верха и низа в «Подвиге» переменчивы. Например, Мартын чуть не погиб летом, «едва не сорвавшись со скалы». Зиланов «спасся от большевиков по водосточной трубе» – тут обыгрывается пародийный синоним водного пути и вертикальный, направленный вниз маршрут спасения. В финале произведения его герой, вернувшись с юга, отправляется на север, в Зоорландию: географическое восхождение оказывается символическим спуском в инфернальное пространство.
Географическая карта романного мира у Набокова по аналогии с Гомером и Вергилием сочетает вымышленные и реальные названия. Но у Набокова реальные имена часто выдают себя за вымысел, а последний удачно гримируется под действительность. Приведу в качестве иллюстрации пару реальных названий городов на границе Латвии и России / Зоорландии, которые приводит Набоков и которые воспринимаются читателем как буквализация метафоры предстоящей казни героя. Грузинов показывает на карте: «…Режица, вот Пыталово, на самой черте…»
Еще несколько примеров из крымских страниц романа. Узнав о смерти отца, Мартын «долго блуждал по Воронцовскому парку». Семья Лиды «жила в Адреизе». Он вспоминает купальни, свой «правильный кроль», который Лида не видела, так как «отходила налево к скалам, прозванным ею Айвазовскими».
Как свидетельствует географический справочник «Россия», «именье князя М. С. Воронцова расположено в Алупке. Отлогий склон горы от дворца до моря занят роскошным нижним парком, в котором попадаются аллеи громадных кипарисов» (см. начало романа, когда Мартын в Крыму выходит на зов матери из «кипарисовой аллеи»). «Шоссейная дорога спускается к берегу моря, где устроена купальня… От купальни вдоль моря по направлению к востоку проходит дорожка и против нее живописный хаос скал […] На одной из них […] известной под именем скалы Айвазовского, устроена площадка»[178].
Таким образом, название скалы оказывается реальным, а вот название городка, где жила семья Лиды, – вымыслом. Имя его, Адреиз, создано по образцу распространенных названий Крымского побережья: Симеиз, Кореиз, Олеиз. Сопоставление географического и романного описаний убеждает, что Адреизом назван Симеиз, находившийся в трех верстах от Алупки (сравнительно небольшое расстояние отделяет городок Лиды от дачи Мартына, так как он «возвращается ночью пешком»).
К числу указаний на мифологичность пространства относится прием географических аллюзий. Вот аллюзия на Гомера. Она сделана с демонстративным указанием адресата и воплощает зримый уровень текста. Мартын в Греции стоит на взморье с женщиной, чью юбку швырял «ветер, наполнявший когда-то парус Улисса». И другая аллюзия, уже на Вергилия. Она закодирована в названии локуса и соотносится с потаенным уровнем произведения. Соня рассказывает Мартыну, что ее сестра «Нелли умерла от родов в Бриндизи…» Бриндизи, старое название – Брундизий, – порт в Италии, где после возвращении из Греции умер Вергилий. Свое путешествие поэт предпринял, чтобы увидеть греческие и троянские места. Вергилий, как известно, не закончил «Энеиды» и завещал друзьям сжечь ее. Условие это художественно воспроизведено в тексте в образе смерти от родов.
Важным признаком мифологического пространства «Подвига» является размывание четких границ между реальным и потусторонним мирами. Герой выходит на случайной станции на юге Франции и, пройдя по улице, вдруг спохватывается, что не заметил названия городка. «Это приятно взволновало его. Как знать, – быть может, он уже за пограничной чертой […] ночь, неизвестность […] сейчас окликнут…» Неопределенность мирораздела делает осязаемее соседство потустороннего.
Символом модернизированной трансгрессии миров является в романе поезд. Примером служит пересечение на поезде маленьким Мартыном чужого и родного пространств. В финале Дарвин спрашивает его: «…не проще ли […] переехать границу в поезде?» Путешествие на поезде допускает регистрацию обоих миров. В сцене пути из Марселя в Лозанну «волшебство было тут как тут: эти огни и вопли во мраке». Намек на инфернальный образ отсылает к VI книге «Энеиды». В Царстве мертвых у первых дверей Эней слышит детские вопли. Аллюзия, как это часто бывает у Набокова, возвращается в текст романа. Персонажем, объединяющим оба мотива – поезда и детских страданий в Зоорландии, – является в «Подвиге» Ирина. Рассказ о ней Грузиновой полон ужасающих подробностей. Мы видим 14-летнюю девочку, «оказавшуюся с матерью в теплушке среди разного сброда. Они ехали бесконечно – и двое забияк… то и дело ее шупали и щипали», а потом на глазах девочки солдаты выбросили в окно отца. В результате пережитого Ирина «перестала владеть человеческой речью».
Узнав историю Ирины, Мартын понимает, «что никто и ничто не может ему помешать вольным странником пробраться в эти леса, где в сумраке мучат толстых детей и пахнет гарью и тленом».
Он, подобно герою мифологической поэмы, ориентируется в таинственном пространстве по знакам, сигналам. Ими служат звезды, огни, звуки, тишина, птицы… Герой ощущает единство мира, присутствие потустороннего в реальном. Стоя на террасе в Швейцарии, Мартын чувствует «призыв в гармонии ночи и света». Неопределенность границ, взаимопроникновенность миров и, наконец, их органическая слитность убеждают его в возможности ухода и возврата из Зоорландии.
3. Мифологический сюжет
Повествование складывается из автономных сюжетных единиц, четко соотнесенных со сменой локуса. Их отличает сюжетная повторяемость, вариативность в пределах константной схемы. Несколько раз проигрывается сюжет испытания героя на смелость: в Крыму, дважды в Швейцарии, в Англии.
Несколько раз в романе возникает любовный треугольник, но он всегда отмечен пародийной бесконфликтностью. В Греции муж Аллы, застав ее с Мартыном, попросту не замечает измены. В Англии боксерская схватка Мартына с Дарвином кончается дружеским примирением. В Берлине сам Мартын отказывается от соперничества с Бубновым. Любовная интрига дедраматизируется переключением на социально сниженный, упрощенный вариант чувств. В Швейцарии Мартын забывает Аллу, увлекшись горничной Марией, а в Англии «несчастная любовь (к Соне. – Н.Б.)… не мешала ему волочиться за всякой миловидной женщиной» и вступить в короткую связь с официанткой Розой. Пародийная вторичность сюжета-клише – романа «барчука» с прислугой – подкреплена общим условием: оба женских образа являются автоаллюзией на первый набоковский роман. Дурно пахнущая Мария («однажды, после ее ухода, Софья Дмитриевна потянула носом, поморщилась и поспешно открыла все окна, – и Мартын проникся к Марии досадливым отвращением…») и «смугло-румяная» Роза в Кембридже – пародийные варианты смугловатой Машеньки, чей нежный благоухающий образ розы закодирован в тексте романа.
К «Машеньке» отсылает и другая пародийная автоаллюзия в «Подвиге»: Соня отправляет Мартыну открытку с пошлым «немецким» стишком: «Пускай умалчивает сердце о том, что розы говорят», – так пародийно обыгрывается мотив тайны, связанный с образом розы в романе «Машенька».
Репетитивность сюжетных фрагментов в «Подвиге» характерна для мифологического сюжетостроения, – об этом писал К. Леви-Стросс в работе «Структура мифов». Стоит заметить, что отдельные сюжетные периоды романа непосредственно отсылают к «Одиссее» и «Энеиде».
Так, роман Мартына с Аллой Черносвитовой – аллюзия на Вергилия, но одновременно и на Пушкина. Начну, однако, со сказки «Руслан и Людмила». У Мартына завязывается роман с женой Черносвитова, который живет с ним в одной комнате и, бреясь по утрам, «неизменно говорил: “Мазь для лица Прыщемор. В вашем возрасте необходимо”». В поэме Пушкина колдун Черномор уносит невесту Руслана. Имя сказочного злодея «раскалывается» на фамилию мужа и название крема. Сила Черномора в бороде. В романе обманутый муж усердно бреется «безопасной бритвой». У Пушкина седую бороду Черномора «на подушках осторожно» несет «арапов длинный ряд». Образ влюбленного колдуна пародийно закреплен в фамилии обманутого мужа – Черносвитов.
Но главный адресат сюжетного фрагмента – Вергилий. Любовная связь Мартына с Аллой Черносвитовой в Греции – аллюзия на роман Энея с Дидоной, карфагенской царицей. Дидона названа в тексте «блуждающей» (femina… errans.). А у Набокова об Алле говорится: «Одна только эта молодая дама выглядела примерной путешественницей…» Дидона после гибели мужа бежит в Африку, где покупает землю у царя Ярба. Она становится африканской царицей. Мотив пародийно воплощается в жарких любовных сценах: «…Алла похрустывала в его объятиях […] Между тем близка была Африка […] узоры знойной суши…» Страсть Дидоны к Энею отзывается в декларируемой «страстности» Аллы. «Я безумно чувственная. Ты меня никогда не забудешь…» – говорит она Мартыну.
Образ Аллы Черносвитовой в его сознании связывается с «черной статуэткой (футболист, ведущий мяч)», которую дядя Генрих дарит ему на рождение. Таинственный смысл символа предлагается к читательской интерпретации.
Хрупкость Аллы («Ах, сломаешь», – говорит она Мартыну) легко соотносится с хрупкостью статуэтки. Черный цвет фигурки – с черным цветом, закрепленным в фамилии героини. Но основное значение символа раскрывается в аллюзии на Вергилия.
В книге IV поэмы разгневанная царица говорит Энею:
…А я преследовать буду С факелом черным тебя…Фамилия героини, Черносвитова, – пародийное отражение образа Дидоны, которая с черным факелом мести преследует покинувшего ее возлюбленного. Симптоматично, что в романном отражении возникает «мимозовая ветка». Ей Алла машет Мартыну при прощании. Это синоним «золотой ветви», позволяющей Энею проникнуть в Царство мертвых. Алла называет любовные свидания – «заглянуть в рай», Мартын, отправляясь в Зоорландию, собирается заглянуть в ад.
И еще один элемент символа – «футболист, ведущий мяч». Футбол, бокс, гребля, теннис образуют мотив спорта в романе. Спорт утверждается в «Подвиге» как форма испытания на смелость, проявление геройства. Героическое начало, которое видит в спорте Мартын, восходит к римской модели. Указания на нее есть в тексте. Герой размышляет о словесности: «Были в ней для Мартына намеки на блаженство: как пронзала пустая беседа о погоде и спорте между Горацием и Меценатом…» Цитата отсылает к 1-й Оде Горация, посвященной Меценату, где описывается соревнование на колесницах на олимпийской арене[179]. Цитирую в переводе М. Л. Гаспарова: «Есть такие, кому высшее счастье пыль арены взметать в беге увертливом раскаленных колес…»[180] «Не было победы славней для античного человека, – разъясняет М. Гаспаров, – чем победа на Олимпийских играх». Роман с Аллой – первая победа молодого человека в любви – может отождествляться в его сознании с победой спортивной.
Возможно, однако, и другое прочтение символа. Оно отсылает к Гомеру и Вергилию, к образу надгробных спортивных игр (Гомер. Надгробные игры по Патроклу, «Илиада». Вергилий. Надгробные игры по Анхизу, «Энеида»). Их символическая связь с мраком Царства мертвых воплощается в романе в «черной статуэтке футболиста».
Черный цвет в «Подвиге» традиционно связывается с Царством Аида, а пародийно – с Африкой. Африканский мотив в произведении также соотнесен с Вергилием, точнее, через него с другим поэтом, Петраркой, чья эпическая поэма, написанная на латинском языке, «Африка» – образец прямого подражания «Энеиде». Имя Петрарки в «Подвиге» всплывает в форме комической ошибки: Мартын «раз спутал… Плутарха с Петраркой…» Приведенный пример характерен для набоковской манеры законспирированных повторных называний имен адресатов своих изысканно выстроенных литературных аллюзий. И кроме того, в набоковских текстах случайных имен нет…
Африканский мотив, сквозной в повествовании, реализуется в перекличке с литературными текстами и биографиями, включенными в художественную орбиту романа. Главная среди них – биография пушкинская. Пушкинское присутствие в «Подвиге» обусловливает смысловое сближение отдаленных миров, обнаружение их скрытого единства. В контексте биографии поэта образы России и Африки и, соответственно, значения белого и черного цветов, понятия севера и юга осознаются как части и признаки общей картины мира, обладающей мифологической цельностью и гармонией. Приведу несколько примеров. Мартын на юге замечает, как «блестели листья, как блестят они и в русском лесу, и в лесу африканском».
В Кембридже, в кондитерской, «очень привлекавшей студентов… пирожные были всех цветов… и глянцево-черные, негритянские с белой душой». О Мартыне: «…кожа у него была более кремового оттенка с многочисленными родинками, как часто бывает у русских». Родинки – как следы негритянского нутра, проступающего на белой коже.
Другим референтным произведением для африканского мотива в романе является «Отелло» Шекспира. Мартын мечтает, что «после многих приключений… явится к Соне и будет, как Отелло, рассказывать, рассказывать». Цитата отсылает к известным словам Отелло. Привожу в переводе Б. Пастернака:
Я ей своим бесстрашьем полюбился, Она же мне – сочувствием своим.В смысловом освещении шекспировского текста прочитывается «то сокровенное, заповедное (Мартына. – Н.Б.), чем связаны между собой эта экспедиция и его любовь…»
Другой важный сюжетный период означен образом Сони, девушки, в которую влюблен Мартын. Представляется, что она исполняет в повествовании традиционную для мифологических поэм роль «задерживающей женщины» и является романным воплощением образа Цирцеи из «Одиссеи».
Мартын живет в Берлине, связанный чувством к Соне. Он понимает, «что еще немного, и он превратится в Сонину тень и будет до конца жизни скользить по берлинским панелям, израсходовав на тщетную страсть то важное, торжественное, что зрело в нем». Сравним у Гомера: Одиссей говорит Цирцее (привожу в переводе В. Жуковского): «Ты у меня, безоружного, мужество все похитишь…»
Мартын проводит в Берлине год, как Одиссей на острове Цирцеи. «Пересев… в поезд, идущий на… юг, он как будто окончательно освободился из Сониных туманов». Цирцея – волшебница. Отсылка к Гомеру делается через еще один медиативный текст. Соня говорит «тоном пушкинской Наины», колдуньи из «Руслана и Людмилы».
Соня – дочь Зиланова-«кочевника». В романе «кочевник» противопоставлен «страннику», как путешествующий по земле – путешествующему и по воде, и по суше. Определение «кочевник» отсылает к «Цыганам» Пушкина (поэма была окончена 10 октября 1824 года, см. условие биографического параллелизма, указанное выше).
Цыганы шумною толпой По Бессарабии кочуют…Соня появляется в маскараде, «одетая цыганкой». Костюм – намек на роль предсказательницы. Она, шутя, говорит Мартыну: «…в России встретимся…» Цирцея в «Одиссее» и Сивилла в «Энеиде» рассказывают герою, как спуститься в Царство мертвых. А у Набокова читаем о том, как Мартын с Соней изучали зоорландский быт. Знание о подземном мире отражено в голосе Сони: «…в ее торопливом голоске проходил подземной струей смех, увлажняя снизу слова…»
Ее образ обнаруживает пародийную перекличку произведения с еще одним текстом-адресатом: романом Ф. Достоевского «Преступление и наказание». На общем уровне их сближает установка на героизм, понимаемый, правда, по-разному. Отсылка к Достоевскому означена в тексте: Мартын едет с Соней «в озерные окрестности города… и Мартын героически держал данное ей слово, не делал мармеладовых глаз, – ее выражение…» Цитата содержит игровую отсылку к героине «Преступления и наказания» Соне Мармеладовой. Раскольников приходит к ней, чтобы облегчить душу, рассказать об убийстве. Мартын «пускает перед ней свою душу налегке», говорит о стране мертвых, Зоорландии, и подспудно о своей возможной гибели. При последнем свидании с Соней Мартын боится выболтать самое «сокровенное, заповедное», он умалчивает о своем подвиге; Раскольников же рассказывает о своем преступлении.
3. На перекрестке литературных форм
В романе «Подвиг» – 50 глав. Но в их нумерации сделан пропуск, выпущена 11-я глава. Он сделан в прижизненных изданиях, проверенных и завизированных самим Набоковым. Этот факт может свидетельствовать лишь об авторском художественном приеме, смысл которого раскрывается при обнаружении ключа к прочтению романа. При переводе текста на английский этот прием был исключен. В «Glory» – 48 глав (в 39-й объединены две, представленные в русском оригинале отдельно).
В набоковедении факт пропуска в нумерации глав не был замечен и прокомментирован к моменту первого издания моей книги в 1998 году.
Между тем прием пропуска главы отсылает к пушкинскому роману в стихах. Выпущенной в «Евгении Онегине» является глава «Путешествие Онегина по России». Отказ Набокова в «Glory» от нарушения порядка в нумерации глав обусловлен, надо полагать, особенностью культурной рецепции англоязычною читателя, для которого присутствие пушкинского произведения в системе романа Набокова трудноузнаваемо.
Номер выпущенной главы в «Подвиге» исполняет функцию кода другого адресата аллюзии – «Одиссеи» Гомера, где одиннадцатой является Песнь о путешествии героя в Царство мертвых. Таким образом, выпуск главы и ее нумерация маркируют в романе Набокова перекресток двух литературных форм, моделирующих повествование.
В контексте набоковской аллюзии путешествие в Россию и путешествие в Царство Аида образуют смысловое тождество. Намеки на это рассыпаны в тексте. Соня говорит Мартыну: «…вот есть на свете страна, куда вход простым смертным воспрещен». Ср. у Гомера: «В аде еще не бывал с кораблем ни один земнородный», – говорит Одиссею Цирцея. Один из героев романа Набокова Иоголевич «переходит границу в саване», т. е. изображая мертвеца. «Саван-на-рыло» – кличка одного из зоорландских вождей в фантастической стране, придуманной Мартыном и Соней.
Зоорландия, северная страна, где «холодные зимы» «и все очень водянисто…», где вечная ночь, – синоним мифологической Киммерии, северной, болотистой страны, покрытой мраком.
В романе заявлены две возможные причины перехода. Первая обусловлена участием в тайной организации, деятельность которой подчинена общественной пользе, общему делу – борьбе с большевиками. Воплощают ее в «Подвиге» герои, «люди почтенные, общественные, чистые, вполне достойные будущего некролога в сто кристальных слов». Один из них – Грузинов.
Вторая – связана с актом сугубо индивидуальным. Согласно античному пониманию, в Царстве мертвых мыслится источник тайного знания. Но добытое знание нерассказуемо. Его нельзя подчинить утилитарной цели, и опыт одного не может стать достоянием многих. Путешествие в Царство Аида, сопряженное с личным мужеством, становится приобщением к таинству того, кто его совершает. Непроизносимость тайны воплощена в романе структурно в фигуре умолчания (см. начало настоящей главы).
Мартын, который отправляется в Зоорландию, Царство мертвых, противопоставлен в романе Грузинову, который тайно переходит в Россию и руководит восстаниями. Мартын – «вольный странник», Грузинов – «волевая личность». Оба образа отмечены знаком тайны: Мартын воплощает тайну личности, Грузинов – тайну организации, он – «заговорщик».
Примечательно, что сопоставление этих персонажей осуществляется посредством символов еды: мороженого и баранины. Оба вводятся в роман в качестве загадки и остаются без ответа до конца повествования. Мартыну в Крыму снится сон, в котором «Лида… говорит, что грузины не едят мороженого». При знакомстве с Грузиновым Мартын слышит, как тот произносит фразу: «…я мороженого никогда не ем». Читатель связывает ответ персонажа со сном, используя совпадение: грузины / Грузинов. Этот явный ответ, однако, ничего не разъясняет и оказывается ложным ходом. Образ мороженого отсылает к Пушкину, к часто цитируемому в романе отрывку «Осень».
…и жаль зимы старухи, И, проводив ее блинами и вином, Поминки ей творим мороженым и льдом.Мороженое выступает как символ холода, зимы, севера. В контексте аллюзии: отказ от мороженого – отказ от поминок по северу, что воплощается в сопротивленческой деятельности Грузинова. О баранине речь также заходит несколько раз. За ужином у Зилановых безумная Ирина, «живой символ» Царства мертвых, «мычала, объясняясь в любви холодной баранине». Соня – Мартыну: «Я знаю, вы баранину не любите». Баран – жертвенное животное, предназначаемое потустороннему миру. У Гомера «черного барана и овцу» Одиссей приносит в жертву теням. Для Мартына Зоорландия – страна мертвых, для Грузинова Россия – страна, чью гибель он отказывается принять.
Эти два персонажа маркируют в романе противопоставленность деловитости и мечтательности, материальной конкретности и духовной неосязаемости, общественной пользы и индивидуального опыта. Противопоставление воплощено в оппозиции категорий груза и легкости. Груз закодирован в фамилии: Грузинов. Легкость оговорена в поведении Мартына, его откровениях с Соней, когда он любил «пускать душу налегке». Понятие легкости освобождается в романе от весового смысла, соотносится с ирреальностью, с бестелесностью, с перемещениями души. Например, Мартын замечает о беглецах из России, что «несмотря на обилие багажа… было… впечатление, что все эти люди уезжают налегке…»
Понятие груза отождествляется со значением общественной пользы, жизненной конкретности. Грузинов советует Мартыну «заняться чем-нибудь дельным». Зиланов упрекает героя: «Баклуши бьете», имея в виду учебу в Кембридже. Символична и внешность Грузинова: «плотный, опрятный господин, с холодными глазами…» Мартын обращает внимание на его очки: «…очень почему-то простые очки, в металлической оправе, какие под стать было бы носить пожилому рабочему, мастеру со складным аршином в кармане…» Складной аршин, символ материальной меры мира, и простые очки, за которыми равнодушные к красоте мира глаза, – Грузинов на прогулках в горах «не любил, когда останавливались, чтобы поглядеть на вид…», – или другой общественный деятель – Зиланов, который путешествует «совершенно слепой к живописным местам…» Все это позволяет узнать в Грузинове и его соратниках по борьбе идеологических потомков Чернышевского, героя главы последнего набоковского романа, написанного по-русски, – «Дар» (см. ниже).
Разговор Мартына с Грузиновым воспринимается как последняя попытка героя воспользоваться маршрутом реальным. Неудача освобождает его от груза материальной определенности. Мартын называет свое путешествие «экспедицией», что на латыни значит – «военный поход налегке». Теперь его единственной дорогой в Зоорландию становится путь мифологический.
Вопрос о дальнейшей судьбе героя хоть и выходит за пределы текста, тем не менее не оставляет в покое ни исследователей, ни читателей. Между тем ответ на него дан самим автором, более того, демонстративно вынесен в заглавие. Необходимым смыслом его наполняет текст-адресат, аллюзией на который служит весь роман. Это «Энеида» Вергилия. Ключевые для понимания строки поэмы вынесены эпиграфом к настоящей главе.
…не труден доступ к Аверну: Ночи раскрыты и дни ворота черного Дита, Но шаги обратить и на высший выбраться воздух, — Это есть труд, – это есть подвиг. (Вергилий, «Энеида»)Известно, что в античности понятие подвига связывалось не с уходом в Царство мертвых, а с возвращением из него[181]. Символично, что у Вергилия слово «opus», которое Брюсов перевел как «труд», прочитывается в этом контексте как подвиг и как произведение, что с полнотой реализует Набоков в своем романе.
В подтверждение гипотезы о связи «Подвига» с «Энеидой» приведу еще одно игровое набоковское признание. В письме к Э. Уилсону Набоков сопоставил свой роман «Подвиг» с «Полтавой» Пушкина. Он писал, что «Полтава» в пушкинском наследии занимает такое же место, как «Подвиг» – в его[182]. Смысл сближения заключен опять же в третьем тексте. Им является известный отзыв Н. Надеждина о том, что «Полтава» Пушкина – это «Энеида» наизнанку[183].
Глава VI Волшебный фонарь «Камера обскура»[184]
1
Этот роман был написан Набоковым быстро, работа над ним началась в конце января, а уже в последнюю неделю мая 1931 года текст был закончен. Его предварительное название было «Райская птица», но, видимо, по мере того как роль кино в произведении росла и значилась, писатель заменил название на «Камера обскура».
Впервые роман был опубликован в Париже в журнале «Современные записки» в 1932 году. В 1933 году он вышел отдельной книгой. В 1936 году в Лондоне был напечатан перевод на английский, сделанный У. Роем с поправками автора. Год спустя Набоков заново переписал роман по-английски и опубликовал в 1938 году под названием «Laughter in the Dark» («Смех в темноте»). Разночтения так велики, что английский вариант текста может считаться самостоятельным произведением. Изменены имена героев, отдельные элементы повествования отсутствуют или заменены другими, иногда разнятся сюжетные ходы и создана новая система литературных аллюзий. Таков пример набоковского понимания перевода текста на другой язык как перевода его в пространство другой культуры.
«“Камера обскура” – литературное воплощение пословицы: “Любовь слепа”», – писал В. Ходасевич. Формулировка критика по краткости опережает собственное авторское определение романного сюжета, сделанное в английском переводе произведения «Смех в темноте», в его первом коротком абзаце, который даю в своем переводе: «Однажды в Берлине, Германии, жил человек по имени Альбинус. Он был богат, уважаем и счастлив; в один прекрасный день он бросил жену ради молодой любовницы; он любил, но любим не был, и жизнь его закончилась катастрофой». Этот абзац, понимаемый как графически не выделенный эпиграф к роману, является аллюзией на эпиграф к «Путешествию по Гарцу» Г. Гейне, ко второй части «Идеи. Книга Le Grand». Цитирую: «Она была привлекательна, и он любил ее, но он не был привлекателен, и она не любила его. “Старая пьеса”»[185]. Смысл аллюзии в изящном оглашении банальности и повторяемости избранного сюжета и в неизбежности его развязки. Условный эпиграф содержит маршрут сюжета: от вспышки любви к трагедии утраты ее магического света. Иначе говоря, действие движется от света к тьме, от зримого к слепоте. Моторной силой движения становится любовь.
В начале романа семейное благополучие героя осознается им как бесцветная, тихая, «нежная, мягкая жизнь». Мимо него в виде молодых женщин, «невероятных, сладких, головокружительных» ощущений, снов, мечтаний проходит страстная красота, вызывающая «ощущение невыносимой утраты».
Приход любви, которую он случайно встречает, подобен вспышке молнии («…в нем пробегала молниевидная мысль, что может быть завтра, уже завтра, да, наверное, завтра…»), мистическому освещению. Появляется самый эмоционально насыщенный цвет – красный, цвет страсти. Магда впервые приходит на квартиру к Кречмару в красном детском платье. Но вместе с тем этот цвет в романе символизирует и наказание за пагубную страсть, но в пародийном воплощении. Например, когда взволнованный предстоящим свиданием Кречмар приезжает к Магде, ему открывает дверь новая кухарка, «угрюмая бабища, с красными, как сырое мясо, руками…»
Освещенная страстью жизнь героев делается яркой и динамичной. Оглядывая безвкусную гостиную Магды, Кречмар замечает, что «на все падал отсвет его страсти и все оживлял». «Счастье, удача во всем, быстрота и легкость жизни» – вот что испытывает Магда после свидания с желанным любовником.
Однако по мере развития сюжета свет страсти становится ослепляющим. Герой на пике своей страсти и ревности попадает в аварию и слепнет. Его погружение в темноту происходит так же внезапно, как молниевидное появление страсти: герой замечает, как «…мелькнула в глазах растопыренная рука Магды, и волшебный фонарь мгновенно потух». Темнота изолирует его, лишает возлюбленной, действие фактически возвращается к исходному: «…от Магды остался только голос… она как бы вернулась в ту темноту (темноту маленького кинематографа), из которой он ее когда-то извлек».
Световое воплощение любовного сюжета обнаруживает аналогию романного действия с кинематографическим, что обусловлено пародийной доминантой этого произведения В. Набокова – кино. Предположения о его роли в «Камере обскура» уже выдвигались исследователями. Одними из первых об этом писали американские набоковеды Д. Стюард, А. Аппель, Д. Рэмптон и др. Биограф писателя Б. Бойд ссылается на письмо Набокова У. Минтону от 4 ноября 1958 года, в котором тот признается, что, работая над романом, мыслил кинематографическими образами. Воздавая должное сделанным наблюдениям, нам все-таки кажется возможным предложить свою версию выдвинутой гипотезы.
Об интересе Набокова-зрителя к кинематографу писали многие мемуаристы, так например, И. В. Гессен, старый друг и соратник Набокова-отца, в эмиграции возглавлявший газету «Руль» и издательство «Слово», вспоминал, что: «…для самого Сирина нет как будто большего удовольствия, чем смотреть нарочито нелепую американскую картину. Чем она беззаботно глупей, тем сильней задыхается и буквально сотрясается он от смеха, до того, что иногда вынужден покидать зал»[186]. Набоков-писатель очень рано увидел в искусстве кино огромный резервуар художественных приемов, которые может позаимствовать литература. Этот подход к кино наметился уже в самом начале его творчества. Примером может послужить набоковский рассказ 1924-го года – «Картофельный эльф». Сам писатель, представляя это свое произведение в английском переводе, говорил, что «в его структуре и в повторяющихся деталях есть кинематографическое видение». Через несколько месяцев после публикации рассказа в «Русском эхе» Набоков переделал его в сценарий под названием «Любовь карлика», который по неизвестным причинам остался неоконченным.
Художественная установка на кино в романе «Камера обскура» тем более не случайна, что он написан Набоковым в период быстрого художественного расцвета и смелого экспериментаторства в области игрового кино, а в Германии, где в эмиграции оказался Набоков, расцвета кино немецкого экспрессионизма, оказавшего немалое влияние на молодого писателя. Но особенно важно отметить, что период работы над этим романом совпадает с исследовательской активностью первых теоретиков кино, с появлением их работ по осмыслению синкретической природы кино, особенностей его восприятия зрителями, оформления киностилистики. Напомню, в 1927 году в России выходит первый важнейший сборник статей по теоретическому осмыслению художественных приемов нового искусства под редакцией Б. Эйхенбаума – «Поэтика кино», где обсуждаются роль и возможности монтажа, быстро усваиваемые, в частности, литературой, природа кинометафоры, интимность и массовость восприятия немого кино, аналогия его восприятия как сна и т. д. Еще раньше наметился процесс освоения литературой кино как темы и объекта описания. Особенно заметно это проявилось в поэзии: О. Мандельштам. «Кинематограф»; В. Брюсов. «Мировой кинематограф»; Вл. Ходасевич. «Баллада»; В. Набоков. «Кинематограф», а также близкое ему по смыслу и нашедшее отзвук в романе его стихотворение «Снимок».
Воспроизведение в литературе других искусств – большая тема, и набоковский роман занимает в ней особое место. Только кинематограф является в нем не просто темой, а пародийной, скрытой социально-художественной моделью, приобретающей в структуре произведения формирующую текст функцию.
Это сказывается, в первую очередь, в выборе жанра произведения – «киноромана», формы кинематографической. В 20-х годах этот жанр доминировал в игровом кино. В немецком кино того периода кроме мелодрамы утвердился жанр «каммершпиле». Он определялся не просто экранизацией литературных произведений, романных сюжетов, но и киновоспроизведением приемов повествовательной прозы. Набоков в «Камере обскура» осуществил обратное – литературно воплотил киноприемы, придал тексту изобразительные и смысловые признаки фильма. В отличие от уже апробированного в кинематографе приема – перехода героя с экрана в жизнь, реализованного, например, В. Маяковским в 1918-м в картине «Закованная фильмой», Набоков переводит своего героя из жизненной реальности в фильмовую, из зрителя «ярких снов» в персонаж, действующий на экране. При этом перевоплощение происходит непосредственно в темноте маленького кинотеатра, куда Бруно Кречмар случайно заходит, попадая к концу сеанса: «Глядеть на экран было сейчас ни к чему, – все равно это было непонятное разрешение каких-то событий, которых он еще не знал (…кто-то, плечистый, слепо шел на пятившуюся женщину…). Было странно думать, что эти непонятные персонажи и непонятные действия их станут понятными и совершенно иначе им воспринимаемыми, если он просмотрит картину сначала».
Развитие романной фабулы восстанавливает монтажный порядок фильма: в финале повествования, слепым, идущим на Магду оказывается сам Кречмар. Заключительная сцена романа совпадает с последней сценой фильма, которую в начале романа Кречмар, вошедший в зрительный зал к концу сеанса, видит первой. Таким образом романное повествование оказывается замкнутым в пределы киноленты, киноэкрана.
Прием закамуфлированного оглашения развязки в начале произведения в этом романе Набокова вводится еще и как условие, маркирующее разнонаправленность художественного процесса в двух сопоставляемых и наиболее близких искусствах: литературе и кино. Слово в тексте создает образ, визуализацию которого осуществляет читатель. Фильм визуально реализует образ, оставляя зрителю воспроизвести соответствующий изображению текст. Эту особенность немого кино – стимуляцию «процесса внутренней речи у зрителя» – отметил Б. Эйхенбаум в статье «Проблемы киностилистики», опубликованной в уже упомянутом сборнике «Поэтика кино». Эйхенбаум объяснял, что «режиссеры немого кино часто пользуются символами и метафорами, смысл которых прямо опирается на ходячие словесные метафоры». Вспомним, как определил суть романного сюжета критик – «любовь слепа». Он как бы уловил ту простейшую формулу, некий штамп, обычно закладываемый в картину немого кино и угадываемый зрителем. Кстати сказать, эта пословица проговаривается и непосредственно в тексте романа, ее произносит в разговоре со швейцаром почтальон, персонаж случайный, сторонний наблюдатель, зритель.
Таким образом, литературное произведение принимает на себя функции фильма. И это отожествление с кинокартиной осуществляется согласно тогдашнему общественному восприятию кино как вульгарного, низкого искусства в сравнении с другими видами искусств. Поэтому, делая кино структурирующей моделью романа, Набоков тем самым выбирает единственно возможный путь его литературного восприятия – пародийный. Более того, разворачивая короткую речевую синтагму (пословицу) в киноповествование и осуществляя тем самым буквальность ее воплощения (влюбленный герой слепнет), – писатель демонстрирует переход пародии в качественно другой статус – статус карикатуры. Карикатуризация (ее условие в тексте закреплено также буквально – персонажем карикатуристом Горном, руководителем и наблюдателем действия), в свою очередь, доводит словесную метафору до абсурда и высвобождает ее из панциря пародии (отчасти этот прием оговаривается в «Даре» в воображаемом разговоре с поэтом Кончеевым: «…вы иногда доводите пародию до такой натуральности, что она в сущности становится настоящей серьезной мыслью»). В финале романа это воплощается в разрушении не только основной словесной формулы, но слова как такового. Например, узнав о своей слепоте: «“Я… Я…” – судорожно набирая воздух, начал Кречмар и, набрав воздуху, стал равномерно кричать». Звуковое, а не словесное отражение ситуации повторяется неоднократно. Узнав от приехавшего Макса о присутствии в доме Горна, слепой «стал вдруг кричать, кричать совершенно бессмысленно, и только постепенно из этой мешанины грудных звуков стали образовываться слова».
Оригинальность этого набоковского произведения – в попытке воспроизведения в литературном тексте картины немого кино. Характерно, что английский текст «Смех в темноте», написанный в конце 30-х годов, воспроизводит уже звуковой фильм. Одним из доказательств ориентации «Камеры обскура» на немое кино является не просто минимализм диалогов в повествовании, но и их нулевая смысловая роль. Диалог не обеспечивает сюжетного движения, в первую очередь, потому, что в его пределах не происходит коммуникативного обмена:
«“Магда, пожалуйста”, – протянул Кречмар […]
“Там будет видно. Сперва я хочу кое о чем тебя, Бруно, спросить. Скажи, ты уже начал хлопотать о разводе?”
“О разводе?” – повторил он глуповато.
“Я иногда не понимаю тебя, Бруно. Ведь нужно это все как-то оформить. Или ты, может быть, думаешь через некоторое время бросить меня и вернуться к Лисхен?”
“Бросить тебя?”
“Что ты за мной, идиот, все повторяешь?”»
Во-вторых, в диалогических сценах происходит полное выключение звукового содержания речи, текст фиксирует только изображение говорящих. Пример – сцена объяснения между Магдой и Горном в Спорт-Паласе.
«Они сидели рядом за чисто накрытым столиком […] Играла музыка […] “Теперь ты понимаешь?” – вдруг спросила Магда, сама едва зная, что спрашивает.
Горн хотел ответить, но тут вся исполинская зала затрещала рукоплесканьями […] Магда заговорила, но опять поднялся гул […] Они тут же поссорились, но шевелили губами неслышно, так как было кругом шумно – захлебывающийся, радостный человеческий лай».
Другим приемом, подменяющим содержание рассказываемого – изображением рассказывающего, является буквальный или фальшивый перевод речи в область другого, иностранного, незнакомого языка. Вот один из эпизодов – Макс, пугаясь собственной догадки об измене Кречмара, смотрит на сестру:
«Она […] подробно и добросовестно рассказывала содержание пьесы, которую недавно видела. У нее были светлые, пустые глаза, лоснился нос, – тонкий, милый нос. Макс кивал и улыбался. Он, впрочем, не понимал ни слова, точно она говорила по-русски или по-испански».
Визуализации повествования способствует описание сцен как кадров фильма. Так, после ссоры в отеле Кречмар и Магда уезжают. Горн «поднялся наверх. Дверь в номер Кречмара была открыта. Пусто, валяются листы газет, обнажен красный матрац на двуспальной кровати». Неожиданный скачок в настоящее время не только создает эффект статичности картины, но и отражает порядок ее зрительной регистрации. «Слово, понятие, мысль, – писал о кинопоэтике Б. Эйхенбаум, – существуют вне времени, картина имеет конкретную силу настоящего и живет только в нем…»[187] Кинокадром является и последняя сцена:
«Тишина. Дверь широко открыта в прихожую. Стол отодвинут, стул валяется рядом с мертвым телом человека в бледно-лиловом костюме. Браунинга не видно, – он под ним. На столике […] лежит вывернутая дамская перчатка. Около полосатого дивана стоит щегольский сундучок с цветной наклейкой: Сольфи. Отель Адриатик».
Примеров кадрового изображения в тексте множество.
В романе наблюдается и двойное, «внутреннее» киномоделирование, т. е. создается кинообразец, по которому впоследствии конструируется ситуация. Одним из примеров реализации такой техники является киноафиша. Так, направляясь в кинотеатр, «Кречмар мельком взглянул на афишу (пожарный, несущий желтоволосую женщину) и взял билет», – образец тем более удачный, что смысловой первичный посыл его – анонсирование предстоящего зрелища. Далее в повествовании героиня, оставленная любовником, в панике:
«“Господи, как я буду жить без него?” – проговорила Магда вслух. Она мигом распахнула окно, решив одним прыжком с собою покончить. К дому напротив, звеня, подъехал красно-золотой пожарный автомобиль, собиралась толпа, из верхних окон валил бурый дым, летели какие-то черные бумажки. Она так заинтересовалась пожаром, что отложила свое намерение».
Сюжетная сцена, разыгрываемая согласно объявлению афиши, подкрепляет смысловое сращение: текст-фильм. Другая функция этого примера – пародийная буквальность изображения любовного пожирающего огня как пожара, т. е. визуальная регистрация чувства, состояния как действия – воплощение киноприема: зрительного воспроизведения словесной метафоры.
Не только все повествование отождествляется с фильмом (иначе говоря, он текстуализируется в противоположность традиционной экранизации текста), но и образы отдельных персонажей конструируются по модели кино. Так, Магда, «вкусив жизни, полной роскоши первоклассных фильм, их бриллиантового солнца и пальмового ветерка, – она боялась все это мигом утратить…»; «Сидя между двух этих мужчин (Кречмаром и Горном. – Н.Б.), она чувствовала себя главной участницей таинственной и страстной фильмовой драмы и старалась себя вести подобающим образом…»
Сравнения и эквиваленты Магда подбирает в кино. Например, она вспоминает, что у одного из товарищей брата «глаза были, как у Файта». Конрад Фейдт – это звезда кино немецкого экспрессионизма, играл роли извращенцев, садистов и безумцев. Он исполнял роль Сатаны в одноименном фильме Ф. В. Мурнау по сценарию Р. Вине, сомнамбулу Цезаре в картине Р. Вине «Кабинет д-ра Калигари», роль развратителя д-ра Юлиуса в фильме Р. Освальда «Дневник падшей» и даже роль Ивана Грозного в картине режиссеров П. Лени и Л. Бирински «Кабинет восковых фигур». По забавному совпадению в советском кино тоже был актер Андрей Файт, который с 1924 года особенно успешно играл отрицательных персонажей – офицера в фильме А. Разумного «Банда батьки Кныша», агента в картине Л. Кулешова «Луч смерти».
Одним из синонимов фильма в произведении является сон («видеть сны – тоже искусство», – говорится о художнике Горне). Аналогия подкреплена известным тогда определением Голливуда как «фабрики снов». Но, в отличие от пародируемого кинопроизводства, роман реализует «двустороннее» воплощение: не только сна в жизнь, но и жизни в сон. Например, «с той минуты, как Аннелиза прочла Магдино письмо, ей все казалось, что длится какой-то несуразный сон…» Эта «обратная» трансформация носит однозначно трагический смысл, превращает героя из участника действия в его наблюдателя. Аннелиза «большую часть дня проводила в каком-нибудь случайном кресле – иногда даже в прихожей – в любом месте, где ее настигал туман задумчивости…»
Реализация сна в жизнь, т. е. в номинальном значении киномифа, поначалу воспринимается как счастливое осуществление мечты (его драматизм проявляется лишь позднее), а зритель снов переводится в статус главного исполнителя. Кречмар, которому постоянно снятся «молодые Венеры на пляже», уже в первую ночь с Магдой «сразу, как в самых своих распущенных снах, сбросил с себя привычное бремя робкой и неуклюжей сдержанности. В этих снах, посещавших его так давно, ему постоянно мерещилось, что он выходит из-за скалы на пустынный пляж, и вдруг навстречу молоденькая купальщица. У Магды был точь-в-точь снившийся ему очаровательный очерк – развязная естественность наготы, точно она давно привыкла бегать раздетой по взморью его снов».
Синонимия фильма и сна подкрепляется «интимностью киновосприятия, созерцания фильма как сна», которое подчеркивал Б. Эйхенбаум в уже упоминавшейся работе. Однако с восприятием фильма одновременно связано и условие массовости показа, его многократной сеансовой повторяемости. Массовость, как социальный признак киноискусства, обеспечивает художественную уместность штампа в романе. В частности, «пляжная», интимно-потаенная мечта / сон Кречмара на поверку оказывается шаблонно-популярной. На нее в «Камере обскура» ссылается толстый старик, «с носом, как гнилая груша», подсаживаясь к Магде: «Приятно опять встретиться, помните, барышня, как мы резвились на пляже в Герингсдорфе?» И для Магды сцена на пляже с двумя товарищами брата, Кастором и Куртом, носит мечтательно-ностальгический смысл: «Валялись на берегу, осыпали друг друга жирным бархатным песком, они хлопали ее по мокрому купальному костюму, как только она ложилась ничком. Все это было так чудесно, так весело».
Структурные условия фильма приобретают художественно-организующие функции в романе. Темпоральная ограниченность киносеанса обусловливает максимальную концентрацию действия в узком временном периоде, создает остросюжетность, часто регистрируемую критиками. Быстрота событийного развития, диспропорция кардинальности жизненных изменений и пустячной продолжительности времени отмечается и самими персонажами «Камеры обскура». Так, ушедший к любовнице Кречмар размышляет: «Ведь пять месяцев назад я был примерным мужем и Магды просто не существовало в природе вещей. Как это случилось быстро». Магда, рассматривая рисунок Горна с собственным изображением, «посмотрела на испод и увидела […] дату. Это был тот день, месяц и год, когда он покинул ее […] Неужели прошло с тех пор всего четырнадцать месяцев». «Быстрота и легкость жизни», молниеносность реализации самых «нереальных» снов – пародийное отражение художественного и социального мифа кино.
Набоковский роман отличает типичная «для кино простота фабульного построения», отсутствие «далеко разбегающихся параллельных действий, прозрачность мотивировки, легко разгадываемая, а часто и легко предсказуемая интрига»[188]. Предположения возможной развязки высказывают персонажи, относящиеся, как правило, к числу наблюдателей, а не участников действия. Например, доктор Ламперт, навещая Кречмара с любовницей, легко предвидит финал драмы: «…он с этой молодой дрянью сядет в галошу», – думает Ламперт. Каспар, товарищ Отто, встречает Магду разодетой дамой. «Погибнет девчонка, – подумал он, глядя, как она садится в автомобиль. – Наверняка погибнет».
Типичен для кино начала века и выбор сюжета, любовной мелодрамы с моралью. Эта типичность – очередное проявление верности шаблону как смысловому признаку киноискусства того периода. Прием литературного воспроизведения киноштампов, фактически обратный основному приему немого кино, позволяет прочитывать отдельные сцены, а иногда и все произведение целиком как текстовое сопровождение известных кинокартин. Например, созданных в 1914 году фильмов знаменитого русского режиссера Е. Бауэра «Преступная связь», «Немые свидетели» и особенно его картины «Дитя большого города», сюжетом очень напоминающей «Камеру обскура». Не случайно к этой картине в романе есть развернутая цитата-указание: Левандовская, сводня, говорит Магде: «Ты – бойкое дитя […] ты без друга пропадешь […] и ему нужна скромная подруга в этом городе соблазнов и скверны».
Магда постоянно подражает Грете Гарбо. Так, «Магда лежала на кушетке, все в той же позе застывшей ящерицы. Книга была открыта все на той же странице – гримирующаяся Грета». Характерно, что роман Набокова прочитывается как парафраз фильма «Плоть и дьявол», принесшего этой актрисе известность. Выбор Гарбо как образца не случаен. «Миф Гарбо» – воплощение романтических представлений о непобедимой и губительной силе любви – приобретает в контексте романа пародийный смысл. Набоковское произведение может служить текстовым «олицетворением» известных фильмов американского режиссера Э. фон Штрогейма «Слепые мужья», «Глупые жены». Число примеров велико.
Исследователи часто сравнивают «Камеру обскура» с романом «Король, дама, валет». Сходство обнаруживают в отсутствии эмигрантских мотивов, в изображении немецкой мещанской среды. Указание на связь «Камеры обскура» с романом «Король, дама, валет» делается между тем самим автором, непосредственно в тексте. Вернувшись домой после ночи с Магдой, Кречмар «тихо пошел в кабинет. Там на бюваре лежало несколько распечатанных писем. Какой детский почерк у Магды. Драйеры приглашают на бал».
Супружеская пара Драйеров – главных героев романа «Король, дама, валет» – разрушается вторжением молодого племянника Драйера, Франца, который становится любовником Марты Драйер. Очевидна сюжетная аналогия: любовный треугольник с подменой мужской роли соблазнителя – женской. Однако сохраняются их социальные признаки: оба, Франц и Магда, молоды (моложе своих соперников и партнеров) и бедны – последнее и придает сюжету криминальную направленность; «первоклассное счастье», т. е. любовь и деньги, в обоих случаях диктует необходимость физического устранения соперника.
Бал, на который получает приглашение Кречмар, – центральная сцена романа «Король, дама, валет», где разыгрывается первая попытка убить мужа, спровоцировав выстрел в него. (Ср. выстрел в финале «Камеры обскура».) Несмотря на неудачу, именно на балу идея убийства материализуется, приобретает финальную логичность, которой отныне подчинено развитие сюжета. Упоминание бала у Драйеров в повествовании «Камеры обскура», которое делается в момент резкого фабульного скачка (Кречмар уходит от семьи к Магде), служит кодированным сигналом будущей фатальной развязки. Кречмар не попадает на бал, не узнает предупреждения, как не угадывает, не понимает и других указаний судьбы. Этот мотив зрения / прозрения, зрения как визуальной регистрации без постижения сути, т. е. смысловой слепоты, и прозрения как понимания, не связанного со зрительными впечатлениями, является сквозным в романе.
Характерно, что аналогичная сцена праздничного приема у Кречмара также расположена в композиционном центре «Камеры обскура». На этом ужине происходит встреча бывших любовников, Магды и Горна, обрекающая на гибель союз Магды и Кречмара.
Как уже упоминалось, основной сюжетной фигурой в обоих произведениях является любовный треугольник. Отличие, однако, в том, что сюжетное движение в романе «Король, дама, валет» осуществляется разрушением треугольника и связано со стремлением к образованию пар, что продиктовано пародийной установкой романа на вальс. В «Камере обскура» движение реализуется образованием треугольников, что обусловлено пародийной моделью произведения – кинофильмом.
Первый треугольник в романе возникает с появлением Магды, которая вносит яркие краски страсти в бесцветную, эмоционально пресную пару Кречмаров. Второй – вторжением Горна, отмеченным первенством творца в искусстве и в любви. (Ср.: Кречмар – знаток живописи, Горн – талантливый художник.) Кречмар раздражает Магду несостоятельностью своих ласк, Горн, и по хронологии ее первый любовник, «малейшим прикосновением заставляет все в ней разгораться и вздрагивать».
Графическое воспроизведение сюжетного движения обнаруживает, что возникновение двух треугольников образует квадрат – аналог киноэкрана, с его пространственной и световой замкнутостью, которая трансформируется в композиционную и смысловую замкнутость романной фабулы. А именно: сюжет этого произведения структурно воплощает идею кинематографа – «камеру обскура».
2
Спорно замечание А. Филда, первого американского биографа Вл. Набокова, о том, что «Камера обскура» – роман о трех неудачных артистах. Причастность к искусству, прямая или опосредованная, но манифестируемая всегда с пародийным сдвигом, отличает большинство персонажей. Так, жена Кречмара, Аннелиза, «дочь театрального антрепренера», «девочкой была влюблена в старого актера…»; ее брат, Макс, «дельно заведовал театральной конторой […] был давно связан с пожилой увядшей актрисой» – налицо пародийная симметрия связи с театром, существующая между братом и сестрой. Симптоматично, что семья Кречмара обнаруживает связь с театром, зрелищем, непосредственно предшествовавшим кинематографу, в личной судьбе героя семья – этап, предшествующий его встрече с Магдой, превращению его жизни в фильм.
Другие персонажи: доктор Ламперт, «меломан», художница Марго Денис или другой герой – «Коровин, фон-Коровин» – профессию пародийно заменяет имя с немецкой аристократической добавкой «фон» русского художника Коровина, прожившего много лет во Франции. В английском тексте «Смех в темноте» фамилия заменена на «Ivanoff, von-Ivanoff» – намек на другого русского живописца, Иванова, обитавшего в Италии. В романе появляются писатели Брюк и Зегелькранц, актеры Дорианна Каренина и Штаудингер, Магда и Горн, в которых Зегелькранц «почувствовал что-то от мюзик-холла», двойник Горна – «лучший танцор в Сольфи». Магда была похожа на «танцовщицу, уроженку берлинского севера, красивую и вульгарную девчонку», с которой у писателя Зегелькранца была «недолгая связь». Кроме того, Горн – художник, Кречмар – критик, Магда – натурщица и киноактриса.
Весь этот набор «деятелей» пародийно маркирует широкий ассортимент искусств, входящих в искусство кино, иначе говоря, пародийно воплощает отличительное свойство кинематографа – его синкретизм.
Синкретическая природа кино в первую очередь реализовалась в набоковском романе в приеме аллюзии. В «Камере обскура» обнаруживаются аллюзии на все области и жанры культуры, введенные в текстовое пространство героями: на литературу, театр, оперу, мюзик-холл, кинематограф, живопись, карикатуру, музыку, романс. А также на саму жизнь, которая входит в систему искусств как эстетически осознаваемая модель (например, Магда, натурщица для живописцев) или конструируемая по модели артистической (например, по модели кино) и отождествляемая с творчеством.
Условие синкретизма в приеме аллюзии осуществляется на двух уровнях. Во-первых, отсылы ко всем перечисленным искусствам и его жанрам всегда объединены одной темой – любовной драмой, определяющей сюжет. Во-вторых, сам адресат синкретичен: это либо произведение, маркирующее сплав искусств, либо – отражающее перевод одного вида искусства в другой.
Приведу примеры. В романе легко обнаруживается аллюзия на повесть Л. Толстого «Крейцерова соната» (в данном случае пересечение приходится на литературу и музыку), чья основная декларация: «Половая страсть, как бы она ни была обставлена, есть зло, страшное зло…» – становится пародируемой моралью набоковского произведения. Уже в первой главе описывается мучительная борьба героя с плотью. Растерянный Кречмар думает: «…следовало бы Аннелизе все сказать, или ничего не сказать, но уехать с ней на время из Берлина, или пойти к гипнотизеру, или, наконец, как-нибудь истребить, изничтожить… Это была глупая мысль. Нельзя же, в самом деле, взять браунинг и застрелить незнакомку только потому, что она приглянулась тебе».
Цитата отсылает и к повести Толстого «Дьявол», однако аллюзия на «Крейцерову сонату» в повествовании утверждается все отчетливее. Так, после ухода жены Кречмар «с одним чемоданом переехал к Магде […] После обеда она поехала покупать граммофон – почему граммофон, почему именно в этот день». Тема порочности музыки пародируется и далее.
У Толстого герой-искуситель Трухачевский – музыкант (талантлив, жил за границей, внешность его напоминает Горна). О Трухачевском: «Миндалевидные влажные глаза, красные улыбающиеся губы […] прическа последняя, модная…» Одет «с тем особенным парижским оттенком ботинок с пуговками и ярких цветов галстука и другого, что усваивают себе иностранцы в Париже». У Набокова Горн – одаренный карикатурист. Внешность Горна напоминает Трухачевского: «…это чернобровое лицо, воспаленные губы, копна мягких черных волос […] одетый с небрежной американской нарядностью».
Аллюзивный характер носит и сам «артистический» любовный треугольник. В романе Набокова: Горн – талантливый художник, Кречмар – знаток и любитель живописи, Магда – натурщица. У Толстого: Трухачевский – музыкант, Позднышев – любитель музыки, жена – плохая пианистка.
Дорианна Каренина – двойная отсылка к «Портрету Дориана Грея» О. Уайльда и «Анне Карениной» Л. Толстого. Аллюзия реализуется на пересечении живописи и литературы, и не только в «Портрете» Уайльда, но и у Толстого: Вронский в счастливые дни в Италии пишет портрет Анны. А у Набокова Горн рисует портрет Магды, а когда утверждается их счастливый тройной союз, они едут на Итальянские озера.
Пародийной отсылкой к «Отелло» В. Шекспира и одноименной опере Дж. Верди является сцена между Магдой и Кречмаром в отеле в городке Ружинар: «Пожалуйста, пожалуйста, убей, – сказала она. – Но это будет то же самое, как эта пьеса, которую мы видели, с чернокожим, с подушкой…» Но тогда Кречмар не решается убить Магду, и на месте несостоявшегося преступления пародийной уликой остается «красный матрац на двуспальной кровати».
Другой аллюзией на «Отелло» служит проза, «художественный донос» Зегелькранца. Его герой, Герман, страдающий зубной болью, отправляется к дантисту, в приемной которого узнает тайну двух любовников: «…Герман, сидящий от них в трех шагах […] с жадностью ловца человеческих душ вбирает каждое их слово, а в этих словах была интонация страстной влюбленности […] Она говорила о том […] как трудно дожить до вечера, когда она придет к нему в номер, и тут следовало что-то очень, по-видимому, забавное […] что-то, связанное с ванной и бегущей водой и грозящей, но легко устранимой опасностью. Герман слушал сквозь органную музыку зубной боли этот банальный любовный лепет…» Музыкальное сопровождение литературного текста пародируется в романе.
Сравним с «Отелло». Яго рассказывает, как он узнал об измене Дездемоны, его слова – тоже донос. Привожу в переводе Бориса Пастернака:
Так вот. Я как-то с Кассио лежал На койке. У меня болели зубы. Я спать не мог. Беспечный ветрогон Во сне всегда выбалтывает тайны. Таков и Кассио. И слышу я: «Поосторожней, ангел Дездемона. Нам надобно таить свою любовь». Он крепко сжал мне руку и со страстью Стал целовать, как будто с губ моих Срывал он с корнем эти поцелуи, И положил мне ногу на бедро.Гомосексуальный мотив, намеченный в фальшивом признании Яго, отзывается в «Камере обскура» в ложном признании в гомосексуализме Горна Кречмару. «Для меня женщина – только милое млекопитающее», – откровенничает он. На буквальном уровне это полуправда: Горн – создатель модного зверька, морской свинки Чипи, прообраза Магды.
Набоковская аллюзия на «Отелло» вскрывает синкретизм адресата: литература – театр – опера, свойственный как пародируемому кинематографическому воспроизведению, так и самому шаблонному сюжету адюльтера. Эта идея закреплена в тексте: Аннелиза «слышала и читала о том, что мужья и жены вечно изменяют друг другу, – об этом были и сплетни, и поэмы, и анекдоты, и оперы».
Литературно-оперный симбиоз обусловливает аллюзию романа на «Пиковую даму» А. Пушкина и на одноименную оперу П. Чайковского. Горн, азартный игрок, часто видит «покерный сон», в котором счастливо составляется брелан, последней картой открывается «туз пик…» (ср.: «Тройка, семерка и туз» – три счастливые карты, которые открывает призрак графини Германну. У Набокова пародийный сдвиг – пиковый туз – вместо пиковой дамы у Пушкина).
В жизни Горн – наблюдатель зрелища из «директорской ложи». Пародия в романе тасует роли: по его вине погибает не старуха графиня, а его старая полоумная мать; невинно обманутой Лизаветой оказывается «смирная, нехваткая» Аннелиза, у которой после ухода мужа умирает дочь (ср.: в оперном варианте Лиза кончает самоубийством); имя героя оперы Чайковского, написанной на сюжет пушкинской повести, Герман (в оперном варианте с одним «н», а не с двумя, как у Пушкина) появляется в беллетристической сплетне Зегелькранца.
Другая аллюзия – на пушкинскую «Русалку» и одноименную оперу А. Даргомыжского. Первый «соблазнитель» Магды, Горн, представляется ей Мюллером, немецкий смысл имени подкрепляется в портрете: «Белое, как рисовая пудра, лицо». Кречмар при знакомстве «назвался Шиффермюллером, и Магда с раздражением подумала: “Везет мне на мельников”». Имя подтверждает любовную и творческую вторичность Кречмара по отношению к Горну. В финале романа Шиффермюллером оказывается швейцар в доме Кречмара, который и сообщает слепому о приезде Магды, т. е. фактически неосознанно становится причиной его гибели. Имя смыкает начало и конец любовной истории Кречмара.
Урок жизненной философии, который дает Магде Горн, – пародийно-прозаический вариант проповеди пушкинского Мельника. Горн: «Я советую тебе не приставать к нему с браком. Уверяю тебя, тем самым, что он бросил жену, он причислил ее к лику святых и не даст ее в обиду. Гораздо проще и милее выйдет, если тебе удастся постепенно забрать в свои руки хотя бы половину его капитала».
У Пушкина Мельник говорит:
Ох, то-то все вы, девки молодые, Все глупые вы. Уж если подвернулся К вам человек завидный, непростой, Так должно вам его себе упрочить. ……………………………………………. А коли нет на свадьбу уж надежды, То все-таки, по крайней мере, можно Какой-нибудь барыш себе – иль пользу Родным да выгадать…Оперная иллюстративность адресата подчеркивает пародийный оттенок аллюзии. Опера в романе – образец искусства фальшивой добропорядочности. Например, в первый вечер, увидев Магду у сводни, Горн предлагает Левандовской поехать в оперу, чтобы оставить их наедине. Но Левандовская, рассчитывая получить за Магду солидную сумму, остается, и Горн рассказывает анекдоты «о каком-то своем приятеле певце, который в Лоэнгрине не успел сесть на лебедя и решил ждать следующего» (связь анекдота и оперы всплывает позднее в уже приводившейся цитате из размышлений Аннелизы об изменах, о которых бывают анекдоты и оперы). Упоминание оперы Р. Вагнера «Лоэнгрин», где композитором ярко изображен конфликт духовной и чувственной любви, в форме анекдота, – пример пародийного снижения, реализуемого благодаря художественному условию синкретизма. В 1937 году в эссе, написанном в Париже на французском, «Пушкин, или Правда и правдоподобие», Набоков нападает на создателей либретто, которые «преступным образом уродуют пушкинский текст» и «доверили “Евгения Онегина” и “Пиковую даму” посредственной музыке Чайковского».
Одна из наиболее интересных, суммарных аллюзий романа – «свист на четырех нотах» – обнаруживает нескольких адресатов, сведенных в одном произведении – кинематографическом. В «Камере обскура» Ирма, дочь Кречмара, просыпается ночью во время болезни и слышит с улицы «свист на четырех нотах. Так свистал ее отец, когда вечером возвращался домой…» И хотя девочка знает, что это свищет не отец, который поселился со своей подругой, а другой мужчина, повадившийся ходить к соседке, она все-таки открывает окно и долго стоит на морозном воздухе. Утром наступает ухудшение, и Ирма умирает. Когда после кончины дочери Кречмар уходит из квартиры жены, он обнаруживает, что «внизу дверь оказалась заперта, но погодя сошла какая-то дама в шали и впустила оснеженного и озябшего человека, вероятно того, который только что свистал». Свист, звуковой знак убийцы девочки, – отсыл к фильму 1931 года Фрица Ланга «М» (Mörder – убийца), в котором убийца девочек насвистывает при виде очередной жертвы мелодию из сюиты Э. Грига «Пер Гюнт». Сюита, как известно, написана на основе одноименной драматической поэмы Г. Ибсена.
Синкретизм аллюзии воплощается на перекрестке трех видов искусства: литературы – музыки – кинематографа. Правомерность адресата подтверждает еще и тот факт, что убийцу в фильме Ф. Ланга по свисту обнаруживает слепой: постижение окружающего мира не связано с физическим зрением – тематический мотив, нашедший отражение в романе.
Однако названными произведениями аллюзия не исчерпывается. Человек, свистящий под окном, символизирующий убийство, надвигающуюся смерть, весь белый, оснеженный с ног до головы. Именно таким «белым» человеком и приходит к Кречмару Горн. На следующее утро после ужина «сам Кречмар открыл ему дверь и не сразу узнал вчерашнего гостя в этом убеленном снегом человеке». Образ Горна наделен и другим признаком убийцы: «Всякий раз, когда Магда являлась, она заставала его за работой. Он издавал музыкальный, богатый мотивами свист, пока рисовал». «Белый человек», предвестник смерти в романе, является пародийной, инверсивно-цветовой отсылкой к «черному человеку» из «Моцарта и Сальери» Пушкина, к литературному произведению о музыке. После смерти дочери Аннелиза вышла на балкон и увидела мороженщика, чей сливочный товар приводил в восторг девочку; «странно было, что он – весь в белом, а она – вся в черном», – думает Аннелиза. Символ смерти и символ радости неразличимы на глаз – сходство, уходящее в уже означенную тему зрения / понимания.
Из аллюзий, предполагающих музыкальный адресат, приведу еще две. Магда играет в фильме «Азра», в котором рассказывается о несчастной любви с трагическим финалом. Название фильма, как и его тема, – аллюзия на стихотворение Г. Гейне «Азра», вошедшее в сборник «Романсеро» о любви невольника из рода Азры к дочери султана. Цитирую в переводе В. Брюсова. Герой говорит девушке:
Род мой – Азры, для которых Неразлучна смерть с любовью.Отсылка обнаруживается и в других сценах «Камеры обскура». У Гейне любовная встреча и объяснение происходят у фонтана. Цитирую в переводе В. Брюсова:
Каждый день невольник юный В час вечерний у фонтана, Где вода, белеясь, била, Ждал, день ото дня бледнее.В романе Набокова любовные сцены также связаны с каскадом воды, но воспроизводимым пародийно, например воды в ванной. В этом случае камерность жанра-адресата соотносится с изобразительной камерностью визуализированного чувства. Пример: после долгого перерыва, в отеле, в городке Ружинар (в вымышленном названии городка скрыта краска страсти – красный цвет, но по-французски: «rouge») Магде наконец удается соединиться с Горном благодаря общей ванной. Едва вносят чемоданы, она бросается в ванную, закрывает задвижку. Кречмар остается бриться в номере:
«За дверью вода продолжала литься. Она лилась громко и непрерывно. Кречмар тщательно водил бритвой по щеке. Лилась вода, – причем шум ее становился громче и громче. Внезапно Кречмар увидел в зеркало, что из-под двери ванной выползает струйка воды, – меж тем шум был теперь грозовой, торжествующий […] Магда вышла из блаженного оцепенения, поцеловала напоследок Горна в ухо и бесшумно проскользнула в ванную: комната была полна пара и воды…»
Льющаяся вода – очередная визуализация потока чувств, который заливает счастливых любовников в соседнем номере. Любовная сцена «у фонтана» повторяется в романе. Например, живя втроем в домике со слепым Кречмаром в Швейцарии, Горн и Магда регулярно шли «гулять на часок […] поднимались к водопаду».
Между тем ванная является сквозным пародийным, всегда связанным с мотивом страсти, образом произведения. В ней Горн запирает Левандовскую, чтобы сбежать с Магдой; пока Аннелиза возится в ванной, Кречмар по телефону договаривается с Магдой о встрече; обманутая Аннелиза вспоминает, как они с мужем купали «трехлетнюю Ирму в ванночке в Аббации»; Кречмар учит Магду «каждое утро принимать ванну», а по вечерам сам купает ее, «так водилось у них»; наконец, благодаря смежной ванной Магда перебегает в номер к Горну. В романе воплощаются два мотива, содержащихся в образе купания в ванне: мотив родительской любви и любви эротической, мотивы очищения и порока. Это связано с общим развитием любовной темы в произведении – Кречмар уходит от жены и дочери к женщине-девочке, похоть и нежность концентрируются на одном объекте.
Однако образ женщины в ванной является в романе еще одной аллюзией, обнаружение адресата которой придает ему неожиданный пародийно-политический смысл. На ужине у Кречмара врач-меломан Ламперт говорит Магде о музыке Хиндемита. Упоминание Пауля Хиндемита не случайно в контексте синкретичной аллюзивности; большинство произведений этого композитора, принесших ему известность в 20-е годы, написаны на основе литературных произведений. Так, например, цикл песен «Житие Марии» на стихи Рильке, опера «Кардильяк», созданная по повести Гофмана «Мадемуазель де Скюдери». В 1929 году Хиндемит написал оперу «Новости дня», ее центральная сцена – женщина в ванной – вызвала гнев нацистов, а впоследствии и личное возмущение Гитлера.
В романе немало аллюзий на произведения, рожденные на пересечении литературы и живописи. Так, на ужине у Кречмара художница Марго Денис упоминает работы Каммингса (у Набокова – Кумминга), «его последнюю серию – виселицы и фабрики». Эдвард Каммингс, американский поэт и художник, сочетал в своем творчестве лиризм и семантическое разрушение. В 1923 году был знаменит его сборник «Тюльпаны и трубы», к этому названию и подобран пародийный синоним в романе, уже цитировавшиеся «виселицы и фабрики».
Другой пример: герой прозы Зегелькранца «вспомнил строку из “Пьяного корабля”», глядя на рекламу со словом «левиафан». Аллюзия обнаруживает двух адресатов: одного, очевидного, – стихотворение А. Рембо «Пьяный корабль», в котором есть образ левиафана (это стихотворение Вл. Набоков перевел в 1928 году), и другого, скрытого адресата – картину И. Босха «Корабль дураков», изображающую пьяных мужчин, женщин и монаха на кораблике. Тема «пьяных на барже» традиционна в фольклоре и литературе Фландрии XV века. Многие искусствоведы датируют картину И. Босха 1494 годом, когда появилась сатирическая поэма Себастьяна Бранта «Корабль дураков», и, соответственно, связывают с ней изображенное на полотне.
Вишни на тарелке на полотне Босха носят смысл эротического соблазна. Вишни, привезенные в Европу из Крестовых походов, считались в эпоху Босха плодами рая. Ср. у Набокова: Кречмар при повторном посещении кинотеатра видит фильм «Когда цветут вишни». Название картины – пародийная отсылка к «Вишневому саду» А. Чехова. Вишни как пародийный знак утраченного рая возникают позднее в повествовании: слепой Кречмар, лишенный близости с Магдой, «сокрушенно кивал, медленно поедая вишни».
Второй треугольник, возникающий в романе: Кречмар – Магда – Горн, является пародийным воспроизведением треугольника библейского: Адам – Ева – Змей, при этом в тексте Набокова роли соблазненного и соблазнителя постоянно меняются.
Признаки змеи появляются то у Магды: «Магда, как змея, высвобождалась из темной чешуи купального костюма»; последняя мысль Кречмара: «какие у нее выпуклые глаза» – глаза змеи; то у Горна: «…Она и Горн, оба гибкие, проворные, со страшными лучистыми глазами навыкате…» Черты Адама мы видим то у Кречмара (райское одиночество с молодой купальщицей в его снах), то у Горна. «Горн сидел на складном стульчике, совершенно голый» перед слепым Кречмаром, и, когда на него неожиданно набрасывается приехавший Макс, «вдруг произошла замечательная вещь: словно Адам после грехопадения, Горн, стоя у стены и осклабясь, пятерней прикрыл свою наготу».
Постоянная смена ролей только подкрепляет аллюзию на библейский сюжет. Так, в 3-й главе Книги Бытия Господь Бог наказывает змея враждой между ним и женщиной, предсказывая, что она будет поражать его в голову, а он ее в пяту.
В результате аварии Кречмар слепнет от кровоизлияния в мозг, «его лицо обросло жестким, курчавым волосом, и ярко розовел на виске шрам». В сцене в отеле, когда Кречмар хочет убить Магду из ревности, он думает: «Невозможно стрелять, пока она снимает башмачок. На пятке было красное пятно, кровь просочилась сквозь белый чулок». После примирения «он встал, подошел к ней, посмотрел на ее сморщенную розовую пятку с черным квадратом пластыря, – когда она успела наклеить?»
По тексту «рассыпаны» экзотические райские фрукты: груши, абрикосы, апельсины. Они пародийно трансформируются в человеческие черты: старик «с носом, как гнилая груша», «певица с абрикосовыми волосами». Например, в сцене смерти дочери познавший любовь Кречмар, т. е. уже вкусивший от плода познания и подменивший любовь к дочери любовью к женщине-ребенку, привычно ест апельсин: «Погодя он взял апельсин и машинально принялся его чистить […] Кречмар медленно ел апельсин. Апельсин был очень кислый. Вдруг вошел Макс и, ни на кого не глядя, развел руками».
В романе пародийно повернут и маршрут библейского сюжета: обретение любви понимается героями как обретение рая. Кречмар, летя в таксомоторе к Магде, думает: «Сейчас будет рай». Но кажущееся обретение рая внезапно превращается в «адовое ощущение плотной, черной преграды», «смертельный, могильный ужас», непрерывное страдание. Развитие сюжета по аналогу библейской модели понимается как аллюзия на знаменитый триптих И. Босха «Сад наслаждений». Отмечу, что в английском романе «Смех в темноте» живописные аллюзии Набокова сделаны на картины другого фламандского художника, более позднего, П. Брейгеля. Исследователи часто цитируют названную в тексте работу Брейгеля «Нидерландские пословицы», однако в повествовании легко обнаруживаются отсылы к полотнам неназванным. Это «Крестьянская свадьба», «Свадебная трапеза», «Зимний пейзаж с катающимися на льду».
Но вернемся к Босху. Левая часть триптиха отличается светлой палитрой, прозрачностью красок. Ева представляется уже проснувшемуся Адаму самим Создателем (ср.: в романе сны Кречмара и встреча с Магдой наяву в кинотеатре, кино, где искусство выступает в роли Творца). На первом плане дерево с плодами. Экзотическая обстановка рая обусловливает подмену традиционного яблока экзотическими фруктами.
Средняя часть триптиха, изображающая грехопадение людей, самая яркая по цвету, отличается массовостью сцен. В романе после сближения Магды и Кречмара их мир наполняется людьми. Приведу примеры: пляж в Сольфи, танцы в казино, ужин у Кречмара, просмотр фильма, Спорт-Палас, поездка втроем на Итальянские озера – у Босха в верхней части картины виднеется чистое голубое озеро.
Третье полотно триптиха, мрачное и темное по цвету, называется «Ад музыкантов». Мотив наказания за творчество пародийно отражается у Набокова. Артистическая мотивация обнаруживается в наказании Кречмара слепотой: «Специальностью Кречмара было, в конце концов, живописное любострастие. Лучшей его находкой была Магда. А теперь от Магды остался только голос, да шелест, да запах духов…» Наказание за попытку творчества испытывает и Магда на просмотре фильма, в котором играет: «…она была как душа в аду, которой бесы показывают земные ее прегрешения».
В центре третьей картины Босха в кресле изображен монстр, наблюдающий за страданиями и пожирающий людей. Ср.: в романе – Горн, наблюдающий жизнь Кречмара как программу «превосходного мюзик-холла, в котором ему, Горну, предоставлено место в директорской ложе». Рядом, также в центре полотна, расположено гигантское ухо, пронзенное стрелой, – знак несчастья, глухота – евангельская парабола: «Имеющий уши да услышит».
В произведении на первом плане глаз, зрение, слепота; подмена объясняется его пародийной моделью – визуальным искусством кинематографа. Напомню, однако, что русский текст романа, написанный в 1931 году, когда звуковое кино едва только появлялось, ориентирован на модель немого кино.
Синкретизм приведенной аллюзии особенно эффектен не только тем, что адресатом ее является одновременно библейский текст и живописное полотно, но и тем, что жанр цитируемой картины, триптих, представляет собой максимальное приближение живописи к кино.
3
Экран в романе Набокова, как некое освещенное замкнутое пространство, в котором происходит действие, делит персонажей на зрителей / наблюдателей этого действия и его участников. Это подкрепляется еще и буквальным разделением героев на две группы: артистов (о пародийной причастности героев к искусству упоминалось выше) и, условно говоря, прислугу: горничных, бонн, почтальонов, кухарок, швейцаров… Они-то и образуют публику зрительного зала, которая наблюдает яркую до нереальности жизнь других, формулирует общее мнение, расхожую мудрость, которая закрепляется в словесных метафорах, речевых штампах. К визуализации этих штампов и стремится кино.
Приведу пример:
«Швейцар, разговаривавший с почтальоном, посмотрел на Кречмара с любопытством.
– Прямо не верится, – сказал швейцар, когда те прошли, – прямо не верится, что у него недавно умерла дочка.
– А кто второй? – спросил почтальон.
– Почем я знаю. Завела молодца ему в подмогу, вот и все […] А ведь приличный господин, сам-то, и богат, – мог бы выбрать себе подругу поосанистей, покрупнее, если уж на то пошло.
– Любовь слепа, – задумчиво произнес почтальон».
Художественная замкнутость кинопроцесса делает возможным переход героев из одного статуса в другой: так, Магда, дочь швейцарихи, становится кинодивой, а Горн, артист, превращается в зрителя.
Ракурс, как точка зрения наблюдателя или как точка зрения действующего лица, одно из важных стилистических средств кино, в набоковском киноромане трансформируется в художественный литературный прием. Установка на визуализацию повествования при отсутствии нарратора в тексте реализуется во многом при помощи ракурса. Прием ракурса при переведении из кино в литературу способствует регистрации не только видимого, но смотрящего. Восприятие Кречмаром внешности Магды обнаруживает в нем знатока живописи: «…чудесный продолговатый блеск случайно освещенного глаза и очерк щеки, нежный, тающий, как на темных фонах у очень больших мастеров». А угол зрения Магды демонстрирует свойственный ей мещанский здравый смысл, материальную оценочность окружающего мира как основной жизненный критерий: «После вдумчивых и осмотрительных поисков она нашла в отличном районе неплохую квартиру».
Условия ракурса определяют в романе функции глаза – зрение и отражение. Кречмар не скрывается перед «остроглазым» Горном, который быстро подмечает все. Одновременно глаза Горна отражают печальное положение его дел.
«“Скажи, – спрашивает Горн Магду, – как ты вынюхала, что у меня нет денег?”
“Ах, это видно по твоим глазам”, – сказала она».
Глаза, которые ничего не отражают, являются в произведении признаком глупости: у Аннелизы были «светлые, пустые глаза»; или смерти: умирающая Ирма «тихо мотала из стороны в сторону головой, полураскрытые глаза как будто не отражали света». Невидящие глаза, глаза слепого – еще одна категория, вводимая в текст, она исключает зрительный фактор и замещает его другими формами познания окружающего мира, которые одна за другой абсурдируются. Первая – посредством собственного интуитивного воображения: «Профессор, знаменитый окулист […] Кречмар представил его себе карапузистым старичком, хотя в действительности профессор был очень худ и моложав».
Познание на основе чужих свидетельств, людей зрячих: «Магда описывала ему все краски там – синие обои, желтый абажур, – но, по наущению Горна, нарочно все цвета изменила: Горну казалось весело, что слепой будет представлять себе свой мирок в тех красках, которые он, Горн, продиктует».
Представление о мире, основанное на собственной памяти: «Питаясь воспоминаниями о ней (о жизни. – Н.Б.), он словно перебирал миниатюры: Магда в узорном переднике, приподнимающая портьеру, Магда под блестящим зонтиком, проходящая по малиновым лужам, Магда, стоящая голою перед зеркалом и грызущая желтую булочку…», – утрата зрения превращает бегущую ленту жизни-фильма в набор снимков-кадров.
Другой пример: «Он с ужасом замечал теперь, что, вообразив, скажем, пейзаж, среди которого однажды пожил, он не умеет назвать ни одного растения, кроме дуба и розы, ни одной птицы, кроме вороны и воробья».
И еще одна форма постижения окружающего – по звуку: «Он старался жить слухом, угадывать движения по звукам…» и когда «вдруг услышал в конце стола странный звук, – как будто человеческое придыхание», решил, что у него «начинаются слуховые галлюцинации».
Трагическая ситуация слепоты как изоляции от мира («гладким покровом тьмы он был отделен от недавней […] ярко-красочной жизни…» служит аллюзией на стихотворение В. Ходасевича «Слепой»:
Палкой щупая дорогу, Бродит наугад слепой, Осторожно ставит ногу И бормочет сам с собой. А на бельмах у слепого Целый мир отображен: Дом, лужок, забор, корова, Клочья неба голубого — Все, чего не видит он.Собственно, в романе развенчанию подвергаются все формы познания мира, в том числе и зрительная.
«Все, – вспоминает ослепший Кречмар, – в прошлой жизни было прикрыто обманчивой прелестью красок, его душа жила тогда в перламутровых шорах, он не видел тех пропастей, которые открылись ему теперь».
Однако и противоположное убеждение, что «физическая слепота есть в некотором смысле духовное прозрение», оказывается несостоятельным.
В произведении воспроизводятся разные смысловые уровни зрительного процесса. Отмечу некоторые из них.
Предвидеть – в значении заранее предчувствовать надвигающееся событие, хоть и не связано с визуальными возможностями, декларируется как открытое ви́дение, не блокированное границами времени и пространства. Так, «после размолвки с мужем у Аннелизы развилась прямо какая-то телепатическая впечатлительность».
Видеть – в значении регистрировать окружающий мир как модель для копирования. В этом состоит метод Зегелькранца: «воспроизводить жизнь с беспристрастной точностью». Но, перенесенная в текст, жизнь теряет свои художественные, изобразительные возможности, становится «анонимным письмом», «доносом».
Видеть – в значении эстетического любования, игнорируя смысл видимого. Например, так описана сцена на пляже в Сольфи, когда Кречмар разглядывает Магду: «Теперь Кречмар видел ее, окруженную солнечной пестротой пляжа, которая, однако, была сейчас для него мутна, настолько пристально он сосредоточил взгляд на Магде. Легкая, ловкая, с темной прядью вдоль уха, с вытянутой после броска рукою в сверкающей браслетке, Магда виделась ему как некая восхитительная заставка, возглавляющая всю его жизнь».
Видеть – в значении постигать ситуацию согласно зрительным впечатлениям. Понимание, как правило, оказывается ошибочным. Пример – та же сцена на пляже в Сольфи, но увиденная англичанкой. Она принимает любовников за резвящихся отца с дочерью и ставит Кречмара в пример своему ленивому мужу. Фраза в тексте приведена на английском: «Look at that German romping about with his daughter. Now don’t be lazy, take the kids out for a good swim» («Взгляни на того немца, что резвится с дочерью. Не ленись, пойди поплавай с детьми…»).
Реальному визуальному акту в романе противопоставлено видение нереальное: снов, воспоминаний (зрение, обращенное в прошлое), мечтаний (в будущее). С физической слепотой в «Камере обскура» связано как непонимание, основанное на невозможности узреть (слепой Кречмар верит, что «жизнь его с Магдой стала счастливее, глубже, чище», так как не видит, что она «на глазах» изменяет ему с Горном), так и внезапное прозрение (слепой почти догадывается о присутствии Горна в доме: «Минуты две Кречмар о чем-то напряженно думал. “Не может быть”, – проговорил он тихо и раздельно»).
В этом произведении Набоков вводит еще одно измерение, связанное с дистанцией взгляда. Чем дальше отстранен смотрящий от объекта наблюдения, тем больше он видит, но тем меньше способен понять происходящее. Пример – сцена аварии, зарегистрированная глазом наблюдателя: «Старуха, собирающая на пригорке ароматные травы, видела, как с разных сторон близятся к быстрому виражу автомобиль и двое велосипедистов. Из люльки яично-желтого почтового дирижабля, плывущего по голубому небу в Тулон, летчик видел петлистое шоссе […] и две деревни, отстоящие друг от друга на двадцать километров. Быть может, поднявшись достаточно высоко, можно было бы увидеть зараз провансальские холмы и, скажем, Берлин, где тоже было жарко…» В приведенной цитате очевидно использование киноприема – отдаления камеры, смены планов.
Однако именно наблюдателю отводится в романе роль понимающего происходящее. Каждый, выходя за пределы действия, становится его зрителем, а последнее в его восприятии превращается в зрелище. Например, Горн наблюдает за судьбой Кречмара, не участвующие персонажи (швейцар, почтальон), «зрители», – за развитием сюжета, читатель – за фильмом-романом.
Между тем у Набокова возможности видения и отражения, характерные для глаза человеческого, пародийно трансформируются в признаки «киноглаза». Это очевидная перекличка с провозглашенным в 1922 году Дзигой Вертовым принципом киноглаза, основанным «на использовании киноаппарата как киноглаза, более совершенного, чем человеческий глаз»[189]. «Киноглаз» – прием монтажа и смены ракурсов – манифестировался Вертовым как прием документальный, призванный точно и верно отражать действительность.
Сама художественная задача искусства – точно отражать жизнь – пародируется в романе как на уровне литературы (пример: проза-донос), так и на уровне кино. Пародийное соотнесение кино с глазом обнаруживается уже в названии кинотеатра, в котором жизнь Кречмара превращается в фильм, – «Аргус». (Аргус – мифологический персонаж, великан, чье тело испещрено бесчисленным количеством глаз.) Но наиболее полно идея пародии воплощается в фильме «Азра», где Магда исполняет роль брошенной невесты (обыгрывается реальная инверсивность амплуа). Магда, подражающая в жизни Грете Гарбо, на экране, в отражении «киноглаза», оказывается «неуклюжей девицей […] похожей на ее мать-швейцариху на свадебной фотографии». Фильм, как и проза Зегелькранца, служит разоблачением. В набоковском романе в сопоставлении «жизнь – искусство» именно жизнь отражает и копирует искусство, а не наоборот.
Подытоживая, замечу, что «Камера обскура» В. Набокова воспроизводит пародийную оппозицию «киноглаза» как символа киноискусства – образу Глаза Божьего и в этом значении воспринимается как аллюзия на картину И. Босха «Семь смертных грехов», где на темном полотне изображены сцены греха, отраженные в Божественном Оке. Тематика греховная и тематика эсхатологическая объединены в этом произведении в единый круг, что соответствует сюжетному и композиционному построению романа.
В этом контексте метафоричность названия английского текста «Смех в темноте», содержащего пугающий намек, что этим смеющимся является сатана, на самом деле оборачивается пародией на сатанизацию намека, которая исчезает при вспышке «волшебного фонаря» искусства.
Глава VII Эшафот в хрустальном дворце «Приглашение на казнь»[190]
«Приглашение на казнь», самое фантастическое из произведений В. Набокова, известно в литературной критике разнообразием интерпретаций. В набоковедении закрепилось понимание романа как экзистенциальной метафоры, идеологической пародии, художественной антиутопии, сюрреалистического воспроизведения действительности, тюремности языка, артистической судьбы, эстетической оппозиции реальности, тоталитарной замкнутости, свободы воображения и т. д.
Исследовательские трактовки не исключают, а дополняют друг друга, разворачивая художественное и смысловое богатство текста. Предлагаемая глава – еще один вариант прочтения романа.
1
«Приглашение на казнь» В. Набоков писал летом 1934 года, в период работы над «Даром», а точнее – сразу по окончании «Жизни Чернышевского», ставшей в романе главой IV, но написанной первой. Этот, как известно, самостоятельный текст не просто связан с «Приглашением на казнь» творческой хронологией, но образует с ним тематический, сюжетный и композиционный диптих.
Оба романа – пародии, одна – на героя, наказуемого обществом («Жизнь Чернышевского»), другая – на общество, наказующее героя («Приглашение на казнь»). В главе IV «Дара» повествовательная точка зрения расположена вне стен крепости, в которую в конце концов заключают Чернышевского; в «Приглашении…» – наоборот, внутри самой крепости-тюрьмы. Оппозиционные координаты повествования отражают соотнесенность двух текстов в художественном пространстве: находясь по разные стороны пародийного зеркала, романы фактически «повернуты» друг к другу. Такая конструкция, не исключая автономности пародийной установки каждого из произведений, реализует условие взаимного пародийного отражения, с учетом характерного для поэтики Набокова сдвига и при очередности смены ролей.
Композиционная «повернутость» проявляется уже в темпоральной связанности. «Жизнь Чернышевского» обладает календарной датировкой, но воплощает тематическую обращенность в будущее, которое оценивается героем как наступающий прогресс. Чернышевский понимает свое время как эпоху «великих реформ»: «…а что, если мы в самом деле живем во времена Цицерона и Цезаря […] и является новый Мессия, и новая религия, и новый мир?..» – записывает он в своем дневнике.
В романе «Приглашение на казнь» отсутствует календарная закрепленность, но есть экзистенциальная – герой находится у порога смерти, что ориентирует повествование в прошлое. При этом былое, ушедший век, понимается им как более совершенная форма жизни, как утраченный прогресс. Например:
«То были годы всеобщей плавности, – размышляет Цинциннат. – …Все было глянцевито, переливчато, все страстно тяготело к некоему совершенству […] Да, вещество постарело, устало, мало что уцелело от легендарных времен […] и никому не было жаль прошлого, да и само понятие “прошлого” сделалось другим».
Оба романа расположены как бы по разные стороны одного историко-социального процесса, отмеченного разрушением прежней качественной иерархии, пространственных параметров, временны́х измерений. Отсутствие их в «Приглашении на казнь» в этом прочтении понимается как следствие преобразований прогресса.
Мир «Приглашения на казнь» – крепость-тюрьма – есть конечная остановка движения, начало которого воспроизведено в «Жизни Чернышевского».
«Вдруг ему (Годунову-Чердынцеву, автору главы IV. – Н.Б.) стало обидно – отчего это в России все сделалось таким плохоньким, корявым, серым [ср. в “Приглашении…”: “…должен же существовать образец, если существует корявая копия”, – пишет Цинциннат]… Или в старом стремлении “к свету” таился роковой порок, который по мере естественного продвижения к цели становился все виднее, пока не обнаружилось, что этот “свет” горит в окне тюремного надзирателя…»
В свою очередь, сюжет «Приглашения…» по отношению к жизнеописанию реализует обратное движение из зазеркалья пародии. Цитирую из «Дара»:
«…в смертной казни есть какая-то непреодолимая неестественность, кровно чувствуемая человеком, странная и старинная обратность действия, как в зеркальном отражении, превращающая любого в левшу…»
И далее:
«…в Китае именно актером, тенью, и исполнялась обязанность палача, т. е. как бы снималась ответственность с человека, и все переносилось в изнаночный, зеркальный мир».
Цитата фактически вскрывает принцип художественного воплощения мира, который казнит Цинцинната, как мира теней, призраков, пародии…
Повествование обоих текстов строится вокруг одного героя и в одном жанре – жанре жизнеописания. Биография Цинцинната – пародийное отражение биографии Чернышевского. Последний учительствовал в Саратове, «просветительская забота, однако, определилась у него на всю жизнь», он видел себя духовным наставником общества. Цинциннат тоже учительствует, его определили «в детский сад учителем разряда Ф…», разрешили «заниматься с детьми последнего разбора, которых было не жаль, – дабы посмотреть, что из этого выйдет».
Деятельность Чернышевского, критика, для которого литература подчинена утилитарным целям украшения и пояснения действительности, «ломавшего» писателей во имя своих поучительных задач, в пародийном варианте Цинциннатовой жизни сводится к работе в мастерской, где герой изготовлял «мягких кукол для школьниц – тут был и маленький волосатый Пушкин в бекеше, и похожий на крысу Гоголь в цветистом жилете, и старичок Толстой, толстоносенький в зипуне, и […] застегнутый на все пуговки Добролюбов в очках без стекол».
Все герои «Приглашения на казнь» наделены детскими признаками, их учат, одергивают, с ними сюсюкают. «Детскость» персонажей обусловлена пародированием учительского отношения Чернышевского к публике. Его позиция наставника с особой демонстративностью отразилась в романе «Что делать?», заглавие которого звучит как титр учебника. Цитирую из «Что делать?»: «… ты знаешь только то, что тебе скажут, – обращается Чернышевский к читателю, – сам ты ничего не знаешь».
«Автору не до прикрас, добрая публика, потому что он все думает о том, какой сумбур у тебя в голове […] Я сердит на тебя […] и браню тебя. Но ты зла от умственной немощности, и потому, браня тебя, я обязан помогать тебе».
Пародийное сходство Цинцинната с Чернышевским моделируется как на уровне общественном, так и личном. Оба героя – обманутые мужья. «…Очень мучительны, верно, были ему (Чернышевскому. – Н.Б.) молодые люди, окружавшие жену и находившиеся с ней в разных стадиях любовной близости, от аза до ижицы», – читаем в «Даре». Аналогичное испытывает и Цинциннат: «…Марфинька в первый же год брака стала ему изменять; с кем попало и где попало». Симптоматична общая деталь в портрете обеих героинь: Ольга Сократовна, как она предстает в «Жизни Чернышевского»: «гладко причесанная, с открытыми ушами, слишком для нее большими…» А вот цитата из письма Цинцинната Марфиньке: «…я хочу это так написать, чтобы ты зажала уши, – свои тонкокожие обезьяньи уши […] я их щиплю, холодненькие […] чтобы как-нибудь их согреть, оживить, очеловечить, заставить услышать меня». Отсыл к евангельской параболе «Имеющий уши да услышит» отзывается в личной драме героя эхом одиночества.
Костюм Марфиньки – «выходное черное платье, с бархоткой вокруг белой холодной шеи» – преждевременный траур по еще не казненному мужу. Бархотка на шее – аналог «креповой повязки» на рукаве одного из ее братьев, «щеголя и остряка». Наряд героини – отсылка к образу «дамы в трауре» из романа «Что делать?», в котором Чернышевский изобразил собственную жену. Ее траур – намек на печаль о муже, заключенном в крепость.
Судьба Цинцинната повторяет судьбу Чернышевского. Оба воспринимаются обществом как враждебная, темная сила. Чернышевского считали «сердцем черноты» – цитирую из «Дара», Цинциннат казался своим согражданам «темным», «как будто был вырезан из кубической сажени ночи». В возрасте тридцати лет (аллюзия на сакральный возраст Христа) Чернышевского и Цинцинната судят, заключают в крепость и казнят. Цитирую из «Дара»: «…в лице Чернышевского был осужден его – очень похожий – призрак; вымышленную вину чудно подгримировали под настоящую». Цинцинната судят призраки, загримированные под людей. Казнь Чернышевского, «шутовская», поучительная, происходит на Мытнинской площади, казнь Цинцинната – «показательное представление», балаганное (декорации мира распадаются в финале романа) – на Интересной площади. «Мыт», «мыто», согласно словарю В. Даля, – пошлина за товар. «Интерес», по тому же Далю, – от фр. – проценты, прибыль, рост за деньги.
Пародийное сближение действия подчеркнуто сходной реакцией толпы, состоящей в обоих случаях из эмансипированных женщин. Во время казни Чернышевского, описанной в IV главе «Дара», «вдруг из толпы чистой публики полетели букеты […] Стриженые дамы метали сирень». Во время казни Цинцинната «несколько девушек без шляп, спеша и визжа, скупали все цветы у жирной цветочницы […] и наиболее шустрая успела бросить букетом в экипаж» […] на Садовой «в кузов ударил еще букет».
Чернышевский после разыгранной казни фактически умирает для публики, превращается в собственный призрак. Цинциннат после казни, понимаемой буквально и лишь обставленной театрально, освобождается от призраков, направляется к существам, «подобным ему».
В критической литературе о романе «Приглашение на казнь» Цинцинната принято считать поэтом. Это определение образа кажется спорным. Герой сам заявляет, что не владеет литературным даром: «Не умея писать, но преступным чутьем догадываясь о том, как складывают слова, как должно поступить, чтобы слово обыкновенное оживало […] я, однако, добиться его не могу». Это признание в художественной несостоятельности – пародийное отражение откровений, сделанных Чернышевским в романе «Что делать?». «У меня нет ни тени художественного таланта, – пишет он. – Я даже и языком-то владею плохо».
Косноязычие, стилистическая убогость, навязчивое топтание повторов, характерные для манеры Чернышевского, многократно воспроизводятся в «Приглашении на казнь». Приведу один пример. Цинциннат думает об адвокате, потерявшем запонку: «Видно было, что его огорчала потеря дорогой вещицы. Это видно было. Потеря вещицы огорчала его. Вещица была дорогая. Он был огорчен потерей вещицы».
Цинцинната делает писателем условие надвигающейся казни. Драматизм ситуации придает последнему слову героя статус литературного факта, значительность которого обусловлена не художественным качеством, а предполагаемым идейным смыслом. Такое возведение смерти в моторную творческую силу пародирует написание Чернышевским в крепости «вещи, в высшей степени антихудожественной», но читавшейся современниками как «богослужебные книги», – написано в «Даре». «Истина – хорошая вещь, – говорит Чернышевский в Предисловии к «Что делать?», – она вознаграждает недостатки писателя, который служит ей […] все достоинства повести даны ей только ее истинностью».
Аналогичной цели посвящает свое писание и Цинциннат:
«Между тем, знай я, сколько осталось времени, я бы кое-что… Небольшой труд… запись проверенных мыслей… Кто-нибудь когда-нибудь прочтет и станет весь как первое утро в незнакомой стране. То есть я хочу сказать, что я бы его заставил вдруг залиться слезами счастья, растаяли бы глаза, – и, когда он пройдет через это, мир будет чище, омыт, освежен».
Текст, который он создает в крепости, повторяет отдельные элементы утопии Чернышевского. В романе «Что делать?» изображено «светлое и прекрасное» будущее человечества, которое можно реализовать, если «быть рассудительными, уметь хорошо устроиться, узнать, как выгоднее употреблять средства». Цинциннат мечтает о мире, где «неподражаемой разумностью светится человеческий взгляд; там на воле гуляют умученные тут чудаки…»
Оппозиция «тут / там», традиционно интерпретируемая исследователями как оппозиция настоящего и потустороннего миров, прочитывается в этом варианте как оппозиция «реальность / утопия» и оказывается противопоставленной аналогичной модели романа Чернышевского. Гипотеза подтверждается и тем, что идиллия будущего в «Что делать?» воплощается в снах Веры Павловны, главной героини. Цинциннат также в снах видит счастливый мир, означенный словом «там».
«А ведь с раннего детства мне снились сны… – пишет Цинциннат. – В снах моих мир был облагорожен, одухотворен; люди […] появлялись там в трепетном преломлении […] их голоса, поступь, выражение глаз и даже выражение одежды – приобретали волнующую значительность; проще говоря: в моих снах мир оживал, становясь таким пленительно важным, вольным…»
А вот каким видит в своем четвертом сне людей будущего Вера Павловна: «Как они стройны и грациозны, как выразительны их черты!», «их платье скромно и прекрасно […] Как мягко и изящно обрисовывает оно формы… Все они счастливые красавцы и красавицы, ведущие вольную жизнь труда и наслаждения…»
Пародийная зеркальность этих «внутренних» текстов, так же как и самих романов в целом, реализуется в их временно́й разнонаправленности: утопия Чернышевского – мечта, проецируемая в будущее, утопия Цинцинната, ностальгия, – в прошлое. «Там, – пишет он, – оригинал тех садов, где мы тут бродили», «там сияет то зеркало, от которого иной раз сюда перескочит зайчик».
Философская роль обоих протагонистов отражается в их концепции и поведении. Так, Чернышевский, – читаем в «Даре», – «устраняя дуализм метафизический, попался на дуализме гносеологическом». Цинциннат был «обвинен в гносеологической гнусности», за резкий, правдивый тон его казнят. Сравним в «Даре» о журнальной деятельности Чернышевского: «Тон […] становится резким, откровенным; словцо “гнусно”, “гнусность” начинает приятно оживлять страницы […] журнала».
Перед казнью Цинцинната заместитель управляющего городом сообщает публике, что «вечером идет с громадным успехом злободневности опера-фарс “Сократись, Сократик”». Это название обыгрывает отчество жены Чернышевского, Ольги Сократовны, а также пародирует «манеру логических рассуждений Чернышевского “в духе тезки его тестя”», – замечает Набоков в «Даре»; Сократ в данном случае упоминается как философ, в лице которого, по определению Ф. Ницше, воплотилась «несокрушимая вера, что мышление, руководимое законом причинности, может проникнуть в бездны бытия и что это мышление не только может познать бытие, но даже исправить его»[191]. Известна также дурная репутация жены Сократа. Гибель Сократа, Чернышевского, Цинцинната за идеи образует в контексте двух романов общий пародийный ряд.
Параллелизм образов Цинцинната и Чернышевского отражен и в их тюремном костюме: Цинциннат одет в «черный халатик […] философская ермолка на макушке…» Чернышевский сидел «в байковом халате, в картузе, – собственный головной убор разрешался, если это только не был цилиндр…» – цитирую из «Дара». В романе «Отчаяние», опубликованном в 1934 году, этот головной убор атрибутируется палачу: «…рослый палач в цилиндре…» В последнем, написанном по-английски и законченном в 1974 году романе Набокова «Посмотри на Арлекинов», в котором в виде пародийных двойников называются набоковские романы, написанные им ранее, «Приглашение на казнь» фигурирует под названием «Красный цилиндр». Образ взят из «Приглашения…», из главы I: судья говорит осужденному Цинциннату: «“С любезного разрешения публики, вам наденут красный цилиндр”, – выработанная законом подставная фраза, истинное значение коей знал всякий школьник». Иначе говоря, в этом мире «наоборот» жертве надевают головной убор палача.
Черты утопического мира из «Что делать?» реализуются в романном пространстве «Приглашения на казнь». Так, картина города, пейзаж повторяют картину «Новой России» из четвертого сна Веры Павловны. Тамарины Сады, о которых говорит Цинциннат: «Покуда в тех садах будут дубы…», – пародийное отражение утопических садов, «где растут дуб и липа…» в романе «Что делать?». Эта смесь, объясняемая плохим знанием Чернышевским природы, в «Приглашении на казнь» выстраивается в самостоятельный разоблачительный мотив: сады в сознании Цинцинната постепенно трансформируются в леса, а садовники – в охотников, что придает, казалось бы, невинной утопической мечте опасный и агрессивный смысл. Например, в последних главах палач, м-сье Пьер, появляется перед Цинциннатом в костюме охотника: «…вошел […] м-сье Пьер в своем охотничьем гороховом костюмчике». Аналогичный смысл заключается в пародийном воспроизведении «хрустального дома» с «белыми колоннами» и «южными деревьями», где обедают счастливые люди будущего в четвертом сне Веры Павловны у Чернышевского в «Что делать?» – в образе дома заместителя управляющего городом – белой виллы с «театрально освещенным подъездом, с белесыми колоннами […] лаврами в кадках», где устраивают торжественный ужин перед казнью Цинциннату в романе «Приглашение на казнь».
Сопоставление текстов убеждает, что многое в мире Цинцинната создано по рецепту, изобретенному Чернышевским. Так, роман о дубе, идея которого «считалась вершиной современного мышления» и который состоит из трех тысяч страниц, – пародийный образец литературы, ценившейся Чернышевским.
«Чернышевский полагал, что ценность произведения есть понятие не качества, а количества, и что если бы кто-нибудь захотел в каком-нибудь […] романе с вниманием ловить все проблески наблюдательности, он собрал бы довольно много строк, которые по достоинству ничем не отличаются от строк, из которых составляются страницы произведений, восхищающих нас», – читаем в «Даре».
Воплощением этой идеи кажется описание романа «Quercus» («Дуб») в «Приглашении на казнь»:
«Пользуясь постепенным развитием дерева […] автор чередой разворачивал все те исторические события […] коих дуб мог быть свидетелем […] Приходили и уходили различные образы жизни […] Естественные же промежутки бездействия заполнялись учеными описаниями самого дуба с точки зрения дендрологии, орнитологии, колеоптерологии, мифологии – или описаниями популярными, с участием народного юмора».
Не случаен и выбор пародийного романного героя – дерева. Приводя в жизнеописании цитату из труда Чернышевского, где доказательство превосходства природы над искусством строится на примере дерева, Набоков замечает: «Во всем этом диком вздоре есть еще свой частный смешной завиток: постоянное у “материалистов” апеллирование к дереву особенно забавно тем, что все они плохо знают природу, в частности деревья».
Изложенные наблюдения приводят к выводу, что «Приглашение на казнь» представляет собой пародийно реализованную утопию, изображенную в романе «Что делать?», в которой главный герой, философ-«идеалист», является пародийным отражением самого Чернышевского. Выдуманность, искусственность быта, населенного «призраками, оборотнями, пародиями», прочитывается в этом варианте буквально.
Но в обществе, где царит разумность вещественности, где благо выводится из производительности, Цинциннат, с его богатым духовным миром, становится преступником, «узником», «мучеником». Упрек в бесполезности существования делает ему Родион, тюремщик: «Вы бы лучше научились, как другие, вязать […] и связали бы мне фаршик». Оговорка шарфик / фаршик обыгрывает навязчивый вопрос Цинцинната о палаче, «рубщике». Замечание Родиона – сколок с убеждения Чернышевского, «что выпрясть пфунт шерсти полезнее, чем написать том стихоф», как выражается педагог Кампе в «Даре».
Драматическая судьба Цинцинната, повторяющая судьбу Чернышевского, но в условиях изобретенного им идеального общества, вскрывает роковой изъян идеи, а на структурном уровне обеспечивает сюжетную органичность диптиха, состоящего из двух набоковских романов.
2
Важную роль в «Приглашении…» исполняет аллюзия на Евангелие, которая, в свою очередь, тесно связывает его с «Жизнью Чернышевского». Приведу пример из IV главы «Дара»: Чернышевский видит себя вторым Спасителем:
«Христос умер за человечество, ибо любил человечество, которое я тоже люблю, за которое умру тоже, – размышляет он. – […] Христу следовало сперва каждого обуть и увенчать цветами, а уж потом проповедовать нравственность. Христос второй прежде всего покончит с нуждой вещественной […] И странно сказать, но… что-то сбылось, – да, что-то как будто сбылось».
Вслед за ним эту идею подхватывают современники и мемуаристы, размечавшие «евангельскими вехами его тернистый путь».
В «Приглашении на казнь» библейская аллюзия воспроизводится вторично, как непосредственное пародийное отражение мотива «Жизни Чернышевского». Цинциннат, в отличие от пародируемого героя, не видит в своем существовании мессианского значения. Параллелизм выстраивается путем биографических совпадений и намеков, относящихся непосредственно к евангельскому образу.
Мать Цинцинната зачала «его ночью на Прудах (пародийный эквивалент райского озера. – Н.Б.), когда была совсем девочкой». Юность служит фальшивым синонимом непорочности. Во время свидания с Цецилией Ц. герой делает попытку догадаться, кто был этот «безвестный прохожий», его отец: «…я думаю, мы его сделаем странником […] или загулявшим ремесленником, плотником» (пародийная аллюзия на Иосифа, выдвигаемая в форме возможной версии отцовства) […] «Ах, Цинциннат, он – тоже», – отвечает мать. Отец Чернышевского – «добрейший протоиерей, не чуждый садовничеству», – сказано в «Жизни Чернышевского». В контексте отождествления рая с садом, которое реализуется во второй части романного диптиха, пародийное сходство приобретает отчетливые черты.
Отмечавшееся выше учительство Цинцинната и Чернышевского также понимается как сквозной отсыл к евангельскому сюжету. Оба героя попадают в крепость в тридцатилетнем возрасте. Пример из IV главы «Дара»: «Страсти Чернышевского начались, когда он достиг Христова возраста». Осужденный на казнь Цинциннат заявляет: «Я тридцать лет прожил среди плотных на ощупь привидений […] но теперь, когда я попался, мне с вами стесняться нечего».
В «Приглашении на казнь» немало скрытых аллюзий на сакральный образ. Например, «тюремщик Родион принес (Цинциннату. – Н.Б.) в круглой корзиночке, выложенной виноградными листьями, дюжину палевых слив, – подарок супруги директора». Сливы, фрукты как напоминание об утраченном рае – первый слой аллюзии. Этот образ пародийно воспроизводится в романе многократно. Так, брат Марфиньки приносит «подарок зятю – вазу с ярко сделанными из воска фруктами». Второй слой аллюзии раскрывается в закамуфлированной цитате из Лескова, приводимой в «Даре» в качестве образца писательского зрения: «Галилейский призрак, прохладный и тихий, в длинной одежде цвета зреющей сливы».
Связь с евангельским сюжетом обнаруживают и маргинальные персонажи. В жизнеописании во время ареста Чернышевского присутствует его соратник, Антонович. Увидев у двери казенную карету, он стал прощаться. «“А вы разве тоже уходите и не подождете меня?” – обратился Чернышевский к апостолу. “Мне, к сожалению, пора…” – смутясь душой, ответил тот». В «Приглашении на казнь», в мире, где все безобразно вывернуто наизнанку, образ апостола низводится до карикатуры:
«Весть о казни (Цинцинната. – Н.Б.) начала распространяться в городе […] Мнимый сумасшедший, старичок из евреев, вот уже много лет удивший несуществующую рыбу в безводной реке, складывал свои манатки, торопясь присоединиться к первой же кучке горожан, устремившихся на Интересную площадь».
Нетрудно догадаться, что в этом пародийном образе подразумевается апостол Петр. «Рыбная ловля» – одно из главных увлечений м-сье Пьера, палача, – прочитывается как пародийное воплощение апостольской темы. Примечательно, что в «Жизни Чернышевского» есть рассказ о том, что в детстве он так и не научился «мастерить сетки для ловли малявок […] уловлять рыбу труднее, чем души человеческие», – замечает автор, – «но и души ушли потом через прорехи».
Казнь Цинцинната – аллюзия на казнь Христа. «Что-то случилось с освещением, – с солнцем было неблагополучно, и часть неба тряслась». Далее декорации балаганной сцены разрушаются: «Все расползалось […] Винтовой вихрь забирал и крутил пыль». Цитата содержит отсылку к описанию смерти распятого Христа, сопровождающейся землетрясением.
Смерть Цинцинната обставляется как рождение / возрождение. Мать, акушерка, делает ему тайный жест / намек на истинный смысл предстоящей смерти, показывая размер младенца; намек на возрождение содержат и последние слова романа: «…Цинциннат пошел […] в ту сторону, где, судя по голосам, стояли существа, подобные ему».
Семантическое прочтение сюжетного финала «Приглашения…» обусловлено кольцевой композицией первой части романного диптиха, «Жизни Чернышевского».
Восприятие его современниками как «падшего ангела» подвергается карикатуризации в главе IV «Дара», что определяет оппозиционную характеристику героя: ангел / бес. Власти пугались «бесовских идей» Чернышевского, мемуаристы отмечали «ангельскую ясность» глаз», – цитирую из «Дара». В пародийном повторе образа, в «Приглашении на казнь», герой также воспринимается обществом как враждебная сила: «…И однажды, на каком-то открытом собрании […] вдруг пробежала тревога, и один произнес громким голосом: “Горожане, между нами находится – … – тут последовало страшное, почти забытое слово, – и налетел ветер на акации […] А спустя десять дней он (Цинциннат. – Н.Б.) был взят”».
Между тем сам герой вспоминает свою «предысторию» как вариант падения из рая, воспроизводимый буквально, как падение из окна. Сад – синоним рая, где сверстники Цинцинната «в долгих розовых рубашках, […] взявшись за руки, кружатся около столба с лентами». Он не участвует в игре и от грозного окрика «старейшего из воспитателей» «прямо с подоконника сошел на пухлый воздух». Утопический мир, означенный словом «там» (окраска его закреплена в цветовой фонетике Набокова – «м» – «розовое, фланелевое», – цитирую из «Дара»), понимается героем как мир утраченный и, следовательно, отнесенный в прошлое.
Таким образом, аллюзия на Евангелие в «Приглашении на казнь», подчиненная пародийной задаче, выполняет одновременно и важную структурную функцию. Она переводит сюжет из вертикального библейского измерения в горизонтальную плоскость романного повествования.
В христианской литературной, иконографической и фольклорной традиции образ рая воспроизводится как сад, город, небеса. Образ сада восходит к ветхозаветному описанию Эдема, города – к новозаветному описанию Небесного Иерусалима. Эдем – невинное начало человеческого пути. Небесный Иерусалим – его эсхатологический конец. Герой проходит маршрут дважды: из Тамариных Садов, города Цинциннат попадает в крепость (заключение отождествляется с земной жизнью), а затем возвращается в город, на казнь, возрождение. Следуя набоковскому принципу разбора (писатель на лекциях в Корнеле, разбирая тексты, показывал студентам графическое воспроизведение литературных описаний, как, например, купе, в котором ехала Каренина, дом доктора Джекила, маршрут передвижений Стивена и Блума во второй части «Улисса»), повествование может быть представлено графически:
Небо и земля в горизонтальном воспроизведении сохраняют симметричную оппозиционность: город – на горе и крепость – на горе, за окраиной города – Тамарины Сады, за стенами крепости – виноградники – утилитарная разновидность сада. С башенной террасы Цинциннат видит, как дорога из крепости спускается «к безводному руслу реки, и через выгнутый мост шел кто-то крохотный в красном, и бегущая точка перед ним была, вероятно, собака». Описанная картина – аллюзия на полотно П. Брейгеля «Охотники на снегу». В контексте разобранного выше тематического мотива – садовники, которые по мере трансформации сада в лес становятся охотниками, – Цинциннат видит идущего в крепость палача (см. также уже приведенную цитату об охотничьем костюме м-сье Пьера в последней сцене романа, казни). На подозрение о палаче указывает и цвет одежды – красный. Намеки на костюм палача фрагментарны и разбросаны в сценах его появления. Так, у м-сье Пьера «красный платочек», его фокусы – «красная магия».
«Обмелевшая река», условно разделяющая пространство города и крепости, является пародийным аналогом Стикса. В «Приглашении…» камера Цинцинната неоднократно называется каютой, лодкой. В ней герою предстоит символическая переправа в Царство мертвых. Однако отсутствие воды в реке аннулирует ее значение как границы. Отсутствие раздела, середины, центра, нарушение которого в романе неоднократно подчеркивается[192], делает невозможным определить пределы чего-либо, в частности конец жизни и, следовательно, дату смерти. Размышляя о соотношении миров: «там» / «тут», Цинциннат пишет:
«…там время складывается по желанию, как узорчатый ковер, складки которого можно так собрать, чтобы соприкоснулись любые два узора на нем, – и вновь раскладывается ковер, и живешь дальше, или будущую картину налагаешь на прошлую, без конца, без конца».
Прием проецируется в композицию романа, текст условно складывается, каждый раз обозначая новую середину, при этом «наложение», сближение образов раскрывает их смысл. Приведу несколько примеров. В главе I Цинциннат мысленно возвращается в город, проходя «мимо празднично настроенных белых дач телеграфных служащих, вечно справляющих чьи-нибудь именины». В главе XVII, на ужине у заместителя управляющего городом, перед казнью герой «вдруг с резким движением души понял, что находится в самой гуще Тамариных Садов […] что не раз с Марфинькой тут проходил, мимо этого самого дома, в котором был сейчас и который тогда ему представлялся в виде белой виллы…»
Именины, таким образом, оказываются торжеством по поводу смерти. Следующее наложение текстового «узора» расшифровывает одну из надписей в камере смертников, куда заключен Цинциннат: «Вечные именинники, мне вас…»
Смысловое содержание образа «телеграфных служащих, справляющих именины», проявляется при сопоставлении с главой IX, визитом семьи. Марфиньку сопровождает любовник, молодой человек «в шикарной черной форме телеграфного служащего». Его костюм, как и платье героини, – пародийная одежда преждевременного траура.
Такая структурная организация текста включает в его пределы оба мира: рай, утопию, называемую в романе – «там», и земную жизнь, реальность – «тут». Развернутые в горизонтальном движении сюжета, они противопоставлены друг другу, разделены, но границей, неразличимой для человеческого глаза.
3
Перевод фабулы из вертикального измерения в горизонтальное обусловлен установкой произведения на театрализацию повествования. Сюжетная горизонтальность соотносится с горизонтальностью сцены, на которой разыгрывается действие. Каждая глава романа – не только отдельный день, но акт пьесы, начинающийся освещением сцены и завершающийся наступлением темноты. Ночь между главами – синоним театральной паузы. Ориентация действия на театральную пьесу оглашается самим героем. Так, Цинциннат говорит матери: «Нет, нет, не сбивайтесь на фарс. Помните, что тут драма».
Большая часть действия происходит в камере героя, очередная глава сопряжена с некоторой перестановкой декораций, с появлением новых действующих лиц. В «Приглашении на казнь» воспроизводится поэтика модернистского театра: отсутствие занавеса, установка декораций на глазах зрителей, которая осознается как неотъемлемая часть театрального действия. Например, в сцене визита семьи Марфиньки: «Между тем всё продолжали прибывать мебель, утварь, даже отдельные части стен. Сиял широкий зеркальный шкап, явившийся со своим личным отражением (а именно: уголок супружеской спальни, – полоса солнца на полу, оброненная перчатка и открытая в глубине дверь)». Наравне с традиционной реконструкцией обстановки декорации выполняют и чисто сюжетную функцию. Оброненная в спальне перчатка, запечатленная зеркальным шкапом, которую тщетно ищет в камере любовник Марфиньки, – свернутая до размеров вещественного доказательства тема супружеской измены.
В романе использованы и некоторые приемы театра абсурда: коммуникативная разобщенность диалогов, смысловое выхолащивание высказывания. Отмечу, что «Приглашение на казнь» воспроизводит не только драматическое действие, но и драматургический текст и содержит наравне с диалогами и авторские ремарки.
Например, отрывок из разговора Цинцинната и директора тюрьмы:
«“Насчет завтрашнего прихода моей жены (говорит Цинциннат. – Н.Б.) – пускай в данном случае вы не согласитесь дать мне гарантию, но я ставлю вопрос шире: существует ли вообще, может ли существовать в этом мире хоть какое-нибудь обеспечение, хоть в чем-нибудь порука, – или даже самая идея гарантии неизвестна тут?”
Пауза.
“А бедный-то наш Роман Виссарионович, – сказал директор, – слыхали? Слег, простудился, и, кажется, довольно серьезно…”»
Исследователями уже отмечались театральные элементы, встречающиеся в повествовании: костюмы героев, грим, маски, смена ролей, разделение персонажей на зрителей и исполнителей, постамент с плахой, напоминающий сцену, да и сама казнь, обставленная как «представление». Допустимо, что театрализация произведения во многом обусловлена пародийной аллюзией на «показательную» казнь Чернышевского, героя первой части романного диптиха.
Однако особый смысл носят описанные в «Приглашении…» отдельные театральные номера, которые исполняют разные персонажи: Родион поет оперную арию. Эммочка изображает балерину, м-сье Пьер показывает фокусы, выступает в качестве циркового акробата. В романе воспроизведены все уровни спектакля, от высоких – оперы, балета, до низких – цирка, балагана. Развернутый жанровый спектр зрелищ объясняется пародийной связью произведения Набокова со сказкой Ю. Олеши «Три толстяка». А. Белинков в книге «Юрий Олеша. Сдача и гибель советского интеллигента» называет сказку романом и связывает этот текст с предшествующей ему трагикомедией «Игра в плаху». Пьеса была написана в 1921–1922 годах, но напечатана только в 1934-м в № 5 журнала «Тридцать дней», что сводит к минимуму возможность ее прочтения Набоковым во время работы над «Приглашением на казнь» летом того же года. Речь может идти только об опосредованном знакомстве писателя с пьесой Олеши, поскольку сказка, написанная вслед за драмой, фактически использует ее концепцию, отчасти сюжет и даже целые куски текста, как об этом пишет А. Белинков в своей книге. Роман-сказка «Три толстяка» – фантастическое произведение о революции, утопия для детей – был впервые опубликован в 1928 году и сразу приобрел огромную популярность. Примечательно, что книга была издана с иллюстрациями М. Добужинского, которому текст был переслан специально в Париж. В 1929 году Ю. Олеша по предложению К. Станиславского переделал роман-сказку в пьесу, и она шла с большим успехом во МХАТе. А позднее из нее был сделан и балет. Надо полагать, Набокову было известно это нашумевшее советское произведение; возможно, и от Добужинского, у которого в детстве учился рисованию, с которым встречался в Париже в 1932-м и с которым сохранил добрые отношения на всю жизнь.
В романе-сказке Ю. Олеши рассказывается, как актеры циркового балагана помогли народу свергнуть режим трех толстяков. Главные герои носят римские имена: канатоходец Тибул, клоун Август. Можно предположить, что это условие послужило одной из пародийных мотиваций выбора имени героя набоковского романа – Цинцинната. Исследователи часто связывают это имя персонажа Набокова с Люцием Цинциннатом, легендарным римским полководцем и землепашцем, а также с его сыном.
Согласно нашей версии, объяснение выбора имени героя обусловлено прочтением «Приглашения…» как части романного диптиха. Cincinnatus на латыни значит кудрявый, имеющий локоны. Золотистые кольца волос вокруг головы – имитация ангельского ореола. Сопоставим с этим образом описание облика Чернышевского во время его первого появления в IV главе «Дара»: «привлекательный мальчик: розовый… в глазах ангельская ясность…» В «Жизни Чернышевского» сквозной характер приобретает «тема» ангельской ясности. Цинциннат – падший ангел. Он вспоминает, как, будучи мальчиком в розовой рубашке, «сошел на пухлый воздух» из окна / из рая.
В романе представлены и обманные образцы ангельской чистоты: «белокурый франт», любовник Марфиньки, Эммочка, у нее «бледные локоны», м-сье Пьер, у которого оказывается «барашком завитой почерк». О его «херувимской» внешности см. приведенную выше цитату.
Но вернемся к «Трем толстякам». Маленькая танцовщица Суок, центральный персонаж сказки, притворяясь куклой, помогает бежать из темницы оружейнику Просперо, чем спасает революцию, возвращая ей лидера. В «Приглашении…» маленькая Эммочка с «балетными икрами» обещает спасти Цинцинната из крепости. Это пародийная аллюзия на образ Суок. Гипотеза подтверждается текстом: когда Цинциннат говорит м-сье Пьеру о возможности бегства, тот отвечает: «Ну, это вы того, заврались […] Это в детских сказках бегут из темницы».
М-сье Пьер, палач, в романе неоднократно проявляет признаки доктора; так, он «задержал в своей мягкой маленькой лапе ускользавшие пальцы Цинцинната, как затягивает пожатие пожилой ласковый доктор». Сближение образа палача и доктора делается, по-видимому, на основе отсылки к известному историческому персонажу, врачу Жозефу Гильотенду, изобретателю инструмента казни, уменьшающего страдания приговоренного. В разговоре с Цинциннатом м-сье Пьер произносит перефразированную песенку из сказки Олеши, которую народ поет про старого доброго доктора Гаспара, тоже помогающего революции: «Кто утешит рыдающего младенца, кто подклеит его игрушку? М-сье Пьер. (В сказке доктор Гаспар должен подклеить куклу наследника Тутти и тем утешить мальчика, но заменяет ее живой танцовщицей Суок. – Н.Б.) Кто снабдит трезвым советом, кто укажет лекарство, кто принесет отрадную весть? Кто? Кто? М-сье Пьер. Всё – м-сье Пьер». Сравним у Олеши:
Как лететь с земли до звезд, Как поймать лису за хвост, Как из камня сделать пар, Знает доктор наш Гаспар.Таким образом, представляется, что идеологическая сказка Ю. Олеши, в которой театральность в ее низких формах, балагана, цирка, заключена в сюжете, а в высоких – пьесе, балете, опере – воспроизведена зрелищно, является одним из пародируемых текстов романа Набокова «Приглашение на казнь».
Набоковедами многократно оговаривалась связь «Приглашения…» с «Преступлением и наказанием» Достоевского. Мотивация связи, как правило, выдвигалась философская. Однако, учитывая установку набоковского романа на театрализацию повествования, отсыл к произведению Достоевского может быть объяснен и драматургическими свойствами адресата. Известно, что Набоков считал Достоевского несостоявшимся драматургом, а его романы – пьесами, облеченными в неудавшуюся форму романа, – о чем и говорил на лекциях по русской литературе в Корнельском университете.
Пародийное воспроизведение пары Раскольников – Порфирий Петрович в паре Цинциннат и м-сье Пьер, чьи беседы проходят в камере, как на сцене, обнажает театральные эффекты романа Достоевского. Цинциннат повторяет черты Раскольникова, но в сниженном варианте. Раскольников «тонок и строен», Цинциннат – «тонок» и «узок». Раскольников нервозен, легко теряет сознание. Аналогично ведет себя и Цинциннат. «Мы нервозны, как маленькая женщина», – говорит ему тюремный врач, он же директор тюрьмы. «Дышите свободно. Есть можете все. Ночные поты бывают?» Этот диалог напоминает разговор Зосимова с больным Раскольниковым: «Ну, так как же мы теперь себя чувствуем, а?.. Пульс славный… Да все можно ему давать… Супу, чаю…» «Экая морская каюта», – говорит о комнате Раскольникова Разумихин. Такое же сравнение используется и для камеры Цинцинната.
М-сье Пьер, в свою очередь, повторяет образ Порфирия Петровича. Обращает на себя внимание и сходство имен, и, особенно, сходство портретное. Цитирую из сцены первой встречи Раскольникова с Порфирием:
«Порфирий Петрович был по-домашнему, в халате, в весьма чистом белье и в стоптанных туфлях. Это был человек лет тридцати пяти, росту пониже среднего, полный и даже с брюшком, выбритый, без усов и без бакенбард, с плотно выстриженными волосами на большой круглой голове […] Пухлое, круглое и немного курносое лицо […] было бы даже и добродушное…»
Теперь Набоков. Цинциннат впервые видит м-сье Пьера:
«На стуле, бочком к столу […] сидел безбородый толстячок, лет тридцати, в старомодной, но чистой, свежевыглаженной арестантской пижамке […] в новеньких сафьяновых туфлях […] светло-русые волосы на удивительно круглой голове были разделены пробором посередине, длинные ресницы бросали тень на херувимскую щеку…»
Идейно-нравственный спор между Раскольниковым и Порфирием трансформируется в романе Набокова в фарсовые беседы палача и жертвы, а то, что происходят они в крепости, делает демонстративным предрешенность исхода и искусственную открытость диспутов протагонистов Достоевского.
С «Преступлением и наказанием» обнаруживает перекличку и текст первой части набоковского диптиха, «Жизни Чернышевского». Выше уже отмечалось проявление свободной воли героя в выборе головного убора при заключении в крепость. Читаем у Достоевского: «Головной убор, это, брат, самая первейшая вещь в костюме, своего рода рекомендация», – говорит Раскольникову Разумихин.
Еще одна аллюзия набоковской пары, Цинцинната и м-сье Пьера, на «Фауста» Гёте. М-сье Пьер представлен в романе как пародийный вариант Мефистофеля. Он родом из Вышнеграда. «Да я – вышнеградец, – сообщает он Цинциннату. – Солеломни, плодовые сады». В названии «Вышнеград» обыгрывается одновременно несколько значений: высший, т. е. небесный, и «вышка» – что значит на советском языке – расстрел, казнь. И наконец, вишни – плоды райского сада (ср.: в романе «Камера обскура»). «Если вы когда-нибудь пожелали бы приехать меня навестить, угощу вас нашими вишнями…» – говорит м-сье Пьер Цинциннату.
Он приходит к Цинциннату в обманном качестве «наперсника, товарища». Послан кем-то неизвестным из Вышнеграда. У Гёте в «Фаусте» Господь в «Прологе на небесах» говорит (привожу в переводе Н. Холодковского):
Слаб человек; покорствуя уделу, Он рад искать покоя, – потому Дам беспокойного я спутника ему: Как бес, дразня его, пусть возбуждает к делу!В главе XIV «Приглашения на казнь» монолог м-сье Пьера, обращенный к Цинциннату, о наслаждениях жизни является пародийным отражением речей Мефистофеля. Характерно и соответствующее восклицание м-сье Пьера: «…незабвенное воспоминание… заставляет крикнуть: “О, вернись, вернись; дай еще раз пережить тебя”» – отражение знаменитой реплики из трагедии Гёте. Как пародийное воспроизведение рокового желания остановить мгновение понимается и страсть палача к фотографии. «Фотография и рыбная ловля – вот главные мои увлечения», – признается м-сье Пьер на ужине перед казнью. Значение этого увлечения раскрывается в последнем снимке на ужине: «Перед уходом гостей хозяин предложил снять м-сье Пьера и Цинцинната у балюстрады […] Световой взрыв озарил белый профиль Цинцинната и безглазое лицо рядом с ним».
Отсылка к «Фаусту», на этот раз к оперному варианту трагедии, подкреплена и эпизодическими образами. В главе II «Приглашения на казнь» Родион, «приняв фальшиво-развязанную позу оперных гуляк в сцене погребка […] баритонным басом пел, играя глазами и размахивая пустой кружкой […] Дальше он уже пел хором, хотя был один».
Текстом-адресатом аллюзии, которую представляет данная сцена, является знаменитая «Песня о крысе», исполняемая Брендером, второстепенным, как и Родион, персонажем в сцене погребка Ауэрбаха в драматической легенде Г. Берлиоза «Осуждение Фауста». В ее основу лег измененный текст Гёте. В песне высмеивается обреченная на гибель крыса. Повар отравил ее ядом, она мечется в смертном ужасе по замкнутому пространству дома, словно охваченная любовью. (Замечу, что во французском оригинале оперного либретто крыса – мужского рода.) Содержание песни прочитывается как гротескное отражение романной ситуации. Добавлю также, что традиционные декорации первого акта «Осуждения Фауста» представляют веранду, выходящую на цветущие поля и вдали крепость на горе. У Набокова: «…город, из каждой точки которого была видна […] высокая крепость, внутри которой он сейчас находился».
Аллюзия на музыкальные варианты «Фауста» (в частности, на одну из первых «Песен» Ф. Шуберта «Маргарита за прялкой») обнаруживается и в первой части романного диптиха, в «Жизни Чернышевского». В «Даре» читаем о том, что Чернышевский в молодости, когда «бывали томные, смутные вечера […] начинал петь, завывающим фальшивым голосом, – пел “Песню Маргариты”».
Опера как жанр искусства «призывается» Набоковым в качестве референтного текста романа потому, что использовалась Чернышевским в «Что делать?» в качестве идеологического аргумента реальности всеобщего счастья:
«…чистейший вздор, – писал он, – что идиллия недоступна. Она не только хорошая вещь почти для всех людей, но и возможная, очень возможная; ничего трудного бы не было устроить ее, но только не для одного человека… а для всех. Ведь и итальянская опера – вещь невозможная для пяти человек, а для целого Петербурга – очень возможная, как всем видно и слышно».
Реализацию этой театрализованной, показательной идиллии и осуществил Владимир Набоков в своем романе «Приглашение на казнь».
Глава VIII Роман-оборотень «Дар»
И даль свободного романа
Я сквозь магический кристалл
Еще неясно различал.
А. Пушкин. Евгений Онегин…И моя странная муза,
Мой оборотень, везде со мной…[193]
В. Набоков. Бледный огонь1
Исследователи творчества В. Набокова отмечают строгую композиционную вымеренность и завершенность его произведений. Эта черта просматривается и в отдельных периодах, в частности – в «русском». Романы, написанные Набоковым в Европе, замыкаются тематическим кольцом. Как в первом, «Машенька», так и в последнем романе, написанном на русском, «Дар» (1937–1938 годы), герой – молодой литератор. Но в «Машеньке» его творчество остается за пределами повествования, герой предается мечтаниям, воспоминаниям, но не сочинительству. А в последнем «русском» романе «Дар» именно литературное творчество героя составляет текст повествования.
В одной из своих статей о романах Набокова-Сирина В. Ходасевич, проницательный и тонкий критик, так определил их общую тему:
«Жизнь художника и жизнь приема в сознании художника […] Однако художник, – замечает Ходасевич, – нигде не показан им прямо, а всегда под маской: шахматиста, коммерсанта и т. д. Представив своих героев прямо писателями, Сирину пришлось бы, изображая их творческую работу, вставлять роман в повесть или повесть в повесть, что непомерно усложнило бы сюжет и потребовало бы от читателя известных познаний в писательском ремесле»[194].
Предположение Ходасевича, сделанное до появления «Дара», оказалось пророческим. Этот роман принято считать произведением о писательском творчестве.
Его структура чрезвычайно сложна. Исследователи выявляют множество «внутренних» текстов, расположенных по принципу «матрешки». Однако, несмотря на текстовую мозаику, повествование «Дара» отличается органическим единством. Представляется, что оппозиционные структурные качества романа, в частности «цельность» / «фрагментарность», обусловлены его жанровой формой.
«Дар», в первую очередь, – биографическое произведение. Указание на жанр делается в финале, когда Годунов-Чердынцев рассказывает Зине, что собирается в будущем написать «автобиографию, с массовыми казнями добрых знакомых» (определение романа созданного). Это признание, наравне с другими приемами, возвращает повествование к началу; при этом весь предшествующий текст воспринимается как не записанный, а только проскользнувший в сознании писателя Годунова-Чердынцева, существование его подвергается сомнению (подробнее о композиции романа см. пятый раздел наст. гл.).
В биографическом жанре создано и большинство «внутренних» текстов «Дара»:
1. Стихи о детстве автора. В вымышленной рецензии на сборник подчеркивается их биографичность:
«При набожном их сочинении, автор, с одной стороны, стремился обобщить воспоминания, преимущественно отбирая черты, так или иначе свойственные всякому удавшемуся детству: отсюда их мнимая очевидность; а с другой, он дозволил проникнуть в стихи только тому, что было действительно им, полностью и без примеси: отсюда мнимая изысканность».
2. Повесть о Яше Чернышевском. Годунов-Чердынцев сетует, что ему «придется засесть за писание новеллы с изображением Яшиной судьбы…»
3. Роман об отце, который требует «много точных сведений и очень мало семейной сентиментальности».
4. Роман – «Жизнь Н. Г. Чернышевского». А. Я. Чернышевский советует молодому литератору: «Знаете что, написали бы вы, в виде biographie romancée, книжечку о нашем великом шестидесятнике…»
В «Даре» упоминаются и другие произведения в биографическом жанре, например биографии в трех ипостасях, чьи названия представляют собой мини-пародии на подобный соборный тип жизнеописания, разрушающий само условие уникальности судьбы и личности их героев. Такова приводимая в пример профессором Анучиным «книга Проф. Боннского университета Отто Ледерера “Три деспота (Александр Туманный, Николай Хладный, Николай Скучный”» или роман Траума, хозяина конторы Зины, «Три портрета. Императрица Евгения, Бриан и Сарра Бернар».
Для всех этих текстов обязательным организующим художественным условием является смерть героя. В романе разыгрываются разные варианты смерти: самоубийство (Яша Чернышевский), гибель, связанная с неизвестностью (отец Годунова-Чердынцева), казнь на площади (ее пародийное воспроизведение в «Жизни Чернышевского» и в рецензии Линева), смерть в своей постели (А. Я. Чернышевский). Физическая смерть обеспечивает воскресение; умерев, человек превращается в литературный персонаж. Единственной возможностью избежать смерти становится добровольный отказ от биографии, от перевода жизни в текст, попытка его написания отодвигается в будущее, что и делает в конце «Дара» Годунов-Чердынцев.
Пародийное отражение условия романтического сознания, воспринимающего смерть как обязательное условие трансформации судьбы в литературный сюжет, переводит в произведении реальную личность в статус романного героя, повторяя в этом художественном воплощении известные литературные образцы, будь то жанровые либо известные образные схемы. Примерами могут служить: жизнь Н. Г. Чернышевского, понимаемая им самим как жизнь жертвенная, равная жизни Христа, и таким образом рассказ о ней носит по меньшей мере апокрифический характер, или портрет Яши Чернышевского, написанный по образцу героя литературного, вымышленного – Ленского. Другим пародируемым объектом жанра является биографический роман, где вымысел манифестируется как документальность, а литературная игра обретает категорию исторического факта. Это мемуары А. Н. Сухощокова или биография Чернышевского, написанная Страннолюбским. «Знаешь эти идиотские “биографии романсэ”, где Байрону преспокойно подсовывается сон, извлеченный из его же поэмы…» – говорит о такого рода произведениях Годунов-Чердынцев.
При всей самостоятельности «внутренних» текстов они являются неотделимыми элементами одного большого – автобиографического романа писателя Годунова-Чердынцева. В «Даре» происходит демонстративное разделение «Я» нарраторского и «Он» героя, однако за каждым сохраняется как авторская, так и персонажная функция, т. е.: «Я» – автор, рассказчик, писатель – создает образ героя-писателя; «Он» – герой-писатель – в свою очередь создает образ автора-повествователя. Приведу несколько примеров, иллюстрирующих этот прием:
«Тех русского окончания папирос, которые он предпочтительно курил, тут не держали, и он бы ушел без всего, не окажись у табачника крапчатого жилета с перламутровыми пуговицами и лысины тыквенного оттенка. Да, всю жизнь я буду кое-что добирать натурой в тайное возмещение постоянных переплат за товар, навязываемый мне».
И еще:
«Солнце навалилось […] Я постепенно чувствовал, что становлюсь раскаленно-прозрачным, наливаюсь пламенем и существую только поскольку существует оно. […] Тощий, зябкий, зимний Федор Годунов-Чердынцев был теперь от меня так же отдален, как если бы я сослал его в Якутскую область. Тот был бледным снимком с меня, а этот, летний, был его бронзовым, преувеличенным подобием […]
Так можно было раствориться окончательно. Федор Константинович приподнялся и сел».
Такое непрерывное чередование / совмещение нарраторской и персонажной функций, такая постоянно вращающаяся точка зрения обнажают прием литературной игры при создании авторского образа в романном тексте, полностью исключая всякую установку на «правдивость» повествования. «Настоящее», «правдивое» в литературе меняет смысл, переносится в область художественного качества. Например, в разговоре с Зиной:
«“Я напишу, – сказал в шутку Федор Константинович, – биографию Чернышевского”.
“Все что хочешь. Но чтобы это было совсем, совсем настоящее. Мне нечего тебе говорить, как я люблю твои стихи, но они всегда не совсем по твоему росту, все слова на номер меньше, чем твои настоящие слова”».
Зина слушает отрывки из романа Годунова-Чердынцева:
«Ее совершенно не занимало, прилежно ли автор держится исторической правды, – она принимала это на веру, – ибо, если бы это было не так, то просто не стоило бы писать книгу. Зато другая правда, правда, за которую он один был ответственен и которую он один мог найти, была для нее так важна, что малейшая неуклюжесть или туманность слова казалась ей зародышем лжи, который немедленно следовало вытравить».
Итак, повествовательная цельность «Дара» обусловлена жанром. Писательская биография реализуется здесь не в бытовом, а в творческом содержании. Статус биографических фактов приобретают прочитанные или созданные писателем произведения, его впечатления, воспоминания, сны, ощущения. В едином измерении находится прошлое и настоящее, реальное и вымышленное, записанное и только промелькнувшее в виде обрывков образов и слов. Естественное чувство осознания себя («вот он, особенный, редкий, еще не описанный и не названный вариант человека, занимается бог знает чем, мчится с урока на урок, тратит юность на скучное и пустое дело, на скверное преподавание чужих языков, – когда у него свой, из которого он может сделать все, что угодно – и мошку, и мамонта, и тысячу разных туч»), своего писательского ремесла («Все было осмысленно, и вместе с тем все было скрыто. Всякий творец – заговорщик»), пускает в ход механизм литературной игры («перелив многогранной мысли, игры мысли с самой собою»).
В результате мир внутренний и мир внешний, зарегистрированные творческим сознанием, преобразуются в текст автобиографического романа. Такое смысловое понимание жанра одновременно переводит в степень пародии бытовые жизнеописания литераторов. А в продолжение этого пародийного ряда развенчания выстраиваются физические, а не литературные характеристики поэтов. Цитирую:
«После перерыва густо пошел поэт: высокий юноша с пуговичным лицом, другой, низенький, но с большим носом, барышня, пожилой в пенсне, еще барышня, еще молодой».
Но вернемся ко второй оппозиционной структурной характеристике «Дара» – его фрагментарности. Текст романа словно представляет модель качественного, видового, жанрового понятия литературы. Он включает поэзию и прозу, а также политическую литературу, публицистику, художественную литературу, роман, короткую новеллу, драму, сказку, мемуары, энциклопедическую статью, частное письмо, сонет, стансы, романс, ямб, анапест, гекзаметр, верлибр, произведения известные и вымышленные, переводные и оригинальные… Это видовое многообразие объясняется, в первую очередь, тематической задачей: «Дар» – роман о литературном творчестве. Допустима и другая гипотеза: многожанровость творчества Годунова-Чердынцева составляет пародийную параллель деятельности его героя – Н. Г. Чернышевского.
«Истинный энциклопедист, своего рода Вольтер, с ударением, правда, на первом слоге, он исписал, не скупясь, тьму страниц (всегда готовый обхватить как свернутый ковер и развернуть перед читателем всю историю затронутого вопроса), перевел целую библиотеку, использовал все жанры вплоть до стихов и до конца жизни мечтал составить “критический словарь идей и фактов”».
И наконец, представляется, что форма «Дара» явилась пародийным откликом на разработку «суперформы» в русском авангарде, в частности «сверхповести» Хлебникова. Поиски авангардом универсального, синкретического жанра, чья композиция предполагала объединение в качестве самостоятельных ингредиентов разных литературных форм и в результате их монтажа получение качественно нового художественного произведения, совпадают с периодом исследования русскими формалистами поэтики жанров. Эксперименты в этой области не могли остаться не замеченными Набоковым.
Пародийное воспроизведение «сверхжанра» как «сверхромана» о литературе реализуется в «Даре», в первую очередь, в природе монтажа текстов разной формы. Именно монтаж, прием, заимствованный литературой, театром, живописью 20-х годов у кино[195], широко разрекламированный и разработанный теоретиками той поры, возведенный в «основополагающую эстетическую категорию»[196], осуществляет у Набокова пародийную задачу. Если у писателей-авангардистов «организованный монтажом факт противопоставляется вымыслу», «конструктор-коллектив» – «писателю-одиночке»[197], то в «Даре» организованный монтажом вымысел конституируется как факт. Так, «Жизнь Чернышевского», написанная Годуновым-Чердынцевым, воспринимается Зиной как реальность, а «подлинная его жизнь в прошлом представляется ей чем-то вроде плагиата». Литератор противопоставляется литературному коллективу; например, об одном из участников Общества Русских Литераторов:
«Как собеседник Владимиров был до странности непривлекателен. О нем говорили, что он насмешлив, высокомерен, холоден, не способен к оттепели приятельских прений, – но так говорили и о Кончееве, и о самом Федоре Константиновиче, и о всяком, чья мысль живет в собственном доме, а не в бараке или кабаке».
В основном прием монтажа в «Даре» как будто выполняет отведенную ему в авангардной эстетике роль – действует против традиционной иерархии литературных жанров. Пародийный эффект возникает именно из-за того, что деиерархизация происходит согласно эстетическим нормам, выдвинутым прогрессивной критикой, декларирующей примат идеи над словесным искусством.
В результате возникает пародийно организованный текст, в котором высокие жанры подчинены низким, «аристократические» стихотворные размеры – «плебейским», а художественная литература – политической. Деиерархизация в «Даре» реализуется на разных уровнях – например, типовом. Так, стихи Годунова-Чердынцева появляются в тексте вымышленной на них рецензии и существуют не самостоятельно, а как иллюстрация абсурдных утверждений критика.
«Кому нравится в поэзии архиживописный жанр, тот полюбит эту книжечку. Слепому на паперти она ничего не может сказать. У, какое у автора зрение! Проснувшись спозаранку, он уже знает, каков будет день, по щели в ставне, которая
синеет, синего синей, почти не уступая в сини воспоминанию о ней.[…] Нам даже думается, что, может быть, именно живопись, а не литература с детства обещалась ему, и, ничего не зная о теперешнем облике автора, мы зато ясно воображаем мальчика в соломенной шляпе, необыкновенно неудобно расположившегося на садовой скамейке со своими акварельными принадлежностями и пишущего мир, завещанный ему предками.
Фарфоровые соты синий, зеленый, красный мед хранят. Сперва из карандашных линий слагается шершаво сад».Другой пример: рецензия Линева на сборник Кончеева «Сообщение» уже полностью подавляет стихи, они существуют только как «обрубки» – «три четверти стиха, обращенных посредством кавычек в плоское утверждение».
Деиерархизация в «Даре» осуществляется на уровне литературных образов. Например, в романе неоднократно возникает пушкинская пара: поэт и импровизатор (подробнее о теме «Египетских ночей» см. ниже). Один из ее вариантов – поэт Годунов-Чердынцев и бездарный писатель Буш. Портрет Буша – «постаревшее» пародийное отражение пушкинского импровизатора: «Рослый дородный господин с крупными чертами лица, в черной фетровой шляпе (из-под нее – каштановый клок)».
«Это пальто, черная шляпа и кудря делали его похожим на гипнотизера, шахматного маэстро или музыканта».
У Пушкина:
«Он был высокого росту, худощав […] высокий лоб, осененный черными клоками волос […] шершавая шляпа, казалось, видала и вёдро и ненастье. Встретясь с этим человеком в лесу, вы приняли бы его за разбойника; в обществе – за политического заговорщика; в передней – за шарлатана».
В отличие от пушкинского текста, в «Даре» не поэт протежирует импровизатору, а импровизатор – поэту: Буш пристраивает роман Годунова-Чердынцева своему издателю, для которого «литература – закрытая книга».
Наконец, в набоковском произведении пересмотру подвергается и самое понятие причастности к литературе, как на уровне произведений (например, в главе II воспоминания поэта об отце отводятся как литературно не состоявшиеся, а мемуары Сухощокова, в которых фигурирует дядя Чердынцева и пожилой Пушкин, приобретают статус исторического, литературного факта), так и на уровне их производителей. Цитирую отрывок из описания собрания Общества Русских Литераторов:
«Чистые литераторы теснились вместе […] Керн, занимавшийся главным образом турбинами, но когда-то близко знавший Александра Блока […] Гурман […] Его прикосновенность к литературе исчерпывалась недолгим и всецело коммерческим отношением к какому-то немецкому издательству технических справочников […] Лишневский […] единственным его печатным произведением было письмо в редакцию одесской газеты, в котором он возмущенно отмежевывался от неблаговидного однофамильца, оказавшегося впоследствии его родственником, затем его двойником и наконец – им самим».
В романе налицо и деиерархизация символики. Вифлеемская звезда, оповещающая о рождении Христа, появляется здесь как звезда коммерческой эпохи: «В витринах универсального магазина какой-то мерзавец придумал выставить истуканы лыжников, на бертолетовом снегу, под Вифлеемской звездой», а далее – как символ восходящего фашизма: «хрустальный хруст той ночи христианской под хризолитовой звездой…»
2
Оппозиционная природа художественных структурных принципов «Дара» определила и другую его организующую – «хронологию» / «внетемпоральность».
Несмотря на выбор жанра произведения – биографический роман, где, казалось бы, основной является координата времени, Набоков демонстративно отказывается от какого-либо темпорального измерения, объявляя единственной категорией настоящее, т. е. момент прочтения, осознания, создания, воспроизведения текста:
«Наше превратное чувство времени, как некоего роста, есть следствие нашей конечности, которая, всегда находясь на уровне настоящего, подразумевает его постоянное повышение между водяной бездной прошедшего и воздушной бездной будущего (заявляет Годунов-Чердынцев. – Н.Б.). Наиболее для меня заманчивое мнение – что времени нет, что все есть некое настоящее, которое, как сияние, находится вне нашей слепоты».
Такое единственное настоящее и организует биографическое пространство, переводит жизнь в текст. Эта трансформация – следствие приема, который можно назвать «буквализацией» жанра; ретроспективный пересказ-пересмотр жизни понимается как составление биографии, т. е. создание текста, который, соответственно, строится уже не по жизненным, а по композиционным законам. Календарная последовательность уступает место последовательности тематической, а взаимодействие тем осуществляет сюжетное движение.
Декларативным воплощением этого приема служит глава IV: в «Жизни Н. Г. Чернышевского» выделяются не этапы его пути, а основные темы его жизни-текста, которые, развиваясь, организуют романное повествование, а в финале получают свое завершение. Например:
«…в той или иной точке намечается дальнейший путь данной темы – темы “прописей”… вот уже студентом Николай Гаврилович украдкой списывает: “Человек есть то, что ест” […] Развивается, замечаем, и тема “близорукости”, начавшаяся с того, что он отроком знал только те лица, которые целовал, и видел лишь четыре из семи звезд Большой Медведицы».
Далее вступает тема очков, которая «тут до поры до времени мутится […] Проследим и другую тему “ангельской ясности”. Она в дальнейшем развивается так: Христос умер за человечество, ибо любил человечество, которое я тоже люблю, за которое умру тоже».
Литературной терминологией определяются судьбы-тексты разных персонажей; например, о Гурмане: «главной же темой его личности, фабулой его существования, была спекуляция».
Смерть в жизни-тексте является не его завершением, а темой, но темой, как уже было сказано, определяющей все предшествующее жизненное повествование. Например, из рецензии Мортуса: «Один пишет лучше, другой хуже, и всякого в конце пути поджидает Тема, которой “не избежит никто”». «А я ведь всю жизнь думал о смерти (говорит умирающий А. Я. Чернышевский. – Н.Б.), и если жил, то жил всегда на полях этой книги, которую не умею прочесть».
Знаменательно, что последними словами умирающего Н. Г. Чернышевского были: «“Странное дело: в этой книге ни разу не упоминается о Боге”. Жаль, что мы не знаем, какую именно книгу он про себя читал». Учитывая прием текстуального воплощения человеческой судьбы, остается допустить, что это была книга его собственной жизни.
Такое отождествление жизни с литературным произведением восходит к пушкинскому «Евгению Онегину»:
Блажен, кто праздник жизни рано Оставил, не допив до дна Бокала полного вина, Кто не дочел ее романа И вдруг умел расстаться с ним, Как я с Онегиным моим.«Поэт, – пишет Ю. Лотман, – который на протяжении всего произведения выступал перед нами в противоречивой роли автора и творца, созданием которого, однако, оказывается не литературное произведение, а нечто прямо ему противоположное – кусок живой Жизни, вдруг предстает перед нами как читатель, т. е. человек, связанный с текстом. Но здесь текстом оказывается Жизнь»[198].
Набоков в «Даре» создает три ипостаси одного персонажа: автор (текста) – творец (жизни) – читатель; но ипостаси пародийные.
Повествование романа составляют не только различные произведения либо их фрагменты, но и сам процесс их создания. И если во «внутренних» биографиях «Дара» традиционная временна́я координата отброшена, то в описании творческого процесса она традиционно сохранена, но не как историческая аттестация, а как показатель последовательности развития культуры, повторяемости ее этапов и бесконечности этой повторяемости. Творческий процесс воспроизведен не только как создание отдельного произведения, но как модель законченного периода единого культурологического ряда.
Он прослеживается поэтапно, начиная от зарождения художественного текста. Таких примеров в романе множество. Возьмем, в частности, начало главы III, утро, пробуждение героя.
Годунов-Чердынцев воспринимает окружающий мир на звуковом уровне:
«Каждое утро, в начале девятого, один и тот же звук за тонкой стеной, в аршине от его виска, выводил его из дремоты. Это был чистый, круглодонный звон стакана, ставимого обратно на стеклянную полочку; после чего хозяйская дочка откашливалась. Потом был прерывистый треск вращающегося валика, потом – спуск воды, захлебывающейся, стонущей и вдруг пропадавшей, потом – загадочный вой ванного крана, превращавшийся наконец в шорох душа. Звякала задвижка, мимо двери удалялись шаги…»
Далее эти внешние звуки постепенно организуются в поэтический текст. Стихи возникают из размышлений, мечтаний:
«Он был исполнен блаженнейшего чувства: это был пульсирующий туман, вдруг начинавший говорить человеческим голосом. Лучше этих мгновений ничего не могло быть на свете. Люби лишь то, что редкостно и мнимо, что крадется окраинами сна, что злит глупцов, что смердами казнимо; как родине, будь вымыслу верна».
Следующий этап – постепенное вытеснение из текста художественного идеологическим, пример – деятельность Н. Г. Чернышевского:
«Пойми, штукарь, пойми, арабесник, что “сила искусства есть сила общих мест” и больше ничего. Для критики “всего интереснее, какое воззрение выразилось в произведении писателя”».
Мысль Чернышевского, надолго определившая требования, предъявляемые к литературным произведениям русской критикой, пародийно звучит в вымышленных рецензиях на роман Годунова-Чердынцева: «Собственно, совершенно неважно (пишет Мортус. – Н.Б.), удачно ли или нет произведение Годунова-Чердынцева […] Вопрос, мне кажется, совсем в другом. Безвозвратно прошло то золотое время, когда критика или читателя могло в первую очередь интересовать “художественное” качество или точная степень талантливости книги. Наша литература, – я говорю о настоящей, “несомненной” литературе, – люди с безошибочным вкусом меня поймут, – сделалась проще, серьезнее, суше, – за счет искусства, может быть, но зато […] зазвучала такой печалью […] что, право же, не стоит жалеть о “скучных песнях земли”».
Роман регистрирует переход художественной литературы в иное качество – литературу политическую: «По выражению Страннолюбского, от толчка, данного Добролюбовым, литература покатилась по наклонной плоскости с тем неизбежным окончанием, когда, докатившись до нуля, она берется в кавычки: студент привез “литературу”». И – ее утверждение: «Политическая литература – высшая литература», – записывает Чернышевский.
Новая ступень – превращение книги в прокламацию, директиву. Примеры: обращение Чернышевского «К барским крестьянам» и как пародийный повтор: установки современных критиков, подмена художественных задач идеологическими заданиями.
И как следствие, переход литературы в минимальную текстовую формулу – в лозунг. Но на этом процесс не кончается, в «Даре» показано, как разрушению подвергается и лозунг. Глядя на праздничное шествие, Годунов-Чердынцев замечает: «Среди знамен было одно с русской надписью “За Серб и Молт!”, так что некоторое время Федор тяготился мыслью, где это живут Молты, – или это Молдаване?»
Наконец, финальный этап: обезображенные слова превращаются в нагромождение звуков, сокращений, которые исчезают в безмолвии:
«Можно было нагнуться над омутом московских газет, над адом скуки, и даже попытаться разобрать сокращения, мучительную тесноту нарицательных инициалов, через всю Россию возимых на убой, – их страшная связь напоминала язык товарных вагонов (буханье буферов, лязг, горбатый смазчик с фонарем, пронзительная грусть глухих станций, дрожь русских рельсов, поезда бесконечно дальнего следования».
По обе стороны творческого периода, как по обе стороны человеческой жизни в «Даре», – безмолвие и небытие:
«Я часто склоняюсь пытливой мыслью к […] подлиннику, а именно – в обратное ничто; так, туманное состояние младенца мне всегда кажется медленным выздоровлением после страшной болезни, удалением от изначального небытия, – становящимся приближением к нему».
Наравне с процессом девальвации и разрушения слова Набоков декларирует уникальность художественного слова, его неповторимость и вместе с тем воспроизводит бесконечную повторяемость созидательного акта. Это последнее условие определяет то, что в пределы романа сводятся многочисленные произведения как варианты одной темы, но принадлежащие разному времени, разным авторам и вступающие друг с другом в разные медиативные отношения.
Такая парадигматическая структура «Дара» основана на отказе от всякой иерархии, исторической, социальной; на равных в конкуренцию вступают тексты, принадлежащие знаменитым и не просто безызвестным, но фиктивным авторам, тексты опубликованные, записанные и только промелькнувшие в воображении писателя; размывается условие цитатности, авторитетность кавычек смыкается с их вторым значением – обратным смыслом. Приведу несколько примеров:
О Н. Г. Чернышевском: «Помаленьку занимался и пропагандой, беседуя то с мужиком, то с невским перевозчиком, то с бойким кондитером».
Фраза в романе появляется без кавычек и принадлежит тексту Годунова-Чердынцева, тем не менее она почти дословно взята дословно из дневника Чернышевского. Такое присвоение «чужого» слова – своеобразная ловушка для читателя, который, будучи лишенным опознавательных знаков, кавычек, не отличает оригинала от пародии и упрекает автора «Жизни Чернышевского» в пасквильном воплощении всем, казалось бы, хорошо знакомого героя.
Другой пример: «Способность работать была у него чудовищная, как, впрочем, у большинства русских критиков прошлого века. Секретарю Студентскому, бывшему саратовскому семинаристу, он диктовал перевод истории Шлоссера, а в промежутки, пока тот записывал фразу, писал сам статью для “Современника” или читал что-нибудь, делая на полях пометки».
Текст воспринимается как пародийное изображение деятельности Чернышевского Годуновым-Чердынцевым, а на самом деле является цитатой из воспоминаний А. Панаевой[199], написанных с пиететом и полной серьезностью.
На похоронах Добролюбова Чернышевский произносит речь, она приведена в романе в кавычках:
«Да-с, – закончил Чернышевский, – тут дело не в том, господа, что цензура, кромсавшая его статьи, довела Добролюбова до болезни почек. Для своей славы он сделал довольно. Для себя ему незачем было жить дольше. Людям такого закала и таких стремлений жизнь не дает ничего, кроме жгучей скорби. Честность – вот была его смертельная болезнь».
Однако ему в этом монологе принадлежит лишь последняя фраза (см. воспоминания Н. В. Шелгунова[200]), остальной текст – вымысел автора; но он логически произрастает из цитаты и благодаря смысловой и стилистической однородности приобретает равные с ней права.
Этот прием (правда, в обобщенном его выражении) оглашается в «Даре». Одним из недостатков «Жизни Чернышевского» Кончеев называет «некоторую неумелость в переработке источников: вы словно так и не можете решить, навязать ли былым делам и речам ваш стиль или еще обострить их собственный. Я не поленился сравнить кое-какие места вашей книги с контекстом в полном издании Чернышевского, по экземпляру, которым, по-видимому, пользовались вы: я нашел между страницами ваш пепел».
В качестве иллюстрации очевидного пародийного разрушения авторитета цитатности служит фраза из «Египетских ночей» А. Пушкина, приведенная Федором в «Жизни Чернышевского»:
«Вот вам тема, – сказал ему Чарский: – Поэт сам избирает предметы для своих песен; толпа не имеет права управлять его вдохновением».
В главе V «Дара» в рецензии критик Линев укоряет Годунова-Чердынцева, что он «пишет на языке, имеющем мало общего с русским […] и вкладывает в уста действующих лиц торжественные, но не совсем грамотные, сентенции, вроде “Поэт сам избирает предметы для своих песен, толпа не имеет права управлять его вдохновением”».
Сохраненные кавычки переадресовывают авторство Годунову-Чердынцеву, неузнанная цитата, хоть и выделенная как «чужое» слово, меняет свою функцию – из аргумента мудрости в аргумент абсурда.
Итак, в единое пространство сводятся тексты, освобожденные от всяких иерархических регалий по одному лишь признаку – принадлежности к литературе. Их качественное и жанровое многообразие иллюстрирует многообразие точек зрения. Автор демонстративно отказывается от характеристик и комментариев. В этом упрекает Годунова-Чердынцева в своей рецензии профессор Анучин:
«Но горе в том, что у господина Годунова-Чердынцева не на что сделать поправку, а точка зрения – “всюду и нигде”; мало того, – как только читателю кажется, что, спускаясь по течению фразы, он наконец вплыл в тихую заводь, в область идей, противных идеям Чернышевского, но кажущихся автору положительными, а потому могущих явиться некоторой опорой для читательских суждений и руководства, автор дает ему неожиданного щелчка, выбивает из-под его ног мнимую подставку, так что опять неизвестно, на чьей же стороне господин Годунов-Чердынцев».
Чтение произведения провоцирует селекцию и вынесение оценок, что на самом деле оборачивается культурным опознанием читателя, его интеллектуальной идентификацией.
3
В первом приближении «Дар» представляется идеальным примером произведения с открытой структурой, ее определение дает в книге «Открытое произведение» У. Эко. Отдельные элементы текста обладают большой композиционной свободой, в рамках романа подлежат возможным смысловым перетасовкам, приобретая при этом дополнительное прочтение. Так, два вымышленных диалога между поэтами, Кончеевым и Годуновым-Чердынцевым, расположенные симметрично в главах I и V, объединившись, приобретают признаки самостоятельного произведения; аналогичный опыт можно проделать и с монологами А. Я. Чернышевского, извлекая их из разных мест повествования (глав I и V); легко тасуются рецензии, и, наконец, последние страницы «Дара», смыкаясь с первыми, прочитываются как подготовка, проба пера перед созданием большого произведения.
Открытость романа неоднократно декларируется, особенно на уровне интерпретативных читательских возможностей. Последние строки служат прямым приглашением читателя к участию в творческом процессе (прочтение отождествляется с воспроизведением и, следовательно, приравнивается к созиданию):
«Прощай же, книга! Для видений – отсрочки смертной тоже нет. С колен поднимется Евгений, – но удаляется поэт. И все же слух не может сразу расстаться с музыкой, рассказу дать замереть… судьба сама еще звенит, – и для ума внимательного нет границы – там, где поставил точку я: продленный призрак бытия синеет за чертой страницы, как завтрашние облака, – и не кончается строка».
Эта демонстративная незавершенность содержит не только собственное объяснение: интерпретация «внимательного ума» продлит текст, но также является продолжением-воспроизведением пушкинского приема открытой романной концовки. Отсыл к «Евгению Онегину» очевиден.
В этой связи важно определение читателя, которое в эпатажной формулировке дается в романе: «Настоящему писателю должно наплевать на всех читателей, кроме одного: будущего, – который, в свою очередь, лишь отражение автора во времени».
Значение определения реализуется не только буквально – в закреплении за читателем креативных функций, но и в более широком смысле – в системе литературы, культуры, где созидательный акт есть воспроизведение реализованного однажды сюжета, идеи, темы, персонажа, приема… в чем сказывается одновременно его повторяемость и оригинальность (прочтения, воспроизведения). Отражение автора в будущем может быть пародийным, пародируемым, метафорическим, компилятивным, клишированным – в зависимости от зеркала дарования, в которое будет заглядывать творящий.
Такое понимание творческого процесса определило пространственную структуру романа «Дар». Она предполагает наличие известного набора сюжетов, образов, приемов. Условие это оглашается неоднократно. Приведу несколько примеров из размышлений о творчестве Годунова-Чердынцева:
«Если бы он не был уверен (как бывал уверен и при литературном творчестве), что воплощение замысла уже существует в некоем другом мире, из которого он его переводил в этот, то сложная и длительная работа на доске была бы невыносимой обузой для разума».
О будущей книге:
«Временами я чувствую, что где-то она уже написана мной, что вот она скрывается тут, в чернильных дебрях, что ее нужно только высвободить по частям из мрака, и части сложатся сами…»
«Это странно, я как будто помню свои будущие вещи, хотя даже не знаю, о чем будут они. Вспомню окончательно и напишу», – признается Федор Зине.
Оригиналы художественных произведений существуют в ином пространственном измерении, отделенном от настоящего тайной, и творчество возможно только на грани этой тайны. «Мысль любит занавеску, камеру обскуру, – говорит Кончеев. – Солнце хорошо, поскольку при нем повышается ценность тени».
Попытка к постижению приводит к абсурду («попытка постижения мира, – говорит Годунов-Чердынцев, – сводится к попытке постичь то, что мы сами создали как непостижимое. Абсурд, до которого доходит пытливая мысль, – только естественный видовой признак ее принадлежности человеку»), и более того, наказуется. Например, объясняя свое нежелание разбирать собственные стихи, Кончеев приводит в пример молитву, которой его научила мать:
«Эту молитву я помнил и повторял долго, почти до юности, но однажды я вник в ее смысл, понял все ее слова, – и как только понял, сразу забыл, словно нарушил какие-то невосстановимые чары. Мне кажется, что то же самое произойдет с моими стихами, – что если я начну о них осмысленно думать, то мгновенно потеряю способность их сочинять».
Другой пример – Н. Г. Чернышевский:
«За все мстят ему боги: за трезвый взгляд на отвлеченные розы, за добро в беллетристическом порядке, за веру в познание…»
Творчество манифестируется как перевод из этого вечного таинственного пространства в мир актуального авторского сознания (повторяю отрывок из приведенной цитаты: «…воплощение замысла уже существует в некоем другом мире, из которого он его переводил в этот…»), как возвращение из небытия, из неизвестности. Примером может служить роман Годунова-Чердынцева об отце, который «загадочно погиб» на пути из Азии.
Заслуживает внимания и прием ввода этой темы в текст «Дара». Федор решает написать об отце и тем самым сделать попытку вернуть, воскресить его, читая «Путешествие в Арзрум» Пушкина. В качестве кодированного сигнала в романе приводится близлежащая к «ответу» цитата из Пушкина: «Оне сидели верхами, окутанные в чадры; видны были у них только глаза да каблуки». И если читатель заглянет в пушкинский текст по указанному адресу, то уже в третьем абзаце найдет объяснение:
«Несколько грузин сопровождали арбу. “Откуда вы?” – спросил я их. – “Из Тегерана”. – “Что вы везете?” – “Грибоеда”. – Это было тело убитого Грибоедова, которое препровождали в Тифлис […] Он погиб под кинжалами персиян, жертвой невежества и вероломства»… «Написать его биографию было бы делом его друзей…»
Произведение Пушкина вплетается в повествование, становится одним из «сопровождающих» текстов.
Художественное воплощение отождествляется в «Даре» с воскресением. Так, думая о семье Чернышевских, Годунов-Чердынцев ощущает, что «все это отслужившее, само собой смоталось, кончилось, как накрест связанный сверток жизни […] Его охватило паническое желание не дать этому замкнуться так и пропасть в углу душевного чулана […] помочь ему произрасти по-новому. Есть способ, – единственный способ».
Креативными признаками наделены в романе сны, мечты, размышления («где-то есть капитал, с коего надо уметь получать при жизни проценты в виде снов, слез счастья, далеких гор»), бред, воспоминания, любовь.
Как уже было сказано, творчество в произведении понимается как перевод. Приведу несколько примеров реализации этого приема.
1. Из жизни – в текст. Иллюстрацией служит начало романа (описание въезда в дом новых жильцов), которое внезапно оказывается литературным текстом: «Кто-то внутри него, за него, помимо него, все это уже принял, записал и припрятал»; сюда же можно отнести перевод воспоминаний в текст и обратно, например, стихи Годунова-Чердынцева в главе I:
«Теперь он читал как бы в кубе, выхаживая каждый стих, приподнятый и со всех четырех сторон обвеваемый […] деревенским воздухом […] Другими словами, он, читая, вновь пользовался всеми материалами, уже однажды собранными памятью для извлечения из них данных стихов».
2. Из текста – в жизнь. Жизнь Н. Г. Чернышевского – пародийный перевод в жизнь библейского сюжета.
Однако, оглашая прием, Набоков не ограничивается его «серьезным» воплощением, перевод как акт творчества делается в «Даре» одновременно объектом пародии. Проиллюстрирую этот тезис:
3. Пародия на псевдоперевод как прием создания литературного произведения: «стихи о каких-то матросских тавернах; о джине и джазе, которые он [Яша Чернышевский. – Н.Б.] писал на переводно-немецкий манер: “яц”».
4. Пародия на перевод как очередное художественное воспроизведение образа, сюжета… осуществляемое в пределах одного языка, что, собственно, декларируется в романе как созидание: «“Месяц, полигон, виола заблудившегося пола…” – как кто-то в кончеевской поэме перевел “и степь, и ночь, и при луне”…» Строчка из кончеевской поэмы – пародийное отражение строки из стихотворения Пушкина «Не пой, красавица, при мне».
Увы, напоминают мне Твои жестокие напевы И степь, и ночь, и при луне Черты далекой, бедной девы.Другой пример: «Египетские ночи» А. Пушкина – «Сновидения Египетского Бюрократа», которые написал дядя Годунова-Чердынцева.
5. Пародийная иллюстрация текста, созданного путем обратного перевода:
«Тетя Ксения, та писала стихи только по-французски, темпераментные и “звучные”, […] ее излияния были очень популярны в петербургском свете, особенно поэма “La femme et la panthère”, а также перевод из Апухтина:
Le gros Grec d’Odessa, le Juif de Varsovie, Le jeune lieutenant, le général âgé, Tous ils cherchaient en elle un peu de folle vie, Et sur son sein rêvait leur amour passager».Это третья строфа из стихотворения А. Апухтина «Пара гнедых»:
Грек из Одессы и жид из Варшавы, Юный корнет и седой генерал — Каждый искал в ней любви и забавы И на груди у нее засыпал.Оно, в свою очередь, является переводом романса на французском языке «Pauvres chevaux» («Бедные кони»), текст и музыку которого написал С. И. Донауров (1839–1897), поэт, переводчик, композитор-дилетант.
6. Перевод с языка на язык, осуществляемый одновременно с переводом текста из одной литературной категории в другую; например, К. Маркс «в своем “Святом семействе” выражается так:
………………………ума большого не надобно, чтобы заметить связь между ученьем материализма о прирожденной склонности к добру, о равенстве способностей людских, способностей, которые обычно зовутся умственными, о влияньи на человека обстоятельств внешних, о всемогущем опыте, о власти привычки, воспитанья, о высоком значении промышленности всей, о праве нравственном на наслажденье — и коммунизмом.Перевожу стихами, чтобы не было так скучно».
Пародийный эффект достигается переводом текста из политической литературы в поэзию, в противоположность тому, к чему призывала прогрессивная русская критика: от «чистой» поэзии к утилитарному идеологическому высказыванию.
7. Еще пример, на этот раз отказа от перевода, т. е. фонетического прочтения иностранного слова на смысловом уровне русского языка. Годунов-Чердынцев о своей новой квартирной хозяйке:
«У этой крупной, хищной немки было странное имя; мнимое подобие творительного падежа придавало ему звук сентиментального заверения: ее звали Clara Stoboy».
Возвращаясь вечером домой и забыв ключи от квартиры в квартире, Федор Константинович вынужден разбудить хозяйку: «Заспанная, в халате, Стобой была страшна».
А вот что говорит Годунов-Чердынцев о стихах князя Волховского: «Я ничего не помню из этих пьесок, кроме часто повторяющегося слова “экстаз”, которое уже тогда для меня звучало как старая посуда: “экс-таз”». Припоминая утреннюю картину въезда жильцов: «А как было имя перевозчичьей фирмы? “Max Lux”. Что это у тебя, сказочный огородник? Мак-с. А то? Лук-с, ваша светлость».
Прием многократного воспроизведения тем, сюжетов, персонажей объявляется основным приемом литературы. «Дар» строится как роман отражений, его структура служит отражением общей структуры культуры. В этом произведении практически нет ни одного случайного, одноразового сюжета или образа. Каждый из «оригиналов» на протяжении повествования многократно переводится из одной литературной категории в другую: из прозы в поэзию, из серьезного в пародию, из фольклора в политическую брошюру, из европейской литературы в русскую и т. д.
Приведу несколько примеров, избегая, однако, наиболее очевидных, неоднократно оглашаемых в тексте, как, скажем, библейский сюжет.
Ожидая Зину, Федор сочиняет стихи: «Из темноты, для глаз всегда нежданно, она, как тень, внезапно появлялась, от родственной стихии отделясь. Сначала освещались только ноги, так ставимые тесно, что казалось, она идет по тонкому канату. Она была в коротком летнем платье ночного цвета – цвета фонарей, теней, стволов, лоснящейся панели: бледнее рук ее, темней лица. Посвящено Георгию Чулкову».
Это стихотворение служит своеобразным ответом Набокова на стихотворение А. Блока «Не строй жилищ у речных излучин» (1905), посвященное Георгию Чулкову, писателю-символисту, поэту, драматургу. Блок поддерживал с Чулковым дружеские отношения между 1904–1908 гг. Блок говорит об обреченности человека, о неминуемом приходе смерти, которая является как светлая возлюбленная. Цитирую две последние строфы, которые по-новому воспроизведены у Набокова:
1. Во-первых, остановлюсь на имени главного героя, на его двойной фамилии: Годунов-Чердынцев. Если первую ее часть соотносят с царским именем Бориса Годунова, которое всплывает в тексте в упоминании пушкинской трагедии (прием повторного называния, характерный для поэтики Набокова), то появление второй части фамилии принято объяснять тем, что автор взял ее из списка, сделанного его старым знакомым Н. Яковлевым, «Российского гербовника» и «Родословной книги» Долгорукова.
Представлю здесь другую версию появления фамилии Чердынцев, обусловленную характерной для поэтики романа игрой пародийных отражений, в данном случае связанной с образом самого Н. Г. Чернышевского.
Итак, Н. Чердынцев – это реальное лицо, автор воспоминаний о Н. Г. Чернышевском, его идеологический потомок. Будучи студентом в августе 1887 года, он с товарищем по борьбе, курсисткой Хлебниковой, отправился в Астрахань, повидать и поклониться великому Чернышевскому, властителю дум. Николай Гаврилович встретил студентов сурово, с «чопорной черствостью» призвал садиться в карцер, раз он до сих пор существует, чем совершенно обезоружил молодых людей. Н. Чердынцев рассказывает, что когда они вышли от Чернышевского, девушка расплакалась. «О чем вы плачете?» – спросил он ее. «Все русское общество дураками назвал – знает, что мы не станем молчать о визите к нему! Ведь он сказал: если после стольких жертв, какие принесены моим поколением и моими преемниками, все еще существуют цензоры и карцеры, – вы дураки! С вами говорить бесполезно». Автор заканчивает свое воспоминание словами: «Может быть, мой рассказ не лишен некоторого интереса и для текущего момента, читатель?»
Статья Н. Чердынцева была опубликована под заголовком: «Что делать? Страничка из воспоминаний» в популярном еженедельнике «Журнал журналов», который издавал журналист и писатель И. Василевский, выступавший под псевдонимом Не-Буква, в июне 1916 года. Видимо, собирая материалы о Чернышевском, Набоков обратил внимание на эту публикацию, свидетельствующую о сохранившемся вплоть до времени нависших над Россией катастроф влиянии Чернышевского, что впоследствии натолкнуло его на мысль использовать в «Даре» фамилию современного духовного потомка Чернышевского – Чердынцев. Возможно, образ обозленного, нервного старика, который создает в своих воспоминаниях Н. Чердынцев, явился для Набокова еще одним свидетельством о позднем периоде жизни Чернышевского. Ввиду труднодоступности статьи привожу ее в приложении к этой главе.
2. Остановлюсь на названии романа. Дар, как возвышенное определение творчества, подразумевает существование оппозиционной категории – Ремесло. Возможно, что набоковский выбор – это ответ на сборник М. Цветаевой «Ремесло», который вышел в феврале 1923 года в берлинском издательстве «Геликон». В одном из писем к А. Бахраху, рецензенту сборника, Цветаева поясняла: «Теперь вспоминаю, смутно вспоминаю […] когда я решила книгу назвать “Ремесло”, у меня было какое-то неизреченное, даже недоощущенное чувство иронии, вызова»[201]. Но если у Цветаевой смысловое занижение носит очевидный характер вызова, провокации, то у Набокова завышение смысла не просто ответная провокация, но пародия на такого рода философский и эстетический вызов.
Впрочем, истоки этой темы лежат гораздо дальше – у Пушкина, в трагедии «Моцарт и Сальери». В главе I романа Годунов-Чердынцев видит Кончеева, талантливого поэта, своего соперника в литературе:
«Глядя на сутулую, как будто даже горбатую фигуру этого неприятно тихого человека, таинственно разраставшийся талант которого только дар Изоры мог бы пресечь […] Федор Константинович сначала было приуныл».
«Дар Изоры» – дар возлюбленной Сальери, яд, которым он убивает Моцарта.
Вот яд, последний дар моей Изоры. Осьмнадцать лет ношу его с собою. ……………………………………………. Теперь – пора! Заветный дар любви, Переходи сегодня в чашу дружбы.В набоковском воспроизведении темы не происходит трагедии: Годунов-Чердынцев ощущает в себе дар, равный кончеевскому, что будто бы делает возможным «союз», как иронически сказано в «Даре», «довольно божественной связи» между двумя поэтами. Его иллюзорную обманчивость подтверждает тот факт, что союз провозглашается в вымышленном диалоге. Отсылка к пушкинскому тексту лишь подкрепляет мысль автора:
Здоровье, друг, за искренний союз, Связующий Моцарта и Сальери, Двух сыновей гармонии.У Пушкина существуют обе категории: дар и ремесло.
…Ремесло Поставил я подножием искусству, —говорит о себе Сальери. Ремесло, кроме дисциплины и усердия, соотносится с рациональностью, набором правил, закономерностью:
Музыку я разъял как труп. Проверил Я алгеброй гармонию… —тогда как дар связан с непредсказуемостью, тайной, с нарушением нормы, с безумием:
Где ж правота, когда священный дар, Когда бессмертный гений – не в награду Любви горящей, самоотверженья, Трудов, усердия, молений послан, А озаряет голову безумца.В романе Набокова условие признания дара современниками подвергается абсурдированию: «…но в конце концов, он никогда не сомневался, что так будет, что мир, в лице нескольких сот любителей литературы, покинувших Петербург, Москву, Киев, немедленно оценит его дар», – думает Годунов-Чердынцев, узнав о рецензии на свой сборник стихов. Однако рецензия оказывается фикцией.
Поэт сам признает свой дар в стихах, обращенных с благодарностью к родине. Его слова служат отсылкой к шестой главе «Онегина». Годунов-Чердынцев сочиняет стихи: «Благодарю тебя, отчизна, за чистый и какой-то дар. Ты, как безумие…» Тут снова пародийно звучит пушкинский мотив из «Моцарта и Сальери»: дар «озаряет голову безумца».
«Благодарю тебя, Россия, за чистый и… второе прилагательное я не успел разглядеть при вспышке – а жаль. Счастливый? Бессонный? (Ср.: Сальери мечтает о «творческой ночи и вдохновенье». – Н.Б.) За чистый и крылатый дар. Икры. Латы. Откуда этот римлянин?»
Знаменательно, что в окончательном варианте этого стихотворения слово «дар» исчезает:
Благодарю тебя, отчизна, за злую даль благодарю! Тобою полн, тобой не признан, я сам с собою говорю. И в разговоре каждой ночи сама душа не разберет, мое ль безумие бормочет, твоя ли музыка растет…но оставляет следы: «безумие» и «музыка», которые в отражении пушкинского текста меняются местами.
Наряду с этим в повествовании категория «дара» обесценивается. «Спеша на следующую пытку, Федор Константинович вышел с ним [учеником. – Н.Б.] вместе, и тот, сопровождая его до угла, пытался даром добрать еще несколько английских выражений». Приведу еще пример семантического скольжения: «Как литератору, эти упражнения [шахматные. – Н.Б.] не проходили ему даром».
Вернусь, однако, к приведенной цитате: «Благодарю тебя, Россия, за чистый и какой-то дар… За чистый и крылатый дар. Икры. Латы. Откуда этот римлянин?» Традиционно эти строки Набокова связывают со стихами Пушкина «Дар напрасный, дар случайный…» и строфой «Евгения Онегина»:
О юность легкая моя! Благодарю за наслажденья, За грусть, за милые мученья, За шум, за бури, за пиры, За все, за все твои дары…И также с двумя незаконченными стихотворениями Пушкина «В прохладе сладостных фонтанов…» и «Мы рождены, мой брат названый…», где фигурируют такие определения как «крылатый поэт» и «слог могучий и крылатый».
Впрочем, следует заметить, что набоковская отсылка, в частности определение «крылатый дар», восходит через пушкинский текст (или вслед за ним) к Платону, к его известному определению поэта: «Поэт – это вещь легкая, крылатая, священная».
Что касается последних слов цитаты: «Икры. Латы. Откуда этот римлянин?» – это уже отсылка к другому адресату, к Энею, герою поэмы Вергилия, основателю Рима, первому римлянину. «Римлянин», – обращается к нему в Царстве мертвых Анхиз. Набоковский текст обнаруживает переплетение пушкинских и вергилиевских мотивов: утраченная родина, великое назначение героя, избранничество, отмеченное поэтическим даром, и будущая слава, связываемая с отечеством. Например, в «Даре» – Зина говорит Федору: «Я думаю, ты будешь таким писателем, какого еще не было, и Россия будет прямо изнывать по тебе, – когда слишком поздно спохватится…» Мотив Энея протягивается в «Дар» из «Подвига» (см. главу, посвященную этому роману в настоящем издании), но в «Даре» он не является центральным, хотя следы его обнаруживаются на протяжении всего повествования. Смысл мотива в «Даре» раскрывается в цитатах первой и второй глав.
Так, покупая ботинки, Федор думает: «Вот этим я ступлю на брег с парома Харона». Фраза возникает в тексте дважды, как проговаривание строки рождающегося стиха, как поэтическое предчувствие. Между тем она является первой отсылкой романа к строкам из «Энеиды», описывающим сцену, в которой Харон перевозит в лодке Энея в царство мертвых и тот ступает на «илистый берег». Таким образом, мотив из романа «Подвиг» – путешествие героя в Царство мертвых получает развитие в «Даре».
Другой пример из финала главы I «Дара», где уже рожденная строка начинает оформляться в строфу и отчетливую поэтическую тему: «Покажите. Посмотрим, как это получается: вот этим с черного парома сквозь… летейскую погоду вот этим я ступлю на брег… Знаете, о чем я сейчас подумал: ведь река-то, собственно, – Стикс. Ну да ладно. Дальше. И к пристающему парому сук тянется, и медленным багром (Харон) паромщик тянется к суку сырому (кривому)… и медленно вращается паром. Домой, домой. Мне нынче хочется сочинять с пером в пальцах». Сравним с «Энеидой». Цитирую в переводе С. Ошерова:
Мрачный и грязный Харон. Клочковатой седой бородою Все лицо обросло – лишь глаза горят неподвижно, ………………………………………………………………. Гонит он лодку шестом и правит сам парусами, Мертвых на утлом челне через темный поток перевозит.Но если в «Подвиге» герой отправляется в Царство мертвых за тайным знанием, то в романе «Дар» отчетливей звучит смежный смысл такого путешествия. У Вергилия его произносит Сивилла:
Видишь: троянец Эней, благочестьем и мужеством славный. К теням Эреба сошел, чтоб вновь родителя встретить.Эней находит отца среди зеленых равнин:
Но лишь увидел, что сын к нему по лугу стремится, Руки порывисто он протянул навстречу Энею, Слезы из глаз полились, и слова из уст излетели: «Значит, ты все же пришел? Одолела путь непосильный Верность твоя?»После приведенных выше строк рождающегося стихотворения в финале первой главы, знаменующих погружение героя в творчество, в «Даре» следует глава вторая, посвященная отцу героя, попытке написать о нем роман. Таким образом, творчество обретает смысл фантастической «экспедиции», куда путь смертным заказан, и этим объясняется, что слова «вот этим я ступлю…» выделены разрядкой в первой публикации этой главы романа в «Современных записках» в 1937 году (книга LXIII). Вторая глава начинается с описания радуги, в которую ступил отец: «…редчайший случай! – и очутился в цветном воздухе, в играющем огне, будто в раю. Сделал шаг – и из рая вышел». Отец описан Годуновым-Чердынцевым в пейзаже оставленной в России усадьбы или в пейзаже его странствий. Но попытка удержать образ отца в тексте не удается герою. Отец словно растворяется в природе, подобно тени отца Энея.
Трижды пытался отца удержать он, сжимая в объятьях, — Трижды из сомкнутых рук бесплотная тень ускользала, Словно дыханье, легка, сновиденьям крылатым подобна.Именно в свете идеи путешествия поэта в Царство мертвых, где творчество осмысляется как форма такой экспедиции, проясняется и второй адресат набоковской аллюзии – миф об Орфее. О присутствии его в орбите сопровождающих «Дар» текстов сигнализирует образ «темно-пепельного orpheus Godunov – наподобие маленькой лиры», бабочки, которую Федор хочет «выставить как frontispiece к своему роману об отце». Надо добавить, что мотив Орфея протягивается к «Дару» еще из раннего рассказа Набокова «Возвращение Чорба».
Но вернемся к оставленному мотиву благодарения за дар.
Набоковская аллюзия не исчерпывается числом указанных выше адресатов. Рождающиеся стихи Федора «Благодарю тебя, отчизна, / За злую даль благодарю…» являются ответом на стихотворение Г. Адамовича, напечатанное в парижском литературном эмигрантском журнале «Новый корабль». Пародийное воспроизведение Г. Адамовича в образе Христофора Мортуса в романе «Дар» многократно отмечалось критиками. Вот это стихотворение:
За все, за все спасибо: за войну, За революцию и за изгнанье. За равнодушно-светлую страну, Где мы теперь «влачим существованье». Нет доли сладостней – все потерять. Нет радостней судьбы – скитальцем стать, И никогда ты к небу не был ближе, Чем здесь, устав скучать, устав дышать, Без сил, без денег, без любви, В Париже.3. Пародия в «Даре» выстраивается игрой многочисленных отражений текстов: Пушкина и Чернышевского, в обоих случаях включающих жизнь и творчество, и произведений, которые создает Годунов-Чердынцев. Жизненные факты и конфигурации судеб героев на поверку оказываются пародийными подражаниями известным литературным образцам, весь текст пронизан замаскированной цитатностью, отголосками образов, мотивов, перепевов, в которых узнаются измененные черты оригиналов. Во всем этом сложно организованном романном пространстве отчетливо выделяется условие пародийного повтора, но всегда неполного, всегда порождающего изменение, трансформацию и при этом сохраняющего оригинальность результата. Этот повтор далеко не единичный, в большинстве случаев сквозной и, в конце концов, создающий в мире произведения свои закономерности, свои пародийные переклички, и главное, что именно он порождает впечатление единства и фрагментарности текста «Дара» одновременно.
Приведу некоторые примеры создания литературной игры текстовых отражений.
Пушкин в романе заявлен величиной и мерой литературного дарования и человеческой чести и достоинства. И «…так уже повелось, что мерой для степени чутья, ума и даровитости русского критика служит его отношение к Пушкину», – пишет Набоков. «Для Чернышевского гений был здравый смысл. Если Пушкин гений, рассуждал он, дивясь, то как истолковать количество помарок в его черновиках? Ведь это уже не отделка, а черная работа. Ведь здравый смысл высказывается сразу, ибо знает, что хочет сказать». «Пушкина нет в списке книг, доставленных Чернышевскому в крепость, да и немудрено: несмотря на заслуги Пушкина… это все-таки был прежде всего сочинитель остреньких стишков о ножках…»
Творчество Пушкина и его жизненный путь – важный ориентир и для писателя Годунова-Чердынцева. Его взгляд на окружающих вычленяет в них черты подражаний литературным образцам Пушкина. И осуществляется это согласно набоковскому правилу, что жизнь подражает искусству, а не наоборот, как утверждал Чернышевский.
Например, любовный треугольник в истории Яши Чернышевского пародийно воспроизводит треугольник из «Евгения Онегина»: Ленский – Онегин – Ольга (в романе: Яша – Рудольф – Оля). Яша Чернышевский – молодой поэт, изучал в Берлинском университете философию и «писал стихи на переводно-немецкий манер». Напомню у Пушкина:
По имени Владимир Ленский, С душою прямо геттингенской, Красавец, в полном цвете лет, Поклонник Канта и поэт.Эффект пародии создается, как это часто бывает у Набокова, посредством пародийного смещения, в данном случае – смещения гендерных предпочтений: Яша влюблен не в Ольгу, а в Рудольфа. «“Я дико влюблен в душу Рудольфа”, – писал Яша своим взволнованным, неоромантическим слогом». Его слова – пародийный слепок с пушкинских слов о Ленском:
Ах, он любил, как в наши лета Уже не любят; как одна Безумная душа поэта Еще любить осуждена.«Я влюблен […] в ее здоровье, в жизнерадостность ее», – продолжает Яша. У Пушкина веселость, жизнерадостность – качества Ольги:
Всегда как утро весела.И далее портрет Ольги:
Улыбка, локоны льняные, Движенья, голос, легкий стан.Отсюда срисован образ Рудольфа: «…был он бледноволос, быстр в движениях и красив, – жилистой, легавой красотой».
Казалось бы, в «Даре» мотив самоубийства введен как отражение модной социальной тенденции для «настроений молодежи в послевоенные годы». «Как это ни странно, мысль исчезнуть всем троим, дабы восстановился – уже в неземном плане – некий идеальный и непорочный круг, всего страстнее разрабатывалась Олей», но поверил в нее больше всех Яша и застрелился. У Пушкина о Ленском:
Он верил, что друзья готовы За честь его принять оковы.Но на самом деле «честное» самоубийство Яши Чернышевского, условно говоря, духовного потомка автора «Что делать», – это трагическое отражение самоубийства «фальшивого», придуманного Чернышевским для героя Лопухова в его знаменитом романе, ставшем учебником для будущих поколений. Сам «Чернышевский в 50-х годах подумывал о самоубийстве», но отказался от этой идеи. Аналогичное развенчание происходит и в обращении к теме «дуэли»: дуэль Пушкина сопоставлена с «шутовской дуэлью палками» Чернышевского; отказом его от дуэли в случае с офицером, оскорбившим жену. Вместо честного вызова он «домогается отдать дело на суд общества офицеров, – не из соображений чести, а лишь для того, чтобы под рукой достигнуть сближения офицеров со студентами». Понятие личной чести вытесняется политическими соображениями пользы для общего дела, что в «Даре» отражено в поведении потомков: фразы: «вы не дуэлеспособны» – фразы, «летавшие» на собрании Общества Русских Литераторов.
Возвращаясь к теме треугольника: в главе V, во втором вымышленном диалоге Годунова-Чердынцева с Кончеевым речь снова заходит о Яше Чернышевском:
«“А вы знаете, где мы с вами находимся? Вон за этой ожиной, внизу застрелился когда-то сын Чернышевских, поэт”, – говорит Чердынцев.
(Яша застрелился у «круглого Черного озера». Выбор локуса, наделенного коннотациями пушкинской судьбы (но с подменой речки озером, как пародийным земным отражением озера райского: см. изображение рая в живописи, в частности в триптихе И. Босха), способствует приравниванию дуэли к самоубийству, дуэли к убийству. Последнее осуществляется в контексте символики образа бабочки-души. Пример: «В начале апреля, открывая охоту, члены Русского Энтомологического Общества по традиции отправлялись за Черную Речку…»)
“А, это было здесь, – без особого любопытства проговорил Кончеев. – Что ж – его Ольга недавно вышла замуж за меховщика и уехала в Соединенные Штаты. Не совсем улан, но все-таки…”»
Пародия реализуется благодаря наличию одного и того же элемента в профессии и костюме избранников: меховщик – меховые шапки, которые носили уланы.
Драматический треугольник высвечивается в «Даре» как в литературном быту Чернышевского, так и в его сочинениях. В обоих случаях образцом служит пушкинская модель: «В начале 59 года до Николая Гавриловича дошла сплетня, что Добролюбов (совсем как Дантес), дабы прикрыть свою “интригу” с Ольгой Сократовной, хочет жениться на ее сестре (имевшей, впрочем, жениха)».
Среди «новых» людей, близких Чернышевскому, известен мирный любовный тройственный союз между супругами Шелгуновыми и Михайловым. Он продолжался почти десять лет, вплоть до смерти Михайлова в сибирской ссылке.
Из быта Чернышевского фигура треугольника проецируется в роман «Что делать?»: Лопухов – Вера Павловна – Кирсанов. Но в этом произведении драматичность личных интересов вытесняется соображениями общей пользы, что превращает трагедию в фарс, с ложной гибелью и фальшивыми прощальными письмами. На основе новых нравственных принципов Чернышевский провозглашает новое понятие о чести. Вот определение, которое дает он своим героям: «Я хотел изобразить обыкновенных порядочных людей нового поколения, людей, которых я встречаю целые сотни […] Я взял троих таких людей: Веру Павловну, Лопухова, Кирсанова […] Как я о них думаю, так они и действуют у меня, – не больше как обыкновенные порядочные люди нового поколения».
Но на этом пародийный ряд не кончается, и фигура треугольника появляется в «Даре» уже совершенно «очищенной» от любовного смысла, только в социально-политическом значении. Это «дело» Чернышевского:
«У нас есть три точки: Ч, К, П. Проводится один катет, ЧК (Чернышевский – Костомаров, сочетание букв прочитывается как аббревиатура Чрезвычайной Комиссии. – Н.Б.) […] Проводится другой катет КП [Костомаров – Писарев, аббревиатура Коммунистической партии. – Н.Б.] […] проводится гипотенуза ЧП [Чернышевский – Писарев, аббревиатура чрезвычайного происшествия – сатирическое определение несостоявшегося государственного переворота. – Н.Б.], и роковой треугольник утвержден».
4. Одна из центральных тем «Дара» – поэт и импровизатор – восходит к «Египетским ночам» А. Пушкина. Указание на оригинал встречается в романе многократно, так:
«В саратовском дневнике Чернышевский применил к своему жениховству цитату из “Египетских ночей”, с характерным для него, бесслухого, искажением и невозможным заключительным слогом: “Я принял вызов наслаждения, как вызов битвы принял бы”».
У Пушкина:
И первый – Флавий, воин смелый… Он принял вызов наслажденья, Как принимал во дни войны Он вызов ярого сраженья.Такой эпиграф придает жениховству героя неожиданный, но очевидно безнравственный оттенок. Примечательно и то, что Чернышевский выбирает цитату из текста импровизатора.
Другой пример: в Сибири Чернышевский «как пушкинский импровизатор (с поправкой на “бы”) своей профессией – а потом несбыточным идеалом – избрал рассуждения на заданную тему». Далее Набоков текстуально доказывает сходство-подражание «Вечеров у княгини Старобельской» «Египетским ночам». Название произведения Чернышевского звучит пародийным вариантом пушкинского.
Пару, поэт и импровизатор, в главе IV «Дара» олицетворяют Пушкин и Чернышевский. Ввиду несостоятельности литературных сопоставлений, параллелизм выстраивается на уровне жизненных ситуаций. Примеры: уже приводимое сходство треугольников: Чернышевский – Ольга Сократовна – Добролюбов и Пушкин – Натали – Дантес; Чернышевский мучился «смертной тоской, составленной из жалости, ревности и уязвленного самолюбия, – которую также знавал муж совсем другого склада и совсем иначе расправившийся с ней: Пушкин»; Чернышевского приехал арестовывать «Ракеев, который, олицетворяя собой подлую торопь правительства, умчал из столицы в посмертную ссылку гроб Пушкина». Лишь один раз в паре происходит замещение, осуществляющий ее обнаруживает себя: «Ленин считал, что Чернышевский “единственный действительно великий писатель, который сумел с пятидесятых годов вплоть до 1888 (скостил ему один) остаться на уровне цельного философского материализма”». Крупская замечает: «Вряд ли кого-нибудь Владимир Ильич так любил… Я думаю, между ним и Чернышевским было очень много общего».
По аналогу пушкинской модели пары в романе образуют: Годунов-Чердынцев и Буш, Годунов-Чердынцев и его рецензенты, Годунов-Чердынцев и Яша Чернышевский и, наконец, в роли импровизатора в паре с самим Набоковым оказывается каждый, делающий попытку интерпретировать произведение.
5. Прием многократного воспроизведения воплощается в «Даре» и на уровне маргинальных тем, например темы «кондитерских». В «Жизни Чернышевского» читаем:
«Кондитерские прельщали его вовсе не снедью, – не слоеным пирожком на горьком масле, и даже не пышкой с вишневым вареньем; журналами, господа, журналами, вот чем!»
Пародия реализуется путем обнаружения литературного оригинала. На вечере у Чернышевских (гл. I), «внимательно осмотрев кондитерские пирожные на большой тарелке с плохо нарисованным шмелем, Любовь Марковна, вдруг скомкав выбор, взяла тот, на котором непременно бывает след неизвестного пальца: пышку».
«Пышка» – так в русском переводе называется рассказ Мопассана «Boule de suif». В главе V романа этот образ возникает вновь, но уже под своим французским именем и в своей социальной роли:
«В Париже, в низкопробном притоне, старик Лашез (обыгрывается имя père Lachaise – отца Лашеза, священника Луи XIV, в честь которого было названо кладбище. – Н.Б.), бывший пионер авиации, а ныне дряхлый бродяга, топтал сапогами старуху-проститутку Буль-де-Сюиф».
Но и «пирожок» не падает с набоковского стола. В главе I, по дороге к Чернышевским, Годунов-Чердынцев «купил пирожков (один с мясом, другой с капустой, третий с сагой, четвертый с рисом, пятый… на пятый не хватило) в русской кухмистерской, представлявшей из себя как бы кунсткамеру отечественной гастрономии, и скоро справился с ними». Это тот знаменитый русский «слоеный пирожок, нарочно сберегаемый для проезжающих в течение нескольких недель» из трактира в гоголевских «Мертвых душах».
6. Приведу еще несколько случаев многократного пародийного воспроизведения отдельных образов. В главе IV – «По сведениям народовольческим, Чернышевский в июле 1861 года предложил Слепцову и его друзьям организовать основную пятерку – ядро “подземного” общества». Подземное – подпольное общество: пародийная подстановка осуществляется за счет пространственной синонимии. На похоронах Чернышевский читает «земляные стихи Добролюбова».
В главе I мальчику Годунову-Чердынцеву в бреду мерещатся «четыре землекопа и Некто». Цифра «пять» приобретает пародийную повторяемость: Зина называет Федору пять причин, по которым не хочет с ним встречаться:
«“По пяти причинам, – сказала она. – Во-первых, потому, что я не немка, во-вторых, потому что только в прошлую среду я разошлась с женихом, в-третьих, потому что это было бы – так, ни к чему, в-четвертых, потому что вы меня совершенно не знаете, в-пятых…” – она замолчала, и Федор Константинович осторожно поцеловал ее в горячие, тающие, горестные губы. “Вот потому-то”, – сказала она».
В первом диалоге с Кончеевым, Годунов-Чердынцев: «Мое тогдашнее сознание воспринимало восхищенно, благодарно, полностью, без критических затей, всех пятерых, начинающихся на “Б”, – пять чувств новой русской поэзии». Во втором диалоге Кончеев делает пять замечаний к роману Федора Константиновича. Ряд этих примеров нескончаем.
И еще несколько повторяющихся образов в «Даре» в контексте пушкинской жизни и жизни Чернышевского: Муза поэта: «…у Николая Гавриловича служила в кухарках жена швейцара, рослая, румяная старуха с несколько неожиданным именем: Муза. Ее без труда подкупили – пятирублевкой на кофе, до которого она была весьма лакома. За это Муза доставляла содержание мусорной корзины. Зря».
Муза Пушкина А. П. Керн «воскресает» в «Даре» в пародийном образе «инженера Керна, близко знавшего покойного Александра Блока».
7. Персонажи разных произведений превращаются в действующих лиц романа. Пародия осуществляется приемом перевода литературных героев в героев литературного быта. Так, в гостях у Чернышевских «худенькая очаровательно дохлая барышня – […] ее звали Тамара, а фамилия смахивала на один из тех немецких горных ландшафтов, которые висят у рамочников». В пародийных намеках – отсыл к Тамаре Лермонтова. Далее образ воспроизводится вновь: Костомаров, «наделенный курьезными способностями, он умел писать женским почерком, – сам объясняя это тем, что в нем “в полнолуние гащивает душа царицы Тамары”». Пародийная параллель: Тамара, соблазненная Демоном, – Костомаров, соблазненный III отделением, доносит на Чернышевского.
Другой пример. Чарский, поэт, в «Египетских ночах» Пушкина протежирует импровизатору. А в «Даре» Чарский, адвокат, посредник, маклер, пытается устроить поэту Чердынцеву заработок переводами на немецкий. В романе мы видим нескольких героев с фамилией на «Ч»: Н. Г. Чернышевский, А.Я. и А. Я. Чернышевские (духовные родственники великого шестидесятника, «некто Ч…» из мемуаров Сухощокова[202], наконец, сам главный герой – Чердынцев.
Эта множественность восходит к Гоголю. Чартков – герой «Портрета», художник, погубленный дьяволом. В «Даре» его пародийное отражение Романов «достиг полного расцвета».
Разговор о нем заходит у Федора с Зиной при их «настоящем» знакомстве. За несколько минут до этого Годунов-Чердынцев читал Гоголя. Пространственная близость цитаты при вводе новой темы и приобщения другого литературного текста (в данном случае «Портрета» Гоголя) к повествованию – прием, который уже рассматривался выше в случае с пушкинским «Путешествием в Арзрум».
Во второй части повести Гоголя портрет ростовщика с демоническими глазами внезапно исчезает. Ср. в «Даре» – рецензия Кончеева на «Жизнь Чернышевского»:
«Он начал с того, что привел картину бегства во время нашествия или землетрясения, когда спасающиеся уносят с собой все, что успевают схватить, причем непременно кто-нибудь тащит с собой большой, в раме, портрет давно забытого родственника. “Вот таким портретом […] является для русской интеллигенции и образ Чернышевского, который был стихийно, но случайно унесен в эмиграцию, вместе с другими, более нужными вещами”, – и этим Кончеев объяснял stupefaction, вызванную появлением книги Федора Константиновича (“кто-то вдруг взял и отнял портрет”)».
Заключительное предложение из рецензии Кончеева перефразирует слова из финала повести Гоголя «Портрет»: «Украден. Кто-то успел уже стащить его…» Эта отсылка включается в бесовскую линию образа Чернышевского в главе IV, линию, где пародия перерастает в карикатуру как на общество, которое видит в Чернышевском сатанинские черты, так и на героя, который видит себя Спасителем.
Приведу несколько примеров: «Недоброжелатели […] говорили о “прелести” Чернышевского, о его физическом сходстве с бесом»; «Агенты, тоже не без мистического ужаса, доносили, что ночью в разгаре бедствия “слышался смех из окна Чернышевского”»; Годунов-Чердынцев подмечает его «хвостатенький почерк» и что «в шутовстве его журнальных приемов усматривали бесовское проникновение вредоносных идей».
В начале романа Годунова-Чердынцева читаем:
«В описаниях его нелепых опытов, в его комментариях к ним, в этой смеси невежественности и рассудительности, уже сказывается тот едва уловимый, но роковой изъян, который позже придавал его выступлениям как бы оттенок шарлатанства».
Значение «изъяна» раскрывается в главе I в размышлениях о рекламе:
«Так развивается бок о бок с нами, в зловеще-веселом соответствии с нашим бытием, мир прекрасных демонов; но в прекрасном демоне есть всегда тайный изъян, стыдная бородавка на заду у подобия совершенства».
Позднее, в эссе «Николай Гоголь», написанном на английском языке в США, Набоков продолжит эту тему:
«Но пошляк, даже такого гигантского калибра, как Чичиков, непременно имеет какой-то изъян, дыру, через которую виден червяк, мизерный дурачок, который лежит, скорчившись, в глубине пропитанного пошлостью вакуума».
И далее:
«Пошлость, которую олицетворяет Чичиков, – одно из главных отличительных свойств дьявола, в чье существование, надо добавить, Гоголь верил больше, чем в существование Бога. Трещина в доспехах Чичикова, это ржавая дыра, откуда несет гнусной вонью […] непременная щель в забрале дьявола».
Можно допустить, что образ Н. Г. Чернышевского в романе Годунова-Чердынцева, Чернышевского, мечтавшего «уловлять души человеческие», создается отчасти и как пародийная проекция гоголевского Чичикова, охотника за мертвыми душами. Примечательно и то, что набоковское эссе о Гоголе, созданное через десять лет после «Дара», содержит и некоторые ответы на загадки этого произведения. В качестве иллюстрации приведу цитировавшуюся выше фразу: «Тех русского окончания папирос… тут не держали, и он бы ушел без всего, не окажись у табачника крапчатого жилета с перламутровыми пуговицами и лысины тыквенного оттенка». В эссе Набоков рассказывает, как в Швейцарии Гоголь «провел целый день, убивая ящериц, выползавших на солнечные горные тропки. [Гоголю виделось в них бесовское. – Н.Б.] Трость, которой он для этого пользовался, можно разглядеть на дагерротипе, снятом в Риме в 1845 году […] На снимке он изображен в три четверти […] На нем сюртук с широкими лацканами и франтовской жилет. И если бы блеклый отпечаток прошлого мог расцвести красками, мы увидели бы бутылочно-зеленый цвет жилета с оранжевыми и пурпурными искрами, мелкими синими глазками; в сущности, он напоминает кожу какого-то заморского пресмыкающегося».
8. Подытоживая, можно сказать, что принцип организации романной структуры «Дара» является принципом кодирования, а структура текста воспроизводит структуру кроссворда. Кажется, тут и кроется обман, уготованный для читателя, на который намекает Годунов-Чердынцев в главе III. «Все тут веселило шахматный глаз: остроумие угроз и защит, фация их взаимного движения, чистота матов […] но, может быть, очаровательнее всего была тонкая ткань обмана, обилие подметных ходов […] ложных путей, тщательно уготовленных для читателя».
Кроссворд исключает интерпретацию. Он предполагает догадливость, культуру, знание, но только не креативные способности, и полностью аннулирует вольное сотворчество с автором. В кроссворде все ходы продуманы, все ответы уже существуют, и читателю остается их только найти (обманное сходство с фундаментальным условием написания текста: произведение уже существует где-то, нужно только его вспомнить, обнаружить). Декларируемая открытость книги оборачивается мнимой свободой крестословицы, и возведенный в творцы читатель неожиданно вместо венца обнаруживает на своей голове потрепанную шляпу импровизатора.
4
Литературные приемы «Дара» можно определить как приемы-оборотни. Их пародийная задача очевидна. Однако художественные возможности такой техники позволяют вывести пародируемый объект (будь то тема или прием) по другую сторону пародии, где он вновь возводится в степень серьезного, приобретая оппозиционное оригиналу функциональное значение. Иллюстрацией воплощения такой техники служит использование эпиграфа.
Согласно словарю В. Даля, «Эпиграф – изречение, которое писатель, как значок или знамя, выставляет в заголовке своего сочинения. В эпиграфе содержится основная мысль, развиваемая автором в сочинении».
Такое традиционное назначение эпиграфа в романе неоднократно пародируется, разоблачается претенциозность его роли как декларации мысли, философская глубина которой должна раскрыться читателю при ознакомлении с произведением. Пример – описание Годуновым-Чердынцевым «тома томных стихотворений “Зори и Звезды”» князя Волховского. «Стихи были разбиты на отделы: Ноктюрны, Осенние Мотивы, Струны Любви. Над большинством был герб эпиграфа».
Пародии подвергается и другой принцип эпиграфа – использование авторитетности «чужого» слова для желаемого прочтения своего. Например, о Н. Г. Чернышевском: «Лаборатория, Лафайет, Лен, Лессинг. Красноречивое притязание! Эпиграф ко всей умственной жизни его!» В свою очередь, использование эпиграфа к жизни – косвенное доказательство отождествления ее с текстом.
Однако далеко за пределы пародии выходит роль эпиграфа к самому роману «Дар». Им служат примеры из «Учебника русской грамматики» П. В. Смирновского[203]. Форма вынесенных высказываний – утверждение, их адрес – учебник, т. е. свод правил, – придают содержанию постулативный, однозначный характер. Эпиграф здесь не только не маркирует основную идею, но, наоборот, служит идейным и художественным вызовом. Текст «Дара» оппозиционен тексту эпиграфа и фактически является опровергающим ответом.
В первую очередь разоблачению подвергается основная идея эпиграфа – установление правил, согласно которым может быть упорядочен мир. Наиболее яркая иллюстрация такого разоблачения – глава IV, роман о Чернышевском, «всегда испытывавшем влечение к точному определению отношений между предметами», видящим возможность «из связи вывести благо». Бесплодной точности такого метода противопоставляется творческая иллюзорность, туманность, путь по краю тайны бытия.
Эпиграф к роману, представляющий сколок с набора общих истин, правил для всех, образует пародийную пару с флоберовским эпиграфом, помещенным внутри романного текста: «…иронический эпиграф к Dictionnaire des idées reçues[204]– “большинство всегда право” – Чернышевский выставил бы всерьез». Эта фигура реализует причину и следствие (правило для всех – большинство всегда право), обнажая их подменяемость, замкнутость и, следовательно, исключение свободного выбора.
Именно в значении общих истин роман опрокидывает каждое из заявлений эпиграфа. Например, «Дуб – дерево…» Последнее как символ природы, как конкретный пример конкретного сознания пародийно воплощается в главе IV:
«Чернышевский объяснял: “Мы видим дерево, другой человек смотрит на этот же предмет. В глазах у него мы видим, что дерево изображается точь-в-точь такое же. Итак, мы все видим предметы, как они действительно существуют”. Во всем этом диком вздоре есть еще свой частный смешной завиток: постоянное у “материалистов” апеллирование к дереву особенно забавно тем, что все они плохо знают природу, в частности, деревья. Тот осязаемый предмет, который “действует гораздо сильнее отвлеченного понятия о нем”, им просто неведом».
И далее:
«…Чернышевский не отличал плуга от сохи […] не мог назвать ни одного лесного цветка, кроме дикой розы, но характерно, что это незнание ботаники сразу восполнял “общей мыслью”, что “они (цветы сибирской тайги) все те же самые, какие растут по всей России”…»
Таким образом, общая истина при минимальной конкретизации обнаруживает свою полную несостоятельность, а в частном случае служит лишь прикрытием пустоты и невежества.
Однако образ дерева, как и другие образы эпиграфа, наравне с пародией реализуется в произведении и в возвышенном, поэтическом значении, возвращающем ему истинный голос. Например, изображения деревьев в описаниях путешествий отца (гл. II), прогулки Федора в лесу (гл. V) или изображения розы в поэзии: «Обедневшие некогда слова вроде “роза”, совершив полный круг жизни, получали теперь в стихах как бы неожиданную свежесть».
С особой силой опровергаются в романе два последних утверждения эпиграфа.
1. «Россия – наше отечество». Объектом пародии становится:
– ностальгическая любовь к России прошлого: «В стихах, полных модных банальностей, воспевал “горчайшую” любовь к России» Яша Чернышевский;
– желание быть признанным на родине: см. уже приводившиеся стихи Годунова-Чердынцева: «Благодарю тебя, отчизна». Тема подхватывается еще раз в финале. Зина говорит Федору (привожу вторично): «Я думаю, ты будешь таким писателем, какого еще не было, и Россия будет прямо изнывать по тебе, – когда слишком поздно спохватится…»;
– идея возврата на родину: один из примеров ее воплощения осуществляется сквозь гоголевскую цитату, которая актуализируется в контексте романа. Годунов-Чердынцев, прислушиваясь к Зининым перемещениям по квартире, борясь с желанием оторваться от книги и пойти к ней, читает:
«“Долее, долее, как можно долее буду в чужой земле. И хотя мысли мои, мое имя, мои труды будут принадлежать России, но сам я, но бренный состав мой, будет удален от нее” (а вместе с тем, на прогулках в Швейцарии, так писавший колотил перебегавших по тропе ящериц, – “чертовскую нечисть”, – с брезгливостью хохла и злостью изувера). Невообразимое возвращение!»;
– возвращение на родину объявляется в «Даре» возможным только силою памяти и творческого воображения: примеры – первые страницы гл. II – прогулки Федора по дорожкам Лешино (замечу на полях, что название имения Лешино связано внутренними нитями с ранним рассказом «Нежить», опубликованным 7 января 1921 года в «Руле» и подписанным впервые именем В. Сирин);
– буквальное возвращение приравнивается к переходу в Царство мертвых: так, покупая новые ботинки, Федор думает: «Вот этим я ступлю на брег с парома Харона» (разбор этой темы приведен выше);
– в романе утверждается новый смысл понятия «родина»: подмена происходит путем перевода из категории внешней, пространственной – в категорию внутреннюю, эмоциональную, устанавливается другая география чувств.
«Не следует ли раз навсегда отказаться от всякой тоски по родине, от всякой родины, кроме той, которая со мной, во мне, пристала как серебро морского песка к коже подошв, живет в глазах, в крови, придает глубину и даль заднему плану каждой жизненной надежды?» – думает Федор.
2. «Смерть неизбежна». Этому последнему правилу эпиграфа (конец жизни – конец жизненных истин) противопоставлено в «Даре» преодоление смерти путем перевода жизни в текст.
Наравне с идейной оппозицией роману эпиграф реализует и оппозицию стилистическую. В главе IV приводится цитата из письма Чернышевского сыновьям, в котором он критикует Фета:
«Можно ли писать по-русски без глаголов? Можно – для шутки. Шелест, робкое дыханье, трели соловья. Автор ее некто Фет, бывший в свое время известным поэтом. Идиот, каких мало на свете. Писал это серьезно, и над ним хохотали до боли в боках».
Стихотворение Фета как образец «чистой» лирики выстраивается параллелью эпиграфу, составленному из набора правил, написанных также без глаголов. Сопоставление двух разных текстов, первого – литературного, второго – образовательного, реализованных посредством одного и того же стилистического приема, с особой яркостью демонстрирует контрастность его художественных возможностей. В стихе безглагольность манифестирует эскизность, иллюзорность, неопределенность, подвижность:
Серебро и колыханье Сонного ручья, Свет ночной, ночные тени, Тени без конца, Ряд волшебных изменений Милого лица, В дымных тучках пурпур розы, Отблеск янтаря…[205]В эпиграфе – категоричность, статичность, неизменность выдвигаемых утверждений.
Примечательно и то, что взаимодействие этих двух текстов, не принадлежащих перу Набокова, осуществляется именно в пределах его произведения.
«Дар» и его эпиграф с точки зрения художественного определения могут рассматриваться как своеобразное воплощение одной из ведущих тем романа: поэт и импровизатор. Эпиграфом ко второй главе «Египетских ночей» Пушкина служит строка из оды Г. Державина «Бог»:
Я царь – я раб, я червь – я Бог!Написанная также без глаголов, она является тематическим пунктиром «Дара», в романе реализованы все названные ипостаси поэта. Это стилистическое и тематическое сходство (сходство перекрестное: стилистическое с эпиграфом, тематическое с романом) допускает мысль, что эпиграф, взятый Пушкиным, – это неназванный, предлагаемый к обнаружению «оригинал» исходного эпиграфа к набоковскому роману.
5
Особого внимания заслуживает рассмотрение композиционных особенностей «Дара», фактически определяющих порядок его прочтения.
Пять глав, объединенных героем / рассказчиком в цельное повествование биографического романа, вместе с тем отличаются большой сюжетной и композиционной свободой. Каждая из них снабжена тематически автономным текстом. В границах произведения главы могут меняться местами, выпускаться (пример тому глава IV), и все это без особого ущерба для развития сюжета. Перестановка возможна и внутри самих глав. Отдельные композиционные единицы текста из разных глав также могут объединяться и легко менять свой адрес в повествовании.
Такая демонстративная композиционная свобода «Дара» сообщает ему признаки идеального романа, который читается в любом порядке. Большая вариативность прочтения в действительности не влияет на читательское проникновение в текст; она обусловлена не столько композиционной вольностью, сколько строгой соответствующей заданностью.
Первые ее признаки обнаруживаются в обилии симметрических построений. А симметрия объявляется в «Даре» условием подчинения, несвободы. Пример:
«Симметричность в строении живых тел (говорит Чердынцев. – Н.Б.) есть следствие мирового вращения […] В порыве к асимметрии, к неравенству слышится мне вопль по настоящей свободе, желание вырваться из кольца».
Симметрия в романе существует:
– между главами, например, I и V – в обеих расположены диалоги поэтов, собрания литераторов;
– внутри глав: в главе I – сопоставление двух молодых поэтов, Федора Чердынцева и Яши Чернышевского, а в главе III – сопоставление тем отца и отчима, и т. д.
Другой композиционной фигурой подчинения, фактически определяющей для «Дара», является кольцо. «Жизнь Чернышевского», которую Годунов строит «в виде кольца, замыкающегося апокрифическим сонетом», становится композиционной моделью романа, а прием манифестируется как эстетическая установка, как отказ от конечности книги, «противной кругообразной природе всего сущего».
Глава IV – образец композиционной замкнутости: смерть героя смыкается с рождением, темы жизни, «совершив полный круг», получают завершение в финале, и наконец, весь текст обрамлен сонетом. Обращает на себя внимание его форма (опрокинутый сонет) – очередной пародийный намек на судьбу героя, напоминавшую «обратный ход вечного двигателя».
Кольцевая композиция организует большинство тем «Дара». Например, поэтическое творчество Годунова-Чердынцева. Глава I: публикация и разбор его стихов. (Избегаю указания на кольцевую форму сборника «Стихи», это делает сам автор). Глава III – возвращение к истоку темы: увлечение поэзией, которое совпадает с первой любовью к женщине, творчество / любовь и разлука. И вновь возвращение к финалу-началу темы:
«Первое чувство освобождения шевельнулось в нем при работе над книжкой “Стихи”, изданной вот уже больше двух лет тому назад. Она осталась в сознании приятным упражнением […] Книгу он издал за свой счет (продал случайно оставшийся от прежнего богатства портсигар, с нацарапанной датой далекой летней ночи, – о, как скрипела ее мокрая от росы калитка!)».
Упоминание о калитке – пародийный парафраз романсной строчки: «Отвори потихоньку калитку…» – включается в образ возлюбленной поэта, о которой он говорит в главе I: «От стихов она требовала только ямщикнегонилошадейности…»
Другой пример. В главе I описывается вселение Годунова в новую квартиру и его знакомство с улицей:
«Обсаженная среднего роста липами […], она шла с едва заметным наклоном, начинаясь почтамтом и кончаясь церковью, как эпистолярный роман».
В главе V, во сне, Годунов-Чердынцев возвращается на свою первую квартиру, на знакомую улицу:
«Он нашел свою улицу, но у ее начала столб с нарисованной рукой в перчатке с раструбом указывал, что надо проникать в нее с другого конца, где почтамт, так как с этого свалены флаги для завтрашних торжеств».
И наконец, общая композиция «Дара» образует замкнутое кольцо. Уже говорилось выше, что конец романа стыкуется с началом, фактически аннулируя предшествующее повествование. Восстановление текста осуществляется возвратом к нему, и, перевернув последнюю страницу, читатель вновь оказывается у начала произведения. Многократность прочтения обусловлена как кольцевой композицией, так и структурным принципом кодирования (см. гл. V настоящего издания).
Такое хождение по кругу, к которому вынуждает читателя автор, на самом деле оставляет его по-прежнему у края тайны. Постижение возможно только проникновением в текст. Как ни поразительна банальность намека, «мнимая нелепость», как говорит о своем приеме Набоков, но поиск ключа к тексту связан в романе буквально с темой ключей от дома.
Она протягивается через все повествование. Так, в главе I, переехав на новую квартиру, Годунов-Чердынцев забывает ключи от нее внутри.
«Он опять было нагнулся к замку, – и вдруг его осенило: это были, конечно, ключи пансионские […] а новые остались, должно быть, в комнате».
В последней, V главе Федор и Зина возвращаются домой наконец одни. Вход в дом отождествляется с входом в новую жизнь. Но ключей от входной двери у них нет, они по нелепой случайности остались в квартире:
«– Ах, да, – говорит Зина на вокзале уезжающей матери. – Я сегодня дала тебе мои ключи. Не увези их, пожалуйста.
– Я, знаешь, их в передней оставила… А Борины в столе… Ничего: Годунов тебя впустит, – добавила Марианна Николаевна примирительно».
Ключ от дома остается внутри дома, так же как от текста – внутри текста. Обнаружение смыслового ключа обеспечивает «открытие» текста, а буквально значит обнаружение его начала. В этом убеждает и цитата из описаний шахматного композиторства Годунова-Чердынцева, полного намеков на приемы, обманные авторские ходы. Составление шахматной задачи открыто манифестируется как синоним литературного творчества:
«Еще одна проверка, и задача была готова. Ее ключ, первый ход белых, был замаскирован своей мнимой нелепостью, но именно расстоянием между ней и ослепительным разрядом смысла измерялось одно из главных художественных достоинств задачи».
В романе «Дар» началом текста является глава IV, которая была написана первой. Именно в ней истоки всех центральных тем произведения: подмена смысла в понятии «литература» – вытеснение в ней художественного идеологическим; темы: отца и сына, поэта и импровизатора, бесовской сути пошлости и т. д.
Не зная содержания главы IV, читатель не поймет, например, появления в главе I духовных потомков шестидесятника – семьи Чернышевских, трагедии Яши Чернышевского.
Приведу в доказательство цитату из повести о Яше из главы I, которая не прочитывается без знания главы IV:
«…мне иногда кажется, что не так уж ненормальна была Яшина страсть, – что его волнение было, в конце концов, весьма сходно с волнением не одного русского юноши середины прошлого века, трепетавшего от счастья, когда, вскинув шелковые ресницы, наставник с матовым челом, будущий вождь, будущий мученик, обращался к нему…»
Неясными, без прочтения главы IV, остаются сквозные темы, вроде темы вокзала, наделенного пародийными символическими признаками нового времени, большинства маргинальных образов, например, уже упоминавшейся «пятерки». Так, в главе I: «четыре землекопа и Некто», «пятерка кремлевских владык». Примеров-доказательств множество.
Все остальные главы осуществляют многократный перевод-воспроизведение воплощенных в главе IV тем, образов, приемов. Находясь в центре текста, как ключи в доме, она композиционно закамуфлирована, что обеспечивает смысловую непроницаемость романа даже при его многократном круговом прочтении.
Знаменательно, что этот маскировочный композиционный прием приобрел неожиданные разоблачительные функции. А произошло это, когда в конце 30-х годов издатели журнала «Современные записки» опубликовали «Дар» за выпуском главы IV.
Приложение Н. Чердынцев Что делать?
Страничка из воспоминаний
В августе 1887 года я с курсисткой Хлебниковой не без робости постучались в дверь квартиры Н. Г. Чернышевского в Астрахани. Вышедшая на стук женщина не особо дружелюбно заявила, что Николая Гавриловича нет дома.
– Когда вернется?
– Не знаю.
– Когда можно наверняка застать?
Женщина что-то буркнула, мы не разобрали, и закрыла дверь.
Часа через два снова стучимся в ту же дверь.
Прием был еще суровее.
– Чего вам надо, что вы во второй раз приходите?
– Придем и еще, пока не застанем дома Николая Гавриловича. Мы приезжие студенты, желаем видеть его и переговорить.
– Его дома нет.
– Нам завтра надо уезжать… Не хотелось бы оставить Астрахань, не повидавшись с Николаем Гавриловичем.
– И все-таки уедете не повидавшись.
Разочарованно удаляемся. Дверь захлопнулась. Сделали шагов двадцать – слышим, дверь отворилась и нелюбезная женщина кричит:
– Вернитесь! Николай Гаврилович желает видеть вас.
И так, что его дома нет, – оказывается неправдой. В глубине души мы так и подозревали, наслышавшись, что Чернышевский крайне неохотно принимает незнакомых посетителей.
Вернулись. И вот мы с ним, взволнованные, слегка растерявшиеся, хотя к визиту готовились заранее. Чернышевский! Автор романа «Что делать?», «Примечаний к политической экономии Милля», «Философских обоснований общинного землевладения»! Тот Чернышевский, за простое упоминание имени которого младшим гимназистам уши драли, а старшим сулили увольнение из гимназии! За хранение сочинений которого и не одним гимназистам грозили неприятности без малого как за хранение нелегальщины!
Он нисколько не походил на фотографические изображения, какие нам попадались. Ничего юного, женственного, что бросалось в глаза на фотографических карточках. Оброс бородой, стар. Это обстоятельство несколько смущало – ждали, что он знакомее, ближе, чем оказывалось.
Первые минуты Николай Гаврилович выглядел сурово, даже как будто подозрительно присматривался к нам. Но вскоре разговорился. Забыли и мы смущение.
Больше наседали с расспросами, как он смотрит на задачи текущей жизни.
А он:
– Для чего вам знать мое мнение? Мы, старики, свое отработали. Могли бы и больше сделать, да не нужна наша работа. Мы думали так, а жизнь требует иначе.
Время стояло мрачное, живы были впечатления от казни пяти студентов по делу Ульянова и Шевырева (1 марта 1887 г.).
Хотелось руководящих указаний авторитетного человека.
Николай Гаврилович продолжал:
– Работайте! Работают же люди! Знаю – тяготятся. А по-моему, сами не правы. Здесь газета издается. Я знаком с редактором. Вечно жалуется на цензора – строг очень, много черкает, убытки от переверстки номера. А я говорю: кто виноват? Требования цензора знаете? Выполняйте их, неприятностей и не будет. Ведь цензор не изменится от того, что вы его требований не исполняете!
– Плохо так-то, Николай Гаврилович!
– Что это плохо?
– Приспособляться к цензору. Совсем не надо бы цензора, ни худого, ни хорошего!
– Не надо! Вполне согласен. А вот он есть! А уж раз есть, нужно слушаться.
– Теперь при университетах карцеры учреждаются. Значит, и в карцер садиться, раз он есть?
– Непременно! Как же иначе? Садитесь в карцер! Есть карцер, должен быть и заключенный!
– Не надо бы и карцера!
– Совершенно верно! Всегда думал: не нужно ни цензоров, ни карцеров! А вот они существуют! Куда вы от них денетесь?
Ожидали всего что угодно, но не того, что услыхали. Смеется? Не похоже. Серьезно говорит? Конечно, серьезно, да не то, чего хотелось.
Посидели около часу. Разговор все время шел в подобном духе. Николай Гаврилович расспрашивал о жизни студентов, и, видимо, не удовлетворили его полученные от нас сведения, хотя, несомненно, и без нас он знал довольно. Может быть, мы ничего нового и не сказали ему.
Он заметил:
– Я думал: вот молодые люди пришли! То-то будет что послушать! А вы меня спрашиваете! Ну что я скажу?! Я сам-то как в лесу был, вернувшись из Сибири.
Он становился все нервнее, без нужды брал и ставил пепельницу на столе (или другую вещицу), говорил торопливой скороговоркой – утомился или мы расстроили.
Стали прощаться. Уходили с душевной горечью. От разочарования? О, нет!! От стыда! За что? За кого? Черт его знает, а скверно, стыдно было на душе!
Пожимая руку, сказали, ухмыляясь:
– Так в карцер, Николай Гаврилович, садиться?
– В карцер, в карцер! – поспешно подтвердил он.
– А что другим сказать?
– Так и скажите! Спросят – что Чернышевский говорит? Говорит, мол, что в карцер нужно садиться!
На улице молчали. Хлебникова жмурилась, на меня не глядела. Отошли с полквартала, не могли не оглянуться. Оглянулись – на крыльце стоит Николай Гаврилович, придерживая рукой дверную скобу, вслед нам смотрит. Видит, что и мы смотрим, свободной рукой погрозил, закричал на всю улицу:
– В карцер садитесь! В карцер!
И право, глаза его бешеный огонь метали.
На бульваре сели.
– Ну что, как ваше впечатление? – спрашиваю спутницу, всматриваясь в ее девичий миловидный профиль.
Она лицо платком закрыла, зарыдала.
– О чем вы плачете? Успокойтесь! – прошу.
– Отстаньте!
– Не желаю отставать! Нарочно пуще пристану, если не скажете, о чем плачете!
– Ведь он нас дураками обругал!
– Такого слова он не говорил.
– Смысл-то его слов такой!
– Вы об этом и плачете?
– Все русское общество дураками назвал – знает, что мы не станем молчать о визите к нему! Ведь он сказал: если после стольких жертв, какие принесены моим поколением и моими преемниками, все еще существует цензура и карцеры, – вы дураки! С вами говорить бесполезно!
– Плакать-то, однако, не о чем!
Подняла на меня темно-карие заплаканные глаза. Сказала:
– Сколько же он выстрадал, раз подобным образом разговаривает с нами?!
…Может быть, мой рассказ не лишен некоторого интереса и для текущего момента, читатель?
Журнал журналов. 1916. № 24, июнь. С. 5Глава IX Эротика литературных аллюзий в романе «Дар»
Поэзия есть мысль, устроенная в теле.
Н. ЗаболоцкийЭта глава лежит на пересечении двух излюбленных в набоковедении тем: эротики и выявления литературных аллюзий. Однако, несмотря на относительную их исследованность, новым кажется рассмотрение в романах В. Набокова литературной аллюзии как приема поэтики эротизма. Постановку задачи подкрепляет очевидное сходство художественного механизма аллюзии и эротики. Являясь метафорически построенным намеком / отсылом, они маркируют отправное условие творческого действия, реализующегося в обнаружении и введении в пространство произведения текста-адресата. Традиционное сопоставление в системе культуры эротики и порнографии обнаруживает, что последняя исполняет роль такого текста-адресата, аллюзией на который является эротика. Художественный намек лежит в основе поэтики эротизма. Более того, аллюзивная природа эротики обеспечивает в произведении дополнительный ряд отсылок, творчески моторизует исходный прием литературной аллюзии. Одним из наиболее ярких и выразительных образцов этой техники в творчестве В. Набокова является роман «Дар», где литературная аллюзия обладает структурно-организующей функцией.
Аллюзия-доминанта произведения – на живопись. Это обусловлено, в первую очередь, центральным образом книги, образом Н. Г. Чернышевского, которому живопись служила доступным образчиком и мерой искусства. Характерно, что его обращение к живописи мотивировано эротическими причинами: «любовные переживания», связанные с Лободовской, «терзания плоти», «похотливые мечты» толкают молодого героя к «витринам Юнкера и Дациаро на Невском»[206], где выставлены «препараты красоты […] женские портреты», и физическое влечение «подсказывало ему превосходство […] жизни над искусством». «Чернышевский, будучи лишен малейшего понятия об истинной сущности искусства, видел его венец в искусстве условном, прилизанном (т. е. в анти-искусстве)». Это условие пародийно конституирует в главе IV, фактически ключевой главе романа, живопись на уровне низких жанров: лубка, рекламного плаката, в ее ремесленническом исполнении «кустарной росписи» (что выдерживается на протяжении всего текста). Годунов-Чердынцев, наоборот, видит в жизни женские лица как воспроизведения лубка за стеклом. Например, Любовь Марковна в главе I: «Почему, если уж носила пенсне эта […] женщина, то все-таки подкрашивала глаза? Стекла преувеличивали дрожь и грубость кустарной росписи».
Портрет другой героини (глава V) – уже очевидный литературный пересказ конкретных живописных портретов:
«…Марианна Николаевна убирала со стола. Ее полное, темно-розовое лицо, с лоснящимися закутками ноздрей, лиловые брови, абрикосовые волосы, переходящие в колючую синеву на голом, жирном загривке, васильковое око, с засоренным ресничной краской лузгом, мимоходом окунувшее взгляд в опивочную тину на дне чайника, кольца, гранатовая брошь, цветистый платочек на плечах, – все это составляло вместе грубо, но сочно намалеванную картину, несколько заезженного жанра».
Текстом-адресатом в данном случае являются картины Б. Кустодиева «Купчиха», «Купчиха за чаем», «Красавица», наконец, «Русская Венера». Внешнее цветовое сходство, детали, подтверждающие происхождение – брошь, шаль, чай, – узаконивают введение в роман этих полотен, которые разворачивают эротику образа: обнаженная «красавица» и особенно последняя картина серии, «Русская Венера в бане». Национальный признак героини подчеркивается ее первым браком с инородцем, а «банный» эротический посыл картины «возвращается» в текст: Федор Константинович в ванной после душа «ошибся полотенцем и с тоской подумал, что теперь весь день будет пахнуть Марианной Николаевной».
Отмечу, что в исходной формуле «женщина – женский портрет» у Чернышевского эротика является признаком живой женщины, у поэта Годунова, наоборот, эротика – признак искусства.
Характерно, что низкие жанры живописи в романе часто связаны с торговлей, рекламой («Все, что являло собой плоскую картонку с рисунком на крышке, предвещало недоброе […] За круглым столом при свете лампы семейка: мальчик в невозможной, с красным галстуком, матроске, девочка в красных зашнурованных сапожках […] Эти именно дети ныне выросли, и я часто встречаю их на рекламах: он, с блеском на маслянисто-загорелых щеках, сладострастно затягивается папиросой и держит в богатырской руке, плотоядно осклабясь, бутерброд с чем-то красным (“ешьте больше мяса!”), она улыбается собственному чулку на ноге или с развратной радостью обливает искусственными сливками консервированный компот…»), а значит, с продажностью, с чертами коммерческой сделки: «…как я ненавижу все это (восклицает Федор. – Н.Б.) – лавки, вещи за стеклом, тупое лицо товара и в особенности церемониал сделки, обмен приторными любезностями, до и после! А эти опущенные ресницы скромной цены […] Александра Яковлевна признавалась мне, что когда идет за покупками в знакомые лавки […], хмелеет […] от сладости взаимных услуг и отвечает на суриковую улыбку продавца улыбкой лучистого восторга».
«Суриковая улыбка продавца» – двойная аллюзия. Ее цветовое прочтение – красно-коричневая улыбка кондитера с акварели Кустодиева «Булочник». Надо сказать, что кустодиевская акварельная серия «Русь», в основном изображающая портреты торговцев, почти целиком воспроизведена в образах «Дара».
Другой намек «суриковой улыбки» – художник Суриков, как и Кустодиев, входивший в Товарищество Передвижников. Но, в отличие от Кустодиева, обратившегося к бытовой живописи, Суриков и Верещагин, который также упоминается в романе (Годунов-Чердынцев вспоминает: «Я был всегда равнодушен к театру; но, впрочем, помню, какие-то были у нас картонные деревца и зубчатый дворец с окошками из малиновокисельной бумаги, просвечивавшей верещагинским полымем…»), писали историко-патриотические полотна. Цитирование их имен в контексте фальшивости торговли – отражение негативно развивающейся темы патриотизма в «Даре».
В главе об отце: «Этнография не интересовала его вовсе, что некоторых географов весьма почему-то раздражало […] Был один казанский профессор, который особенно нападал на него […], обличая его в научном аристократизме, в надменном презрении к Человеку…» Во время войны отец героя занимал «непатриотическую позицию»; «…Константин Кириллович, в тревожнейшее время, когда крошились границы России и разъедалась ее внутренняя плоть, вдруг собрался покинуть семью года на два ради далекой научной экспедиции…» Эротическая метафоричность стиля обнаруживает ложность патриотической оппозиционной точки зрения. Далее: «…отец фольклора недолюбливал». И Федор замечает «затоптанную в грязь папиросную картинку из серии “Национальные костюмы”…»
Еще один пример экфразиса в романе – литературное описание другого полотна Б. Кустодиева «Продавец воздушных шаров»:
«Весело ребятам бегать на морозце. У входа в оснеженный […] сад – явление: продавец воздушных шаров. Над ним, втрое больше него, – огромная шуршащая гроздь. Смотрите, дети, как они переливаются и трутся, полные красного, синего, зеленого солнышка Божьего […] Вот счастливые ребята купили шар за целковый, и добрый торговец вытянул его из теснящейся стаи: – Погоди, пострел, не хватай, дай отрезать…»
Наравне с отсылом к живописи этот отрывок стилистически и сюжетно реализует аллюзию на стихи Некрасова. В частности, на «Стихотворение, посвященное русским детям», где «добрый торговец» дядюшка Яков продает ребятишкам пряники и буквари. Но, в основном, пародируемая фальшь – «торговой доброты» в романе – аллюзия на поэму «Коробейники», которая и придает ей эротический смысл:
…Выди, выди в рожь высокую! Там до ночки погожу, А завижу черноокую — Все товары разложу. Цены сам платил не малые, Не торгуйся, не скупись: Подставляй-ка губы алые, Ближе к милому садись! Вот и пала ночь туманная, Ждет удалый молодец. Чу, идет! – пришла желанная, Продает товар купец…Эротика текста-адресата обеспечивает второй ряд аллюзий на романную биографию героя: Некрасов посвятил поэму «Крестьянские дети» Ольге Сократовне, жене Чернышевского, женщине нрава вольного, обращавшейся с «мущинками» с «дешевой игривостью».
В тексте есть примеры и инверсивной цитатной связи живописи и литературного текста. Так, описание картины художника Романова «Футболист» воспринимается как аллюзия на стихотворение Н. Заболоцкого «Футбол», реализованная на тематическом и глубоком смысловом уровне:
«Вот как раз журнал с репродукцией. Потное, бледное, напряженно-оскалистое лицо игрока во весь рост, собирающегося на полном бегу со страшной силой шутовать по голу. Растрепанные рыжие волосы, пятно грязи на виске, натянутые мускулы голой шеи […] Он забирает мяч сбоку, подняв одну руку, пятерня широко распялена […] Но главное, конечно, – ноги: блестящая белая ляжка, огромное израненное колено, толстые, темные буцы, распухшие от грязи […], чулок сполз на яростной кривой икре, нога ступней влипла в жирную землю, другая собирается ударить, – и как ударить! – по черному, ужасному мячу, – и все это на темно-сером фоне, насыщенном дождем и снегом. Глядящий на эту картину уже слышал свист кожаного снаряда, уже видел отчаянный бросок вратаря».
Примечательно, что описание картины художника Романова резко контрастирует по тону и семантической нагрузке со стихотворением «Football» самого Вл. Набокова, написанным в Кембридже в 1919 году.
Содержание стихотворения составляет обмен взглядами игрока, от лица которого ведется повествование, и девушки. Герой видит, как девушка идет с соперником, как замечает его, следит за его игрой и становится свидетельницей того, как он мастерски «с размаху прерывает стремительный полет мяча». На поляне, как на арене, на сцене, герой равен артисту («худой, лохматый, как скрипач»), поэту («в молчанье, по ночам, творит, неторопливый / созвучья для иных миров»), он поражает воображение девушки своим мастерством футболиста.
Игра происходит в зимнем пейзаже: «играли мы, кружась, под зимней синевой», как, впрочем, и на картине Романова. Герой в «фуфайке белой», а его личным историческим фоном становится его «страна, где каплет кровь на снег». Такое победно-драматическое цветовое оформление образа футболиста, демонстрирующего физическую ловкость и мастерство на поле футбольной борьбы, утверждает его исключительность в глазах девушки, особенно по сравнению с соперником, «юношей, похожим на многих». Впрочем, и девушка («…таких, как ты, немало»), приобретает значимость только благодаря выделяющему ее из толпы взгляду футболиста. Таким образом, футбольный матч в стихотворении Набокова приобретает смысл своеобразного современного рыцарского турнира.
Сцена футбола в «Университетской поэме» Набокова 1927 года также воплощает любовный мотив, а точнее мотив завоевания расположения девушки. Попытка героя, на этот раз сидящего на трибуне, оборачивается неудачей по контрасту с забитым голом.
Зато в стихотворении «Футбол» Н. Заболоцкого, довольно темном и загадочном, близко к описанию картины Романова в «Даре», – воспроизведен пыл футбольной борьбы, накал ее страстей, динамика предстоящего удара по мячу, который должен совершить главный игрок-форвард. Цитаты из стихотворения приводятся в первой редакции сборника «Столбцы» 1929 года:
Ликует форвард на бегу, теперь ему какое дело? — как будто кости берегут его распахнутое тело. Как плащ летит его душа, ключица стукается звонко о перехват его плаща. …………………………..Футболист в стихотворении напоминает римского воина, который бросается в бой не на жизнь, а на смерть.
Мяч фокусирует на себе все силы и чувства игрока, слово «доспехи» поддерживает милитаризированный характер страстно желаемой победы, знаменующей власть над мячом, который отожествляется в сознании игрока-воина с земным шаром:
…и вот – через моря и реки, просторы, площади, снега — расправив пышные доспехи и накренясь в меридиан, слетает шар. Ликует форвард на пожар, свинтив железные колена, но уж из горла бьет фонтан, он падает, кричит: измена! А шар вертится между стен. дымится, пучится, хохочет. глазок сожмет – спокойной ночи! глазок откроет – добрый день! и форфарда замучить хочет[207]. …………………………. открылся госпиталь. Увы! Здесь форвард спит без головы.Можно предположить, что отдавшийся во власть своей футбольной страсти форвард сходит с ума, теряет голову, что реализуется в этом стихотворении в гротескной буквальности, столь характерной для поэтики ОБЭРИУ. Заболоцкий говорил о себе, что «он – поэт голых конкретных фигур, придвинутых вплотную к глазам зрителей». К этому следует добавить замечание И. Лощилова, ведущего специалиста по творчеству Н. Заболоцкого, что «причудливый художественный мир «Столбцов» возник на пересечении поэтических, живописных и научных интересов автора»[208].
Примечательно, что в романе Набокова сформулирован вывод от впечатления, которое производит картина Романова, как и ее закамуфлированный источник – стихотворение Заболоцкого. «Меня неопределенно волновала (говорит Чердынцев. – Н.Б.) эта… ядовитая живопись, я чувствовал к ней некое предупреждение […] далеко опередив мое собственное искусство, оно освещало ему и опасности пути» (выделено мной. – Н.Б.).
Как обычно, у Набокова нет прямого указания на знакомство со стихами Заболоцкого. Есть, впрочем, намек косвенный. Стихотворение «Футбол» было написано в 1926 году и опубликовано в № 12 журнала «Звезда» за 1927 год. В романе «Дар» Федор рассматривает книги в русской книжной лавке: «На другом столе, рядом, были разложены советские издания […] Между “Звездой” и “Красным огоньком” […] лежал номер шахматного журнальчика “8 × 8”».
Гротескно-эротическая поэзия Заболоцкого конца 20-х вряд ли могла остаться не замеченной В. Набоковым. Сборник «Столбцы», вышедший в феврале 1929 года, произвел сильное впечатление на критиков и читающую публику. В нем увидели строки, отсылающие к «Тяжелой лире В. Ходасевича», чье «Собрание стихов», вышедшее в Париже в 1927 году, было встречено восторженно не только в эмиграции, но и в России. И. Лощилов называет, в частности, стихотворение В. Ходасевича «Звезды» из сборника «Европейская ночь» (о художественном присутствии этого стихотворения в «Даре» см. ниже) «столбцом до “Столбцов”». Чем, кроме поэтических достоинств, мог привлечь Набокова первый сборник молодого поэта? «Столбцы» воспроизводили зримо и осязаемо «новый быт» (одна из формул времени) Ленинграда и Москвы 1920-х, преобразованный быт нового человека.
Выходит солнце над Москвой, старухи бегают с тоской: куда, куда идти теперь? Уж новый быт стучится в дверь!Кроме отдельного столбца «Новый быт» – такова была общая тема сборника. Вполне закономерно, что в «Даре», романе, организованном вокруг произведения о Чернышевском, сыгравшем не последнюю роль в создании проекта нового человека и картины его образа жизни, обнаруживается немало отсылов к стихам Заболоцкого. Так, «вопли желудочной лирики», образующие константный мотив еды в романе: ее поглощения («Шахматов немедленно стал резать бутерброд […] на краю тарелки нашлепка горчицы подняла, как это обычно бывает, желтый свой рог»), приобретения («Из русского гастрономического магазина вышел инженер Керн, опасливо суя пакетик в портфель, прижатый к груди»), страстно-похотливого к ней отношения отражаются в пищевой гротескной эротике стихотворения Н. Заболоцкого «Рыбная лавка». Надо отметить, что оно не вошло в сборник «Столбцы» 1929 года, а было опубликовано в том же 1929-м в № 8 журнала «Звезда»:
И вот, забыв людей коварство, Вступаем мы в иное царство… Тут тело розовой севрюги, Прекраснейшей из всех севрюг, Висело, вытянувши руки, Хвостом прицеплено на крюк. Под ней кета пылала мясом, Угри, подобные колбасам, В копченой пышности и лени Дымились, подогнув колени, И среди них как желтый клык Сиял на блюде царь-балык. О, самодержец пышный брюха, Кишечный бог и властелин, Руководитель тайный духа И помыслов архитриклин, Хочу тебя! Отдайся мне! Дай жрать тебя до самой глотки! Мой рот трепещет, весь в огне, Кишки дрожат как готтентотки, Желудок в страсти напряжен, Голодный сок струями точит — То вытянется, как дракон, То вновь сожмется что есть мочи, Слюна, клубясь, во рту бормочет, И сжаты челюсти вдвойне… Хочу тебя! Отдайся мне![209]С гастрономической темой связан и другой сквозной мотив романа – мотив поглощения кондитерских изделий: «…Журналист Ступишин, въедавшийся ложечкой в клин кофейного торта»; Он (Годунов-Чердынцев. – Н.Б.) купил пирожков (один с мясом, другой с капустой, третий с сагой, четвертый с рисом, пятый… на пятый не хватило) в русской кухмистерской, представлявшей из себя как бы кунсткамеру отечественной гастрономии…»; о Чернышевском: «Нашего же героя юность была кондитерскими околдована». К этому же ряду примеров относится многократно всплывающий в повествовании образ пышки, кондитерского изделия и русского названия новеллы Мопассана, рассмотренный в предыдущей главе о романе «Дар».
Тема кондитерских в «Даре» служит общей аллюзией на стихотворение Заболоцкого «Пекарня». Привожу в редакции 1929 года сборника «Столбцы»:
Но крендель, вывихнув дугу, застрял в цепи на всем скаку и закачался над пекарней, мгновенно делаясь центральной фигурой[210].В «кондитерской» обнаруживаем отсыл и к другому референтному тексту «Дара», в главе IV (о Чернышевском): «Но будущему воспоминанию наперекор, кондитерские прельщали его вовсе не снедью – не слоеным пирожком на горьком масле и даже не пышкой с вишневым вареньем; журналами, господа, журналами, вот чем! […] В кондитерской было тепло. […] “Позвольте-с “Эндепенданс Бельж”, – просит Чернышевский». «Эндепенданс Бельж», газета, полная пустых сплетен, – отсылка к сцене из романа Достоевского «Идиот». Настасья Филипповна при посещении Епанчиных слушает рассказ генерала о случае в вагоне: «Я взял билет в первый класс: вошел, сижу, курю… Курить не запрещается, но и не позволяется… Вдруг, перед самым свистком, помещаются две дамы с болонкой, прямо насупротив». Епанчин рассказывает, как одна из них в гневе выхватывает его сигару и выбрасывает в окно, а он вослед – ее болонку. Дама описана не без некоторого эротизма: «Женщина дикая, а впрочем, дородная женщина, полная, высокая, блондинка, румяная…» Настасья Филипповна уличает Епанчина во лжи: «Но позвольте, как же это? […] Пять или шесть дней назад я читала в “Independanсе” – а я постоянно читаю “Independance” – точно такую же историю! Я вам “Independance Beige” пришлю!.. – Настасья Филипповна хохотала, как в истерике».
Текст-адресат разоблачает серьезность политических чтений героя, а заодно и серьезность его философско-политических предчувствий. Чернышевский записывает в своем дневнике: «А что, если мы в самом деле живем во времена Цицерона и Цезаря, когда seculorum novus nascitur ordo, и является новый Мессия, и новая религия, и новый мир […] Дозволено курить на улицах. Можно не брить бороды». Истеричность Настасьи Филипповны отзывается сходной чертой в характере жены Чернышевского: «…ее истеричность при случае доходит до судорог». Введенный в романное пространство текст Достоевского еще раз упоминается посредством намека в рассказе о попытке организации побега Чернышевского из ссылки: «Если верить молве, Ипполит Мышкин, под видом жандармского офицера явившийся в Вилюйск к исправнику с требованием о выдаче ему заключенного, испортил все дело тем, что надел аксельбант на левое плечо вместо правого». Вместо имени персонажа романа напрашивается его прозвище, титрующее это произведение Достоевского.
Мотив пищи продолжается в «Даре» в значении пищи духовной. «Изнурительный катар желудка (у Чернышевского. – Н.Б.) повторился тут с новыми особенностями. “Меня тошнит от “крестьян” и от “крестьянского землевладения”, – писал он сыну, думавшему его заинтересовать присылкой экономических книг. Пища была отвратительная». Другой пример: Чернышевский статьями кормил читателя «Современника», «которого мы вдруг представили себе рассеянно и жадно кусающим яблоко, – переносящим на яблоко жадность чтения и опять глазами рвущим строки». Этот образ – очевидный намек на библейский сюжет и вместе с тем отсылка к стихотворению В. Ходасевича «Бельское Устье»:
И тот, прекрасный неудачник С печатью знанья на челе, Был тоже – просто первый дачник На расцветающей земле. Сойдя с возвышенного Града В долину мирных райских роз, И он дыхание распада На крыльях дымчатых принес[211].У Набокова в главе V: «…и опять через двести лет самолюбивый неудачник отведет душу на мечтающих о довольстве простаках». Построенная на каламбуре тема «задача – задание – задачник – дачник – неудачник» развивается в «Даре» на протяжении всего повествования. Только один пример: когда Ракеев приезжает арестовывать Чернышевского, они «беседовали – все ради приличия – о преимуществах Павловска перед другими дачными местностями».
Надо отметить, что стихотворение В. Ходасевича «Дачное» является одним из текстов-адресатов, на который делается аллюзия в романе Набокова в сцене купальщиков в лесу: «…он с отвращением видел измятые, выкрученные, искривленные норд-остом жизни голые и полураздетые […] тела купальщиков».
У Ходасевича:
Уродики, уродища, уроды Весь день озерные мутили воды. ………………………………………… Блудливые невесты с женихами Слипаются, накрытые зонтами.Та же сцена отсылает к стихотворению Н. Заболоцкого «Купальщики»:
Влага нежною гусыней щиплет части юных тел и рукою водит синей, если кто-нибудь вспотел. ………………………………. Если кто-нибудь томится страстью или искушеньем, — может быстро охладиться, отдыхая без движенья. Если кто любить не может, но изглодан весь тоскою, — сам себе теперь поможет, тихо плавая с доскою.Эротический примитивизм изображения придает картине гротескный смысл, который переносится в набоковский текст и там обретает философский масштаб и глубину благодаря еще одной аллюзии данной сцены, на этот раз на живопись, на центральную часть триптиха И. Босха «Сад наслаждений». Скрытую цитатность полотна в романе показывают набор деталей, образы, композиция и, наконец, само название картины:
«…розовое, как свинья, пузо, мокрые, бледные от воды, хриплоголосые подростки, глобусы грудей и тяжелые гузна, рыхлые, в голубых подтеках, ляжки, гусиная кожа, прыщавые лопатки кривоногих дев, крепкие шеи и ягодицы мускулистых хулиганов, безнадежная, безбожная тупость довольных лиц, возня, гогот, плеск […] И над всем этим господствовал незабываемый запах […] вяленых, копченых, грошевых душ. Но самое озеро, с ярко-зелеными купами деревьев на той стороне и солнечной рябью посредине, держалось с достоинством».
В «Даре» имеется несколько аллюзий на работы Анри Руссо, художника, оказавшего заметное влияние на русский авангард. В частности, упомяну его картину «Футболисты» (Joueurs de football), которую можно припомнить в связи с уже упомянутым описанием картины «Футболист» художника Романова в «Даре». Картина Руссо пародийно противопоставляет страстной игре романовского футболиста – безмятежную игру в мяч. Замечу на полях, что Н. Заболоцкий в итоговом своде «Столбцов» 1957 года, помещенном им в кожаный переплет, купленный в Венеции и оттого называемый специалистами «Венецианская книжка», присоединил к своему стихотворению «Футбол» репродукцию картины Анри Руссо «Футболисты» (Joueurs de football).
Пародийной аллюзией на картину Руссо «Повозка дядюшки Жюнье» (La carriole du Père Junier) является рассказ Васильева из главы I «Дара» о воскресной загородной прогулке берлинского купца со своим приятелем-слесарем: «на большой, крепкой, кровью почти не пахнувшей телеге, взятой напрокат у соседа-мясника: в плюшевых креслах, на нее поставленных, сидели две толстых горничных и двое малых детей купца […] купец с приятелем дули пиво и гнали лошадей, погода стояла чудная, так что на радостях они нарочно наехали на ловко затравленного велосипедиста, сильно избили его в канаве, искромсали его папку (он был художник) и покатили дальше очень веселые…»
Статично изображенная телега, на которой сидит семья соседа-бакалейщика у Руссо, приходит в движение в набоковском тексте. «Перевод» полотна в литературу, еще один пример набоковского экфрасиса, придает ему пародийный характер, что, пожалуй, более правдоподобно отражает взаимоотношения искусства и торговли: художник, сидящий на картине Руссо рядом с купцом в телеге, оказывается в романе этим же купцом избитым. Пародийным цитированием полотна Руссо «Ребенок с куклой» (L’enfant à la poupée) является одна из картин художника Романова «портрет графини д’Икс: абсолютно голая графиня, с отпечатками корсета на животе, стояла, держа на руках себя же самое, уменьшенную втрое…» Ребенок на полотне Руссо, с мужскими чертами лица, в детском платье, держит в руках фигурку самого себя, взрослого и голого. Графиня д’Икс у Романова воспринимается как возмужавший персонаж Руссо.
В главе V описание леса, «образ которого» Годунов «собственными средствами поднимал» до «первобытного рая», девственных джунглей, где чувствовал себя «атлетом, тарзаном, адамом», также является аллюзией на картины Руссо, в первую очередь на его «Экзотический пейзаж» (Paysage exotique); а образ загорающей в этом лесу немецкой школьницы – «…рядом с школьным портфелем […] лежала одинокая нимфа, раскинув обнаженные до пахов, замшево-нежные ноги, заломив руки, показывая солнцу блестящие мышки» – цитирование одной из последних работ художника «Сон» (Rêve). Сходство обстановки, изображение персонажа и его позы обеспечивает сближение полотна и текста, при этом текст является пародийным отражением живописного оригинала.
К этому ряду можно прибавить еще одно произведение живописи, гротеск Макса Эрнста «Нимфа Эхо» (La Nymphe Echo), где в таком же девственном лесу изображена нимфа как безобразное, подобное страшному растению существо.
Использование аллюзии как приема «эротизации» повествования часто подчинено у Набокова пародийной задаче. Например, в романе многократно воспроизводится образ звезд: как традиционный образ поэтического арсенала – «том томных стихотворений» «Зори и Звезды» князя Волховского; в стихах самого Годунова: «…а улица кончается в Китае, а та звезда над Волгою висит»; как символ высшего космического разума и морали: «…помните, как Гёте говаривал, показывая тростью на звездное небо: “Вот моя совесть!”» Неспособность видеть звезды декларируется в «Даре» как невозможность постижения мировой красоты: о Чернышевском: «Он видел лишь четыре из семи звезд Большой Медведицы». Звездный мотив романа – аллюзия на стихотворение В. Ходасевича «Звезды» из цикла «Европейская ночь», опубликованного в «Сборнике стихов», которое обеспечивает пародийное отражение этого затертого поэтического образа:
На авансцене, в полумраке, Раскрыв золотозубый рот, Румяный хахаль в шапокляке О звездах песенку поет. И под двуспальные напевы На полинялый небосвод Ведут сомнительные девы Свой непотребный хоровод. ……………………………………. С каким-то веером китайским Плывет Полярная Звезда. За ней вприпрыжку поспешая, Та пожирней, та похудей, Семь звезд – Медведица Большая — Трясут четырнадцать грудей. ……………………………………. Глядят солдаты и портные На рассусаленный сумбур. Играют сгустки жировые На бедрах Etoile d’amour. ……………………………….. И заходя в дыру все ту же, И восходя на небосклон, — Так вот в какой постыдной луже Твой День Четвертый отражен!.. Не легкий труд, о Боже правый, Всю жизнь воссоздавать мечтой Твой мир, горящий звездной славой И первозданной красотой.Ср.: у Набокова о шахматном композиторстве, отождествляемом с литературным творчеством: «На доске – звездно сияло восхитительное произведение искусства: планетариум мысли».
Аллюзия на «Звезды» строится на общности образов: Большая Медведица, звезда любви, и на противопоставлении значений: звезды – символ совести и безнравственности, любви и проституции.
Эротический смысл в романе содержат аллюзии не только на живопись, но и на скульптуру. Надо, однако, отметить, что тема статуй в «Даре» маргинальна. «Знаешь, что больше всего поражало самых первых русских паломников по пути через Европу? (говорит Федор Зине. – Н.Б.)… городские фонтаны, мокрые статуи». Статуи в парках появляются в стихах Кончеева: «Виноград созревал, изваянья в аллеях синели…» Тема статуй, как она воспроизводится в произведении, и связанная с ней тема памятника (о своей работе над образом Чернышевского Годунов-Чердынцев говорит: «И нагромождая знания, извлекая из этой горы свое готовое творение, он еще кое-что вспоминал: кучу камней на азиатском перевале, – шли в поход, клали по камню, шли назад, по камню снимали, а то, что осталось навеки, – счет павшим в бою. Так в куче камней Тамерлан провидел памятник»), восходят, в первую очередь, к Пушкину, к его стихотворениям «Царскосельская статуя» и «Воспоминания в Царском Селе». Р. Якобсон пишет: «Общий элемент обоих стихотворений составляют мечтательные прогулки героя в сумраке роскошных садов, населенных мраморными статуями и кумирами божеств, и возникающее при этом чувство самозабвения»[212]. Аналогично творческое блаженство Федора, вызываемое его мечтами, снами, воспоминаниями.
Но несмотря на близость мотивов, образ статуи в «Даре» – аллюзия не на пушкинские строки, а на стихотворение И. Анненского, царскосельского поэта, «“Расе” Статуя мира». Это произведение входит в «Трилистник в парке», в сборник «Кипарисовый ларец». Ср. в I главе «Дара» о Яше Чернышевском после его гибели: «“Кипарисовый ларец” и “Тяжелая Лира” на стуле около кровати».
Непосредственной отсылкой служат слова Зины к Федору: «Мы как-нибудь должны встретиться […] в розариуме, там, где статуя принцессы с каменным веером». У Анненского изображена статуя мира – мраморная женская фигура с опущенным факелом, работы итальянского скульптора XVIII века Гартоло Модоло:
Меж золоченых бань и обелисков славы Есть дева белая, и вкруг густые травы. ……………………………………………….. Не знаю почему – богини изваянье Над сердцем сладкое имеет обаянье… Люблю обиду в ней, ее ужасный нос, И ноги сжатые, и грубый узел кос. Особенно когда холодный дождик сеет И нагота ее беспомощно белеет…Ср.: Чернышевский, обращаясь к искусству, замечает: «У калабрийской красавицы на гравюре не вышел нос».
Эротическое описание статуи в стихотворении И. Анненского служит самостоятельной отсылкой к «Флорентийским ночам» Г. Гейне, к «сброшенной со своего пьедестала нетронутой мраморной богине», к которой испытывал влечение Максимилиан. «И никогда после я не мог забыть то жуткое и сладкое чувство, которое хлынуло в мою душу, когда мой рот ощутил блаженный холод ее мраморных уст», – рассказывает он Марии[213]. Отсыл возвращается в набоковский текст, в стихи о Зине: «Есть у меня сравненье на примете, для губ твоих, когда целуешь ты: нагорный снег, мерцающий в Тибете, горячий ключ и в инее цветы».
Аллюзиями в «Даре» являются и некоторые образы-гибриды. Такова женщина-жаба: «Отец Зины […] умер от грудной жабы», его жена была «пожилая, рыхлая, с жабьим лицом». Это парафраз образа Царевны-лягушки из одноименной русской народной сказки. В намеке кроется и сатирическая хронология: безобразная лягушка, жена Ивана-царевича, со временем превращается в прекрасную Василису Премудрую, Марианна Николаевна – наоборот. Сказочный Кощей, к которому попадает Василиса после того, как Иван сжигает ее лягушечью шкурку, – в романе любовник Марианны Николаевны, «тощий балтийский барон», «с гнилыми зубами скелет».
Другой пример гибрида – «ангел с громадной грудной клеткой и с крыльями, как помесь райской птицы с кондором, и душу младую чтоб нес не в объятьях, а в когтях». Это пародийная цитата из лермонтовского «Демона»:
В пространстве синего эфира Один из ангелов святых Летел на крыльях золотых, И душу грешную от мира Он нес в объятиях своих.Еще пример: женщина-пантера. Образ появляется в романе, трансформируясь, несколько раз: стихи тети Ксении «La femme et la panthère»; ученица Годунова, «молодая, очень красивая, несмотря на веснушки, женщина»; глядя на нее, Федор думает: «Что было бы, если б он положил ладонь на […] слегка дрожащую, маленькую, с острыми ногтями руку», – и отмечает у нее «веяние тех определенных духов […], ему был как раз невыносим этот мутный, сладковато-бурый запах». Этот образ служит аллюзией на стихотворение К. Бальмонта «Пантера»: Оно вошло в сборник 1917 года «Сонеты солнца, меда и луны»:
Она пестра, стройна и горяча. ……………………………………… Дух от нее идет весьма приятный. Ее воспел средь острых гор грузин… ……………………………………………… Как барс, ее он понял лишь один, Горя зарей кроваво-беззакатной[214].Другой отсыл этого образа – к картине бельгийского художника-символиста Фернана Кнопффа «Искусство или ласки» (L’Art ои les caresses). На ней рыжеволосая женщина-пантера чувственно и вожделенно льнет к поэту. В «Даре» такая связь возникает в воображении Федора: «Он вообразил гораздо лучше, чем давеча при ней, как, должно быть, податливо и весело на все нашло бы ответ ее небольшое, сжатое тело, и с болезненной живостью он увидел в воображаемом зеркале свою руку на ее спине и ее закинутую назад, гладкую, рыжеватую голову».
Воспроизведение сцены в раме зеркала сигнализирует связь ее с живописью. Однако Федор отказывается от любви «пантеры»: «Единственная прелесть этих несбыточных объятий была в их легкой воображаемости», – переводя любовные ласки в творческую фантазию.
Приведенные примеры не исчерпывают темы, но иллюстрируют, как прием литературной аллюзии в творчестве В. Набокова становится приемом поэтики эротизма. Как уже было отмечено, большинство таких аллюзий относится к живописи и подчинены они художественной задаче произведения – созданию литературными средствами «портрета» героя, повлиявшего «на литературную судьбу России». Именно так определяет роман «Жизнь Чернышевского» Кончеев. Привожу в сокращении уже упоминавшуюся в предыдущей главе цитату: в своей рецензии «он начал с того, что привел картину бегства во время нашествия или землетрясения, когда спасающиеся уносят с собой большой, в раме […] портрет давно забытого родственника. Вот таким портретом является для русской интеллигенции и образ Чернышевского…»
Воспроизведение портрета в книге гарантирует его от таинственного исчезновения и обеспечивает всматривание, изучение. При этом эротика изображения способствует его пародийному обнажению, демистификации.
Примечания
1
Латинское название чешуйчатокрылых, т. е. бабочек.
(обратно)2
Набоков В. Предисловие к английскому переводу романа «Дар» («Gift») // Набоков В. В.: Pro et contra. СПб: Изд. Русского Христианского гуманитарного института, 1997. С. 49.
(обратно)3
Набоков В. Интервью журналу «Playboy» 1964 г. // Набоков В. (В. Сирин). Собрание сочинений американского периода: в 5 т. СПб: Симпозиум, 1997. Т. 3. С. 566.
(обратно)4
«Убедительное доказательство. Мемуары» (англ.).
(обратно)5
Набоков В. Память, говори. Предисловие (1966). Реконструкция С. Ильина // Набоков В. (В. Сирин). Указ. соч. Т. 5. С. 319.
(обратно)6
Набоков В. Другие берега. Предисловие к русскому изданию. Ardis: Ann Arbor, 1978. С. 8.
(обратно)7
Набоков В. Интервью Альфреду Аппелю. Сентябрь 1966 г. // Набоков В. (В. Сирин). Указ. соч. Т. 3. С. 605.
(обратно)8
Набоков В. Другие берега. Указ. соч. С. 64.
(обратно)9
Там же.
(обратно)10
Набоков В. Память, говори. Указ. соч. С. 357.
(обратно)11
Набоков В. Другие берега. Указ. соч. С. 47
(обратно)12
Там же.
(обратно)13
Набоков В. Другие берега. Указ. соч. С. 47.
(обратно)14
Там же. С. 48.
(обратно)15
Набоков В. Другие берега. Указ. соч. С. 59.
(обратно)16
Там же.
(обратно)17
Набоков В. Интервью Альфреду Аппелю. Сентябрь 1966. Указ. соч. С. 602.
(обратно)18
Набоков В. Другие берега. Указ. соч. С. 106.
(обратно)19
Ср. у Н. Гумилева в стихотворении «Заблудившийся трамвай» (1921): «В красной рубашке, с лицом как вымя / Голову срезал палач и мне…» – Молодой поэт Набоков был под влиянием поэзии Гумилева.
(обратно)20
Набоков В. Стихи. Ардис: Анн Арбор. 1979. С. 156.
(обратно)21
Набоков В. Память, говори. Указ. соч. С. 326.
(обратно)22
Набоков В. Другие берега. Указ. соч. С. 26.
(обратно)23
Набоков В. Другие берега. Указ. соч. С. 27.
(обратно)24
Там же. С. 25.
(обратно)25
Там же. С. 26.
(обратно)26
Там же. С. 99.
(обратно)27
Набоков В. Другие берега. Указ. соч. С. 99.
(обратно)28
Там же. С. 76.
(обратно)29
Там же. С. 28.
(обратно)30
Там же. С. 28.
(обратно)31
Набоков В. Другие берега. Указ. соч. С. 30.
(обратно)32
Там же. С. 33.
(обратно)33
Набоков В. Другие берега. Указ. соч. С. 56.
(обратно)34
Набоков В. Другие берега. Указ. соч. С. 61.
(обратно)35
Гессен И.В. Годы изгнания. Paris: Ymca-Press, 1979. С. 96–97.
(обратно)36
Набоков В. Дар. Аrdis: Ann Arbor, 1975. С. 126.
(обратно)37
Набоков В. Дар. Указ. соч. С. 361–362.
(обратно)38
Набоков В. Интервью журналу «Playboy» 1964 г. Указ. соч. С. 575.
(обратно)39
Набоков В. Дар. Указ. соч. С. 125.
(обратно)40
Набоков В. Другие берега. Указ. соч. С. 158.
(обратно)41
Набоков В. Память, говори. Указ. соч. С. 362.
(обратно)42
Набоков В. Память, говори. Указ. соч. С. 363.
(обратно)43
Там же. С. 363.
(обратно)44
Набоков В. Комментарий к роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин». СПб: Искусство-СПб, Набоковский фонд. 1998. С. 358.
(обратно)45
Набоков В. Память, говори. Указ. соч. С. 364.
(обратно)46
Набоков В. Память, говори. Указ. соч. С. 365.
(обратно)47
Набоков В. Отчаяние. Ardis: Ann Arbor, 1978. С. 32.
(обратно)48
Набоков В. Интервью немецкому телевидению, 1971 г. // Набоков В. (В. Сирин). Указ. соч. Т. 5. С. 615.
(обратно)49
Отзыв М. Добужинского приводит Б. Бойд // Бойд Б. Владимир Набоков: русские годы. Москва: Независимая газета, СПб: Симпозиум, 2001. С. 125–126.
(обратно)50
Набоков В. Другие берега. Указ. соч. С. 67.
(обратно)51
Там же. С. 81.
(обратно)52
Там же. Указ. соч. С. 81.
(обратно)53
«Пасхальный дождь» был написан в 1924-м и опубликован в «Русском эхе» в № 15 в 1925 году. Затем в 1930-х был написан заново по-французски под названием «Mademoiselle O», а еще позднее включен автором в пятую главу автобиографии «Память, говори».
(обратно)54
Набоков В. Другие берега. Указ. соч. С. 142
(обратно)55
Набоков В. Интервью для Нью-Йоркской телепрограммы «Television 13», 1965 // Набоков В. (В. Сирин). Указ. соч. С. 559.
(обратно)56
Набокова Вера. Предисловие. Набоков В. Стихи. Указ. соч. С. 1.
(обратно)57
Набоков В. Дар. Указ. соч. С. 218.
(обратно)58
Набоков В. Другие берега. Указ. соч. С. 206.
(обратно)59
Набоков В. Память, говори. Указ. соч. С. 515.
(обратно)60
Набоков В. Первая любовь. (1930) // Набоков В. Стихи. Указ. соч. С. 233.
(обратно)61
Набоков В. Другие берега. Указ. соч. С. 213–214.
(обратно)62
Набоков В. Другие берега. Указ. соч. С. 216.
(обратно)63
Цитирую по Б. Бойду фразу В. Набокова, которая неоднократно произносилась писателем в письмах к разным адресатам: Бойд Б. Владимир Набоков: русские годы. Указ. соч. С. 181. Бойд пишет также, что Набоков, «подчинив себя жесткому распорядку, проанализировал по системе Андрея Белого тысячи стихотворных строк русской классики». Бойд Б. Указ. соч. С. 181.
(обратно)64
Набоков В. Еще безмолвствую (1919) // Набоков В. Стихи. Указ. соч. С. 21.
(обратно)65
Набоков В. Другие берега. Указ. соч. С. 217.
(обратно)66
Набоков В. Память, говори. Указ. соч. С. 533.
(обратно)67
Набоков В. Память, говори. Указ. соч. С. 533.
(обратно)68
Набоков В. Память, говори. Указ. соч. С. 539–540.
(обратно)69
Бойд Б. Владимир Набоков: русские годы. Указ. соч. С. 211–212.
(обратно)70
Набоков В. Другие берега. Указ. соч. С. 222.
(обратно)71
Там же.
(обратно)72
Там же.
(обратно)73
Гессен И.В. Годы изгнания. Указ. соч. С. 117–118.
(обратно)74
Там же. С. 121.
(обратно)75
Набоков В. Нежить // Набоков В. (В. Сирин) Указ. соч. Т. 1. С. 30.
(обратно)76
Набоков В. Нежить. Указ. соч. Т. 1. С. 31.
(обратно)77
Там же.
(обратно)78
Гессен И.В. Годы изгнания. Указ. соч. С. 98.
(обратно)79
Гессен И.В. Годы изгнания. Указ. соч. С. 45.
(обратно)80
Эту запись привел в своей книге Б. Бойд. См.: Бойд Б. Владимир Набоков: русские годы. Указ. соч. С. 227–229.
(обратно)81
Набоков В. Стихи. Указ. соч. С. 106.
(обратно)82
Набоков В. Стихи. Указ. соч. С. 107.
(обратно)83
Набоков В. Дедушка. Драма в одном действии // Набоков В. (В. Сирин). Указ. соч. Т. 1. С. 700.
(обратно)84
Там же. С. 702.
(обратно)85
Там же.
(обратно)86
Набоков В. Бритва // Набоков В. (В. Сирин). Указ. соч. Т. 2. С. 528.
(обратно)87
Там же.
(обратно)88
Набоков В. Стихи. Указ. соч. С. 196.
(обратно)89
Блок А. Ночь, улица, фонарь, аптека… // Блок А. А. Полное собрание сочинений и писем: в 20 т. М.: Наука, 1997. Т. 3, С. 23.
(обратно)90
Изгоев А. С. Мечта и бессилие // Классик без ретуши. Литературный мир о творчестве Владимира Набокова. М.: НЛО, 2000. С. 29.
(обратно)91
Изгоев А. С. Мечта и бессилие // Классик без ретуши. Литературный мир о творчестве Владимира Набокова. М.: НЛО, 2000. С. 57.
(обратно)92
Мочульский К. Роман В. Сирина // Классик без ретуши. Указ. соч. С. 31.
(обратно)93
Осоргин М. «Машенька». Берлин: Слово, 1926 // Классик без ретуши. Указ. соч. С. 33.
(обратно)94
Набоков В. Возвращение Чорба // Набоков В. Возвращение Чорба. Рассказы и стихи. Ардис: Анн Арбор, 1976. С. 15.
(обратно)95
Набоков В. Там же. С. 14.
(обратно)96
Айхенвальд Ю. «Король, дама, валет». Берлин: Слово, 1928 // Классик без ретуши. Указ. соч. С. 40.
(обратно)97
Берберова Н. Курсив мой. Автобиография. М.: Согласие, 1996. С. 370–371.
(обратно)98
Адамович Г. О «Защите Лужина» // Классик без ретуши. Указ. соч. С. 55–56.
(обратно)99
Савельев А. Современные записки, книга 40 // Классик без ретуши. Указ. соч. С. 57.
(обратно)100
Адамович Г. Современные записки 2, книга 40 // Классик без ретуши. Указ. соч. С. 57.
(обратно)101
Набоков В. Предисловие к английскому переводу романа «Защита Лужина» («The Defense») // Владимир Набоков: Pro et contra. СПб: изд. Русского Христианского гуманитарного института, 1997. С. 54.
(обратно)102
Набоков В. Память, говори. Указ. соч. С. 564.
(обратно)103
Ходасевич Вл. «Камера обскура». Париж. Современные записки. Берлин. Парабола, 1933 // Классик без ретуши. Указ. соч. С. 107–108.
(обратно)104
Ходасевич Вл. Указ. соч. С. 111.
(обратно)105
Гессен И.В. Годы изгнания. Указ. соч. С. 154.
(обратно)106
Набоков В. Что всякий должен знать? // Набоков В. (В. Сирин). Указ. соч. Т. 3. С. 697.
(обратно)107
Набоков В. Что всякий должен знать? Указ. соч. С. 698–699.
(обратно)108
Адамович Г. Современные записки. Книга 51 // Указ. соч. С. 103.
(обратно)109
Адамович Г. Современные записки. Книга 52 // Указ. соч. С. 103.
(обратно)110
Набоков В. Музыка // Набоков В. (В. Сирин). Указ. соч. Т. 3. С. 591.
(обратно)111
Набоков В. Хват // Набоков В. (В. Сирин). Указ. соч. Т. 3. С. 609.
(обратно)112
Там же. С. 609.
(обратно)113
Там же. С. 610.
(обратно)114
Набоков В. Другие берега. Указ. соч. С. 243.
(обратно)115
Берберова Н. Курсив мой. Указ. соч. С. 366.
(обратно)116
Набоков В. Другие берега. Указ. соч. С. 243.
(обратно)117
Набоков В. Другие берега. Указ. соч. С. 243.
(обратно)118
Берберова Н. Курсив мой. Указ. соч. С. 366–367.
(обратно)119
Закат российской эмиграции во Франции в 1940-е годы. История и память. Под общей редакцией М. Якунина. Париж – Новосибирск, 2012. С. 171.
(обратно)120
Набоков В. Королек // Набоков В. (В. Сирин). Указ. соч. Т. 3. С. 630.
(обратно)121
Набоков В. Королек. Указ. соч. С. 631.
(обратно)122
Набоков В. Королек. Указ. соч. С. 631.
(обратно)123
Там же. С. 638.
(обратно)124
Набоков В. Память, говори. Указ. соч. С. 573.
(обратно)125
Набоков В. Другие берега. Указ. соч. С. 243–244.
(обратно)126
М. Вечер В. В. Сирина // Возрождение. 30 января 1937. № 4063. С. 9.
(обратно)127
Набоков В. Память, говори. Указ. соч. С. 565.
(обратно)128
Ходасевич Вл. О Сирине // Возрождение. 13 февраля 1937. № 4065. С. 9.
(обратно)129
Набоков В. Облако, озеро, башня // Набоков В. (В. Сирин). Указ. соч. Т. 4. С. 582.
(обратно)130
Набоков В. Облако, озеро, башня. Указ. соч. С. 582.
(обратно)131
Там же. С. 583.
(обратно)132
Там же. С. 586.
(обратно)133
Там же. С. 587.
(обратно)134
Набоков В. Облако, озеро, башня. Указ. соч. С. 587–588.
(обратно)135
Бойд Б. Владимир Набоков: русские годы. Указ. соч. С. 515.
(обратно)136
Гуаданини И. Лазурный берег // Гуаданини И. Письма. Мюнхен, 1962. С. 38.
(обратно)137
Бойд Б. Владимир Набоков: русские годы. Указ. соч. С. 585.
(обратно)138
Field Andrew. Nabokov: His Life in Part. NY: McGraw-Hill, 1971. P. 86.
(обратно)139
Набоков В. О Ходасевиче // Набоков В. (В. Сирин). Указ. соч. Т. 5. С. 587.
(обратно)140
Набоков В. О Ходасевиче // Набоков В. (В. Сирин). Указ. соч. Т. 5. С. 588.
(обратно)141
Берберова Н. Курсив мой. Указ. соч. С. 375.
(обратно)142
Набоков В. Слава (1942) // Набоков В. Стихи. Ардис: Анн Арбор, 1979. С. 268.
(обратно)143
Цитаты из романа «Машенька» приводятся по изданию: Набоков В (В. Сирин). Машенька. Ardis: McGraw-Hill edition, 1974. Согласно выбранному издательством формату для удобства чтения цитирование других произведений не сопровождается библиографическими указаниями, за исключением отдельных, труднодоступных изданий.
(обратно)144
См.: Вагнер Ю. Соловей// Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона. СПб, 1900. Т. XXX. С. 780. В дальнейшем данные о соловьях приводятся согласно сведениям названной статьи.
(обратно)145
Sub rosa (лат.) – строго конфиденциально. Согласно легенде, Купидон подарил розу богу молчания и восходящего солнца Гарпократу, чтобы тот не выдавал любовников Афродиты. Выражение sub rosa встречается в английском романе В. Набокова «Bend Sinister» («Под знаком незаконнорожденных»).
(обратно)146
В рассказе «Возвращение Чорба» («Руль». 1925, 12, 13 ноября), созданном в период работы над «Машенькой», Набоков использует прием демонстративного непроизнесения имени ради его сакрализации. Чорб думает о погибшей жене: «…та, которую он никогда не называл по имени, любила ездить на извозчиках».
(обратно)147
Топоров В. Н. Исследования по структуре текста. М.: Наука, 1987. С. 216–217.
(обратно)148
Топоров В. Н. Указ. соч. С. 219–220. См. об этом также: Venčlova Т. The Unstable Equilibrium: Eight Russian Poetic Texts. New Haven, 1985. P. 69.
(обратно)149
«Орхидейного вида женщина», как пародийный образ мещанки, возникает в романе В. Набокова «Бледный огонь»:
«Прибыл. Был встречен пылким мурлыканьем.
Увидел эти голубые волосы, веснушчатые руки,
восхищенный Орхидейный вид – и понял, что попался».
Набоков В. Бледный огонь. Перевод Веры Набоковой. Ann Arbor: Ardis, 1983. С. 57.
(обратно)150
Осязание: о тропинке, по которой гуляла Машенька: «…он знал этот путь на ощупь и на глаз, как знаешь живое тело…»
Зрение: Ганин вспоминает, как он останавливался и «глядел через поля на одну из тех лесных опушек, что бывают только в России, далекую, зубчатую, черную…» Приведенная цитата – перепев блоковских строк из стихотворения, датированного 16 марта 1902 г. «Жизнь медленная шла, как старая гадалка»:
Остановясь на перекрестке, в поле, Я наблюдал зубчатые леса. Но даже здесь, под игом чуждой воли, Казалось, тяжки были небеса.Обоняние: примеры возвращения / вспоминания запахов приведены в тексте.
Слух: Ганин вновь переживает сцену в лодке: «Поодаль ровно шумели шлюзы водяной мельницы…»
Вкус: вспоминая драку с сыном сторожа, Ганин снова чувствует, как «изо рта у него течет что-то теплое, железистое…»
(обратно)151
Путь героя – в Африку – обнаруживает и пародийного двойника Ганина в романе – Колина. Его фамилия прочитывается, в свою очередь, как пародийная отсылка к Николаю Гумилеву, поэту, для которого Африка была не родиной предков, а адресом смелых и экзотических путешествий. 6 мая 1923 г. в «Руле» Набоков напечатал стихотворение «Памяти Гумилева», в котором африканская тема объединяет Гумилева и Пушкина.
Гордо и ясно ты умер – умер, как Муза учила.
Ныне, в тиши Елисейской с тобой говорит о летящем
медном Петре и о диких ветрах африканских – Пушкин.
(обратно)152
Набоков В. В. Пушкин и Ганнибал. Версия комментатора. Пер. с англ. Г. М. Дашевского. // Легенды и мифы о Пушкине: сборник статей под ред. М. Н. Виролайнен. СПб: Академический проект, 1995. С. 5–53.
(обратно)153
Герой романа разъясняет Подтягину: «Меня, правда, зовут Лев, но фамилия вовсе не Ганин». В Приложении Набокова читаем: «Официальным именем крестника Петра I стало Петр Петрович Петров (христианское имя, отчество и фамилия), но в Турции он привык к имени Ибрагим и получил разрешение называться по-русски соответственным именем Абрам или Авраам». (Набоков В. Пушкин и Ганнибал. Версия комментатора. Указ. соч. С. 36.) Фамилию Ганнибал капитан Петров стал носить около 1727 года, после возвращения из Франции. Набоков пишет: «Пушкин совершенно верно галлицизировал взятую фамилию, которую Ганнибал скорее всего вывез в 1723 году из Франции» (там же. С. 37).
(обратно)154
В истории мировой литературы известны два направления обработки сюжета, связанных с розой: мусульманское и западнохристианское. На Востоке особенно широкое хождение получил сюжет о любви соловья и розы. Байрон «пересадил» его в европейские литературы. В частности, под влиянием Байрона Пушкиным написано несколько стихотворений на этот сюжет: см.: «О дева-роза, я в оковах», «Соловей». (Об этом см.: Жирмунский В. Байрон и Пушкин. Л., 1978.) А. Фет с конца 50-х годов много переводил из Гафиза, персидского поэта XIV века. Источником, которым он пользовался, оказалась книга произведений немецкого философа и поэта Г. Ф. Даумера (1800–1875), написанных в «духе Гафиза». Стихотворение «Соловей и роза» Фет написал, однако, ранее, в 1847 г. Другим источником мог послужить «Западно-Восточный диван» Гёте, но там этот сюжет возникает эпизодически и в несколько ином варианте. Таким образом, вполне допустима гипотеза о заимствовании сюжета о любви соловья и розы Фетом непосредственно у Пушкина.
(обратно)155
Стихотворение А. Пушкина «Соловей» опубликовано в Альманахе «Литературный музеум» на 1827 г. Стихотворение «О дева-роза, я в оковах» напечатано в сборнике 1826 г. под названием «Подражание турецкой песне» и с датой: 1820. Дата эта опровергнута положением черновика среди стихотворений, написанных осенью 1824. В 1850 г. стихотворение было положено на музыку А. Даргомыжским. В этом сочинении использован специфический прием, глиссандо, встречающийся в подлинном турецком напеве, запись которого сохранилась в архиве Даргомыжского. Подчеркнутая и поэтом и композитором турецкая природа произведения, к которому восходит центральный образ романа, розы, отзывается в промежуточной остановке маршрута Ганина-Ганнибала – Константинополе / Стамбуле.
(обратно)156
Цитаты из романа «Король, дама, валет» приводятся по изданию: Набоков В. Король, дама, валет. Ardis: Ann Arbor, 1979. Согласно выбранному издательством формату для удобства чтения цитирование других произведений не сопровождается библиографическими указаниями, за исключением отдельных, труднодоступных изданий.
(обратно)157
Эйзенштейн С. Неравнодушная природа // Эйзенштейн С. Избранные произведения в шести томах. М.: Искусство, 1964. Т. 3. С. 37–250.
(обратно)158
Цитаты из романа «Защита Лужина» приводятся по изданию: Набоков В. Защита Лужина. Ardis: Ann Arbor, 1979. Согласно выбранному издательством формату, для удобства чтения, цитирование других произведений не сопровождается библиографическими указаниями, за исключением отдельных, труднодоступных изданий.
(обратно)159
В произведениях Набокова много примеров насмешливого изображения невротических, в частности истеричных, натур, потенциальных клиентов психоаналитиков. Так, в романе «Камера обскура»: беллетрист Дидрих Зегелькранц «нервен и мнителен, страдал редкостными, но не опасными болезнями, вроде сенной лихорадки». Узнав об автокатастрофе, в которую попал его приятель Кречмар, писатель «был теперь в таком состоянии нервного ужаса, что ему казалось, он сойдет с ума. Рукопись свою он разорвал с такой силой, что чуть не вывихнул себе пальцы, по ночам его терзали кошмары: он видел Кречмара с полуоторванным черепом, с висящими на красных нитках глазами, который кланялся ему в пояс и слащаво и страшно приговаривал: “спасибо, старый друг, спасибо”».
(обратно)160
Руднев В. П. Божественный Людвиг. Витгенштейн: формы жизни. Москва: Территория будущего, 2002. С. 97.
(обратно)161
Из небольшого числа работ на эту тему назову книгу G. Green. Freud and Nabokov. University of Nebraska Press, USA, 1988 и статью J. Shute. Nabokov and Freud. In: The Garland Companion to Vladimir Nabokov. N.Y., 1995, pp. 412–420.
Отдельного внимания заслуживает глава «Изысканные щи» в книге Г. Барабтарло «Сверкающий обруч. О движущей силе у Набокова». СПб, 2003. С. 78–90. Барабтарло считает, что Набоков еще в Европе приобрел знания «во враждебной области психоанализа» и «что он пользуется ими во всех романах после “Себастьяна Найта”» (Барабтарло Г. Указ. соч. С. 78). Согласно моей гипотезе, излагаемой в настоящей статье, психиатрия стала одним из источников набоковской поэтики уже в третьем романе русского периода.
(обратно)162
Bleuler E. Dementia praecox oder Gruppe der Schizophrenien. 1911, texte traduit par H. Ey. Paris, 1964, p. 54.
(обратно)163
Bleuler E. Указ. соч. Р. 54–55.
(обратно)164
Кречмер Э. Строение тела и характер. М: Эксмо, 2003.
(обратно)165
Minkowski E. La schizophrénie. Psychopathie des schizoides et des schizophrènes. Paris, 2002. Р. 168–169. Перевод на русский мой.
(обратно)166
Ильф И., Петров Е. Собрание сочинений в пяти томах. М.: Худ. лит., 1961. Т. 2. C. 189.
(обратно)167
Э. Блейлер принял участие в первом психоаналитическом конгрессе в Зальцбурге (1908 г.), но стать членом Международного психоаналитического общества, которое возникло в 1910 году, отказался.
(обратно)168
Французский психиатр П. Жане относил к категории «интеллектуальных чувств» («sentiments intellectuels»), связываемых им с процессом познания и противопоставляемых понятиям аффективности, такие как «чувство новизны», «чувство странности» и «чувство слепоты». На это также обратил внимание Е. Блейлер в работе «Аффективность, внушение, паранойя» (1922, 1-е рус. издание – 1927). М.: Центр психологической культуры, 2001. С. 9.
В русле данной научной традиции лежит одно из современных французских исследований об аутизме, которое называется «Ментальная слепота»: Simon Baron-Cohen. La cécité mentale, Paris, ed. Pug, 1998.
(обратно)169
Jung K. G. Über die zwei Arten des Denkense, Jarbuch für psychoanalytiche und psychopathologische Forschung. 1911, III, p.124. Статья написана по следам революционного труда Блейлера.
(обратно)170
Цитаты из романа «Подвиг» приводятся по изданию: Набоков В (В. Сирин) Подвиг. Ardis: Ann Arbor, NY, Toronto: McGraw-Hill, 1974. Согласно выбранному издательством формату, для удобства чтения цитирование других произведений не сопровождается библиографическими указаниями, за исключением отдельных, труднодоступных изданий. Первоначальный вариант текста этой главы был опубликован в моей книге о В. Набокове «Эшафот в хрустальном дворце» в 1998 г.
* Над переводом «Энеиды» В. Брюсов работал около 30 лет и перевел восемь первых песен. Перевод завершен С. М. Соловьевым и впервые полностью опубликован в 1933 г.: Вергилий. Энеида / Пер. В. Брюсова и С. Соловьева. М.-Л.: Academia, 1933.
(обратно)171
Американский набоковед В. Александров считает, что все творческое наследие Вл. Набокова представляет собой аллюзию на это стихотворение Ф. Тютчева. Alexandrov V. Е. Nabokov’s Otherworld. Princeton, 1991. P. 5.
(обратно)172
Россия. Полное географическое описание нашего отечества. Настольная и дорожная книга под ред. В. П. Семенова-Тян-Шанского. СПб, 1910. Т. XIV: Новороссия и Крым. Статья «Климат». С. 51–64.
(обратно)173
Настольная книга для священно-церковно-служителей. Харьков, 1890. С. 660.
(обратно)174
Настольная книга для священно-церковно-служителей. Указ. соч. С. 575.
(обратно)175
Гаспаров М. Л. Вергилий, или Поэт будущего // Гаспаров М. Л. Избранные статьи. М.: НЛО, 1995. С. 412.
(обратно)176
Вергилий. Буколики. Георгики. Энеида. М., 1971. Энеида. Пер. С. Ошерова. С. 123.
(обратно)177
Вергилий. Энеида. Указ. соч. С. 186.
(обратно)178
Россия. Полное географическое описание нашего отечества. Указ. соч. Т. XIV. С. 756.
(обратно)179
См.: Топоров В. Эней – человек судьбы. М.: Радикс, 1993. С. 106.
(обратно)180
Sunt quos curriculo pulverem Olympicum
Collegisse juvat meta que fervidis Evitata rotis palma que nobilis Terrarum dominos evehit ad deos. (Ad Maecenalem. Ode I. 3–6.)Гаспаров M. Л. Гораций, или Золото середины // Гаспаров М. Л. Избранные статьи. Указ. соч. С. 422.
(обратно)181
См., например: Brunel P. L’Évocation des Morts et La Descente aux Enfers. Homère, Virgile, Dante, Claudel. Paris, 1974.
(обратно)182
The Nabokov – Wilson Letters. N. Y.: Harper/ Row, 1979. P. 96.
(обратно)183
Надеждин H. Литературная критика. Эстетика. М.: Худ. лит., 1972. Отзыв Надеждина приводит и Ю. Тынянов в «Архаистах и новаторах» (Л.: Прибой, 1929. С. 272).
(обратно)184
Цитаты из романа «Камера обскура» приводятся по изданию: Набоков В. Камера обскура. Ардис: Анн Арбор, 1978. Согласно выбранному издательством формату, для удобства чтения, цитирование других произведений не сопровождается библиографическими указаниями, за исключением отдельных, труднодоступных изданий.
(обратно)185
Гейне Г. Избранные произведения: в 2 т. М.: Худ. лит., 1956. Т. 2. С. 70.
(обратно)186
Гессен И.В. Годы изгнания. Указ. соч. С. 105.
(обратно)187
Эйхенбаум Б. «Проблемы киностилистики» // Поэтика кино: сб. М.-Л.: Кинопечать, 1927. С. 35.
(обратно)188
Пиотровский А. К теории киножанров // Поэтика кино Указ. соч. С. 153.
(обратно)189
Вертов Дзига. Статьи, дневники, замыслы. М.: Искусство, 1966. С. 53.
(обратно)190
Цитаты из романа «Приглашение на казнь» приводятся по изданию: Набоков В. Приглашение на казнь. Ardis: Ann Arbor, 1979. Согласно выбранному издательством формату, для удобства чтения цитирование других произведений не сопровождается библиографическими указаниями, за исключением отдельных, труднодоступных изданий. Первоначальный вариант этой главы под тем же названием был впервые опубликован в журнале «Звезда» (№ 11, 1996).
(обратно)191
Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки // Ницше Ф. Сочинения: в 2 т. М.: Мысль, 1990. Т. 1. С. 114.
(обратно)192
Например: «Голо, грозно и холодно было в этом помещении, где свойство “тюремности” подавлялось бесстрастием […] комнаты для ожидающих […] причем ужас этого ожидания был как-то сопряжен с неправильно найденным центром потолка». Условие выдерживается и на уровне маргинальных эпизодов, так, «Родион внес мокрую хрустальную вазу со щекастыми пионами из директорского садика и поставил ее на стол, посередке, – нет, не совсем посередке…»
(обратно)193
Цитаты из романа «Дар» приводятся по изданию: Набоков В. Дар. Ardis: Ann Arbor, 1975. Согласно выбранному издательством формату, для удобства чтения цитирование других произведений не сопровождается библиографическими указаниями, за исключением, отдельных, труднодоступных изданий.
* Перевод Веры Набоковой.
(обратно)194
Ходасевич В. О Сирине // Избранная проза. N.Y., 1982. С. 208.
(обратно)195
Эйзенштейн С. Монтаж // Эйзенштейн С. Собрание сочинений: в 6 т. М.: Искусство, 1964. Т. 1. Тынянов Ю. Об основах кино. М., 1927; Шкловский В. За сорок лет. Статьи о кино. М., 1965; Мейерхольд В. Статьи. Письма. Речи. Беседы. Ч. II: 1917–1938. М., 1968.
(обратно)196
Третьяков С. Теория факта. Новый ЛЕФ. 1928. № 12.
(обратно)197
Третьяков С. Указ. соч. С. 6–7.
(обратно)198
Лотман Ю. В школе поэтического слова: Пушкин. Лермонтов. Гоголь. М., 1988. С. 107.
(обратно)199
Панаева (Головачева) А.Я. Воспоминания. М.: Гослитиздат, 1956. С. 268.
(обратно)200
Шелгунов Н. В., Шелгунова Л. Л., Михайлов М. Л. Воспоминания: в 2 т. М.: Худ. лит, 1967. Т. 1. С. 210.
(обратно)201
Цветаева М. Стихотворения и поэмы: в 5 т. N. Y., 1980. Т. 2. С. 365. О пародийном отклике В. Набокова на цветаевское творчество свидетельствует и другой пример – его стихотворение 1937 года:
Иосиф Красный, – не Иосиф прекрасный…………………. —под которым внизу, в скобках проставлен литературный адресат: «Марина Цветаева, пародия». В кн.: Набоков В. Стихи. Указ. соч. С. 257.
(обратно)202
Кто придет к тебе, будь он, как ангел, светел, Ты прими его просто, будто видел во сне, И молчи без конца, чтоб никто не заметил, Кто сидел на скамье, промелькнул в окне. И никто не узнает, о чем молчанье, И о чем спокойных дум простота. Да. Она придет. Забелеет сиянье. Без вины прижмет к устам уста.У Набокова вместо смерти в светлом облике ее приходят любовь, жизнь, творчество. Эта подмена – разрушение блоковской символики, отказ от юношеского увлечения новой русской поэзией.
(обратно)203
Смирновский П. В. Учебник русской грамматики для церковно-приходских школ. М., 1900.
(обратно)204
Лексикон прописных истин (фр.).
(обратно)205
Ср. например, у Бальмонта стихотворение «Безглагольность». Прием становится признаком описываемого предмета.
(обратно)206
Узнаваемый отсыл к повести Н. Гоголя «Портрет»: «Нигде не останавливалось столько народу, как перед картинною лавочкою на Щукином дворе […] двери такой лавочки обыкновенно бывают увешаны связками произведений, отпечатанных лубками на больших листах, которые свидетельствуют о самородном даровании русского человека […] Всяк восхищается по-своему».
(обратно)207
Заболоцкий Н. Столбцы / Изд. подготовили Н. Н. Заболоцкий, И. Е. Лощилов. М.: Наука, 2016. С. 11–12.
(обратно)208
Лощилов И.Е. Поэтическая книга Н. Заболоцкого «Столбцы». Указ. соч. С. 317.
(обратно)209
Заболоцкий Н. Указ. соч. С. 133–134.
(обратно)210
Заболоцкий Н. Указ. соч. С. 35.
(обратно)211
Указание на сборник В. Ходасевича сделано непосредственно в романе: после самоубийства Яши Чернышевского: «…а в комнате у Яши еще несколько часов держалась жизнь, банановая выползина на тарелке, “Кипарисовый ларец” и “Тяжелая лира”».
(обратно)212
Якобсон Р. Статуя в поэтической мифологии Пушкина // Якобсон Р. Работы по поэтике. М., 1987. С. 157.
(обратно)213
Гейне Г. Избранные произведения: в 2 т. Указ. соч. Т. 2. С. 383.
(обратно)214
Бальмонт имеет в виду поэта Шота Руставели, автора поэмы «Витязь в тигровой шкуре». В своей статье «Руставели» Бальмонт писал: «“Носящий барсову шкуру” – название его поэмы. Это он сам – красивый барс, всегда готовый к меткому прыжку. Это он сам, взявший, как знамя, барсову шкуру, шкуру пантеры, зверя красивого и страшного, неожиданного в своих движениях и умеющего растерзать, – как красива, неожиданна, узорна и всегда порубежна с терзанием любовь». Бальмонт переводил поэму Руставели в течение 1915–1917 гг.
(обратно)



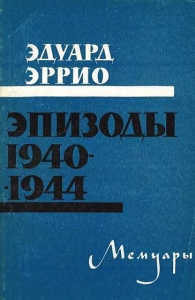
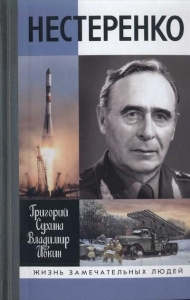

Комментарии к книге «Владимир Набоков. Русские романы», Нора Яковлевна Букс
Всего 0 комментариев