Иван Николаевич Бочаров Юлия Петровна Глушакова Кипренский
Художник-загадка
О люди! жалкий род, достойный
слез и смеха!
Жрецы минутного, поклонники
успеха!
Как часто мимо вас проходит
человек,
Над кем ругается слепой и буйный
век,
Но чей высокий лик в грядущем
поколенье
Поэта, приведет в восторг
и умиленье!
А. С. ПушкинОдна из главных достопримечательностей Флоренции — Понте Веккьо — Старый мост, переброшенный через реку Арно в самом центре этого города, колыбели итальянского Возрождения. Мост и в самом деле старый: считается, что его возвели еще древние римляне на заре нашей эры, после чего он неоднократно перестраивался и свой нынешний вид в основном получил в 1345 году, когда полностью был сооружен из камня.
По средневековым понятиям Понте Веккьо был настолько широким, что часть проезжей полосы по ее обеим сторонам заняли боттегами — лавками, в которых поначалу торговали мясники, а с конца XVI века с согласия великого герцога Тосканского Фердинанда I ими завладели ювелиры, по сей день продающие здесь изделия едва ли не самых искусных в мире флорентийских золотых дел мастеров. Гоголь, писавший «Мертвые души» в Италии, по-видимому, именно на Понте Веккьо нашел деталь, которая так убедительно рисует образ праздномыслящего Манилова, мечтавшего о каменном мосте с лавками, «чтобы в них сидели купцы и продавали разные мелкие товары, нужные для крестьян…».
На середине моста цепочка лавок прерывается и через аркаду можно полюбоваться дивным видом на глядящие в зеркало воды старинные кварталы города, над которыми плывет величавый купол собора Санта Мария дель Фьоре, сотворенный по рисунку великого Брунеллески, и гордо возносит в небо свою главу суровый Палаццо Веккьо, древняя цитадель Флоренции. По левой стороне Понте Веккьо над боттегами и аркадами возведен крытый переход через реку. По нему, не выходя на улицу, можно совершить удивительную прогулку из музея Уффици на правом берегу Арно в расположенный в левобережном районе города другой крупнейший музей, Питти, и заодно познакомиться с развешанной по стенам коридора уникальной коллекцией — принадлежащей Уффици Галереей автопортретов художников. Сотни туристок, часами простаивающих у витрин ювелиров на Понте Веккьо, даже не подозревают, что настоящие сокровища выставлены не здесь, а на верхнем этаже моста, где хранятся автопортреты Рафаэля, Тициана, Рембрандта, Рубенса, Давида, Энгра, Делакруа, Коро и многих других великих мастеров.
В основе богатейшего собрания произведений искусства, украшающих Уффици, лежит коллекция семьи Медичи, представители которой правили Флоренцией в течение трех столетий, считая с первой половины XV века. Начало музею положил еще Лоренцо Великолепный (1449–1492). Он предоставил свое собрание античных статуй в распоряжение молодых художников, изучавших искусство в знаменитых садах Сан Марко, рядом с которыми располагается ныне Флорентийская Академия художеств и ее музей. В музее Академии в специально построенной полукруглой зале стоит прославленный «Давид» Микеланджело, который юношей, так же как и Леонардо да Винчи, учился мастерству на античных шедеврах, принадлежащих семье Медичи.
Со временем коллекция Медичи, включавшая в себя наряду со скульптурой также живописные полотна работы тогдашних итальянских художников, уже не могла вместиться в неприспособленных помещениях и встал вопрос о сооружении специального здания музея. Но в этом, как оказалось, не было необходимости, потому что возводимый рядом с Палаццо Веккьо огромный дворец для административных служб Флорентийской республики (отсюда и название «Уффици», то есть — офисы, конторы, учреждения) не мог быть использован по назначению, поскольку Медичи к тому времени покончили в своем государстве с республиканскими порядками, установив тираническое правление.
Проект палаццо Уффици был разработан Джорджо Вазари (1511–1574), архитектором, живописцем и историком искусства, который обессмертил свое имя среди потомков не только художественными творениями, но и прославленными «Жизнеописаниями» выдающихся мастеров итальянского Возрождения. Грандиозный дворец строгой, торжественной архитектурой должен был подчеркивать величие и свободолюбивые традиции города-государства и центра художественной жизни Италии того времени. Из окон дворца, построенного в форме буквы П и выходящего двумя крыльями к суровой крепостной глыбе Палаццо Веккьо, а легкой аркадой перемычки — к берегам Арно, открывался по мере передвижения по бесконечным коридорам Уффици захватывающий вид на море красных черепичных крыш, над которыми вставали то тут, то там стройные силуэты колоколен и крепостных башен. И все это — в обрамлении изумительного по красоте зеленого ожерелья окрестных холмов, в виду голубого зеркала реки, необъятных далей, в которые уносит свои воды Арно…
Палаццо Уффици, построенный таким образом, что он служил как бы драгоценной рамой для восхитительных картин природы и созданий человека, рукотворных шедевров, был идеальным местом для размещения там коллекции Медичи. Соответствующая перестройка здания была осуществлена уже после смерти Вазари архитектором Буонталенти, но знаменитый коридор длиной около километра, соединивший (для удобства Медичи) палаццо Уффици с палаццо Питти и приютивший со временем Галерею автопортретов художников, был проложен автором первоначального проекта и носит его имя — Вазарианский коридор.
До 1737 года расположившаяся в Уффици коллекция хотя и была открыта для публики, принадлежала герцогам Медичи, пока не пресеклась мужская линия правителей города. После этого по воле сестры последнего великого герцога из рода Медичи Анны-Марии-Лодовики собрание было передано в общественное пользование, «чтобы украсить достойным образом государство, служить на благо публики и привлекать к себе любознательные чужестранцев».
Поначалу собственно музей занимал только верхний этаж одного крыла здания, но с увеличением коллекции он постепенно вытеснял другие учреждения, пока не занял его почти целиком. Однако со временем гигантский комплекс палаццо Уффици стал тесен для огромного количества собранных здесь произведений искусства, и от Уффици мало-помалу стали отпочковываться другие музеи, которые ныне пользуются заслуженной славой и известностью во всем мире: Музей Барджелло, где сосредоточены шедевры пластического искусства эпохи Возрождения, Археологический музей, в который были переданы произведения античного искусства, Музей Академии, Музей монастыря Сан Марко, стены которого были расписаны Фра Беато Анджелико и где также выставлена часть его живописных работ, Музей серебра, собравший произведения ювелирного искусства.
В палаццо Уффици же осталась лишь живописная коллекция и часть античной скульптуры, в том числе знаменитая Венера Медицейская. Галерея автопортретов, как уже говорилось, также была отделена от общей экспозиции и переведена в Вазарианский коридор. В залах Уффици, таким образом, была развернута не имеющая себе равных по богатству и значению в истории мирового искусства выставка шедевров итальянского Возрождения. Ее открывают мастера Проторенессанса — Чимабуэ, Джотто, Дуччо ди Буонинсенья, Симоне Мартини, продолжают великие художники раннего Возрождения — Мазаччо, Пьеро делла Франческа, Поллайоло, Филиппо Липпи, Боттичелли и венчают гении Высокого Возрождения — Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль, Тициан. Ни в одном другом музее не представлено так полно и так исчерпывающе творчество титанов итальянского Возрождения, как в Уффици, где хранятся произведения, без которых невозможно вообразить развитие мировой художественной культуры. Достаточно назвать такие хрестоматийно известные вещи, как «Весна» и «Рождение Венеры» Сандро Боттичелли, «Поклонение волхвов» Леонардо да Винчи, «Святое семейство» Микеланджело Буонарроти, «Автопортрет», портрет папы Льва X и «Мадонна со щегленком» Рафаэля, «Флора» и «Урбинская Венера» Тициана. А рядом с ними в залах Уффици висят сотни творений других выдающихся итальянских мастеров, а также виднейших представителей европейских художественных школ: Дюрера, Кранаха, Хольбейна, Рембрандта, Рубенса, Ван-Дейка. Экспозицию завершают два недавно приобретенных Уффици полотна великого испанского живописца Гойи.
Но это если говорить собственно о пинакотеке — картинной галерее Уффици. А кроме пинакотеки, в палаццо Уффици располагается еще Кабинет графики с его богатейшими фондами, где хранится более 100 тысяч рисунков, гравюр, литографий, выполненных не только мастерами прошлого, но и современными художниками. До наших дней доведена экспозиция и в Галерее автопортретов.
Искусство новейшего времени представлено также и в палаццо Питти, где находится целый комплекс музеев: Галерея Палатина, которая органически дополняет пинакотеку Уффици собранными здесь шедеврами Возрождения (знаменитые «Велата», «Мадонна в кресле» и «Мадонна дель Грандука» Рафаэля, «Магдалина», «Красавица» и другие полотна Тициана и т. д.), Галерея современного искусства, Галерея серебра.
Особым предметом национальной гордости должно быть то, что и в Уффици, и в Питти, и в Галерее автопортретов представлено наше отечественное искусство, имеются произведения русских мастеров. В Уффици это акварельный портрет молодого русского художника Н. М. Тверского (1804–1848) работы Карла Брюллова, несколько рисунков последнего.
Карл Брюллов, живший и работавший в Италии в 1823–1835 и 1850–1852 годах и написавший там свое грандиозное полотно «Последний день Помпеи», которое принесло ему общеевропейскую известность и славу, особой популярностью пользовался именно на «родине искусств». Ученик Брюллова Г. Г. Гагарин, бывший свидетелем триумфа учителя, писал: «Успех картины „Гибель Помпеи“ был, можно сказать, единственный, какой когда-либо встречается в жизни художников. Это великое произведение вызвало в Италии безграничный энтузиазм. Города, где картина была выставлена, устраивали художнику торжественные приемы; ему посвящали стихотворения, его носили по улицам с музыкой, цветами и факелами… Везде его принимали с почетом как общеизвестного, торжествующего гения, всеми понятого и оцененного».
Неудивительно, что произведения Карла Брюллова украшают ныне итальянские музеи и частные коллекции в Милане, Болонье, Флоренции, Риме, Карраре, Неаполе. Портрет Н. М. Тверского, соученика Брюллова по Петербургской Академии художеств, был первой работой русского живописца, попавшей в иностранный музей.
В 1968 году Флоренция приобрела ещё одну работу Брюллова — его большой парадный портрет А. Н. Демидова, украсивший стены Галереи современного искусства в палаццо Питти.
В Галерее автопортретов художников в Уффици у Брюллова, однако, был предшественник из России — его старший товарищ по искусству Орест Кипренский, который к моменту приезда в Италию в 1823 году будущего создателя «Последнего дня Помпеи» покинул эту страну, отправившись через Францию и Германию на родину. Именно на долю Кипренского выпало первому из отечественных живописцев добиться широкого признания в Италии, где его за блистательный талант портретиста величали «русским Ван-Дейком». Он был первым русским художником, избранным членом Флорентийской Академии художеств и удостоенным высокой чести — предложения сделать автопортрет для знаменитой галереи.
Портрет написан, когда его автору было уже под сорок. Но Кипренский изобразил себя моложе своих лет, добиваясь приподнятости и одухотворенности образа. Полотно выполнено в характерной для художника сдержанной тональности, усиливающей романтический пафос картины, ее эмоциональное звучание. Высоко предназначение живописца. Велика и непостижима тайна, позволяющая ему владеть умами и сердцами людей. Исключительна его натура, облеченная этим даром — даром открывать прекрасное. Таковы идеи, которые хотел выразить Кипренский, создавая свой автопортрет, этот обобщенный романтический образ художника-творца, глубоко верующего в великую общечеловеческую миссию искусства.
Портрет с самого начала вызвал восторженные отклики русских собратьев по кисти Ореста Кипренского, видевших в этой работе, помимо ее замечательных художественных достижений, олицетворение успехов русского искусства за рубежом, завоевание им европейского признания. Александр Иванов после посещения Флоренции так писал о своих впечатлениях от осмотра Уффици и ее знаменитой Галереи автопортретов: «В шестой и седьмой зале находятся портреты живописцев великих и средних; далее члены академии флорентийской. Из сих последних — Кипренского нам казался лучшим…»
Еще совсем недавно считалось, что Кипренский оставил нам около полутора десятков своих автопортретов. Постепенно, по мере изучения наследия художника, количество достоверных автопортретов «любимца моды легкокрылой», как называл живописца А. С. Пушкин, было уменьшено более чем наполовину, а в результате последних изысканий (особенно тех, которые, были проведены в связи с подготовкой замечательной юбилейной выставки Кипренского 1982 года) число их вообще сведено до минимума.
Работа из Вазарианского коридора, таким образом, относится к числу немногих дошедших до теперешних дней бесспорных автопортретов художника, который в наших глазах, глазах его далеких потомков, стал одной из самых привлекательных фигур в истории всего отечественного искусства.
Впоследствии предложение написать автопортрет для Уффици получил и Карл Брюллов, но он так и не собрался прислать свою работу во Флоренцию. В Уффици имеются, однако, изображения последующих поколений русских художников и скульпторов: И. Айвазовского, Б. Кустодиева, П. Трубецкого и других. Но они не выставлены и находятся в запасниках.
Время и превратности истории пощадили автопортрет Кипренского и другие произведения нашего отечественного искусства, находящиеся в составе огромного музейного комплекса Уффици — Вазарианский коридор — Питти. Они уцелели и во времена вандализма гитлеровцев, нанесших большой ущерб художественно-историческому наследию Флоренции, и избежали печальной судьбы тех работ, которые хранились в запасниках Уффици и были затоплены во время опустошительного наводнения 1966 года. Среди специалистов, съехавшихся в город на Арно после бедствия, были, кстати, и советские реставраторы, которые вместе с итальянскими коллегами внесли свой вклад в спасение поврежденных водной стихией шедевров живописи и графики.
На обратной стороне холста имеется подпись художника, указана дата и место выполнения портрета: «Oreste Kiprensky di S. Pietroburgo. 1820. Roma» («Орест Кипренский из С. Петербурга. 1820. Рим»). Согласно инвентарным данным портрет был заказан Кипренскому в 1819 году, но поступил в Уффици только шесть лет спустя — в 1825 году. Из этого следует, что Кипренский, написав автопортрет в Риме, не торопился передавать его во флорентийский музей и, направляясь весной 1822 года во Францию, откуда через год с лишним через Германию он проследовал в Россию, взял с собой холст, чтобы показать его на выставках. Но в Париж, где Кипренский экспонировал в Салоне 1822 года картину «Анакреонова гробница» и некоторые другие свои работы, автопортрет, увы, не попал вовремя и не показывался там, хотя был включен в каталог. В Петербурге, куда Кипренский возвратился летом 1823 года, он сразу же устроил в Эрмитаже небольшую выставку, на которой, помимо экспонировавшихся в Париже произведений, были представлены живописный портрет Е. С. Авдулиной и автопортрет. Последний был показан Кипренским и на публичной выставке в Академии художеств в 1824 году. Это, между прочим, и породило позднее легенду о том, что в Италии художник написал два своих автопортрета: один передал в Уффици, второй привез в Петербург. В действительности же речь шла об одной и той же работе, с которой художник хотел познакомить своих соотечественников, прежде чем отсылать ее в Италию. Описание выставлявшегося в Петербурге автопортрета в точности соответствует флорентийскому холсту. Запись в инвентарной книге Уффици о том, что произведение Кипренского поступило в музей только в 1825 году, когда его автор уже два года как жил в Петербурге, подтверждает, что художник прислал картину из России.
Так в наше время разрешилась загадка, связанная со знаменитым автопортретом Кипренского, который был написан для Уффици.
Но вообще Орест Кипренский, которого уже при жизни называли любимейшим живописцем русской публики, по-прежнему во многом остается для нас человеком-загадкой, художником-загадкой, каким он часто был и для своих современников.
Начать хотя бы с того, что долгие годы была неизвестна точная дата его рождения. В первых биографиях Кипренского указывалось, что он родился в 1783 году. Однако уже в наши дни выяснилось, что дату появления на свет «младенца Ореста» сместили на один год, чтобы скрыть факт его «незаконного рождения».
До сих пор неясно происхождение фамилии художника. По одной версии Кипренский — это видоизмененная самим художником фамилия Копорский, которую дали ему при крещении, потому что он родился на мызе Нежинской, близ Копорья, Ямбургского (Ораниенбаумского) уезда Петербургской губернии и крестился в копорской приходской церкви. По другой версии Кипренский значит сын Киприды, античной богини красоты и любви. По третьей — фамилия художника происходит от кипрея, травы, которая в обилии произрастает в тех краях, где Кипренскому было суждено увидеть свет.
Множество загадок связано и с творчеством Кипренского. Не одно поколение исследователей бьется над тем, чтобы отгадать, кого же увековечил Кипренский в блестящей сюите карандашных портретов, которые были созданы им в 1810-х годах и многие из которых до сих пер значатся как изображения неизвестных. Мы все еще не знаем, с кого же написана одна из самых любимых в нашем народе картин — портрет гусара Давыдова: со знаменитого поэта и партизана Дениса Давыдова или же с его двоюродного брата Евграфа?
Или взять такой чрезвычайно интересный вопрос, как Кипренский и Пушкин. Всем известен великолепный портрет поэта, написанный художником по заказу Дельвига в 1827 году. Широкой популярностью пользуется стихотворное послание Пушкина Кипренскому:
Любимец моды легкокрылой, Хоть не британец, не француз, Ты вновь создал, волшебник милый, Меня, питомца чистых муз…«Вновь создал»? Что означают эти слова? Только ли то, что художник воссоздал средствами живописи облик поэта? Или же — что он вновь, еще раз сделал его портрет? А раз так, то должны существовать другие изображения Пушкина, принадлежащие кисти или карандашу Кипренского?..
В биографии Кипренского есть «белые пятна», иногда занимающие несколько лет его жизни. Мы знаем некоторые из созданных им за это время произведений, но почти ничего не знаем о его бытии.
Так, все еще остается не до конца выясненным, что же произошло с Кипренским во время первой поездки в Италию в 1816–1822 годах, когда на него обрушилась опала русского посла в Риме А. Я. Италинского, потребовавшего выдворения художника на родину.
Чем была вызвана эта опала?
Просто неприязнью высокопоставленного чинуши к человеку, поведение которого не совсем вписывалось в жесткие бюрократические рамки, определенные для подданных Российской империи за границей? Или же причины были намного глубже?
Трения с послом возникли в канун итальянских революций 1820-х годов. Это дает основание предполагать, что причиной гонений на художника могло быть его сочувственное отношение к итальянским патриотам, которые боролись за свободу, независимость и единство своей родины. Возможно, что у Кипренского были какие-то контакты с представителями итальянского освободительного движения. Во всяком случае с одним из них — публицистом Урбано Лампреди он встречался после отъезда из Италии в Париж, о чем свидетельствует сделанный с него Кипренским карандашный портрет. Случаен ли был этот эпизод, или он был продолжением тех контактов, которые у художника установились во время пребывания в Италии?
Ответ на эти вопросы можно было бы получить из писем Италинского в Петербург, в которых он излагал причины своего недовольства поведением Кипренского. Но, несмотря на предпринятые исследователями усилия, писем, которые прояснили бы этот вопрос, пока что в архивах обнаружить не удается…
С итальянским периодом жизни и творчества Кипренского вообще связано больше всего загадок. Местонахождение многих созданных там произведений до сих пор не установлено. О его жизни там имеются только отрывочные и весьма противоречивые сведения. В свое время это давало недоброжелателям художника повод для всевозможных измышлений, которые выставляли его в самом неблагоприятном свете. Дело дошло до того, что была пущена в ход жуткая история о Кипренском-убийце, собственноручно, зверским образом будто бы умертвившем свою натурщицу-итальянку. Образ злодея, способного на подобное преступление, совершенно не вязался с Кипренским, славившимся мягкостью нрава, необычайной добротой и отзывчивостью сердца. Очевидная нелепость этого клеветнического навета доказывалась уже тем, что «преступника» в папском Риме с его полицейскими порядками никто не пытался привлечь к ответственности. По словам Кипренского, натурщицу убил ее возлюбленный, отомстивший ей за то, что она заразила его «дурной болезнью», и сам вскоре умерший в больнице. Что так и было, нет никаких сомнений. Однако при всей несуразности эта история испортила немало крови художнику при жизни и легла черной тенью на его память после смерти.
Даже о дате смерти художника, скончавшегося и похороненного в Риме, сохранились разноречивые сведения. Согласно сообщению русского поверенного в делах в Риме П. И. Кривцова Кипренский умер 12 (но новому стилю — 24-го) октября 1836 года. Но на надгробной стеле, установленной в римской церкви Сант’Андреа делле Фратте, где погребен Орест Адамович, указан другой день его кончины — 10 октября 1836 года. Наконец, третью дату назвал пожелавший остаться неизвестным собрат Кипренского по кисти в письме из Рима в Петербургскую Академию художеств, где есть вот такие слова: «Художник, которым столь справедливо мы, русские, гордились, г. Кипренский скончался здесь 5/17 прошедшего октября». Эта дата с тех пор и была принята всеми историками русского искусства как наиболее достоверная.
Русский историк искусства Владимир Толбин двадцать лет спустя после смерти Кипренского опубликовал в газете «Сын отечества» его первую обстоятельную биографию. Толбин писал свою работу, пользуясь как письменными источниками, так и устными свидетельствами людей, которые лично хорошо знали художника. Вот как рисует биограф характер живописца: «Остроумный, веселый, крайне добродушный, беспечный, редко знавший оседлость и не имевший долго постоянной квартиры, бросавший все свои картины, рисовальные принадлежности и вещи повсюду, где только случалось ему жить, и только к своей собственной персоне прилагавший необыкновенное внимание, Кипренский, еще будучи учеником Академии, был известен многими странными выходками, показывавшими, сколько избытка жизни, сколько тревожной деятельности и разнообразия чувств и ощущений таилось в его ребяческой душе».
«Избыток жизни», свойственный молодости, однако, у Кипренского выливался в упорный поиск своего пути в искусстве, занимавшем в юные годы все его помыслы. В раннем альбоме вместе с рисунками-размышлениями, имеющими, как видно, автобиографический характер, мы видим наброски фигуры юноши, который то в сюртуке, цилиндре и с тросточкой в руках сидит, задумавшись, у ручья в парке, под сенью деревьев, то застигнут за рабочим столом с карандашом в руках и листом бумаги с рисунком, но с завязанными глазами. Смысл изображения поясняется словами, которыми художник заполнил все пространство листа вокруг фигуры: «Надобно выбрать самую лучшую и безопаснейшую дорогу из всех человеческих умствований, помощию бы которой, будто как на плоте некоем везен будучи, мог прейти бурю сея жизни».
Казалось бы, чего выбирать, если «дорога» уже выбрана, Академия закончена и шагай себе проторенной тропой к тихой гавани привычных академических званий и почестей, минуя «бурю сея жизни»!..
Но не таков был Кипренский, чтобы удовлетвориться малым, двигаться по колее искусства, наезженной учителями и старшими товарищами по Академии, не дерзнув найти «свою», «лучшую дорогу из всех человеческих умствований». «Наклонность к замыслам, самым фантастическим, самым громадным, — читаем мы у того же Толбина, — показывавшим, в каком необъятном, славном пространстве носились его мечты и какого широкого простора требовало его честолюбие и выражение, не ослабевала в Кипренском до самой… смерти. Во всем, как и в искусстве, проявлялось в нем что-то высшее обыкновенного человека. Казалось, что он желал оставить после себя, на память потомству то только, что недоступно воле и усилиям обыкновенного даровитого смертного. Это, не высказываемое гласно, желание проявлялось во всех его намерениях, проектах и предположениях. Все, однажды задуманное и решенное в душе, Кипренский преследовал упорно, как римский гладиатор, отстаивая однажды занятое им поле до последнего истощения сил, до последней капли теплой крови».
Толбин в подобных суждениях не был одинок и не впадал в чрезмерную субъективность и пристрастие, рисуя в столь привлекательном свете облик своего героя. Он строго следовал фактам и живым свидетельствам, многие из которых, к сожалению, до нашего времени не дошли. Таким, как вот этот отзыв одного из современников Кипренского, приводимый в другой старой биографии художника: «Кипренский принадлежал к небольшому числу наших избранных портретистов и, не без выгоды, может быть сравниваем со многими лучшими иностранными художниками этого рода — тем более что, не будучи слепым подражателем чужих достоинств и создав особенный характер живописи, (он) представляет самобытные стороны. Он имел ум весьма пытливый и склонный к отвлеченным изысканиям, и его горячее воображение, кажется, часто представляло ему возможность решения самых трудных проблем математики и естественных наук. Тогда он с жаром и на долгое время предавался исследованиям, совершенно отвлекшим его от искусства».
Не слишком ли разбрасывался при этом наш художник, учитывая, что подобными увлечениями отмечена вся его жизнь, вплоть до последних дней. С одной стороны, математика и естественные науки, а с другой — занятия литературой почти на профессиональном уровне, о чем сообщает, в частности, Толбин, слова которого, повторяем, имеют для нас ценность свидетельства современника. «…Остается жалеть, — пишет он, — что нет возможности, по отдаленности времени и по неизвестности, у кого находятся драгоценные факты, — представить Кипренского с другой стороны его таланта, — со стороны попыток в поэзии и в литературе, в которых он также испытывал свои силы, вдаваясь то в сатиру, то в элегии, проявляясь то в оде, то в мадригале, подстрекаемый соревнованием к литературным и поэтическим талантам, с которыми он встречался в доме А. С. Шишкова. Кажется, энергической, беспокойной, ничем посредственным и обыкновенным не удовлетворяемой натуре Кипренского было мало одной избранной им арены, пройденной так блистательно; ему хотелось быть повсюду окруженным ореолом славы, и он, в самонадеянии, в сознании своей духовной силы, готов бы был воскликнуть горделиво, как Архимед: Da mihi punctum coelum, terram que move! — Дай мне точку опоры, и я потрясу небо и землю!»
Сходно в этом отношении и мнение уже цитировавшегося современника, который для нас остался неизвестным. Он полагает, что разносторонняя культура Кипренского способствовала самым непосредственным образом его живописным достижениям, включая и его увлечения далекими от искусства специальными дисциплинами вроде математики: «Но в подобном направлении, кажется, можно предполагать и источник характера его живописи. В ней он, особенно в последнее время, как будто искал чего-то нового в механических приемах и хотел в наивозможно тщательной отделке найти новое средство для полного выражения жизни в своих произведениях. Кажется, он предполагал, что эту отделку можно довести до того совершенства, которое совершенно скроет живопись, скроет следы движения кисти, сольет краски в неуловимые переходы оттенков цветов и произведет в картине тот же самый нерукотворный вид, какой имеют предметы в природе. И к этому совершенству живописи, должно заметить, он не шел путем подражания. Создав сам себе задачу, он и предрешал ее по-своему».
Минуло полтора века со дня смерти художника. То, что его современниками воспринималось как неотъемлемые индивидуальные черты Кипренского-человека и Кипренского-художника, в наше время исследователи его жизни и творчества, в свете нового исторического опыта, распространяют на всю романтическую школу русской живописи, видя в Кипренском ее самого яркого и типичного представителя, подчинявшего не только свою кисть, но всю жизнь, быт и поведение в обществе неписаным требованиям этой школы. «Искусство для романтика, для Кипренского, — пишет современный историк искусства В. С. Турчин, — было формой бытия, частью самой жизни. Художник поэтому стремился к эстетическому освоению своей судьбы. Кипренский „художественно“ лепил свою жизнь, подвергался страданиям, кочевал, менял свой облик и фамилию, дарил себя людям и отворачивался от них… Кипренский был личностью романтической, вдохновенно создавшей свою жизнь по тем же художественным законам, по которым он делал свои картины».
И еще слова того же исследователя: «О романтике судили одновременно, и как о талантливом художнике, и как об уникальной личности. И то и то представлялось чем-то необычным. Творческая судьба художника уже у современников превратилась в легенду, в миф. В таком свободном словесном мифологизировании сказалась вся „душа“ романтизма, тянувшаяся к импровизации, выдумке, иногда — к мистификации. Однако в сотворенном образе романтика была не только ложь. В легенде о художнике скрывались представления общества о нем, его обязанностях, цели жизни и характере. И реальные события тонули в домыслах, факты переистолковывались и умышленно забывались. В легендарных биографиях романтиков прощупывается механизм, четко работающий и определяющий основные звенья „сотворенного жития“».
Итак, снова загадка. Был ли Кипренский таким, каким рисуют его первые биографы, писавшие о нем по свидетельствам современников, или же он выдавал себя за некую необычную, полную причуд личность, подстраиваясь под общепринятое представление о художнике-романтике и чуть ли не изобретая всякие напасти с единственной целью — поразить воображение своих почитателей и прослыть среди них этаким демоническим персонажем?
Список подобных вопросов-«загадок», связанных с судьбой Кипренского и его творений, можно продолжать до бесконечности. О них нам придется говорить и в последующих главах, ибо жизнеописание любимого живописца русской публики будет неполным, если мы совершенно отвлечемся от этих загадок, не расскажем о том, как целые поколения исследователей пытались развеять туман легенд, окутывающих по сей день художника, установить подлинные факты, касающиеся его биографии, проследить судьбу его исчезнувших творений, раскрыть тайну, связанную с некоторыми из них. Авторам в ходе повествования нередко придется поэтому отступать от хронологической канвы, делать экскурсы в современность, упоминать о спорных взглядах на искусство Кипренского или на его отдельные произведения, делиться с читателем опытом собственных поисков и находок считавшихся утраченными его картин и рисунков, документов о его жизни.
Таких документов, в особенности писем самого художника, все еще выявлено немного, если вспомнить, что Кипренский легко сходился с людьми, ценил друзей и охотно прибегал к перу в общении с ними. Но зато сохранилось немало свидетельств об окружении живописца, о людях, которых он любил и которые благоволили к нему, а вместе с тем и о его недругах, чьими усилиями были так омрачены многие годы его жизни. В них, доброжелателях и злопыхателях Ореста Адамовича, можно в отраженном свете разглядеть все еще ускользающие от нас детали его характера, его отношение к добру и злу, его мировосприятие. Сохранилось и огромное художественное наследие, изображения сотен современников художника, в которых он запечатлел и свою духовную эволюцию, и свой нетленный духовный портрет.
На мызе Нежинской, близ Копорья
…Люблю песчаный косогор,
Перед избушкой две рябины,
Калитку, сломанный забор,
На небе серенькие тучи,
Перед гумном соломы кучи
Да пруд под сенью ив густых,
Раздолье уток молодых…
А. С. ПушкинДва чувства дивно близки нам,
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
А. С. ПушкинВесна в том году выдалась ранняя, но капризная. Уже с первых мартовских дней небеса расчистились и глядели на землю ласково и приветливо, предвещая скорое обновление природы. Солнце, что ни день, все больше входило в силу, играло зайчиками на стеклах окон, прокладывало густые синие тени в березовом лесу, ослепительно сверкало в снежных покровах. Снег рыхлел, становился пористым, оседал, обнажая занесенные зимними вьюгами пни, но, скрепляемый ночными заморозками, сохранял еще девственную белизну и казался торжественным голубым одеянием, в который принарядилась земля, чтобы встретить наступление весны.
А вечером 12 марта зима опять вступила в свои права. Небо обложило тучами, посыпал сухой, колючий снег, и уже затемно разыгралась метель.
Непогода не остановила жизнь на подворье усадьбы бригадира Алексея Степановича Дьяконова, владельца мызы Нежинской. Там всю ночь в окнах горел свет, метались по двору темные фигуры людей. По вечеру, еще до поземки, из Копорья привезли повивальную бабку, крючконосую высокую старуху, закутанную платками, как кочерыжка капустными листьями. Она пожаловала по приглашению барина принимать роды у его дворовой девки Анны Гавриловой, субтильной миловидной особы.
Родовые схватки, начавшиеся вечером, продолжались всю ночь, и роженица, вконец измученная, разрешилась от бремени только поутру. Тотчас послали сказать барину, что Анна благополучно произвела на свет сына, благо у Алексей Степаныча во всю ночь ни на минуту не погас в комнатах свет: то ли непогода нагнала на бригадира бессонницу, то ли по какой иной причине он не сомкнул в ту ночь глаз. Возвратись от барина, Пелагея, как была, в нагольном тулупе, вся облепленная снегом, так и ввалилась в горницу, обдав холодом роженицу, которая кормила ребенка грудью.
— Барин велел сказывать: вольная тебе и сыну твоему.
По бледному лицу молодой матери ручьем покатились слезы.
— Ревешь-то чего как корова? — удивилась Пелагея. — Счастье какое…
— Так я от радости плачу. Сыночек мой от рождения — вольный человек, счастливо свой век начинает…
Крестили младенца Гавриловой в копорской церкви, где в метрической книге указали, что он — незаконнорожденный ребенок. Наречен он был чудным и мудреным именем: Орест. Имя мальчику придумал сам барин. Мать с дорогой душой назвала бы сына просто Иваном, Ваней, Ванюшкой, но даже намеком не выказала Алексею Степановичу неудовольствия и любила своего первенца Орестушку без памяти.
А через год с небольшим Анну Гаврилову выдали замуж за дворового человека Алексея Степановича Швальбе Адама Карловича, которого все ради удобства произношения именовали Карпычем.
Это было принято среди нашаливших бар — вот так устраивать судьбу предметам своих сердечных привязанностей из крепостных красавиц. Чтобы не ходить за примерами далеко, вспомним хотя бы пушкинского Троекурова: «В одном из флигелей его дома, — повествуется в „Дубровском“, — жили 16 горничных, занимаясь рукоделиями, свойственными их полу. Окна во флигеле были загорожены деревянною решеткою; двери запирались замками, от коих ключи хранились у Кирила Петровича (Троекурова). Молодые затворницы в положенные часы сходили в сад и прогуливались под надзором двух старух. От времени до времени Кирила Петрович выдавал некоторых из них замуж, и новые поступали на их место».
Иной была судьба воспитательницы дочери Троекурова Маши, мамзель Мими, которой «Кирила Петрович оказывал большую доверенность и благосклонность и которую принужден он был наконец выслать тихонько в другое поместие, когда следствия сего дружества оказались слишком явными. Мамзель Мими, — сообщается далее в „Дубровском“, — оставила по себе память довольно приятную. Она была добрая девушка и никогда во зло не употребляла влияния, которое видимо имела над Кирилом Петровичем, в чем отличалась она от других наперсниц, поминутно им сменяемых. Сам Кирила Петрович, казалось, любил ее более прочих, и черноглазый мальчик, шалун лет девяти, напоминающий полуденные черты m-lle Мими, воспитывался при нем и признан был его сыном, несмотря на то, что множество босых ребятишек, как две капли воды похожих на Кирила Петровича, бегали перед его окнами и считались дворовыми».
Алексей Степанович Дьяконов в этом отношении тоже был истинным сыном своего времени, хотя от пушкинского Троекурова, никогда не читавшего ничего, кроме ученого труда «Совершенная повариха», его отличало, судя по всему, более глубокое знакомство с плодами просвещения, что и выразилось, в частности, в изобретении экстравагантного имени для сына Анны Гавриловой. Однако не в пример Троекурову Дьяконов в дом к себе новорожденного Ореста не взял, даже когда он подрос, и мальчик воспитывался вместе с детьми супругов Швальбе. Мать Ореста имела еще пятерых отпрысков, из коих трое померли в младенчестве, а двое выжили: сын Александр (пошедший по стопам старшего брата, окончивший тоже Петербургскую Академию художеств и ставший архитектором), который погиб в войну со Швецией, и дочь Анна, пережившая старшего брата.
Помещик, который был «поручителем по жениху и невесте» на венчании своих дворовых людей Анны Гавриловой и Адама Швальбе, состоявшемся 30 июня 1783 года, распорядился их детям давать вольную при рождении, а самого Швальбе освободить от крепостного состояния по его, Дьяконова, смерти, что в точности и было исполнено наследником Алексея Степановича Г. И. Жуковым, который приходился владельцу мызы Нежинской двоюродным братом. Своей семьи и других наследников у А. С. Дьяконова, как видно из этого, не было.
Собственно, этим и исчерпывается то, что мы знаем о А. С. Дьяконове. Чин у него был немалый. Бригадир в те времена означал переходную ступеньку от полковника к генералу. Этот чин носил герой одноименной комедии Фонвизина, а также другой не менее известный нам литературный персонаж — отец пушкинских Татьяны и Ольги Лариных, о котором поэт сообщает на страницах «Евгения Онегина»:
Он был простой и добрый барин, И там, где прах его лежит, Надгробный памятник гласит: Смиренный грешник, Дмитрий Ларин, Господний раб и бригадир, Под камнем сим вкушает мир.Вместе с вольной по смерти хозяина Адам Швальбе получил у нового владельца мызы должность приказчика, что тоже, видимо, было определено еще А. С. Дьяконовым, проявившим заботу о судьбе приемного отца незаконнорожденного Ореста. Александра, второго сына, Адам Швальбе определил в 1800 году в Академию художеств, как свидетельствуют дошедшие до нас документы, уже будучи свободным человеком. К тому времени А. С. Дьяконова, следовательно, уже не было на свете.
Впрочем, сведений об Адаме Карловиче Швальбе, у которого Орест Кипренский воспитывался в раннем детстве, до нашего времени тоже дошло очень мало. Мы не знаем ни дат его рождения и смерти, ни того, как он, судя по фамилии (Швальбе по-немецки означает «ласточка») не русский человек, оказался в крепостной зависимости. Главный «документ», который нам оставила история, — живописный портрет А. К. Швальбе, написанный Кипренским в 1804 году, то есть много времени спустя после того, как он покинул родительский кров. На портрете мы видим могучего «рембрандтовского» старца с посеребренной головой, который твердо сжимает посох правой рукой, точно собираясь в гневе вонзить его в пол. Видим крутой излом бровей, крепко сжатые, несколько мясистые губы, пристальный взгляд глубоких, темных глаз.
О таких лицах во времена Кипренского принято было говорить, что они носят следы пережитых страстей. Однако А. К. Швальбе был крепостным человеком, а крепостным в силу их подневольного состояния не полагалось иметь ни страстей, ни мыслей. Но в том-то и дело, что по всему своему облику Адам Швальбе на портрете Кипренского совсем непохож на крепостного человека в силу глубокой одухотворенности созданного художником образа. Он вообще непохож на современника художника, а кажется пришельцем из эпохи и краев Рембрандта, Рубенса и Ван-Дейка. Недаром, когда Кипренский, спустя четверть века, показывал изображение Швальбе на выставке в Неаполе, местные авторитеты обвинили русского живописца в подлоге, приняв его работу за произведение одного из старых фламандских мастеров. Кипренскому удалось доказать перед лицом неаполитанских знатоков свое авторство, но он никогда никому так и не открыл, почему изобразил дворового человека русского помещика А. С. Дьяконова в обличье некоего голландского бургомистра семнадцатого столетия. Художник ограничился языком своей кисти, противопоставив цельным, законченным образам старых фламандских живописцев совсем иной образ. Образ человека, действительно родившегося с сильным характером, с сильными страстями и волей, с бурным темпераментом, но изломанного, искалеченного подневольной жизнью. Лицо Швальбе дышит энергией только с первого взгляда, пока не разглядишь горьких складок в уголках рта, не почувствуешь глубокого беспокойства в отводимых в сторону глазах, не заметишь набежавших на края век слез. И тогда только становится ясно, что твердо сжатый посох — это всего лишь театральный жест, придуманный художником, чтобы еще больше подчеркнуть главную мысль портретного образа. Посох не ударит с силой об пол, не разломится от гневной выходки этого еще крепкого физически человека, потому что обстоятельства жизни не дали проявиться его могучей натуре, обрекли его на неодолимую рефлексию, которая и составляет отныне главную черту характера портретируемого…
Кипренский не оставил нам воспоминаний о своем детстве и семье, в которой он провел первые годы жизни, которую навещал и в ученическую пору, и после окончания Академии художеств, не касался этих вопросов в переписке, не сохранил портретных набросков своей матери, сестер, брата. Может быть, правда, эти портреты и дошли до нас, но по-прежнему не определены и пребывают в числе изображений неизвестных лиц, способствуя живучести легенды о художнике-загадке, в биографии которого все, начиная с тайны рождения, — сплошные «белые пятна». Вот почему так важен портрет А. К. Швальбе, сообщающий нам если не бытовые детали, связанные с семьей Анны Гавриловой, матери Кипренского, то психологическую атмосферу, в которой сделал первые шаги в жизни будущий великий русский художник.
Нелегко приходилось Адаму Швальбе налаживать семейную жизнь с бывшей любовницей помещика, понесшей от него чадо, заводить с нею детей, тотчас после появления на свет становившихся свободными, каким был и ее первенец, Орест, пасынок Швальбе. Нетрудно представить, каким грузом давила на него ненавистная крепостная зависимость от «благодетеля», обещавшего только после своей кончины даровать и ему, как мужу Анны, долгожданную свободу. А пока же малейшее непослушание, нечаянно брошенное слово (где живет дворня — стены с ушами), даже слишком смелый взгляд, вырвавшийся из-под контроля и способный показаться дерзким Алексею Степановичу, грозили разрушить семейное благополучие и давно лелеемую мечту о воле.
Оресту Кипренскому, которому в 1804 году исполнилось лишь 22 года, удалось создать в образе Адама Швальбе, как говорят теперь, подлинно программное произведение, то есть написать картину, не только верно передающую внешние черты изображенного, но и провозгласить в ней настоящий манифест романтического портретного искусства, родившегося на рубеже нового столетия. Художнику невозможно было бы так проникнуть в душевные тайники портретируемого, если бы между ним и Швальбе давным-давно не установилось сердечное согласие, если бы отчим не питал к своему пасынку поистине отеческих чувств, если бы он отделял от своих родных детей отпрыска барина…
А что же Дьяконов? Неужто его влияние так никоим образом и не сказалось на духовном становлении сына, будущего славного российского художника, на отношение последнего к миру и людям? Нет, это, по-видимому, не так. Орест Кипренский хоть и не был взят в барский дом, не разделил судьбу босоногих чад Троекурова, произведенных на свет его крепостными наложницами. Он с самого начала был отличен от остальной дворни вольной. И, надо сказать, не только этим. У А. С. Дьяконова, как и у всех просвещенных русских дворян того времени, наверное, была хорошая библиотека, наверное, стены его дома украшали гравюры с работ старых мастеров, а может быть, даже и живописные полотна. Вспомним описание интерьера сельского дома Евгения Онегина, оставленного ему богатым дядей:
Везде высокие покои, В гостиной штофные обои, Царей портреты на стенах, И печи в пестрых изразцах.И уж, во всяком случае, у Алексея Степановича на стенах дома могли висеть живописные изображения предков, как даже у мелкопоместного дворянина Андрея Гавриловича Дубровского. Возьмем опять Пушкина и прочтем описание обстановки бедного дома владельца Кистеневки: «И глаза его (молодого Дубровского) неподвижно остановились на портрете его матери. Живописец представил ее облокоченную на перила, в белом утреннем платье с алой розою в волосах».
Даже совсем скромный дом коменданта Белогорской крепости, как мы знаем, украшали «лубочные картинки, представляющие взятие Кистрина и Очакова, также выбор невесты и погребение кота».
По всей вероятности, именно в барском доме при виде таких вот портретов или старых гравюр и вспыхнула первая искра художественного влечения во впечатлительном мальчике, которая не была оставлена без внимания наблюдательным барином и определила выбор им Академии художеств для воспитания прижитого с крепостной сына.
Вместе с картинами чувство прекрасного в мальчике развивала окружавшая Нежинскую роскошная природа: подступавшие прямо к околице леса, темные, таинственные, дышащие влагой, глухо шумящие в непогоду и еле слышно перешептывающиеся листвой в жаркие летние дни. Уже известным художником, будучи в Нежинской, Кипренский сделал массу альбомных зарисовок с натуры. Рисунки дошли до наших дней. Они позволяют нам перенестись в родные места художника, представить себе людей, среди которых проходило его детство: пахаря, идущего за плугом, рыбаков, расположившихся на берегу реки, пастуха со стадом коров, дворовых ребятишек, подростков, деревенских баб.
На одном из рисунков Кипренский изобразил окно избы, в которой он, по-видимому, провел первые годы жизни, на других — вид из окна на двор с частоколом, окружающим его, бревенчатыми хозяйственными постройками, с людьми, занятыми каждый своим делом. Мужик колет дрова, баба, нагнувшись, вытряхивает сито, две других крестьянки стоят у загородки перед загоном для скота, тут же прохаживается хохлатка с цыпленком.
Художник передает неторопливое течение сельской жизни не как холодный, сторонний наблюдатель, собирающий этнографические подробности местного быта, а как заинтересованный участник ее, которому дороги эти места и эти люди, ибо среди них он вкусил и первые радости бытия, и познал первые горести жизни, увидел неописуемую красоту мира и испытал на себе несовершенство устройства человеческого общества.
Он тут свой среди своих, среди родной природы, и потому его зарисовки немудреных сцен сельской жизни проникнуты таким тонким поэтическим чувством, а беглые портретные наброски с крестьянских подростков и девушек сделаны с таким удивительно сочувственным отношением к их внутреннему миру, который был близок, понятен и дорог художнику как часть и его мира, и его жизни. Это — зарисовки-размышления Кипренского о своих земляках и о себе, об их и своей судьбе, о нелегкой доле крепостных людей, из которых вышел и он сам. Рисунки, как обычно, чередуются отрывочными записями мыслей художника, и на одном из листов альбома мы читаем слова, которые не могли не быть навеяны судьбою его матери и отчима: «Отцу и матери… приказывал за то, что не соглашалась бедная невеста рабыня с ними барами…»
С возрастом и опытом жизни все понятнее становилось то, что бессознательно ранило детскую душу и что до поры до времени не находило себе объяснения. Двусмысленное, унизительное положение отца, Адама Карловича, или же Карповича, Швальбе, который, сам оставаясь крепостным, был главой семейства, формально свободного от подневольного состояния, но на деле тоже влачившего рабское существование. Бесцеремонное поведение барина, который вмешивался в судьбу Ореста, не считаясь с волей его матери и отныне — перед людьми — отца Адама Швальбе. Кипренский знал всегда, что крепостные — такие же люди, как и их господа, что им не чужды те же человеческие страсти, что и дворянам, что они видят тот же мир, радуются теми же радостями, терзаются теми же печалями, что и все. Мужчины также страдают от униженной гордости, женщины также плачут от обиды. Крестьянские мальчишки так же задиристы, а девочки так же стыдливы, как и их сверстницы из «благородных» сословий. Орест доказывал это своей кистью, своим карандашом, из-под которых впервые в истории русского изобразительного искусства вышли образы людей из народа не как этнографические типы, а как живые люди, — все эти Петрушки-меланхолики, Андрюшки и Моськи, отличающиеся от господских детей только одеждой и прическами, но не мироощущением…
Академические годы
В те дни, когда мне были новы
Все впечатленья бытия —
И взоры дев, и шум дубровы,
И ночью пенье соловья, —
Когда возвышенные чувства,
Свобода, слава и любовь
И вдохновенные искусства
Так сильно волновали кровь…
А. С. ПушкинДетство Кипренского в окружении семьи кончилось, когда ему исполнилось только шесть лет. Теплым майским утром 1788 года Алексей Степанович посадил мальчика в свою походную бричку и отправился в Петербург. К этому событию Дьяконов и подготовил документы, которые должны были скрыть факт «незаконнорожденности» Ореста. В свидетельстве о рождении мальчика, подписанном священником копорской церкви, говорилось:
«Я, нижеподписавшийся, сим свидетельствую, что показанной Орест Кипрейский родился в 1783 г. марта 13 числа, а крещен мною в Ораниенбаумском уезде в Копорской соборной церкви Преображения Господня, да я же был ему и восприемник; в чем и подписываюсь Копорского Преображенского собора священник Петр Васильев».
А в заявлении в Академию художеств, написанном рукою Алексея Степановича и подписанном Швальбе, было сказано: «Я, нижеподписавшийся, отдаю добровольно в воспитательное при Академии художеств училище на основании Академического устава сына моего законнорожденного Ореста Адамова сына Кипрейского, которому от рождения в начале шестой год, с тем, что до истечения предписанного в уставе урочных лет срока, ниже на время, для каких бы то ни было причин требовать не буду; а о точном времени его рождения и крещения при сем свидетельствует Ораниенбаумского уезда священник. Оспа на нем была».
Здесь же Адам Швальбе сообщает, что хотя он сам — крепостного состояния, сын его — свободный человек, и посему препятствий для его приема в Академию нет:
«…Я сам крепостной дворовый человек господина бригадира Алексея Степановича Дьяконова, который после смерти своей дал мне и семье моей вечную свободу, а детям пожаловал вольность при самом их рождении. Итак, сей мой сын Орест Кипрейский есть совершенно свободный и в достоверность сего и помянутый господин… изволит своей рукой подписать и утвердить милостивое свое дарование свободы: мне с женой по его смерти, а сыну моему Оресту и другим родившимся и впредь рожденным детям с самого часа их рождения. К сему объявлению Адам Карпов руку приложил».
В записке А. С. Дьяконова сказано:
«Сие объявление в И(мператорскую) Академию Наук крепостным моим человеком Адамом Карповым подающееся об отдаче для воспитания сына его Ореста Кипрейского засвидетельствую и утверждаю, что оный Адам Карпов с женою ево после смерти моей имеют быть вечно вольными и свободными, а дети ево, как рожденные, так и впредь родившиеся с самого их рождения суть вольны и свободны навеки; а в числе их и помянутый Орест Кипрейский. В чем ему, Адаму Карпову, дано от меня особливое увольнительное письмо, утвержденное моею гербовою печатью, которую я и здесь прилагаю.
В 16 мая 1788 года. Бригадир Алексей Дьяконов».
Так незаконнорожденный отпрыск А. С. Дьяконова официально стал законнорожденным дитятей А. К. Швальбе, так возраст отпрыска был уменьшен на один год, и так впервые в документах появилась фамилия Кипрейский (со временем видоизмененная в «Кипренский»), о которой в академических протоколах записали, что она — ни больше ни меньше — принята по желанию самого пятилетнего мальчика…
По пути Орест не мог оторвать глаз от дороги, петлявшей по зеленым холмам, от глухих сосновых боров, через которые проходил путь, серебряных нитей речек и ручейков, которые открывались взору по мере того, как солнце и ветер разгоняли туман, стлавшийся по низине. Но эти привычные глазу картины вмиг вытеснил Петербург с его огромными домами, поднимавшимися до самого неба, с множеством нарядных людей, гулявших по улицам, всадников, экипажей, с многомачтовыми кораблями на широкой, как море, Неве.
Бричка подкатила к одному из самых огромных домов, какие они видели в городе, строгой и в то же время торжественной архитектуры. Своим главным фасадом, украшенным колоннами и статуями, дом выходил на Неву, воды которой плескались почти у самого входа. Дьяконов взял робеющего мальчика за руку и вступил с ним под своды величественного здания с надписью по фасаду «Свободным художествам», в стенах которого Оресту суждено было провести целых 17 лет.
Началась новая жизнь нежинского отрока Ореста Адамовича Кипренского-Швальбе, его долгий и многотрудный путь к российской и европейской славе.
Петербургская Академия художеств была первым русским учебным заведением, призванным готовить своих, отечественных изящных дел мастеров взамен чужеземных, заполонивших просторы Российской империи. С идеей учреждения Академии выступил видный елизаветинский вельможа Иван Иванович Шувалов (1727–1797), соученик А. В. Суворова, друг и покровитель М. В. Ломоносова, горячо радевший о плодах просвещения в России.
После основания Московского университета И. И. Шувалов вошел в Сенат с новым предложением, в котором писал: «Когда… науки в Москве приняли начало… чтобы оные в совершенстве приведены были, то необходимо установить Академию художеств, которой плоды, когда приведутся в состояние, не только будут славою здешней империи, но и великою пользою казенным и партикулярным работам, за которые иностранные (мастера) посредственного звания, получая великие деньги, обогатясь, возвращаются, не оставя по сие время ни одного русского ни в каком художестве, который бы умел что делать». А между тем, продолжал свой доклад просвещенный и патриотически настроенный вельможа, «есть многие молодые люди, которые, имея великую склонность, а более природное дарование, но не имея знания в иностранных языках, почему толкование своего мастера бы разумели, а еще меньше основания наук, необходимых к художеству». А посему, заключал И. И. Шувалов, «если Правительствующий Сенат опробует представление об учреждении Академии, можно некоторое число взять способных из (Московского) университета учеников, которые уже и определены учиться языкам и наукам, принадлежащим к художеству, то ими можно скоро доброе начало и успех видеть. Сия Академия будет учреждена здесь, в Санкт-Петербурге, по причине, что лучшие мастера не хотят в Москву ехать, как в надежде иметь от двора работы, так и для лучшего довольствия иностранных (мастеров) здешней жизнью».
Постановление Правительствующего Сената от 6 ноября 1757 года по этому делу гласило: «Приказали означенную Академию художеств здесь, в С.-Петербурге, учредить, а на каком основании оная быть может, имеет о том генерал-порутчик и Московского университета куратор и кавалер Шувалов подать в Правительствующий Сенат проект и штат; а ныне на первые годы по вышеписанному требованию на содержание учителей и помянутого дома 6000 р. отпустить…»
Так родилась Петербургская Академия художеств, которая воспитала блестящую плеяду отечественных мастеров, гордость русского искусства: зодчих В. И. Баженова, И. Е. Старова, А. Д. Захарова, ваятелей Ф. И. Шубина, М. И. Козловского, И. П. Мартоса, живописцев Ф. С. Рокотова, О. А. Кипренского, С. Ф. Щедрина, К. П. Брюллова, А. А. Иванова, И. Н. Крамского, И. Е. Репина, В. И. Сурикова…
Первое время ее полновластным руководителем в роли куратора был сам Иван Иванович Шувалов, с присущей ему энергией взявшийся за претворение в жизнь замыслов об основании художественного образования в России. Занятия в Академии начались уже в 1758 году.
Первых слушателей набрали среди учеников гимназии при Московском университете, проявивших склонности к изящным искусствам. Помещения для занятий Шувалов предоставил в своем собственном петербургском доме. Этим не исчерпывался материальный вклад куратора в обеспечение условий для нормального функционирования Академии. Он подарил Академии свою великолепную картинную галерею из 104 картин, среди которых были шедевры Рубенса, Иорданса, Остаде, Ван-Дейка, Рембрандта, Тинторетто, Лотто, Веронезе, Гверчино, Перуджино, Греза, Пуссена и других первоклассных мастеров. Благодаря этому ученики Академии с первых же своих шагов общались с произведениями корифеев мирового искусства, воспитывая вкус и расширяя кругозор. Учащиеся также свободно могли знакомиться и с коллекциями Эрмитажа. Академическая художественная галерея постоянно росла за счет других пожертвований, в результате чего к 1770 году в собрании Академии художеств было уже 337 картин, 7728 рисунков, множество «антиков» — обломков древних мраморных статуй и барельефов, а также гипсовых слепков с памятников античного ваяния.
Вначале Академия, когда ею управлял еще И. И. Шувалов, формально числилась при Московском университете. При новой императрице Екатерине II Шувалов впал в немилость и вынужден был от греха подальше отсиживаться в чужих краях. Жил сначала в Вене и Париже, потом в Лондоне, а затем целых восемь лет в Риме. За границей И. И. Шувалов общался с тамошними знаменитостями, встречался с Вольтером, с которым (как и с Гельвецием) переписывался еще с 50-х годов, пересылая фернейскому мудрецу материалы для его «Истории Петра Великого», в Риме закупал для Академии художеств слепки с прославленных античных статуй, а также картины старых мастеров для Эрмитажа. Между этими делами он выполнил одно деликатное дипломатическое поручение императрицы в сношениях с Ватиканом, чем завоевал благорасположение Екатерины II, и смог вернуться на родину, где по сему случаю Г. Р. Державин сочинил «Эпистолу И. И. Шувалову на прибытие его из чужих краев».
Его возлюбленные чада — Московский университет и Петербургская Академия художеств — тем временем росли и крепли в силах. Александр Филиппович Кокоринов, который еще при И. И. Шувалове был назначен директором Академии, разработал проект нового грандиозного здания, приличествовавшего своей величавой архитектурой «гнезду высоких художеств», и теперь полным ходом в Петербурге шло возведение этого храма искусств.
Преемником И. И. Шувалова стал в 1763 году Иван Иванович Бецкий, принявший должность президента Академии, в которой он состоял более 30 лет. Он прожил долгие годы во Франции, вращался там в кругу энциклопедистов, воспринял их педагогические идеи, направленные на воспитание «новой породы людей». Бецкий собрал огромную коллекцию рисунков в числе более семи тысяч, которую передал Академии художеств.
При И. И. Бецком Академия обрела окончательную структуру и формы высшего художественного института, готовившего отечественных мастеров живописного, скульптурного и архитектурного дела.
На первых порах художествам в Академии обучали исключительно профессора-иностранцы, которых лично подбирали сначала И. И. Шувалов, а затем И. И. Бецкий главным образом во Франции. Лишь постепенно наряду с чужеземными специалистами к преподаванию стали привлекаться русские мастера из числа питомцев самой Академии.
Немалые трудности встретились и при наборе отроков с задатками художественных способностей. 38 учеников, которые числились в Академии в мае 1758 года, были набраны из числа гимназистов Московского университета и некоторых других мест, а потом И. И. Шувалову пришлось выискивать способных к художествам юношей буквально по одному, проявляя при этом редкое чутье на таланты. В архиве Академии сохранились документы И. И. Шувалова, в которых он, например, обращается в контору строений Зимнего дворца с просьбой отпустить в Академию плотника С. Соколова, показавшего себя искусным в чертежном деле, в канцелярию Семеновского полка относительно солдата М. Кунавина, «который в резном художестве искусен», в Царское Село с требованием прислать способного в лепном деле Гр. Стригуцкого…
Однако такая практика не могла обеспечить постоянный приток в Академию нужного числа учеников, и тогда возникла идея создания Воспитательного училища, призванного наряду с общеобразовательной подготовкой давать детям начатки художественных навыков для дальнейшего развития их в самой Академии художеств. Идея эта была осуществлена уже при И. И. Бецком в 1764 году, когда и было основано Воспитательное училище, куда принимали детей пяти-шести лет.
При Бецком же был выработан и в 1764 году утвержден устав Академии художеств. Устав пришел на смену шуваловскому «Регламенту», на основе которого функционировала первые годы Академия, но который не получил узаконения. Принципиальной разницы между двумя этими документами не было. Шувалов разрабатывал свой «Регламент», опираясь на опыт подобных Академии художеств зарубежных учреждений, а также на положения документов, определявших деятельность Академии наук и Московского университета. В силу этого устав Академии художеств имел целый ряд передовых по тому времени узаконений. Ее выпускники вместе со своими потомками получали право навечно быть свободными, без ведома Академии запрещалось их держать под стражей, судить. В стенах Академии запрещались телесные наказания.
И вместе с этим устав Академии оставил в силе шуваловское правило о запрещении принимать в заведение крепостных. Правда, этот пункт устава длительное время не соблюдался, и отдельные выходцы из подневольного сословия проскакивали все же сквозь частое сито сословных ограничений и попадали в стены Академии, но то было исключение, а не правило. В основном же в Академии учились дети разночинцев: солдат, чиновников, мастеровых, ремесленников и т. д.
Те же принципы действовали и при наборе в Воспитательное училище. В наборе 1788 года, когда в Академию был записан Орест Кипренский, 27,5 процента учащихся составляли дети чиновников, 25,8 процента — дети слуг и других лиц наемного труда, 13,9 процента — дети ремесленников и мастеровых, 10,3 процента — дети офицеров. Детей крепостных не было ни одного, вольноотпущенников — 1,6 процента. Учитывая, что в 1788 году было принято 62 ученика, то 1,6 процента от них как раз и составлял шестилетний вольноотпущенник «Орест Адамов, сын Кипрейский».
И. И. Бецкий заботился о налаживании прочных связей Академии с родственными ей европейскими художественными институтами, для чего направил за границу письма, в которых сообщал об учреждении в России учебного заведения «трех знатнейших художеств», излагал его задачи и просил о покровительстве его ученикам, коих Академия намеревалась посылать в «чужие земли» для усовершенствования мастерства. Такое письмо за подписью И. И. Бецкого сохранилось, в частности, в архиве Римской Академии Сан Лука.
Было определено 12 пенсионерских мест для трехлетней заграничной стажировки, преимущественно в Италии и Франции, что дало возможность пройти школу европейского искусства многим десяткам пенсионеров, среди которых — имена художников, скульпторов и архитекторов, внесших впоследствии выдающийся вклад в развитие «отечественных художеств»: А. П. Лосенко, И. П. Мартоса, М. И. Козловского, А. Д. Захарова, Ф. Ф. и С. Ф. Щедриных, А. П. и К. П. Брюлловых, А. А. Иванова и многих других.
И. И. Бецкий в организации педагогической системы в Академии следовал указаниям просветителей о путях воспитания «новой породы людей», которым «сочувствовала» и сама императрица Екатерина II. При этом он исходил из того, что «везде люди таковы, какими владыки мира заставляют их быть», и, почитая благонравие оплотом трона, объявлял главной целью новой педагогической системы воспитание именно этого качества в людях, ибо, провозглашал он, «честный человек есть добрый гражданин, а добрые граждане суть твердая ограда царства».
Дабы же «новая порода людей» уже в малолетстве не набралась дурных примеров в окружающей жизни, И. И. Бецкий распорядился «во все их (учеников) время пребывания в Академии никогда не давать им видеть и слышать ничего дурнова». А коли так, то было решено всеми мерами изолировать учащихся Академии от живой жизни. В 1772 году Совет Академии с этой целью постановил, чтобы «учеников и воспитанников ни под каким видом одних из Академии не отпускать, а разве под смотрением господ профессоров и учителей или с билетом, подписанным его превосходительством господином президентом». Вот чем было вызвано обязательство Адама Швальбе при определении Ореста в Академию «до истечения предписанного в уставе урочных лет срока, ниже на время, для каких бы то ни было причин», не требовать его обратно даже на короткий срок. Такое обязательство давали все родители воспитанников.
Но отгородиться от жизни было невозможно, и система воспитания «новой породы людей» в Академии скоро стала трещать по всем швам. К тому же И. И. Бецкий, страдавший галломанией, недостаточно ценил национальный элемент в воспитании учащихся, вольно или невольно пытался их офранцузить. Да и как могло быть иначе, если питомцы Воспитательного училища одно время были доверены не подготовленным к этому учителям и гувернерам-французам, возглавляемым неким Жаном-Мари Кювилье, который, прежде чем явиться на педагогическом поприще, состоял «красильщиком шелка во всякий цвет» при Петербургской шпалерной мануфактуре. Как тут опять не вспомнить «Дубровского» и одного из его героев, а именно французика Дефоржа, который был мастером по кондитерской части, но по прибытии в Россию заделался учителем, потому что увидел, что в этой стране звание учительское не в пример выгоднее. Равно как и мосье Бопре, который в своем отечестве был парикмахером, а в России был призван учить дворянского недоросля Петрушу Гринева «по-французски, по-немецки и всем наукам»…
Скоро стало ясно, что педагогические идеи И. И. Бецкого, столь привлекательные на словах, на деле не выдерживают испытания жизнью. Учащиеся, набираемые из «низших классов» и не знавшие до того ни слова на иностранных языках, начинали бойко болтать по-французски, но почти начисто забывали родной язык и вообще оставались круглыми невеждами, потому что по системе Бецкого обязательными в процессе обучения были только чтение, письмо и закон божий, остальные предметы были факультативными, необязательными, дабы не стеснять «свободных стремлений» учащихся. Анатомия и перспектива, столь необходимые для будущих художников, не преподавались совсем. Знакомство с математикой ограничивалось только изучением простейших арифметических правил.
Уберечь воспитанников от «дурных примеров» оказалось делом чрезвычайно трудным, ибо такие примеры были налицо в стенах самой Академии, где допускали злоупотребления и свои, и иноземные служащие, несмотря на кары, которыми И. И. Бецкий стращал тех, «кои послужат худым для учащихся в Академии юношей примером».
«Нерадение» учеников со временем заставило пойти на нарушение устава о запрещении применять в Академии телесные наказания. Форма при этом все же была соблюдена, ибо экзекуции выносили за стены Академии, как о том свидетельствует, например, такая запись в протоколах о четырех учениках — нарушителях дисциплины: «Назнача в черную работу, наказать лозами вне Академии».
Несостоятельность своей системы должен был признать и сам ее автор, Иван Иванович Бецкий. В своей записке, представленной 24 марта 1783 года Совету Академии, он горько жаловался на воспитанников и говорил, что «они поведением своим вовсе не оправдывают надежд, которые возлагало на них отечество, и даже позорят свою нацию».
В Академии было проведено нечто вроде генеральной чистки. Кювилье и многие другие невежественные проходимцы-французы были изгнаны из ее стен. Воспитательное училище возглавил Кирилл Иванович Головачевский (1735–1823), русский мастер, академик портретной живописи, товарищ Д. Г. Левицкого и А. П. Лосенко. В 1788 году, когда Орест Кипренский переступил порог Академии художеств, ее Совет постановил, «чтобы науки в I, II и III возрасте преподаваемы были на российском языке». В 1789 году в отроческом и юношеском классах были уволены иностранные гувернеры. В Академии повеяло свежими ветрами.
Ко времени поступления Кипренского в Академию ее здание, оштукатуренное только по главному фасаду, который выходил на Неву, и имевшее множество недоделок в интерьере, извне в основном уже приобрело свой нынешний вид, включая торжественное скульптурное убранство. Портик украшали копии с античных изваяний Геркулеса и Флоры, долженствующие олицетворять мощь русского художественного гения, на куполе выступал силуэт Минервы, античной богини мудрости.
Дом был целым городом в городе. По окружности здание тянулось почти на полверсты. На первом этаже вдоль длинных, гулких коридоров были квартиры профессоров и других служителей, кухня и столовая, прачечная, краскотерня, кладовые. Второй этаж был почище и считался парадным. Здесь располагался Совет Академии, конференц-зал, библиотека, канцелярия, учебные помещения: скульптурный, архитектурный, медальерный, живописный, гипсофигурный, натурный классы, мастерские, музей античных копий и слепков. Здесь же находились и спальни для воспитанников старшего возраста, а также помещения, в которых устраивались три раза в год выставки работ «академистов». На третьем этаже было царство воспитанников младших возрастов: их спальные комнаты, лазарет, комнаты гувернеров — настоящий муравейник, душный и грязный. Здесь-то шестилетнему Оресту и пришлось начинать свое академическое житье-бытье, прохождение суровой школы — школы жизни и науки творить высокие образцы прекрасного, способные волновать воображение и дарить радость людям.
Учебная программа в Академии была разбита на пять этапов-возрастов, по три года в каждом возрасте. Первые три возраста объединялись Воспитательным училищем и давали главным образом общеобразовательную подготовку, последующие прививали основы профессионального мастерства.
…Побудка в Воспитательных классах производилась затемно — в пять часов утра. Большой гудящий колокол, с которым служитель ходил по коридору, возвещая детей о начале трудового дня, бил в голову, как удар молота. Воспитанники, точно ошпаренные кипятком, вскакивали с постели, но многие тотчас норовили снова залезть под одеяло, чтобы укрыться от промозглой сырости остывавшего за ночь помещения и урвать еще минуту сладкого сна. А тут как тут Кирилл Иванович Головачевский, высокий, худой, в длинном красном плаще, невесть как оказавшийся в спальне еще до побудки, дергает за одеяло: «Эй, шалопай, вставай!..»
Поглощенный педагогической деятельностью, Кирилл Иванович со временем совсем забросил живопись и целиком отдал себя воспитанникам, которые сохранили о нем в отличие от многих других наставников самую благодарную память. Федор Иордан, гравер, пришедший в Академию в 1809 году, то есть много позже Кипренского, еще застал убеленного сединой добрейшего Кирилла Ивановича, которому он посвятил такие строки в своих воспоминаниях, написанных 60 лет спустя после пребывания в Воспитательном училище: «Над всеми учителями и гувернерами был наш достопочтенный инспектор Кирилл Иванович Головачевский… Он имел звание академика по портретной живописи. Все его манеры и одежда принадлежали к первому времени основания Академии. В одежде и белье он был очень опрятен: носил нижнее платье с пряжками, как и башмаки, на плечах летом и зимою имел красный плащ, что и делало его личность торжественною. Нам же, шалунам-ученикам, этот плащ был сигналом, и мы его замечали издали и убегали на свои места. Он был крайне учтив и ласков, и мы его любили, только надоедал нам своею исправностью. Бывало, все классы обходит утром и вечером…»
Такие же прочувственные слова оставили о К. И. Головачевском и другие его выученики. А. Г. Венецианов написал в 1811 году живописный портрет учителя, благообразного седого старца в мундире, при орденах, в накинутом на левое плечо красном плаще, в окружении трех учеников, олицетворявших «три знатнейшие художества», которым учила Академия: живопись, скульптуру и архитектуру. За этот портрет Венецианов получил звание академика.
После побудки до шести часов время отводилось на туалет. Мальчики мылись колючей ледяной водой, шалили, брызгали друг на друга. Потом натягивали на себя форменную одежду. У учеников первых двух младших возрастов — штаны и куртки были из сукна синего цвета, которым обтягивались и пуговицы. Старшие возрасты носили форму понаряднее, вызывая жгучую зависть малышей: синий фрак с медными пуговицами, на которых была изображена лира, короткие синие штаны, белые чулки и башмаки с пряжками, как у Кирилла Ивановича Головачевского на портрете кисти Венецианова…
В шесть часов шли на молитву. Начинали с пения «Царю небесный». Той самой молитвы, с которой выросли целые поколения русских людей и которую позднее пародировал М. Ю. Лермонтов:
Царю небесный! Спаси меня От куртки тесной, Как от огня. От маршировки Меня избавь, В парадировки Меня не ставь. ……………………… Я, царь всевышний, Хорош уж тем, Что просьбой лишней Не надоем.Потом читали утреннюю молитву, вновь пели молитву, в завершение опять читали — на этот раз Евангелие. Тут наступал час завтрака. Назначенный по списку ученик выстраивал по росту своих сверстников для раздачи хлеба: низкорослых ставили впереди, и им всегда доставались горбушки к неописуемой досаде высокорослых, которым никогда не перепадало этого лакомства. К булке давали по чашке кипятку, заваренного шалфеем. Времени на поглощение такого скудного завтрака требовалось немного, и в ожидании звонка, объявляющего в семь часов начало занятий, воспитанники собирались в рекреационном зале.
В семь часов звенел звонок, и учащиеся всех возрастов направлялись в научные кабинеты, где изучали общеобразовательные предметы. В зимние дни на улице было совсем темно, и занятия шли при свете нещадно чадивших плошек. В девять часов, когда светало, младшие шли в классы рисования, старшие — в специальные художественные классы. Занятия продолжались до 11 часов. В полдвенадцатого — обед: суп, кусок говядины, пирог. После обеда — прогулка до часа дня и снова двухчасовые занятия: для младших — учебные классы, для старших — уроки профессиональной подготовки.
С трех до пяти дня — два часа отдыха. С пяти до семи для первых четырех возрастов — рисовальные классы, после чего ужин: шесть раз в неделю, исключая воскресенье, — каша-размазня. В девять воспитанники отправлялись ко сну до пяти утра.
Распорядок дня в этом закрытом учебном заведении, какой считалась Академия художеств, был весьма строгим, дисциплина после провала системы воспитания «новой породы людей» — палочная. За малейшую провинность — розги. Пороли иногда, как рассказывал позднее Иордан, и без всякой причины; «высекут, сам и не знаешь за что», — иронизировал старый гравер. Гувернеры (в старших возрастах они именовались подинспекторами) теперь в основном были русскими, но их культурный уровень оставался крайне низким. Вот их портреты, оставленные Федором Ивановичем Иорданом.
С. И. Шишмарев, рассказывает он, «с розовым лицом и с большим наростом на носу, ходил в парике и имел шляпу, которая покрывала у него только маковку головы, с малою камышовую палкою в руке, которою он бил мальчугана как-то неожиданно, скрывая ее за спиною; учил он первоначальной грамоте русского языка и вызывал к себе во время классов для чтения; мы не столько смотрели на строки, сколько на движение его камышевки, и готовились прежде, чем следовало, защищать себя локтем от ее удара».
За С. И. Шишмаревым, как вспоминал Иордан, по свирепости шел злой немец Голандо — учитель немецкого языка и гувернер, который награждал воспитанников сильными оплеухами и «любил сечь учеников ради развлечения и некоторого удовольствия»…
Весьма странным типом был учитель французского языка М. И. Тверской (отец изображенного позднее Карлом Брюлловым Н. М. Тверского), который собирал всякие металлические предметы и вымогал их у учеников, пугая их экзаменами и отпуская «тяжелые пощечины». Получив же дань «гвоздями, пуговицами и всякою металлическою дрянью», М. И. Тверской оставался чрезвычайно доволен, и «назначенный день экзамена проходил у него гулянием по коридору, и всегда он что-то подпевал про себя, держа руки на спине».
Большим оригиналом был учитель русской словесности Е. М. Предтеченский, сухой, молчаливый субъект, никогда не расстававшийся с высокой стоячей фуражкой и серым капотом с зеленым воротником. Предтеченский его «никогда не снимал, так что он, казалось, прирос к нему».
«Все время моего ученья в Академии, — вспоминает Иордан, — Предтеченский ничего не делал, все время не оставляя своего серого капота и зеленой стоячей фуражки; у него была засевши какая-то мысль, которая с ним и осталась неразгаданною, нас же ничему не учил, и, Боже избави, кому приходилось провиниться и быть им наказану, засекал ученика до полусмерти; руку имел железную и носил на себе отпечаток тупоумия и с ним гордости».
Однако не все гувернеры и преподаватели классов были такими монстрами. Тот же Федор Иордан, который в своих воспоминаниях так не жалует многих воспитателей Академии, очень тепло говорит об Александре Савельевиче Кондратьеве, ученике старшего возраста, который не по обязанности, а по педагогическому влечению занимался утешением и развлечением малышей, записываемых в Воспитательное училище: «Здесь живо припоминаю себе огромный рекреационный зал, полон стоячей пыли от шума и гама вновь принятых учеников. И чтоб малютку новичка развлечь от грустной разлуки с родителями, нам давали листы бумаги и заставляли делать петушков и хлопушек. Среди нас расхаживал и веселил детей незабвенный в будущем времени гувернер и учитель, ученик старшего возраста Александр Савельевич Кондратьев. Этот А. С. Кондратьев был самая интересная личность во все долговременное мое пребывание в Академии. Без всяких данных по наукам и художеству он был лучший учитель русского языка и арифметики. Как гувернер он был строг, и все любили его… И этот-то гувернер был среди нас, играл с нами, бегал и заставил на время забыть нас, мальчуганов, о временной потере родителей».
Были светлые личности в младших возрастах и среди учителей рисования. Дети любили Дмитрия Мироновича Ушакова (1741–1816), который окончил Академию первым выпуском, получив Золотую медаль, а с 1767 года преподавал в классах рисование, был гувернером и также обучал «цифири и арифметике и грамматике российской». Д. М. Ушаков славился искренней привязанностью к воспитанникам. Ф. И. Иордан, еще заставший старого педагога, поминал добрым словом «Дмитрия Мироновича Ушакова, в высшей степени бедняка… Он являлся к нам в классы из Гавани в изорванной плисовой шубе, в малиновом сюртуке самого грубого сукна, с сайкою в кармане, которую потом делил ученикам для стирки красного карандаша. В зимнее время он, бывало, явится за час до классов и, сидя на последних пустых скамейках, от скуки приуснет и захрапит, мы же, шалуны, начинаем повторять его храпенье, делается шум, и он, проснувшись, с гневом смотрит на нас…»
Дмитрий Миронович еще в 1776 году, то есть за два года до поступления в Академию Ореста Кипренского, за оказанную им пользу в обучении воспитанников был удостоен звания «мастера первых правил рисования» и, несомненно, умел прививать своим ученикам хорошие профессиональные навыки.
При Кипренском начал педагогическую деятельность и Михаил Федорович Воинов (1759–1826), «придворного кофешенка сын», который также окончил Академию, был отмечен за свои работы Большой золотой и серебряными медалями, удостоился заграничной поездки, имел впоследствии звание академика. Он был хороший рисовальщик, имел большую коллекцию рисунков, выполненных им в Риме с античных памятников, которые он охотно предоставлял в распоряжение учеников как оригиналы для копирования.
Встречались, конечно, и среди профессионалов художников, которых судьба определила мыкать горькую долю учителей рисования в Академии художеств, свирепые персонажи вроде Николая Никитича Фоняева, окончившего в 1779 году Академию по классу скульптуры и в том же году назначенного учителем рисования при академических классах. Заодно он справлял должность преподавателя «российского чтения», церковного пения, арифметики и обучал воспитанников «театральным представлениям». Но универсальные обязанности не сделали из Фоняева педагога, любящего свое дело и любимого учениками. О его моральном облике очень красноречиво свидетельствует запись в одном из протоколов заседания Совета Академии, в которой говорится, что он «буйствует, ходя по коридорам, и изрыгает непечатные ругательства». В этом же духе рисует его портрет и Федор Иордан, который сообщает, что Фоняев был человек «сердитый, с сильным басом от неумеренного употребления алкоголя. Дерзкий на руку, в которой он держал ключ, и часто, бывало, им ранил он ученика от неудовольствия; к тому еще имел выбитый глаз, отчего и был одноглазый. Как художник и учитель, — продолжает Иордан, — Фоняев был совершенная ничтожность, ученики ничего не делали, боялись только его ужасного голоса, ключа и его нетрезвости… Он управлял также клиросом певчих, и дискантам и альтам-малюткам дорого доставалось за их ошибки в пении. Одним словом, это был ужас Академии и наконец был выключен из службы».
Были, что и говорить, среди гувернеров и учителей Академии невежественные, опустившиеся люди, были бездарные наставники, утратившие какую бы то ни было связь с искусством, были изуверы вроде Фоняева, вымещавшие на детях свою злобу за неудачи в жизни, были жестокие шутки в стиле бурсы со стороны старших товарищей, ловивших младших в темных коридорах и нещадно избивавших их без всякой причины, лишь бы проявить характер и показать свою силу. Но были и скромные, неутомимые труженики, за нищенское жалованье свято выполнявшие свой долг, влюбленные в свое дело, беспредельно преданные искусству. И это благодаря им питомцы Академии, прошедшие в ней семь кругов ада, страдавшие от холода и голода, претерпевшие бесконечную цепь издевательств великовозрастных дуралеев и истязаний воспитателей-садистов, выйдя на широкую стезю искусства, потом всегда с признательностью возвращались мыслью к величавому зданию на Васильевском острове, к наставникам, которым они были обязаны высоким профессионализмом, сознанием своей ответственности перед страной и народом, верой в высокую миссию художника.
Когда Орест Кипренский в 1816 году прибыл в Италию, уже в первом своем письме-отчете в Петербург поторопился сделать лирическое отступление от описания путешествия, чтобы совершить мысленную прогулку в родной город, и начал это отступление словами: «Вот я на дрожках приехал на Васильевский остров: здравствуйте, любезная Академия художеств!» Карл Брюллов, с триумфом возвратившийся на родину после тринадцатилетнего пребывания в «чужих краях», первым долгом, еще не повидав родственников, решил навестить своего профессора Андрея Ивановича Иванова, которому он позднее передал и врученный ему во время чествования лавровый венок. Сильвестр Щедрин в каждом своем письме из Италии слал поклон Михаилу Матвеевичу Иванову, заведовавшему в Академии батальным и ландшафтным классами, присовокупляя к этому, что «было бы слишком безбожно забыть того, которому столь много обязан». Прожив в Италии почти десять лет, в письме от 13 ноября 1827 года он восклицал: «Как бы я желал взглянуть на Академию!»…
Рисовать воспитанники учились с первого же дня занятий в Академии. В воспитательных классах на это отводилось ежедневно не менее двух часов. Начинали с воспроизведения «оригиналов», то есть рисунков и гравюр, на первых шагах с простейшими геометрическими фигурами, а затем постепенно усложнявшимися. Освоив геометрические фигуры, приступали к работе над изображениями лиц и голов. Затем учились передавать тень, полутень, рефлексы. Пройдя этот этап, переносили на бумагу целые фигуры античных скульптур, копировали анатомические рисунки и, наконец, рисунки со сложнейшими скульптурными композициями вроде «Лаокоона». Профессиональная выучка рисовальщика в результате прохождения всего курса таких упражнений была настолько высока, что лучшие из них могли по памяти воспроизвести это труднейшее многофигурное произведение даже много лет спустя после окончания Академии.
Работа над рисованными «оригиналами», дававшая начальные основы мастерства, проходила в первом возрасте Воспитательного училища. Со второго возраста начинались занятия в гипсофигурном классе, где воспитаннику надо было уже не копировать чужие рисунки, а самому на основе накопленных навыков передавать правильно контур предмета, его пропорции, объем, соотношение с окружающим пространством. Здесь наглядно проявлялось умение ученика видеть, владеть искусством глазомера, точно рассчитывать линейные соотношения, «чувствовать» форму и глубину пространства, умение выразить линией, штрихом, пятном то, что видит глаз. Сначала перед учениками тоже были простые предметы вроде шара или фигурной капители, затем их заменяли головы и барельефы с усложненными соотношениями освещенных и затененных частей, потом — целые скульптуры и скульптурные группы. «Антик» вроде «Фавна с козленком», «Венеры Каллипига» или «Германика» представал теперь не с бумажного листа, увиденный и перенесенный на плоскость другим рисовальщиком, а был прямо перед глазами во всей предметной, вещественной плоти, и его можно было изобразить по-своему, повторяя не только затверженные общие правила, но и выражая свой взгляд на предмет, свое чутье, свою художническую индивидуальность. В гипсофигурных классах определялось, есть ли у ученика призвание и талант или нет. Неспособных учеников по выпуске из Воспитательного училища переводили в ремесленные классы, одаренных — в старшие возрасты Академии. Самых талантливых определяли в живописцы, менее отличившихся ожидала специализация в области скульптуры или архитектуры. Живопись среди трех знатнейших художеств занимала в Академии привилегированное место. Но внутри самого живописного цеха также существовала строгая табель о рангах. Первенствовала историческая живопись, ибо по понятиям того времени написать картину на исторический, библейский или мифологический сюжет было несравненно сложнее, чем создать пейзаж, портрет или натюрморт, потому что исторический живописец должен изобразить на полотне то, чего в жизни нельзя было подсмотреть, что является плодом его фантазии и эрудиции. Кипренскому, как одному из самых одаренных воспитанников, определили заниматься исторической живописью.
Рисунков, которые бы позволили проследить, как проявил себя в Воспитательном училище юный Орест Кипренский, не сохранилось. Не сохранилось, по сути дела, и никаких мемуарных свидетельств о том, как прошли его детские и отроческие годы в Академии, с кем он водил дружбу среди своих сверстников, кто из родных навещал его. Федор Иордан рассказывает, что, когда его ребенком привели из рекреационного зала, где детей перед разлукой с родителями развлекал Александр Савельевич Кондратьев, в спальню, он, закрывшись одеялом, долго горько плакал. Во времена Кипренского Александра Савельевича еще не было, детей должны были утешать французские бонны, которые ни слова не знали по-русски, как ни слова не знали по-французски их подопечные.
Поручая своего пасынка Воспитательному училищу, Адам Карлович Швальбе дал, как мы помним, расписку в том, что до истечения положенных «урочных лет» учения он ни по каким причинам сына обратно требовать не будет. Это не означало, однако, запрещения посещать воспитанников. Орест был «иногородним», и к нему, наверное, родные приходили реже, чем к другим учащимся. Но забывать мальчика не забывали, нить, связывавшая его с семьей, не прерывалась, раз он, став художником, бывал в Нежинской.
Маленькому Оресту немало пришлось пролить слез, пока он не втянулся в жизнь Воспитательного училища, не научился давать сдачи обидчикам, не постиг трудной науки строить отношения с людьми. Впрочем, этой науки постичь до конца ему не удалось никогда…
Независимый и гордый юноша, он обладал доброй, отзывчивой душой, но был слишком горяч и прямолинеен в суждениях, не прощал предательства, не умел кривить душою, скрывать свои истинные чувства, да и не считал нужным делать это. Он был из тех людей, которые готовы отдать жизнь за друга, но не способны закрыть глаза на его слабости, которым претит гнуть спину перед сильным, которые несут в себе высокоразвитое чувство порядочности и человеческого достоинства. Пылкая, импульсивная, в высшей степени увлекающаяся натура, он с юности казался этаким сумасбродом своим недалеким однокашникам, потому что вечно был недоволен собой, вечно стремился к чему-то недостижимому, вечно был одержим какой-то «идеей».
Одна такая «идея» чуть было не окончилась плачевно для семнадцатилетнего Ореста, который в день своего рождения, 13 марта 1799 года, во время вахтпарада перед Зимним дворцом кинулся в ноги Павлу I, умоляя отпустить его на военную службу. Чем был вызван такой сумасбродный поступок, неизвестно. Современники говорили — влюбленностью в девушку, которая предпочитала военных. Историки русского искусства полагают — стремлением последовать примеру Бонапарта, сделавшего молниеносную военную карьеру и ставшего кумиром молодежи после того, как за взятие Тулона в 1793 году он из капитана сразу был пожалован в генералы. Вспомним Андрея Болконского, тоже мечтавшего о «своем Тулоне». Как бы там ни было, этот поступок говорит о незаурядности характера семнадцатилетнего юноши, способного на смелые душевные порывы, на активные действия ради осуществления цели, на крутые повороты в своей судьбе. Кончилось же дело тем, что будущего художника арестовали, поелику он согласно рапорту петербургского обер-полицмейстера Лисаневича посмел «утруждать государя-императора просьбой о зачислении в воинскую службу», и перед строем воспитанников объявили выговор Совета Академии.
И снова день за днем потянулась монотонная академическая жизнь, столь непохожая на ту, что бушевала за стенами храма искусства на Васильевском острове. Здание Академии, которое так и оставалось оштукатуренным только с одной, фасадной стороны, по-прежнему окружали невзрачные деревянные и каменные строения, окруженные покосившимися заборами. Нева здесь еще не была взята в гранит. Против Академии бросали якорь торговые суда, товары с которых выгружались в просторные каменные академические подвалы, служившие складами.
Парадный подъезд все оставался без ворот. Зимой во двор Академии наносило сугробы снега, ветер свободно гулял по коридорам, остужал классы, в которых зябли воспитанники, занятые рисованием или проходившие науки.
Когда наступал час прогулок и игр, академические дворы наполнялись шумной толпой подростков, которые зимой катались здесь на коньках, а летом играли в лапту. Там стояло круглое здание, украшенное колоннами ионического ордера, — точная копия древнеримского храма Весты. Здание это, несмотря на его античное архитектурное оформление, носило строго утилитарный характер. Это была баня, куда воспитанники, захватив с собой березовые веники, отправлялись не реже одного раза в неделю, демонстрируя там на мягких местах следы «розговой педагогики». Поход в баню тоже был развлечением, особенно для младших возрастов.
Но были и развлечения настоящие. Хотя и редкие, поездки на острова. Постановки спектаклей. Участие во всевозможных торжествах как внутриакадемического, так и общегосударственного масштаба. Это повелось еще со времен президентства И. И. Бецкого, который «располагать церемонии и глазам делать увеселения весьма был искусен». Ученики Академии, обучавшиеся наряду с другими науками искусству театральных представлений, пению, декламации, участвовали в публичных церемониях, исполняли торжественные гимны, выступали с декламациями на всевозможных торжественных актах. В 1789 году по случаю годовщины восшествия на престол императрицы Екатерины II семилетний Орест Кипренский пел в хоре, составленном из воспитанников младших возрастов, гимн «Торжествуйте, музы, ныне!».
Устройство увеселений И. И. Бецкий считал составной частью системы по выращиванию «новой породы людей». В Академии исходили из того, что «надлежит всячески стараться, дабы не истребить в детях сей веселой бодрости духа, которая так свойственна невинности», «потому что по искоренении оной обыкновенно вселяется уныние, производящее дух рабства, источник всех пороков».
На увеселения отпускались денежные средства. Для подготовки спектаклей силами «академистов» приглашались крупные театральные деятели, в частности, с воспитанниками Академии занимался знаменитый русский актер Яков Шумский. Музыке юношей обучал в числе других известный русский скрипач и композитор Иван Хандошкин. Воспитанники учились играть на скрипке, флейте, клавикордах. Их регулярно водили на концерты, они имели возможность заниматься танцами и пением. Все это повышало общекультурную подготовку «академистов», воспитывало их вкус, любовь к литературе, развивало воображение, столь необходимое художникам особенно при создании многофигурных композиций.
То, что Кипренский, равно как и многие другие русские художники, всю жизнь был завзятым театралом и любил музыку, — заслуга Академии.
После перевода в четвертый возраст в 1797 году для Кипренского-художника наступила решающая пора овладения мастерством и окончательного определения своей судьбы. Эпизод с прошением царю о переводе его на военную службу говорит нам, что в свои семнадцать лет Орест Кипренский еще не был убежден, что его жизнь отныне навсегда принадлежит «художествам».
Теперь занятия шли в натурных классах, где карандашом или кистью надо было передать не только привычные силуэты неподвижных гипсовых копий с «антиков», а живую плоть обнаженных натурщиков, повторявших позы прославленных древних статуй и групп или образовывающих новые неожиданные фигурные сочетания, которые надо было запечатлеть в смелых ракурсах, в движении, в том или ином эмоциональном состоянии.
Работа с натуры, однако, не означала бездумного воспроизведения модели со всеми ее недостатками, а предполагала исправление этих недостатков, придание нескладному отставному солдату Степану, служившему натурщиком, с узловатыми тяжелыми руками, совершенных пропорций античного героя, ибо натуру согласно правилам классицизма, которым неукоснительно следовали академические профессора, предписывалось «разуметь… не только в таком виде, какою она случайно представляется в частных ее предметах, но и в том, какою она должна быть по своему совершенству».
Помимо рисунка, «души картины», «академисты» старших возрастов, которые были определены в живописцы, изучали технику письма масляными красками, искусство «сочинения» картины, то есть композицию, другие премудрости художнического дела, копировали картины великих мастеров Возрождения.
Чудаковатого галломана И. И. Бецкого на посту президента Академии художеств в 1794 году заменил энергичный и образованный А. И. Мусин-Пушкин, прославленный собиратель российских древностей, открывший и опубликовавший «Слово о полку Игореве». Он вознамерился решительно улучшить преподавание в художественных классах, но не успел осуществить свои планы из-за преждевременной смерти. Президентом в 1797 году стал французский эмигрант граф Г. А. Шуазель-Гуффье, которого историк Академии художеств характеризует как ловкого интригана, без разбора бравшего всякое место, лишь бы там можно было иметь хороший доход и ничего не делать. Граф, кроме президентства в Академии художеств, состоял еще членом Тайного Верховного совета, но при этом за все многолетнее пребывание в России не потрудился выучить ни одного слова по-русски и повсюду старался окружать себя одними французами. Против засилья иностранцев, которым ознаменовал свое правление в Академии граф Шуазель-Гуффье, решительно выступил великий русский зодчий В. И. Баженов, назначенный на вновь учрежденное место вице-президента Академии в марте 1799 года. Превосходно зная все недостатки академической системы воспитания, которую он испытал на себе, ибо был в числе первых выпускников Академии, В. И. Баженов ратовал за ликвидацию Воспитательного училища, потому что находил бессмысленным набирать туда малолетних детей, у которых не могло еще проявиться ни способностей, ни даже склонности к искусству, выступал против обучения их иностранным языкам прежде, чем они мало-мальски научатся говорить на своем родном языке, предлагал государственные заказы распределять среди отечественных мастеров, а не заезжих иностранцев. В. И. Баженов добился, что ученикам Академии было разрешено копировать произведения старых мастеров в закрытых собраниях, что было весьма существенным подспорьем для повышения их культурного уровня и профессиональной подготовки.
В январе 1800 года Шуазель-Гуффье был наконец удален из Академии художеств, и на его место назначен граф А. С. Строганов. С его приходом связаны поистине светлые страницы в истории Академии художеств и в жизни ее питомцев. А. С. Строганов искренне любил искусство, радел о его развитии в России. Граф собрал превосходную художественную галерею, которую открыл для воспитанников Академии. В числе других картины графа в его доме копировал Орест Кипренский. Одаренный юноша пользовался большим расположением президента, которого художник и во времена славы называл своим «великим благодетелем», «всегда живущим» в его памяти.
В 1802 году был издан указ, который вносил большие улучшения в программу обучения в Академии, вводил преподавание ряда совершенно необходимых специальных дисциплин вроде анатомии и оптики и таких предметов, как история искусства и эстетика. Большое внимание в программе уделялось преподаванию литературы, особенно отечественной, математики, истории, географии. Учащихся старших возрастов теперь знакомили с теорией аллегорий и эмблем и с «истолковательным чтением историков и стихотворцев для образования вкуса и подражания красоте, в творениях их находящейся».
Впрочем, многое из намеченного А. С. Строгановым так и осталось на бумаге. Его реформы встречали противодействие со стороны ретроградов, входивших в Совет Академии. Осуществлению нововведений помешала также осложнившаяся международная обстановка, военный конфликт России с наполеоновской Францией. И все же президентство А. С. Строганова было великим благом для Академии и отечественных художеств. Были приняты меры, чтобы новые произведения создавались на темы национальной жизни и истории, имели бы яркое патриотическое звучание. В декабре 1802 года Совет Академии обсудил программы для художников и скульпторов с целью «прославления отечественных достопамятных мужей и происшествий. Найдены наипаче достойными для живописи: крещение Владимира, побоище Мамаево, свержение ига татарского, опыт любви к отечеству Петра Великого…».
Класс исторической живописи во времена Кипренского в Академии возглавлял Г.-Ф. Дуайен, французский живописец, профессор Парижской Академии художеств, приглашенный в Россию по контракту в 1791 году. В России, кроме преподавательской работы, он занимался плафонными росписями, которые прославили его на родине, писал портреты. Известен его портрет М. М. Сперанского. Дуайену благоволила Екатерина II, которая услышала о нем, видимо, от Дидро, знавшего о художнике по его полотнам в парижском Салоне. Соотечественница Дуайена, знаменитая портретистка Э. Виже-Лебрен, которая бывала в России, где написала множество изображений вельмож, вспоминала в своих записках, что в Петербурге ее старый друг художник Дуайен пользовался милостивым отношением Екатерины II, в театрах имел место рядом с ее ложей, императрица часто удостаивала французского живописца своей беседой. Дуайен умер в Петербурге в 1806 году. Пристрастие Кипренского — исторического живописца к мифологическим и аллегорическим сюжетам, элементы, характерные для плафонной живописи, которые чувствуются в некоторых его работах, объясняются влиянием именно этого художника.
Но на профессиональное формирование Кипренского определяющее воздействие оказали представители русской национальной школы, прежде всего адъюнкт-профессор класса исторической живописи Григорий Иванович Угрюмов (1764–1823), тоже воспитанник Академии, ставший любимым наставником многих поколений русских мастеров. Широко известен эпизод из биографии Карла Брюллова, который по окончании Академии в 1821 году отказался от лестного предложения остаться в ней еще на три года для дальнейшего усовершенствования, после чего предполагалась шестилетняя заграничная поездка, когда была отвергнута просьба молодого художника назначить в руководители Г. И. Угрюмова, ставшего к тому времени ректором Академии по классу исторической живописи.
Для Кипренского очень плодотворным было общение со старшими однокашниками, окончившими Академию в 1797 году: А. И. Ивановым, А. Е. Егоровым и В. К. Шебуевым. Они получили золотые медали, право на пенсионерство при Академии и на последующую поездку за границу. А. И. Иванов был женат и по академическим правилам не мог воспользоваться своим правом на путешествие в «чужие края». Он поэтому целиком посвятил себя педагогической деятельности. В ожидании поездки, которая состоялась только в 1803 году, А. Е. Егоров и В. К. Шебуев также выступали в роли воспитателей, дежурили в натурных классах. Их не отделяла от учеников старших возрастов та стена, которую возводят мастерство, известность и слава, они тоже были еще только на пути к этому и посему с вчерашними «академистами» легко и просто было говорить и об искусстве, и о жизни. Дуайен с его маэстрией отвлеченных живописных образов, с размахом, темпераментностью и уверенностью кисти казался далеким, как Олимп, с которого сходили герои его композиций. Он не мог понять русских юношей, которые исподволь стремились к тому, чтобы связывать умозрительные сцены, почерпнутые из Священного писания или из древнегреческой мифологии, с духом национальной русской жизни и истории. Но это прекрасно понимали молодые наставники будущих художников, которых волновали те же веяния времени.
Они, конечно, все были выучениками Академии и все следовали отработанной раз и навсегда методе создания исторических полотен. В центре — классический треугольник, который составляют силуэты главных фигур, крепко связывая воедино композицию картины. Неглубокое пространство, на котором развертывается действие. Вплотную приближенный к фигурам, точно на театральной сцене, пейзажный фон. Благородные позы и жесты героев, сохраняющих в самых драматических коллизиях величественную грацию античных изваяний. Герои предстают либо совсем обнаженными, либо задрапированными в античные туники даже тогда, когда они носят имена не библейских персонажей, а реальных действующих лиц русской летописной истории. Классицистическая условность была в те времена обязательной данью времени. Однако уже Г. И. Угрюмов показал, что, обращаясь к сюжетам национальной истории, можно даже сделанные по таким канонам картины наполнить подлинным драматизмом, вдохнуть в них атмосферу современности, заставить ее героев будить в зрителях высокие патриотические думы и чувства. Таковы были его полотна: «Испытание силы Яна Усмаря», воспевающее удаль русского молодца, «Взятие Казани», прославляющее воинские подвиги предков, «Избрание Михаила Романова на царство», воскрешавшее знаменательное событие русской истории.
Первое дошедшее до нас произведение Кипренского относится к 1799 году. Это — традиционный библейский сюжет «Поклонение пастухов», выполненный мягким итальянским карандашом, пером и мелом. Построение сцены здесь целиком подчинено академическим правилам, от нее веет спокойствием и гармонией. Но сквозь идиллические мотивы прорываются совсем иные, тревожные ноты, идущие от рисовальной манеры художника. Растушевкой он погрузил всю сцену в густой сумрак, из которого, как бы фосфоресцируя, возникают фигуры Богоматери с младенцем, пастухов, реющих над Богоматерью ангелов, выхватываемых из темноты пятнами мятущегося, резкого света. Кипренский-романтик с его бурными страстями, не укладывавшимися в строго продуманные академические схемы, рождается уже в этом рисунке. И уже здесь — зародыш того конфликта с художественными и иными догмами, под знаком которого Орест пройдет весь свой творческий и жизненный путь.
Другие наброски ученических композиций также отмечены этим противоречием. Фигуры размещены на них в соответствии со строгими академическими правилами, вписываются в воображаемый треугольник, но это не мешает художнику дать волю темпераменту, сообщить своим героям столько движения и столько страсти, что академическая композиция остается таковой только по названию. Кипренский-ученик стремится к бурной патетике чувств, его привлекают трагические сюжеты, он ищет и находит драматические моменты в любом эпизоде Священного писания или античной истории. Даже такой сюжет, как «Филемон и Бавкида», олицетворяющие пример супружеской верности и изображенные позднее Гоголем в лице тишайших и добрейших старосветских помещиков Афанасия Ивановича и Пульхерии Ивановны Товстогубов, для Кипренского — академиста старшего возраста — повод вообразить настоящую космическую катастрофу.
Гоголь пишет: «Если бы я был живописец и хотел изобразить на полотне Филемона и Бавкиду, я бы никогда не избрал другого оригинала, кроме их. Афанасию Ивановичу было шестьдесят лет, Пульхерии Ивановне пятьдесят пять. Афанасий Иванович был высокого роста, ходил всегда в бараньем тулупчике, покрытом камлотом, сидел согнувшись и всегда почти улыбался, хотя бы рассказывал или просто слушал. Пульхерия Ивановна была несколько сурьезна, почти никогда не смеялась; но на лице и в глазах ее было написано столько доброты, столько готовности угостить вас всем, что было у них лучшего, что вы, верно, нашли бы улыбку уже чересчур приторною для ее доброго лица». И еще «Жизнь их… так тиха, так тиха, что на минуту забываешься и думаешь, что страсти, желания и неспокойные порождения злого духа, возмущающие мир, вовсе не существуют и ты их видел только в блестящем, сверкающем сновидении».
Немецкая драма в одном действии «Филемон и Бавкида», которая привлекла интерес к этим мифологическим персонажам и в изобразительном искусстве, стала известна в России в 1773 году, когда она появилась в переводе на русский язык. В ней повествовалось о том, как Юпитер и Меркурий были обласканы добродетельными супругами Филемоном и Бавкидой, за что небожители щедро вознаградили их, превратив их хижину в окруженный деревьями храм, а на земли их негостеприимных соседей наслали потоп. Программа «Юпитер и Меркурий в виде странников посещают Филемона и Бавкиду» была дана Советом Академии для учеников исторического и пейзажного классов. Она предоставляла широкий простор для фантазии. Можно было изобразить сцену, проникнутую идиллическим, патриархальным духом. Можно было создать назидательную композицию, показывающую неотвратимость возмездия для тех, кто бросает вызов божествам. Можно было, наконец, решить тему в пейзажном плане, изобразив залитые водой просторы, среди которых возвышается обитель добродетельных супругов. Кипренский же решил тему как трагедию, которой обернулся вызов богам для негостеприимных соседей Филемона и Бавкиды, подвергшихся суровой каре со стороны мстительных Юпитера и Меркурия, трагедию с бурным, неистовым напряжением сверхчеловеческих страстей. Молодой художник написал коленопреклоненных Филемона и Бавкиду на фоне иссеченных молнией серо-зеленых туч, окутавших землю. Перед супругами — задрапированный в красное грозный Юпитер. Одной рукой, воздетой к небу, он указует на выплывающую из облаков колоннаду чудного храма, в который обратилась обитель Филемона и Бавкиды, другой, обращенной долу, показывает на бушующую стихию, поглотившую угодья и строения их соседей, которые имели оплошность прогневить небожителей. За спиной Юпитера — летящий Меркурий, посылающий мановением руки новые волны уничтожающей грозы и непогоды на землю.
Театральные жесты и позы персонажей, классический треугольник в основе композиции, скульптурное совершенство обнаженного торса Юпитера — все это еще полностью выдержано в духе академической традиции, как и явно бросающееся в глаза «цитирование» венецианцев в серебристо-голубых одеяниях супругов или приемов плафонной живописи в силуэте возникающего из облаков храма.
Новое здесь в движении, которое живописец сумел сообщить всем фигурам картины, в порыве чувств, которыми дышит каждый персонаж (и объятый гневом Юпитер, и пораженный явлением богов Филемон, не смеющий поднять на них очи, и завороженная красотою Юпитера Бавкида, напротив, не находящая в себе сил оторвать от него взор), в напряженном контрасте светотени, в противопоставлении ярких, звонких тонов, какими написаны фигуры и одежда, темно-зеленому, мрачному фону, во всей по-романтически волнующей атмосфере, пронизывающей картину.
Как изменились времена всего лишь через три десятилетия, когда Гоголь писал под Филемона и Бавкиду своих тихо угасающих старосветских помещиков! Раскроем снова страницы гоголевского «Миргорода». Тихо отошла в мир иной Пульхерия Ивановна. Единственной ее заботой в предсмертный час было постращать божьим судом ключницу Явдоху, чтобы она после кончины хозяйки хорошо ухаживала за барином, остававшимся сирым и бесприютным. Смертью своей спутницы, пишет Гоголь, «Афанасий Иванович был совершенно поражен. Это так казалось ему дико, что он даже не заплакал. Мутными глазами глядел он на нее, как бы не понимая значения трупа… Наконец гроб поставили над ямой, ему велели подойти и поцеловать в последний раз покойницу; он подошел, поцеловал, на глазах его показались слезы, — но какие-то бесчувственные слезы. Гроб опустили, священник взял заступ и первый бросил горсть земли, густой протяжный хор дьячка и двух пономарей пропел вечную память под чистым, безоблачным небом, работники принялись за заступы, и земля уже покрыла и сравняла яму, — в это время он пробрался вперед; все расступились, дали ему место, желая знать его намерение. Он поднял глаза свои, посмотрел смутно и сказал: „Так вот это вы уже и погребли ее! зачем?!.“ Он остановился и не докончил своей речи.
Но когда возвратился он домой, когда увидел, что пусто в его комнате, что даже стул, на котором сидела Пульхерия Ивановна, был вынесен, — он рыдал, рыдал сильно, рыдал неутешно, и слезы, как река, лились из его тусклых очей».
Гоголь был реалистом, представителем «натуральной школы» русской литературы, тонко высмеивавшим безыскусственным описанием жизни и смерти старосветских помещиков своих литературных староверов, не замечавших новых веяний времени. Юный автор композиции «Филемон и Бавкида», наполнивший идиллический сюжет вихрем романтических страстей, для своего времени и для своей области тоже был новатором, смелым разрушителем устоявшихся традиций, ниспровергателем академических устоев. Дух новшества, который внес ученик исторического класса Орест Кипренский в трактовку этого сюжета, однако не только не вызвал порицания со стороны академического начальства, а был даже поощрен: за эту программу ему дали Малую золотую медаль.
Призвание
…В те дни в таинственных долинах, Весной, при кликах лебединых, Близ вод, сиявших в тишине, Являться муза стала мне. А. С. ПушкинОрест в старших возрастах Академии легко и уверенно шел к закономерному финишу одаренного ученика — выполнению программы на Большую золотую медаль, которая дает ее обладателю право на заграничное пенсионерство. Обилен был урожай наград в последние два с половиной года обучения: две Малые золотые медали (одна из них — за «Филемона и Бавкиду») и три серебряные. Крепло и мужало мастерство молодого живописца, ширился горизонт его мировосприятия, росла общая культура. Орест много читал.
«Охоту к чтению книг» у воспитанников всячески возбуждал еще К. И. Головачевский. Кипренский потом всю жизнь не расставался с книгами, возил их в Италию, затем, при возвращении на родину, снова брал их с собой, очень беспокоился о судьбе своей библиотеки, когда она слишком задерживалась в пути.
С юных лет он был усердным посетителем библиотек. Прежде всего, конечно, академической, с отличным подбором книг по вопросам искусства, истории, литературы как отечественных, так и иноземных авторов: Вазари, Винкельмана, Вольтера, Мольера, Расина, Сумарокова, Ломоносова, Щербатова. Затем, наверное, — эрмитажной. И несомненно — Публичной библиотеки, о которой Орест в 1817 году припомнил вместе с другими дорогими его сердцу местами в Петербурге в письме из Рима А. Н. Оленину. Совершая воображаемое путешествие по родному городу, Кипренский писал из Италии: «Вот я на дрожках приехал на Васильевский остров: здравствуйте, любезная Академия художеств! потом еду чрез Исакиевской мост, сердце радуется при виде Невы и славного города…, долго иду по чистому булевару и все любуюсь Адмиралтейством, останавливаюсь у Зимнего дворца — низко, низко кланяюсь благодетельному Дому сему, взглядываю на строение Биржи, и оттуда еду на Невский проспект; заезжаю в Миллионную к Сергею Семеновичу Уварову, встречаю у него Александра Ивановича Тургенева и г-на Жуковского и желаю им доброго здоровья, от него к дому бывшего… благодетеля моего, всегда живущего в моей памяти графа Александра Сергеевича Строганова… Еду к Казанскому собору, желаю здоровья библиотеке, вот я и у Аничкина моста, заглядываю в бывший мой балкон».
Публичная библиотека у Кипренского — в числе самых дорогих мест в столичном граде, она стоит рядом с Академией художеств, выпестовавшей его талант. А в списке лиц, которых почитал долгом помнить и которым слал поклон, едва прибыв в Рим, на почетном месте — имена писателей: Жуковского, Крылова, Гнедича, Карамзина, Батюшкова, Шаховского. Следует здесь напомнить и о том, что Кипренский был первым русским художником, создавшим в ряду других представителей отечественной интеллигенции своего времени целую галерею портретов поэтов и писателей: Пушкина, Жуковского, Вяземского, Крылова, Карамзина, Батюшкова, Гнедича, а из иностранцев — Гёте.
Из приведенного выше отрывка видно, как любил Кипренский город, в котором провел отрочество и юность и вышел на широкую дорогу искусства, город, который он называл «наипрекраснейшим и несравненным». На его глазах этот город рос и хорошел с каждым годом. Одевались в гранит набережные, прокладывались новые улицы и проспекты, вырастали дворцы и храмы один другого великолепнее. Живописная пышность предшествующих барочных построек, строгая торжественность современной классицистической архитектуры, чудное согласие творений зодчества с водными просторами и зеленью парков — все волновало душу впечатлительного юноши, оттачивало чувство прекрасного, воспитывало вкус. Альбомы Кипренского не случайно испещрены зарисовками петербургских набережных, ростральных колонн у Биржи, петергофского парка.
«Юный град, полнощных стран краса и диво», поднявшийся за сто лет на берегах Невы, кипучая жизнь, бившая ключом в его стенах, богатство его культуры были не только предметом гордости русских людей, но и изумления всех заезжих чужестранцев, поражавшихся тому, что за столь короткий срок Россия возвела новую столицу, затмившую своей красотой стольные грады других европейских держав, которые строились и украшались многие столетия. Приехавший в Россию по приглашению Екатерины II для реорганизации русского флота миланский аристократ Джулио Литта с удивлением и восторгом сообщал в 1789 году своим родным о неотразимом впечатлении, которое произвела на него новая русская столица: «Улицы здесь очень широкие, много площадей. Дворцы общественного назначения и приватные величественны по своей архитектуре. Широкие каналы перерезают Петербург, который, без сомнения, самый красивый город в Европе. Нельзя не поразиться при виде этой столицы, которая была основана только в начале нашего века, ее невероятно быстрому росту и расцвету. Здесь есть театры, в которых даются представления на русском, немецком, французском и итальянском языках, устраиваются балы, имеются клубы для любителей музыки, танцев, бесед, игр, не говоря уже о полной роскоши частной жизни».
Кипренскому на протяжении жизни довелось стать свидетелем целых четырех царствований в России. Императрица Екатерина почила в бозе в 1796 году, когда юному художнику едва исполнилось 14 лет. Ее царствование пришлось на пору, сплошь заполненную трудами в воспитательных классах, изолированных согласно методе И. И. Бецкого от внешней жизни. Царствование Павла I проходило уже в годы становления Ореста как художника и человека, когда складывались его гражданские убеждения, жизненные позиции и человеческие качества. Когда происходившее за стенами Академии стало предметом таких же глубоких размышлений, как и то, что деялось внутри ее в чисто профессиональной сфере.
Век просвещения монархини, сочинявшей законы, пьесы и музыкальные драмы, покровительствовавшей искусствам и переписывавшейся с французскими энциклопедистами, сменился при Павле I на век казармы, бездушной муштры, преследования всего, что было связано с блестящим царствованием Екатерины, которую ее сын люто ненавидел и никогда не скрывал своих чувств ни перед кем, даже будучи еще наследником престола. Павел не хотел оставлять ничего, что носило бы на себе печать екатерининской эпохи: форму солдат и генералов русской армии, состав приближенных к трону вельмож, систему внешнеполитических союзов, даже названия городов, основанных ненавистной матерью, даже моду.
«Не самая важная, но для наружности самая примечательная перемена произошла в воинском наряде, — сообщает нам современник. — Щеголеватость одежды екатерининских воинов найдена женоподобною. В самое короткое время сначала гвардия, а потом вся армия обмундированы по новой форме; и что за форма!.. Описание сего безобразного костюма довольно, кажется, любопытно: он состоял из длинного и широкого мундира довольно толстого сукна, не с отложным, а лежащим воротником и с фалдами, которые спереди совсем почти сходились; из шпаги между сими фалдами, воткнутой сзади; из ботфортов с штибель-манжетами или штиблет черного сукна; из низкой, сплюснутой треугольной шляпы; узкого черного галстука, коим офицеры казались почти удавленными; перчаток с огромными раструбами… и, наконец, из двух насаленных над ушами букол с длинною, тугою проволокою и лентою перевитою косой. Все это в подражание подражателю Фридерика Второго, отцу своему, тогда как в самой Пруссии сей странный наряд давно уже был брошен».
В штатской одежде особенно преследовалось ношение круглых шляп, равно как и фраков, панталон и жилетов. Все проезжающие в каретах при встрече с императором должны были остановить лошадей и, какая бы при этом ни была погода, выйти из экипажа, а мужчинам в любую стужу или дождь надлежало сбросить плащ или шубу. Пешеходы, завидев императора, кидались в страхе в подворотни, ибо никогда не было уверенности в том, что в одежде не будет обнаружено какое-нибудь несоответствие установленным правилам.
Со времен жуткой церемонии похорон Екатерины II, когда рядом с ее гробом в Александро-Невской лавре Павел велел поставить извлеченный из могилы прах отца и когда он, сняв со своей головы царский венец, возложил его на гроб Петра III, а затем снова водрузил венец себе на голову, в Петербурге царили замешательство и страх. Зловещей манипуляцией с короной Павел I еще раз подчеркнул неприятие Екатерины и людей, которые олицетворяли ее успехи как в политической области, так и на поле брани. Из столицы потянулась длинная вереница екатерининских вельмож, которые удалялись в свои деревни, потому что были неугодны новому императору. Только из числа военных деятелей Павел I за три года уволил со службы 7 фельдмаршалов, 333 генерала, 2260 офицеров. Среди них был и А. В. Суворов, честь и слава русской армии, тоже попавший в опалу, потому что не скрывал своего неприятия павловских нововведений, справедливо указывая, что русским воинам нечему учиться у пруссаков, ибо «русские прусских всегда бивали». Современник свидетельствует, что Россия содрогнулась при вести о немилости царя в отношении великого полководца. «Сим ударом, нанесенным национальной чести, властелин хотел как будто показать, что ни заслуги, ни добродетели, ниже самая слава не могут спасти от его гнева, справедливого или несправедливого, коль скоро к возбуждению его подан малейший повод. Сим не довольствуясь, по какому-то неосновательному подозрению, он велел схватить всех адъютантов его, всю многочисленную его свиту, посадить в Киевской крепости…»
Вместо увольняемых екатерининских орлов в Петербург потянулись пронафталиненные и всеми забытые старики, сошедшие со сцены после устранения Петра III. Гвардия, сыгравшая решающую роль в возведении на престол Екатерины, была удалена из столицы, а ее место заняли гатчинские войска Павла I, принявшиеся наводить в городе порядок, угодный новому царю. Жизнь в столице, бывшая столь свободной, роскошной и привольной для дворян при Екатерине, теперь регулировалась правилами казарменного режима. После девяти вечера по городу имели право ходить только врачи да повивальные бабки. Был издан даже полицейский приказ, устанавливавший, в какой час жители Петербурга должны были гасить свет.
По воцарении Павла, вспоминал Державин, «тотчас все приняло иной вид, зашумели шарфы, ботфорты, тесаки и, будто по завоеванию города, ворвались в покои везде военные люди с великим шумом».
Нрав у императора был неустойчив и переменчив, точно погода в короткое и холодное петербургское лето. Изгнав Суворова в деревню, Павел вскоре должен был призвать его вновь к себе, чтобы отправить во главе союзных войск в Северную Италию, захваченную французами, с заданием очистить ее от завоевателей. Суворов благодаря своему полководческому гению и чудесам героизма, проявленного русскими солдатами, блистательно справился с возложенной на него миссией, заслужив чрезвычайное благоволение Павла, многия лета на молебнах в церквах, золотую с бриллиантами шпагу от итальянского города Турина, титул светлейшего князя и звание генералиссимуса всех войск российских. Именным указом царя было повелено «отдавать князю Италийскому, графу Суворову-Рымникскому, даже в присутствии государя, все воинские почести, подобно отдаваемым особе его императорского величества». Возвращавшемуся с триумфом из заграничного похода полководцу по указанию царя начали готовить торжественную встречу, достойную его великой славы, но вдруг у Павла опять в корне изменилось отношение к герою Итальянского похода. Встреча была отменена, генералиссимус получил предписание въехать в столицу без всяких почестей, вечером, потемну, дабы не привлекать своей особой никакого внимания. В довершение всего ему запрещалось являться к императору. Рецидив царской немилости доконал престарелого полководца, измотавшего свое здоровье в немыслимо трудном походе, и он вскоре после возвращения в Петербург скончался.
Знакомец А. С. Пушкина Филипп Филиппович Вигель, тоже бывший свидетелем четырех царствований в России, оставил нам интереснейшие мемуары, в которых нарисовал выразительные портреты своих современников и воссоздал атмосферу времени, в кое ему довелось жить. Вот что пишет Ф. Ф. Вигель о царствовании императора-самодура: «Перемены шли при Павле с неимоверною быстротой, более еще, чем при Петре; они совершались не годами, не месяцами, а часами. Тридцать пять лет приучали нас почитать себя в Европе; вдруг мы переброшены в самую глубину Азии и должны трепетать перед восточным владыкою, одетым, однако же, в мундир прусского покроя, с претензиями на новейшую французскую любезность и рыцарский дух средних веков. Версаль, Иерусалим и Берлин были его девизом, и таким образом всю строгость военной дисциплины и феодальное самоуправие умел он соединить в себе с необузданною властию ханскою и прихотливым деспотизмом французского дореволюционного правительства».
В ночь с 11 на 12 марта 1801 года в покои императора в Михайловском замке, обманув стражу, проникла группа гвардейских офицеров во главе с генералом Беннигсеном и потребовала от царя отречения от престола. Павел, которого они нашли раздетым в спальне, отказался выполнить требования заговорщиков. Упорство царя привело гвардейцев в бешенство. Кто-то крикнул со злобой: «Тиран!» На царя обрушился град ударов. Николай Зубов первым запустил ему в висок золотую табакерку, кто-то колотил царя эфесом шпаги, кто-то — рукояткой пистолета, а прикончил Павла измайловец Скарятин, задушив его шарфом.
Наследник престола Александр Павлович знал о заговоре, но думал, что всё обойдется без крови.
Покончив со своим делом, заговорщики отправились к Александру, которого они застали в таком состоянии, что граф Пален, чтобы приободрить его, без дипломатических тонкостей должен был сказать:
— Ваше величество, не будьте бабой. Идите царствовать!
Так началось еще одно царствование, свидетелем которого стал Орест Кипренский и на которое пали самые славные годы его жизни.
Убийство, проложившее путь к трону Александру I, ничуть не омрачило ликования, охватившего столицу при вести о перемене царствования, когда за несколько дней был опустошен в подвалах годовой запас шампанского. С молодым императором, которому не исполнилось еще 24 лет, образованная молодежь связывала упования на либеральные преобразования России. Всем было известно, что его воспитанием занимался швейцарский демократ и республиканец Фредерик-Цезарь де Лагарп, который в Петербурге никогда не делал тайны из своих воззрений, за что язвительная русская императрица именовала его «господином якобинцем».
Лагарп был родом из города Роль швейцарского кантона Во. О его политических симпатиях уже в молодости достаточно выразительно говорил тот факт, что он намеревался отправиться в Северную Америку, чтобы вступить в ряды повстанцев, сражавшихся за независимость своей страны. Но судьба его сложилась иначе, ибо молодого швейцарца присмотрел небезызвестный Мельхиор Гримм, парижский корреспондент Екатерины II, выполнявший важные поручения русской императрицы. Гримм, в числе прочего подбиравший для царицы нужных ей людей, распространяя свои предпочтения главным образом среди масонов, рекомендовал Лагарпа для сопровождения в путешествии по Италии Ланского, брата фаворита Екатерины II. Швейцарец, который произвел самое лучшее впечатление на высокопоставленного русского вояжера, в 1783 году был вызван в Петербург, где царица препоручила ему воспитание своего шестилетнего внука Александра.
Лагарп оставался в России до 1794 года, после чего вернулся в Швейцарию и принял там активное участие в борьбе против бернской олигархии, за установление в стране республиканского строя. Когда в 1798 году была провозглашена Гельветическая республика, Лагарп стал главным руководителем республиканской Директории. Впоследствии он был тесно связан с итальянскими карбонариями, открыто выступал за освобождение Италии от австрийского гнета. Побывавшая в 1819 году в Италии мадам Нессельроде, жена российского канцлера, была буквально шокирована поведением бывшего воспитателя царя. В письме мужу она докладывала: «Ты должен знать, что во время своего путешествия по Италии Лагарп вел себя по обыкновению, как смутьян, и проповедовал в провинциях, подвластных Австрии, независимость…».
Более всего политиканствовавшую «Нессельродиху» поразило, что Лагарп покровителем итальянской независимости называл своего бывшего ученика, русского императора Александра I…
Павел I, преследовавший все, что было связано с именем покойной матушки, не забыл, между прочим, и «господина якобинца», проповедовавшего либеральные идеи его сыну, и в 1799 году лишил его пенсии и орденов, пожалованных Екатериной. Александр, став царем, немедленно отменил эти меры, вызвал своего бывшего воспитателя в Петербург, а позднее присвоил ему звание генерал-лейтенанта (у Екатерины швейцарец удостоился всего лишь звания полковника). Лагарп использовал новое кратковременное пребывание в Петербурге, чтобы подготовить для Александра I меморандум с программой преобразований, необходимых для России. Обосновывая неизбежность этих реформ, швейцарский мыслитель подчеркивал, что «авторитет и могущество России не совместимы с сохранением нынешних злоупотреблений» и что реформы необходимы, «ибо повсюду, даже в России, существует глухое стремление к иным, лучшим порядкам», игнорировать которое нельзя, чтобы не привести к революционным потрясениям. А положение в России, по мнению Лагарпа, было совершенно нетерпимо. «Есть от чего прийти в ужас, — писал он, — когда подумаешь, что все судебные должности находятся в руках людей, которые в большинстве своем изучали юриспруденцию только по воинским уставам…».
Перед Россией, по мнению Лагарпа, стояла грандиозная задача создания законодательства, определяющего права и обязанности граждан.
Как, казалось бы, должно было быть далеко от воспитанника старших возрастов Академии художеств Ореста Кипренского то, что происходило в окружении молодого русского императора! Но судьба будущего художника сложилась так, что он впоследствии не только пользовался благосклонностью новой российской императорской четы, не только в 1819 году в Италии портретировал Фредерика-Цезаря де Лагарпа, но был знаком с его идеями, в определенной мере разделял их, проявлял интерес к политической жизни Швейцарии, родины воспитателя будущего русского царя и покровителя итальянских карбонариев. Мысли, которые вложил Лагарп в свой достопамятный меморандум, адресованный в 1801 году Александру I, могли быть знакомы Кипренскому уже со времен учебы в Академии, ибо он тесно общался еще с академических лет и со своим «благодетелем», президентом Академии художеств графом Александром Сергеевичем Строгановым, и с сыном президента Павлом Александровичем, который входил в число «молодых друзей» Александра I. Орест посещал строгановский салон, слышал дискуссии о либеральных идеях, воодушевлявших молодого императора. Кипренскому вообще очень везло на людей, ценивших его талант, — способствовавших его профессиональному росту, становлению личности как представителю тогда еще столь малочисленной группы мыслящей художественной интеллигенции. Особенно велика при этом была роль А. С. Строганова.
Александр Сергеевич Строганов (он родился в 1733 году), как и большинство русских вельмож того времени, в молодости многие годы прожил за границей, побывал в Германии, Швейцарии, Италии, Франции, слушал в этих странах лекции знаменитых профессоров, посещал музеи и картинные галереи, приобретал картины и скульптуры старых европейских мастеров, собрав замечательную коллекцию произведений искусства — одну из самых богатых в России.
Особенно приглянулась Александру Сергеевичу Женева, где он провел целых два года и собирался остаться и дольше, сблизившись с тамошним ученым миром, но не получил на это согласия отца. Вернулся А. С. Строганов в Россию с солидным багажом знаний в области науки, техники, искусства и языков: помимо французского, за границей он овладел в совершенстве немецким и итальянским.
В 1771–1779 годах Александр Сергеевич снова жил за границей, где продолжал собирать картины и разные редкости. К 1793 году в его галерее было 87 шедевров флорентийской, римской, ломбардской, венецианской, испанской и голландской школ живописи, свыше 60 тысяч монет, множество камней, медалей, эстампов, а также громадная библиотека, считавшаяся лучшей в России, особенно в части старинных рукописей. Владелец этих сокровищ, как мы уже отмечали, не держал их под замком. Дом А. С. Строганова был, по словам современников, «средоточием истинного вкуса», его посещали видные русские художники, писатели, ученые, многие из которых пользовались дружбой, а зачастую и материальной поддержкой хозяина. Среди них, помимо Кипренского, мы встречаем художников Варнека, Егорова, Шебуева, Левицкого, Щукина, скульпторов Мартоса и Гальберга, композитора Бортнянского, писателей и поэтов Державина, Гнедича, Крылова, Богдановича. Вот где еще совсем юный Орест установил первые контакты с интеллектуальной элитой России, избравшей его своим любимым портретистом. «Доступный каждому из них (русских художников. — И. Б. и Ю. Г.) во всякое время, — вспоминал о А. С. Строганове современник, — знаток их дела, участник и советник в их предприятиях, ходатай перед престолом, помощник в нужде, кроткой и теплой души человек, он не только не отверг просьбы ни одного из художников, но и не пренебрег ни одним случаем, чтобы найти и ободрить талант».
Такие же благодарственные слова посвятили А. С. Строганову и сами художники, называвшие его «Периклом Древней Греции для русского искусства». Его биограф недаром писал: «Как президент Академии художеств, Строганов по справедливости должен быть призван истинным образователем и вдохновителем тех знаменитых художников наших, которые появились у нас во второй половине XVIII века и в начале XIX столетия».
Тогда же Кипренский познакомился и сдружился с сыном Александра Сергеевича графом Павлом Александровичем, одним из самых замечательных русских людей своего времени, наблюдавшим французскую революцию 1789 года, по сути дела, глазами ее непосредственного участника и вынесшим из этого опыта стремление к глубоким общественным преобразованиям в России.
…В начале 1789 года, в канун Великой революции, в Париж вместе со своим воспитателем Жильбером Роммом из Женевы прибыл красивый белокурый юноша, который до этого на берегах Лемана в течение полутора лет слушал лекции знаменитых женевских профессоров по ботанике, химии и физике. Юноша называл себя Полем Очером, у него было безукоризненное парижское произношение, ибо он родился и детские годы провел в столице Франции. Оба пришельца из Женевы тотчас включились в активную политическую жизнь, захваченные водоворотом надвигавшейся на Францию революции. Жильбер Ромм, ставший впоследствии монтаньяром, то есть деятелем революционно-демократического крыла Конвента, основал клуб «Друзья закона», в который одним из первых записался его воспитанник. «Великие предметы государственной жизни до того поглощают наше внимание и все наше время, — отмечал в эти дни в своем дневнике Жильбер Ромм, — что нам становится почти невозможным заниматься чем-либо другим».
Юный Очер, наделенный горячим темпераментом, принимал живейшее участие в деятельности клуба и скоро сделался там предметом всеобщего внимания. В клубе обсуждались вопросы, которые вносились затем в повестку дня Национального собрания. Пройдя отличную школу политического воспитания среди «Друзей закона», Поль Очер 7 августа 1790 года вступил в якобинский клуб.
А вскоре после этого над головой молодого якобинца разразилась гроза. Когда Очер вместе с воспитателем был в городе Овернь, умер его слуга, которому юноша сочинил трогательную эпитафию следующего содержания: «Франц-Иосиф Клеман, швейцарец из кантона Вадт (Во), 15 лет служил Полю Очеру, графу Строганову… Положенные здесь Евангелие и катехизис человеческих и гражданских прав свидетельствуют о его религиозных и общежитейских убеждениях… Пусть те, кому попадутся эти строки, почтят память человека… любившего выше всего свободу и добродетель».
Похороны Франца-Иосифа Клемана были совершены без участия духовенства, и хотя в самой эпитафии ничего криминального не было, она раскрывала подлинное имя молодого русского якобинца, бросавшего своим поведением вызов и церкви, и царскому трону, к которому был столь приближен отец Поля Очера.
Полю Очеру, вновь ставшему Павлом Александровичем Строгановым, императрица предписала немедленно вернуться на родину, запретив заодно вступать в русские пределы монтаньяру Ромму. «Я давно противился той грозе, которая на днях разразилась… — с сокрушением писал Александр Сергеевич воспитателю своего сына. — Признано крайне опасным оставлять за границей и, главное, в стране, обуреваемой безначалием, молодого человека…»
Бывший якобинец Поль Очер по велению императрицы был отправлен в подмосковное село Братцево, где он женился на княжне Софье Владимировне Голицыной. В 1795 году у молодых супругов родился первенец, названный в честь деда Александром. В конце своего царствования императрица простила-таки якобинское прошлое Строганова-сына и позволила ему вернуться в Петербург, где он уже при Павле сблизился с Александром, став одним из самых близких его друзей, с которым тот любил вести политические беседы. Павел Строганов, несмотря на перенесенную опалу, сохранил верность своим убеждениям и, видимо, внес немалый вклад в развитие либеральных мечтаний наследника престола. Во всяком случае, в письме Лагарпу от 27 сентября 1797 года будущий русский император подчеркивал, что, если судьба вручит ему трон, он намерен дать России свободу, о чем знают лишь три близких к нему человека: Н. Н. Новосильцев, князь А. А. Чарторийский и П. А. Строганов…
Став императором, Александр объединил вокруг себя названных выше молодых друзей, к которым присоединился и В. П. Кочубей. Они-то и стали членами Негласного комитета, который был образован при царе по предложению П. А. Строганова, когда тот убедился, что на нерешительного и путано мыслящего императора нужно оказывать постоянный нажим, чтобы добиться от него проведения в жизнь государственных преобразований. В четверке членов Негласного комитета П. А. Строганов был самым радикальным деятелем, решительно выступавшим в пользу конституционного правления в России, ибо, как он подчеркивал, конституция есть «законное признание прав народа и тех форм, в которых он может осуществить свои права». Он же был и безусловным сторонником отмены крепостного права, гневно бичевал защитников «рабства», прямо указывая, что «если в этом вопросе есть опасность, то она заключается не в освобождении, а в удержании крепостного состояния», ибо крестьяне, писал он, «к помещикам, своим природным притеснителям, относятся враждебно, с ненавистью…».
Оресту Кипренскому довелось общаться с Павлом Александровичем Строгановым, когда воспитанник монтаньяра Ромма искренне верил в либерализм Александра, верил в возможность осуществления разработанных им для молодого царя реформ и заражал своей верой всех, кто собирался в строгановском салоне. Это был тогда один из самых прогрессивных, как бы мы сказали теперь, салонов, где тон задавали и сам его хозяин, бывший якобинец Поль Очер, и его очаровательная жена Софья Владимировна, красавица и умница, разделявшая демократические убеждения мужа.
Софья Владимировна также много путешествовала по свету, была прекрасно образованна, знала отлично иностранные языки, но не пренебрегала и родным, русским языком, которым владела настолько хорошо, что была автором перевода «Божественной комедии» Данте, ценившегося современниками. Эту женщину воспел Державин, ее тонкий ум, таланты, передовой образ мыслей, мягкий, гуманный нрав восхищали собиравшихся в ее салоне ученых, поэтов и художников.
Как себя чувствовал в этой высокоинтеллектуальной среде молодой художник, которому еще только предстояло сказать свое слово в искусство? Не слишком ли подавляло его присутствие вельможных меценатов, европейски образованной знати, общавшейся с двором, достославных мужей отечественной словесности?
Судя по всему, не подавляло, не связывало, не сковывало уста, ибо юный Орест в соответствии с утверждавшимся в обществе новым, романтическим отношением к художнику, уже с ранних лет видел в себе полноправного члена общества. Современники рассказывали, что в Риме в студию Кипренского, чтобы посмотреть работы знаменитого русского мастера, как-то зашел путешествовавший по Италии король Баварии, но не застал на месте хозяина. Коронованный посетитель оставил в двери свою визитную карточку, рассчитывая, видимо, что, узнав о его внимании, художник тут же явится к нему просить о повторном визите. Кипренского это задело. Он действительно отправился к резиденции короля, но только для того, чтобы передать ему свою визитную карточку, на которой было написано по-французски: «Орест Кипренский. Король живописи».
У недалеких коллег Кипренского по художническому ремеслу этот поступок вызвал насмешки, они не в состоянии были понять, что для вышедшего из крепостных, терпевшего нужду живописца чувство достоинства было выше желания завладеть вниманием состоятельного посетителя и за счет его заказа поправить свои материальные дела…
Этот юноша с его пылкостью и неровностью характера даже среди образованных посетителей строгановского салона вызывал интерес и уважение пытливым умом, стремящимся проникнуть далеко за пределы тех «умствований», постигнуть которые ему полагалось, чтобы овладеть секретами своей профессии.
Альбом молодого художника, относящийся ко второй половине 1800-х годов, о котором мы уже упоминали, заполнен рисунками, сделанными как с натуры (портретные наброски, пейзажные зарисовки, бытовые сцены и т. п.), так и представляющими собой эскизы-размышления о людях, жизни и мироздании. Эти размышления воплощены в образах Библии, античной мифологии и истории. И наряду с рисунками на страницах альбома — масса записей, помогающих истолковать не всегда ясный смысл изображений, вводящих нас в сложный, очень неординарный, духовный мир этого молодого человека, который ставил перед собой задачу философского осмысления действительности, жаждал получить ответы на нелегкие вопросы, связанные с поиском собственного пути в искусстве.
Своеобразным эпиграфом звучат ко всем записям и рисункам-размышлениям альбома уже приводившиеся слова Кипренского: «Надобно выбрать самую лучшую и безопаснейшую дорогу из всех человеческих умствований, помощию бы которой, будто как на плоте некоем везен будучи, мог прейти бурю сея жизни».
Какое же «умствование» представляется двадцатипятилетнему художнику наиболее надежным и верным руководством в жизни? Оказывается — религия. Вот что пишет по этому поводу автор альбома-дневника: «Мы имеем выше человеческих умствований учение Господа нашего Иис(уса) Хр(иста), следовательно, можем избрать Евангелие нашим… судном, на коем безопасно переплывем бурю житейского моря».
Собственные выводы Кипренский тут же подкрепляет выпиской из позднеантичного философа и богослова Климента Александрийского: «Философия тогда приготовляет человека, когда показывает путь тому, кто желает быть от Христа совершенным».
Эти мысли, конечно, ни в коей мере нельзя расценивать как проявление склонности к мистицизму, захватившему вдруг молодого художника. Нет, Кипренский здесь лишь отразил философские веяния своего времени, когда просветительская философия XVIII века с ее рационализмом и материализмом, подготовившими французскую революцию, в эпоху наполеоновских завоеваний переживала глубокий кризис, поставив на очередь дня поиск новых идей, которые бы открыли путь к преодолению духовного кризиса и обретению новых этических и философских идеалов, способных отвратить человечество от дальнейших кровопролитий и бед — следствия «омрачения рассудка» революционными потрясениями. Совершенствование государственного устройства объявлялось химерической затеей до тех пор, пока не будет облагорожен человеческий характер путем развития в нем творческих начал с помощью искусства. Философские идеи, стало быть, ни в коей мере не носили для Кипренского абстрактный характер, они были тесно связаны с назначением искусства, которому новый век отводил решающую роль в определении судеб человечества.
Молодой художник со всем пылом своей увлекающейся натуры отдается изучению античной философии, делает выписки из трудов римского стоика Сенеки, пытается постигнуть учение пифагорейцев с их теорией чисел как гармонической основы всего сущего, интересуется идеями древнеиудейских и индийских сект, штудирует трехтомный труд Иосифа Флавия «Иудейские древности», приобретя его для своей личной библиотеки, читает работы современных авторов о древних религиозно-философских учениях. Он ищет в них идеи, родственные морально-этическим и философским представлениям романтиков, близкие его собственным поискам эстетического идеала.
Одаренный юноша, несомненно, импонировал высокообразованным посетителям строгановского салона не только чисто артистической независимостью поведения и пренебрежением светскими условностями, но и глубиной ума, широтой интересов, начитанностью, позволявшими ему не чувствовать никакой ущербности при контактах с лучшими представителями дворянской интеллигенции своего времени. Импонировал тем, что в его характере главной чертой была увлеченность, обращавшаяся то на занятия математикой, то на изучение античных философов, то на изыскания в области древних религиозных верований и заставлявшая его порою совсем оставлять в стороне профессиональные дела и целиком отдаваться захватившей его новой страсти. Не это ли было причиной того, что Орест, заслуживавший и серебряные и золотые медали за программы, выполненные в старших возрастах, при выпуске не получил Большой золотой медали, которая достойно венчала прохождение академического курса и давала право на заграничную поездку?
К этому времени Совет Академии пересмотрел сюжеты, которые давались для «сочинения» учениками живописных и скульптурных работ, рекомендовав важнейшие события истории России «для прославления отечественных достопамятных мужей и происшествий».
Программа, над которой начал работать Кипренский в феврале 1803 года, представляла собой эпизод русской истории, нашедший отражение в поэме М. М. Хераскова «Владимир». Он должен был изобразить тот момент, когда, как гласило задание, «приведенным в храм Перуна (или Юпитера) двум варягам, отцу и сыну, исповедовавшим христианский закон, верховный жрец объявляет в присутствии сидящего князя Владимира, чтобы они поклонились тому кумиру или один из них должен по жребию быть принесен ему в жертву, но они, горя любовью к истинной вере и желая умереть вместе, обняв друг друга, сплелись руками столь сильно, что прислужники при жертвах не могут их расторгнуть, на что жрецы, злобствуя, устремляются на умерщвление их кинжалами».
Мы не знаем, что помешало Кипренскому проявить себя при выполнении этой программы — какое-либо новое увлечение, чрезмерная регламентированность задания, сковывавшая фантазию, либо, напротив, «предосудительная» свобода при интерпретации сюжета новым раскованным романтическим живописным языком, но Большой золотой медали художнику не присудили. Почему не присудили — неизвестно, ибо эта работа Кипренского не сохранилась, что добавляет еще одну загадку в полную и без того «белых пятен» биографию живописца.
Однако «благодетель» Александр Сергеевич Строганов не дал питомца своего в обиду: он был оставлен при Академии еще на три года, чтобы подготовить новую работу для участия в конкурсе на Большую золотую медаль. На торжественной церемонии 1 сентября 1803 года Кипренский получил лишь аттестат первой степени, а вместе с ним и шпагу — знак дворянского достоинства, коим вознаграждались выпускники Академии.
Отныне положение Кипренского, не ученика, а пенсионера Академии, было совсем другое. У него были обязанности перед Академией — готовить программу на медаль, регулярно, каждую четверть года предоставлять новую работу, трудиться под руководством наставников-профессоров. Но у него теперь были и права — на кабинет-мастерскую, на отдельный от младших «академистов» стол, на выполнение платных заказов.
Кипренский продолжал ходить в натурные классы, шлифуя свой талант рисовальщика и добровольно выступая в качестве наставника у молодых воспитанников Академии. В это время натурные классы «приходящим учеником» посещал один мичман Балтийского флота, проявлявший отнюдь не дилетантское желание овладеть профессиональными художническими навыками. Офицер, дворянин по рождению и к тому же граф, был поражен пренебрежительным отношением к «приходящим» со стороны профессоров Академии, не скрывавших своего презрения к любителям и считавших их стремление изучать «художества» чистой блажью. «Тут я познакомился, — рассказывал позднее в своих воспоминаниях офицер, — с одним из лучших рисовальщиков натурного класса, получившим обе серебряные медали, Орестом Адамовичем Кипренским. Зная обычай академических профессоров и академиков считать приходящих учеников за что-то ничтожное, не заслуживающих никакого внимания, и никогда ничего не показывающих приходящим ученикам, Кипренский пришел в гипсовый класс в первый день после моего туда поступления и сделался моим руководителем в этом деле, столь трудном для начинающего, в первый раз рисовать с гипсовых головок. С того времени, видя мое сильное желание учиться, Кипренский приходил ко мне в класс каждый вечер и чрезвычайно деятельно толковал мне о лучшем способе рисовать с гипсов, так что месяца через три я был переведен в класс гипсовых фигур. Орест Адамович и в этом классе продолжал меня посещать и давал свои умные и очень полезные наставления. Я собственно ему и его благородным указаниям обязан моим быстрым успехам в гипсовом классе, которым так удивлялись в Академии».
Кипренский опекал подающего надежды молодого офицера и в натурном классе и не ошибся в своем ученике, которого мы все знаем как замечательного русского скульптора, медальера и рисовальщика Федора Петровича Толстого. Таким необычайно чутким к таланту, готовым поделиться с молодыми своими знаниями, опытом, связями Кипренский оставался всю жизнь, и никакие удары судьбы не повлияли на его характер, не убавили его душевной щедрости, не привели к очерствению сердца.
Эти свойства натуры художника во многом, видимо, и предопределили его успех в совершенно новом для него жанре, которым Орест вдруг увлекся сразу же вскоре после окончания Академии. Что пробудило интерес исторического живописца Кипренского к «низкому жанру» портретиста? Легкость получения платных заказов, в чем он, будучи пенсионером, нуждался, или что-либо совсем другое, более глубокое? Нет, дело, конечно, было не в заработке. Первые портреты он писал со своих родственников или знакомых, что исключало какие-либо материальные выгоды: с приемного отца А. К. Швальбе, с бригадира Г. И. Жукова, унаследовавшего после смерти А. С. Дьяконова мызу Нежинскую, с пейзажиста С. Ф. Щедрина. Портретировал Кипренский, стало быть, близких сердцу, приятных людей. Всего к 1807 году молодой художник сделал 11 портретов, из которых до нашего времени дошел только один — А. К. Швальбе. Кто был, помимо Г. И. Жукова и С. Ф. Щедрина, изображен на остальных работах, мы не знаем. Но можно ручаться, что среди моделей Кипренского состоятельных меценатов, готовых осыпать золотом начинающего портретиста, конечно, не было ни одного, хотя в числе его произведений на публичной выставке, открытой Академией художеств в 1804 году, наряду с портретами А. К. Швальбе и Г. И. Жукова (а также набросков фигур натурщиков и композиции, посвященной А. С. Строганову) было и изображение некоего «Благородного дитяти». Неведомо нам и мастерство, с которым были выполнены другие ранние портретные произведения Кипренского. Тогдашний журнал «Северный вестник» удостоил упоминания лишь портрет А. К. Швальбе. Сам же автор очень любил эту свою работу — его портретный дебют, — высоко ценил ее, не расставался с нею почти до самой смерти, возил картину в Италию, показывал ее там на выставках.
Такую привязанность к картине можно объяснить только тем, что она открыла неведомые художнику грани его таланта, определив занятия портретным искусством по влечению сердца и души, а не в силу решения академических инстанций, не разглядевших подлинной сути таланта Кипренского и направивших его на чуждый его дару путь исторического живописца. Молодого, постоянно ищущего, необычайно чуткого к новым веяниям в искусстве художника историческая живопись с ее строго регламентированной системой изобразительных средств толкала на насилие над своим художественным темпераментом в угоду традиции. То, что он отменно усвоил в Академии законы «сочинения» исторической картины, Кипренский вполне убедительно доказал в «Дмитрии Донском на Куликовом поле», то есть в холсте, написанном в 1805 году согласно академической программе. На этот раз Орест не дал хода одолевавшим его романтическим настроениям. Картина написана в строгом соответствии с академическими канонами, она очень традиционна и по композиции с непременным треугольником силуэта, в центре которого помещен главный персонаж — Дмитрий Донской, и кулисным построением пространства, и по сдержанному колориту, и по самой технике с зализанной живописью, потерявшей сочный, пастозный мазок, которым написан портрет А. К. Швальбе. Она насквозь условна театральной жестикуляцией персонажей, очень напоминающей сценическое действо, использованием эффективных драпировок, введением фигуры воина с обнаженным торсом. И хотя претендент на Большую золотую медаль и в этой работе не смог полностью отрешиться от романтических веяний, наполнив картину бурным движением и написав вместо условного героического пейзажа вполне конкретные русские березы и сосны, академическое начальство присудило ему желанную награду.
Впереди теперь была и долгожданная поездка в «чужие края», которую, однако, отодвигали на неопределенное время «политические обстоятельства» и военные действия русской армии против Наполеона. Однако когда в 1807 году был заключен Тильзитский мир с Бонапартом и в августе 1808 года очередная группа пенсионеров Академии отправилась в Италию, Кипренского среди них не оказалось. Почему это произошло, что помешало ему осуществить свою давнюю мечту о поездке в Европу, неизвестно. Новое ли сердечное увлечение, которое уже однажды толкнуло его на попытку сменить кисть на саблю, или некая провинность перед академическим начальством? О «провинности», по всей вероятности, речи не может быть, ибо в 1806 году Кипренскому срок пребывания в Академии был продлен еще на три года.
«Благодетель» Александр Сергеевич позаботился и о том, чтобы, оставаясь при Академии, Орест мог пользоваться всеми правами и преимуществами «свободного художника», и постоянно приискивал ему заказы, вполне достойные его таланта. Для затеянного А. С. Строгановым издания эстампов с картин старых мастеров из его собрания Кипренский делает рисунки с работ Рафаэля, Корреджо, Рубенса, одновременно он пишет живописные копии с «Мадонны с младенцем» кисти Корреджо и с портрета антверпенского бургомистра Клааса Рококса кисти Ван-Дейка, участвует вместе с лучшими русскими живописцами в украшении Казанского собора. Работами по строительству собора руководил А. С. Строганов. Проект здания разработал А. Н. Воронихин.
В выгодности заказов для Казанского собора можно не сомневаться, но Ореста щедрое денежное вознаграждение никак не могло увлечь религиозной живописью. Из порученных ему сюжетов — «Иисус Христос среди апостолов по воскресении», «Моление о чаше», «Уверение Фомы», «Мироносицы, идущие ко гробу», «Воскресение Христово», «Иисус в вертограде с Марией Магдалиной», «Апостол Марк» — он ограничился выполнением только двух последних. Душа молодого художника не лежала к отвлеченным библейским темам, он стремился к отображению живых людей, с которыми приходилось общаться в гуще повседневной жизни, к передаче на холсте и бумаге не книжных, а реальных, конкретных чувств и настроений своих современников.
«Кто сказал, что чувства нас обманывают?» — вопрошал Орест в своем «философском» альбоме. Ответ на этот вопрос он давал кистью и карандашом, стремясь к созданию нового отечественного портретного искусства, которое должно было прийти на смену умозрительной и рассудочной портретной живописи прошлого века, провозгласить новое видение человека.
«Кто сказал, что чувства нас обманывают?»
Уже одной постановкой этого вопроса Кипренский заявлял о своем несогласии с предшественниками — и самими живописцами, и их моделями, полагавшими, что художник должен прежде всего думать о воплощении идеи человека, а не его самого с его реальным, конкретным, неповторимым внутренним миром, с его реальной, конкретной, неповторимой внешностью, чаще всего очень далекой от образцов античной красоты.
Г. Р. Державин, когда в Россию приехала знаменитая портретистка Анджелика Кауфман, написал стихотворное обращение к ней, изложив академические нормы портретного искусства, придерживаясь которых она должна была изобразить его жену:
Напиши мою Милену, Белокурую лицом, Стройну станом, возвышенну, С гордым несколько челом; Чтоб похожа на Минерву С голубых была очей, И любовну ласку перву Ты зажги в душе у ней…«Живописице», как называл Гавриил Романович Кауфман, он, по сути дела, не оставлял никакой свободы для собственной трактовки внешности и характера «его Милены», указав даже, каким должен быть цвет ее кожи, глаз и волос на портрете и каким выражение лица — горделивым, на манер Минервы…
Нет, работать портреты в такой манере Кипренский не хотел и не мог для людей нового века.
«Кто сказал, что чувства нас обманывают?»
Ведь эти чувства, внушаемые человеком, с которого пишется или рисуется портрет, и должны составить главное достоинство изображения. Слов нет, в портрете надобно прежде всего верно передать внешность человека, он сам и все его близкие и знакомые должны в портрете узнать изображенного, которому на полотне надлежит оставаться самим собой, а не перевоплощаться в некий абстрактный, идеальный образ. Но доподлинно верным портрет будет, ежели художник сумеет правильно изобразить и характер человека, для чего надобно уметь проникнуть в его душу. Вот где проявляется талант истинного портретиста — за видимым узреть невидимое, сокровенное, упрятанное в глубине человеческого естества…
Орест гордился, что уже с молодых лет научился читать в душах портретируемых, были ли они его сверстниками или умудренными возрастом седовласыми мужами, простодушными крепостными девушками или хозяйками великосветских салонов, крепостными музыкантами или знаменитыми писателями и художниками. Он не всегда рисковал признаться на полотне в том, что увидел и понял, наблюдая портретируемого, но когда ничто не мешало ему сделать это, из-под его кисти выходили подлинные шедевры, которым суждено было стать основополагающими вехами в отечественном портретном искусстве.
В начале века в Петербурге начали усиленно обживать два острова — Крестовский и Каменный.
Крестовский остров, покрытый густым, непроходимым лесом, еще во времена Елизаветы Петровны был украшен небольшим дворцом, имевшим в плане форму Андреевского креста, что и дало ему имя. Остров, подаренный позднее графу Алексею Григорьевичу Разумовскому, к 80-м годам XVIII века пришел в полное запустение, когда его приобрела за бесценок расчетливая Анна Григорьевна Козицкая. На Анне Григорьевне был женат вторым браком екатерининский дипломат Александр Михайлович Белосельский-Белозерский, потерпевший крах на дипломатическом поприще, как язвительно сообщает в одном из писем граф Ф. В. Ростопчин, за «идиллические депеши о французской революции». Ростопчин тут не грешил против истины. Князь, представлявший Россию сначала при дрезденском дворе, затем в Пьемонте, действительно видел в Великой французской революции событие исключительного значения, анализу и характеристике которого он уделял первостепенное внимание в своих донесениях. Посол был воспитан на трудах французских просветителей, и посему такое отношение к революция у него было вполне закономерным. Он вообще был известен как один из образованнейших русских людей своего времени, переписывался с Вольтером, Руссо, Бомарше, Мармонтелем, Делилем, Лагарпом и другими известными деятелями европейской культуры, дружил с В. Л. Пушкиным, Н. М. Карамзиным, И. И. Дмитриевым. Александр Михайлович и сам пробовал силы в литературе и музыке, за что удостоился избрания почетным членом Российской Академии наук и почетным любителем Академии художеств, а также был отмечен признанием Болонской и Нансийской академий. Из Европы князь привез в Россию богатое собрание книг, картин и статуй. Его художественную коллекцию сравнивали со строгановским собранием.
Попав в опалу, он так и не возвратился к дипломатической деятельности, хотя при Павле I опала была снята и А. М. Белосельекий-Белозерский был осыпан царскими милостями, а в царствование Александра I ему было пожаловано звание обер-шенка, чин действительного тайного советника и орден Александра Невского.
Но государственными делами князь занимался мало, увлекшись литературными опытами. У него были прелестные дочери от первого брака (его первая жена Варвара Яковлевна, урожденная Татищева, умерла в Турине в 1792 году), из которых уже в отроческом возрасте красотою и живостью ума отличалась Зинаида, будущая поклонница таланта Ореста Кипренского. Хозяйственные заботы Александр Михайлович препоручил своей супруге Анне Григорьевне, принесшей ему громадное состояние и умело приумножавшей его. Приобретение Крестовского острова тоже оказалось выгодным предприятием. Александр I, в начале своего царствования избравший для дачного сезона Каменный остров, соединил его мостом с Крестовским, после чего началось необыкновенное оживление всей этой стороны. Вслед за царем на модные острова кинулась заводить дачи вся знать, а вместе с нею другая богатая публика, буквально озолотив Анну Григорьевну Белосельскую-Белозерскую.
В числе других на островах завел дачу и Иван Васильевич Кусов.
Кусов был богатый купец, миллионер. Вигель, которому он приходился дальним родственником, рассказывает, что миллионера, несмотря на его худое происхождение, жаловал вниманием сам Александр I, дачный сосед богатого купца, удостаивал его визитами, даже трапезничал в кругу кусовского семейства. Это была одна из причуд венценосного соседа Кусовых. Когда императору приходило в голову отобедать в доме Кусовых, он предварительно оповещал об этом главу семейства Ивана Васильевича, дородного седовласого мужчину, которого посетители льстиво именовали патриархом по причине его многочисленного потомства, прижитого с тремя женами, отчего возраст окружавших его детей простирался от пяти до сорока пяти лет. «Патриарх», бывший коммерц-советником и кавалером орденов, полагал, что его богатство и знакомство с царем дают ему право попросту не замечать всех прочих нахлебников, но весь преображался, когда в его светлице появлялся божий помазанник. Обычно миллионер восседал с женой во главе длинного стола, а по бокам располагались два поколения потомства вперемежку с гостями, порою довольно чиновными. В случае же визита царя слуги удалялись, за стол с царем допускалась только женская половина семейства Кусовых — супруга Ивана Васильевича, его дочери, невестки. Кушанья подавали и меняли тарелки сыновья и зятья, а себе старик Иван Васильевич отводил самую мизерабельную роль, ибо во все присутствие венценосного гостя стоял за его стулом. Александру I, пренебрегавшему домами высокородных вельмож (которых точно магнитом притянуло вслед за ним на острова), дабы кто-либо из последних не слишком возомнил о себе, у раболепствующего купца было легко щеголять мнимым демократизмом; кусовская «простота», сообщает Вигель, нравилась царю, и в их доме «без всякого тайного умысла он делался весел и любезен».
Это и поразило воображение Лизаньки, кузины Вигеля, дочери обедневшего дворянина, выданной матерью в 16 лет замуж за сына миллионера Николая Ивановича Кусова, по словам Вигеля, «жирного и здорового» детину. Молодую женщину, воспитанную на французских романах, «с нежными чувствами, с умом и знанием приличий» в доме Кусовых никто, включая ее супруга, которого «смешило слово чувствительность», не понимал, как никого из своих купеческих родных не могла понять и она, со временем так возненавидевшая «широкие и раздутые кусовские лица», что с нею при виде их делались нервические припадки. Экзальтированная кузина Вигеля воспылала тайной страстью к «еще молодому (Александру в это время не было 30 лет), прекрасному, ласковому» человеку, «повелевающему миллионами людей», о чем ее невнимательный идол, кажется, даже не подозревал. Ее несчастливый брак с купеческим сынком окончился самым трагическим образом…
И вот в этой-то семье в 1808 году оказался Орест Кипренский, которому согласно желанию коммерц-советника надлежало увековечить его самого и всех его многочисленных чад и домочадцев.
Нелегкая стояла задача перед молодым портретистом. Дотоле ему не приходилось писать лиц купеческого звания, да к тому же ворочавших миллионами и знавшихся с самим царем, отчего не может не закружиться голова даже у знатных особ, не то что у людей самого что ни есть «низкого» происхождения… Однако купцы народ трезвый, расчетливый, не склонный к фантазиям, рассуждал сам с собою Кипренский.
Орест даже улыбнулся при мысли о том, как бы прогневался Иван Васильевич, когда бы он дерзнул изобразить его вроде батюшки, под голландского бургомистра или, паче того, в латах римских…
Тут всякие фантазии предосудительны. Писать Ивана Васильевича надобно таким, каков он есть, в подлинном природном виде: черном сюртуке, белой манишке, подпирающей короткую жирную шею белым же воротничком, и непременно при всех орденах. Но первейшее внимание сходству надобно обратить, дабы верность черт соблюдена была отменным образом, что есть наиглавнейшее условие успеха художника. Однако ж сходство сходству — рознь, мало черты верно передать, надобно жизнь в них вдохнуть, ответствующую нраву, летам и положению портретируемого посреди людей.
Кипренский во всем потрафил Ивану Васильевичу. Он решил тут не отступать от традиции и избрал для коммерц-советника привычную форму старого парадного портрета, изобразив его фигуру почти в целый рост и придав ей прямо вельможную важность и стать. Купец сидит в золоченом кресле, держа в руках раскрытую книгу, которая должна подчеркивать его просвещенность. Традиционный прием атрибута использован, однако, так, что он не дополняет созданный художником образ, а контрастирует с ним. Как-то очень уж неловко держит фолиант купец, привыкший, видно, больше орудовать безменом и амбарными книгами, а не держать в руках ученые труды и предаваться праздным мыслям.
Еще более реалистичным по своей сути представляется зрителю написанный тогда же портрет сына Ивана Васильевича — А. И. Кусова, имеющего действительно «широкое и раздутое кусовское лицо» с чванливо искривленным ртом…
И в это же время, проявляя поразительную гибкость кисти, Кипренский пишет парные портреты супругов П. П. и А. В. Щербатовых, выдержанные в лучших традициях XVIII века. И в это же время он выполняет портреты своего друга, мецената и любителя искусств А. Р. Томилова и ректора Горного института А. И. Корсакова, в которых от XVIII века есть еще атрибуты, указывающие на род занятий портретируемых (миниатюра в руке А. Р. Томилова, чертеж Горного корпуса в руке А. И. Корсакова), но уже нет преграды, отделяющей их от зрителя. Зрителя, которого захватывает мысль, поглотившая А. И. Корсакова, зрителя, который ждет новых, красноречивых слов об искусстве от задумавшегося вдруг А. Р. Томилова. И в это же время Орест пишет «Художника с кистями за ухом» и «Молодого человека в розовом шейном платке», чисто романтические по всему своему строю работы, вершины его творческих искании в эту пору.
Если другие произведения по сравнению с прорывом вперед, сделанным портретом А. К. Швальбе, кажутся некими отступлениями художника, еще только собирающегося с силами, чтобы свершить переворот в отечественном портретном жанре, то два последних полотна как бы говорят, что он теперь приступает к осуществлению своего замысла.
Удивительно, что почти целый век считалось, что это — автопортреты художника, и как таковые они брались за начальную точку отсчета при анализе всей автопортретной серии, оставленной Кипренским. Невооруженным глазом нетрудно увидеть, что на них изображен не автор, не Орест Кипренский, а другие люди. Но ошибка эта совсем не случайна. Не случайна потому, что в «Художнике с кистями за ухом» и «Молодом человеке в розовом шейном платке» Кипренский выразил свое собственное представление о романтической творческом личности — вдохновенной, раскованной, полной чувства собственного достоинства, веры в жизнь, в людей, в искусство, — выразил настолько ярко и талантливо, вложил столько своего, личного, сокровенного, что созданные им образы зритель невольно стал идентифицировать с образом самого их творца.
Москва и Тверь
Москва… как много в этом звуке
Для сердца русского слилось!
Как много в нем отозвалось!
А. С. Пушкин27 февраля 1809 года в протоколе Академии художеств было отмечено, что в Москву отправляется в отпуск для работы над монументом Минину и Пожарскому адъюнкт-профессор И. П. Мартос. Одновременно вместе с ним выезжал и Орест Кипренский, «коему, — гласила запись, — быть во все время при нем, господине Мартосе».
Планировавшаяся попервоначалу отлучка всего в двадцать восемь дней обернулась для Кипренского трехлетним пребыванием в старой русской столице и в Твери. Эти три года, когда молодой живописец впервые был совершенно избавлен от мелочной опеки Академии, обозначили очень важный этап в его жизни и творчестве. В Москве его ждали новые впечатления, встречи с новыми людьми, новые важные завоевания в портретном искусстве.
В солнечный морозный день, усевшись в кибитке рядом с почтенным профессором, Орест отправился в Москву. До распутицы было еще далеко, сани легко скользили по наезженной дороге.
Мартос в пути больше дремал, оставляя своего молодого попутчика наедине с восторгами, которые теснили грудь Ореста при мысли о предстоящей встрече с первопрестольной. Заснеженные просторы полей, темные сосновые боры, бревенчатые крестьянские избы, осевшие по самые дымовые трубы в глубоких сугробах, так напоминали родные копорские места, что поначалу Орест и сам не заметил, как целиком предался воспоминаниям детства, такого мимолетного и так резко оборванного Академией, что двадцатичетырехлетнему художнику оно виделось точно в тумане. Он, этот туман, не позволял охватить памятью всю картину и открывал только ее отдельные детали, от которых сладко щемило сердце и становилось теплее и светлее на душе. Виделась мать, совсем еще молодая и красивая, не чаявшая души в своем первенце. Ясно, будто это было вчера, она предстала перед глазами. Стояла на крыльце с заплаканным лицом и все махала и махала рукою вслед бричке, увозившей ее Ореста в столицу, к чужим людям, в чужую, непонятную ей жизнь. То вдруг возникал в памяти суровый лик отца, которого ему так пресчастливо удалось изобразить кистью. Суровый только с виду, а на самом деле всегда бесконечно добрый ко всем, а в особенности к нему, Оресту, коего он почитал за великий художественный дар, вызывавший в старике удивление и восторг. То из тумана забывчивости выплывал сам барин Алексей Степанович Дьяконов, в парике и с тростью важно прохаживавшийся по аллеям приусадебного парка. Встречая мальчика, единственного дворового ребенка, отличаемого им отменною ласкою, он гладил его по голове и вел в барские покои, чтоб показать гравюры и картины собственного собрания — предмета большой его гордости. Барину отрадно было видеть, что он сызмальства внушил Оресту любовь к художествам. С умилением в сердце он наблюдал, как у мальчугана загорались глаза, когда он объяснял смысл и значение изображений.
— Картина сия есть «Мадонна в кресле» Рафаэлевой кисти! Рафаэль суть художник италианский, талант необъятный, гений величайший всех времен и народов…
Уже с тех, младенческих лет Орест проникся глубоким преклонением перед этим художником, у которого каждый штрих, каждый мазок были исполнены божественной красоты и силы, которого каждое творение было пределом совершенства, говорило о полном постижении их творцом великой тайны гармонии. Рисунок у него легкий, непринужденный, но чрезвычайно выразительный, полный какой-то поистине музыкальной красоты. А расположение фигур, а их освещение, колер, выражение лиц — все чудо, чудо! Ах, Рафаэль, Рафаэль, ты всегда будешь альфой и омегой для всех художников!
Какой избрать путь, дабы подобного совершенства в художествах достигнуть? Следовать при сем заветам великих, но искать свою манеру. Такую манеру, с каковою портрет батюшки исполнен, никем не испытанную, красоту души человеческой передающую. Тайна души велика есть. Из всех человеческих мудрствований главное то, что сердца людские постигать учит. Без оного портретному живописцу никак нельзя. Но есть ли наука, чтоб ключи к сердцам человеческим подбирать? Нет такой науки. Надобно ее самому себе сотворить, из опыта исходя. Человека надо наблюдать во всех проявлениях и поступки его мерить по себе самому. Тогда душу чужую толковать легко будет, и человек на портрете будто на исповеди явится, о лучших побуждениях естества своего сам тебе поведает. Не тщетны в таком случае станут труды художника и кисть его будет любви служить, благородство душ и ума гордый полет славить. Портретисты ранее все снизу вверх на предмет своей кисти глядели, а надобно с ними вровень стоять. Вот он наикратчайший путь к славе…
В Москву приехали на шестой день путешествия. Молодой художник, так же охотно прибегавший к перу, как и к кисти, для передачи своего восприятия жизни, природы и людей, наверное, подробнейшим образом поведал петербургским друзьям о встрече с древним русским градом, но эти письма до нас или не дошли, или до сего времени не обнаружены в архивных хранилищах. Нетрудно, однако, вообразить, каким радостным волнением охватило Ореста, когда вдали наконец замаячили силуэты первопрестольной, как сильно билось его сердце при виде древних стен Кремля, как его художническому глазу приятно было наблюдать живописный облик старой русской столицы, причудливым образом соединявшей в себе достоинства великого города с удобствами и неторопливым течением деревенской жизни.
Наутро Орест проснулся первым, наскоро позавтракал и — бегом на улицу. Взял первого извозчика и понесся на Поклонную гору — полюбоваться городом с возвышенности, откуда вся Белокаменная, говорила молва, ровно как на ладони была.
Вот она, матушка-Москва! Покуда хватал глаз на необозримом пространстве лежал стольный град, подняв к небу несчетные золотые маковки церквей и колоколен. Народная молва не преувеличивала. Церквей и часовен в Москве значилось сорок сороков — 1600. Домов же в древнем граде было 9158, из коих более 6500 — деревянных. Число же жителей Москвы достигало 251 700 душ, две трети коих были крепостными…
Строгий, чинный, каменный Петербург и хаотичная, безалаберная, живописная, деревянная Москва! Петербург был окном в Европу, там ритм, весь дух жизни определил двор и придворные с их чисто немецкой манией порядка, строгой регламентацией, казарменным единообразием. Москва же была полной противоположностью граду Петра. «Столицей в отставке» нарек Белокаменную остроумный Федор Васильевич Ростопчин, ее будущий генерал-губернатор и главнокомандующий в войну 1812 года, а к моменту приезда Кипренского влачивший там незавидное существование опального павловского сановника, — одна из самых колоритных фигур консервативной оппозиции политике Александра I, свившей себе гнездо у стен Кремля. Наряду с Ростопчиным в Москве обитали многие другие вельможи, удалившиеся от двора, не желавшие служить и предававшиеся там каждый своим причудам, нимало не обращая внимания на то, как их образ жизни будет воспринят окружающими.
В Москве любой вельможа мнил себя маленьким царьком в собственном микрокосмосе. Каждый при этом старался переплюнуть другого — безумной роскошью, экстравагантностью нравов, широтой русской натуры, истинной или мнимой образованностью. За вельможами, обладавшими колоссальными состояниями, изо всех сил тянулись их титулованные собратья, не обладавшие таковыми, но также пытавшиеся пустить пыль в глаза своей ошеломляющей расточительностью. В Москве все не знало меры: ни подражание иностранному в манерах, ни погоня за последним криком моды, ни страсть к наслаждениям. Здесь царила некая вольница, которая выражалась в том, что личность в Москве не так подавлялась, как в Петербурге. В старой русской столице, наряду с «оригиналами» грибоедовского склада, рождались совершенно иные люди, которые вырабатывали свой собственный взгляд на вещи, на российскую действительность, которые думали и умели высказывать наболевшее на сердце ясным, живым, «московским» языком, так непохожим на бюрократический, мертвый, казенный петербургский стиль.
Словом, Петербург существовал для того, чтобы служить, зарабатывать высокие должности, чины, звания, ордена, а Москва — чтобы жить. И потому Москву все единодушно ругали и также единодушно любили. Ее обаяние на всех — и русских людей и иностранцев — действовало неотразимо.
Константин Батюшков в годы жизни Кипренского в Москве написал очерк о старой русской столице, в котором очень ярко и живо отразил пеструю мозаику впечатлений от города, от его людей, которые шокировали, вызывали чувства удивления, восторга, жалости, презрения, негодования, протеста, от его жизни, которая, несмотря на хор осуждения, казалась такой привлекательной всем посторонним, всем немосквичам…
Вот тип высокородного вельможи, обитающего в «огромных палатах», украшенных мраморными колоннами и большим парадным подъездом. Его хозяин — олицетворение праздности. Он целый день «зевает у камина», меж тем как вкруг него все в движении: гремит музыка, на хорах хлопочет разодетая в галуны многочисленная челядь, на столы опрокинут полный рог изобилия. Безудержная роскошь, которой окружен этот вельможа, суть выгоды его знатного звания, унаследованного от предков, которые оставили ему так много деревень, что он не знает даже, в каких они губерниях находятся. Зато он наперечет знает всех любовниц Людовика XIV и все тайны его двора, а заодно на память может составить полный реестр всех улиц и площадей Парижа…
Не жалует Батюшков и поклонников ветхозаветных времен. Вот тип старого москвича, богомольного князя. Дом его тоже с большим подъездом с перилами, как водилось у дедов. Перед подъездом — двор, заваленный мусором и дровами, за домом — огород. В прихожей — толпа оборванных, грубых и пьяных слуг, которые с утра до ночи играют в карты. Комнаты без обоев, стулья без подушек, как в доме нарисованного Гоголем позднее Манилова и как у него же — с большими претензиями на просвещенность и вкус по стенам развешаны портреты в рост русских царей, а также картины с Юдифью, держащей окровавленную голову Олоферна, и с обнаженной Клеопатрой со змеей: чудесные произведения кисти домашнего маляра. На столе — щи, каша в горшках, грибы и бутылка с квасом. За столом — хозяин в тулупе, хозяйка в салопе, по правую руку от них — приходской поп, приходской учитель и шут, а по левую — толпа детей, старуха-колдунья, мадам и гувернер из немцев…
Или вот такой московский «оригинал», как князь Н. Б. Юсупов, который в Харитоньевском переулке держал гарем с 15–20 смазливыми дворовыми девицами. «Великим постом, — рассказывает современник, — когда прекращались представления на императорских театрах, Юсупов приглашал к себе закадычных друзей и приятелей на представление своего крепостного кор-де-балета. Танцовщицы, когда Юсупов давал известный знак, спускали моментально свой костюмы и являлись перед зрителями в природном виде, что приводило в восторг стариков, любителей всего изящного».
В Москве действительно находились развлечения на всякий вкус. Большой популярностью пользовались кровавые петушиные и гусиные бои, смотреть которые вместе с барами собиралась и публика попроще: купцы, мещане, дворовые люди. Современник так живописует это зрелище, устроенное при большом стечении любопытствующих в доме князя И. С. Мещерского: «…Петушиный бой можно назвать сущею жестокостью, не менее отвратительною, как и медвежья травля. Выпущены, предварительно свешанные, два петуха с обстриженными и обдерганными шеями и хвостами, так что каждое перышко представляло какую-то иглу. Ноги были вооружены косыми, острыми шпорами. Они тотчас же бросились друг на друга с необыкновенною яростью и, несмотря на нанесенные друг другу раны, продолжали биться до тех пор, пока у одного не были совсем выбиты глаза и он не ослабел совершенно от истекавшей крови. Бедняга упал и подняться не мог, но соперник не переставал бить и терзать его до тех пор, пока он не остался без всякого движения. Их не разнимали, потому что условием заклада был бой насмерть».
Триумфатор-петух, принадлежавший купцу из Охотного ряда, несмотря на раны, был тут же продан за огромную по тем временам сумму в 200 рублей.
Впрочем, настоящие любители острых ощущений предпочитали кулачные бои, которые собирали огромное число любопытствующих. Ходили стенка на стенку, либо устраивались поединки первых силачей города. На Неглинной, сообщает один мемуарист, «сходились бурсаки духовной академии и студенты университета, стена на стену: начинали маленькие, кончали большие. Университантам помогали неглинские лоскутники. Когда первые одолевали, то гнали бурсаков до самой академии. Народу стекалось множество; восклицания сопровождали победителей, которые нередко оставляли поприще свое, по старой пословице „наша взяла и рыло в крови“; у одного под глазами ставилось сто фонарей, другой недосчитывается зубов и т. д.».
Кулачные бои были подлинно народным развлечением. Но ими увлекались и вельможи. Страстным охотником до них слыл граф Алексей Григорьевич Орлов, перед зимним домом которого в Нескучном саду проходили наиболее известные кулачные ристалища.
К месту боя подвозились целыми возами кожаные рукавицы, которые надевали бойцы из фабричных ребят, целовальников, мясников. Случались тут любители блеснуть своей силой, удалью и отвагой и из купцов, одетых в лисьи шубы, и даже из господ. Перед поединком соперники согласно традиции обнимались и целовались троекратно. Говорили, что участием в кулачных боях не гнушался и сам граф Федор Васильевич Ростопчин, научившийся искусству кулачного поединка у англичан. Молодым выходил на бой и Алексей Григорьевич, тоже первейший силач. Особенно почитались в Москве сильнейшие бойцы, коих было трое. Худенький, поджарый чиновник Ботин, такого же сложения фабричный Соколик и обладавший чудовищной силой, тоже фабричный, Семен Трещала, который, как говаривали в Москве, один валил целую стену бойцов. Сила силою, а ловкости у него было меньше, чем у поджарого Ботина. Московский старожил В. Ф. Щербаков рассказывал, что «раз играл Трещала с чиновником Ботиным на бильярде в трактире, да и поссорились: развернулся Трещала его ударить, да тот увернулся, — Трещала и попал кулаком в печь, да так целый изразец из печи вон и вышиб. Тут ударил Трещалу Ботин, да угодил прямо в висок и убил его сразу; начали было его таскать по судам, но граф Орлов выручил…»
Кроме кулачных и петушиных боев, устраивались и другие забавы, в которых вместе с господами принимал участие и простой люд: маскарады на святках, церемонии крещенского водосвятия 6 января, которые сопровождались колокольным звоном и пушечной пальбой и собирали на Москве-реке столько народу, что трещал лед; масленичные катания с ледяных гор, санные гонки, скачки. Ряженые облачались в старинные русские, древнеримские, рыцарские, испанские костюмы и отправлялись по городу, где для них были открыты все дома и приготовлено угощение с вином и разными «заедками». В аристократических домах на масленую развлекались, устраивая «живые картины». Излюбленными сюжетами были святая Цецилия, сибиллы и дебелые тициановские героини. Потом переходили в родную стихию, барышни одевались поселянками и держали в руках грабли или сноп ржи, а то переодевались в сарафаны и лихо отплясывали русскую. Часто не зная толком русского языка, они отлично владели русским фольклором, истово выполняли все старинные обряды, что не могло искоренить в них никакое французское воспитание, никакие галломанские привычки и обычаи высшего света. Толстовская Наташа Ростова, отлично танцевавшая русскую, совсем не была белой вороной в своем кругу…
Во время массовых народных гуляний тон задавали богатые вельможи. Первенствовал здесь опять же граф Алексей Григорьевич Орлов, который, переехав в Москву, занялся коннозаводским делом, выведением улучшенной породы лошадей. Граф стал устраивать бега на Калужской улице, близ Донского монастыря, а вслед за этим вдохнул новую жизнь в бега на льду Москвы-реки, превратив их в красочное представление. Он воздвиг беседку, из которой наблюдал за состязаниями, сам участвовал в бегах на любимых рысаках Любезном и Катке.
По окончании бегов перед беседкой графа пели и плясали цыгане, а потом устраивались кулачные бои. Победителю в награду кидали в шляпу деньги и поили вином. Не забывали и побежденного, которому также доставалось пригоршни две серебряных монет.
Про цыган говорили, что прежде они были крепостными графа А. Г. Орлова, который даровал им свободу. Искусство цыган, их песни, пляски и до пожара, и позже пользовались в Москве огромной популярностью. Всеобщей любовью была окружена цыганка Степанида, более известная под именем Стешки, обладавшая замечательным голосом, которым она так восхитила знаменитую итальянскую оперную певицу Анджелику Каталани, гастролировавшую в России, что она, слушая ее, прослезилась, назвала ее в числе лучших артисток не только в России, но и в целой Европе и подарила ей дорогой перстень стоимостью в тысячу рублей. Этот эпизод встречи Стешки с Каталани позднее упомянул Пушкин, тоже страстный любитель цыганского пения, в своем знаменитом послании к «царице муз и красоты» Москвы 1820-х годов княгине Зинаиде Александровне Волконской, урожденной княжне Белосельской, уже встречавшейся на наших страницах. Характерно, что поэт в этом стихотворении уподобляет себя «цыганке кочевой» Стешке, а З. А. Волконскую, поэтессу, композитора и певицу (с ее «задумчивым челом, двойным увенчанным венком») — пользовавшейся европейской известностью итальянской артистке:
Певца, плененного тобой, Не отвергай смиренной дани, Внемли с улыбкой голос мой, Как мимоездом Каталани Цыганке внемлет кочевой.Общественно-политическим форумом в Москве был Английский клуб, членам которого позднее так досталось от Александра Пушкина. Но молодому провинциалу С. П. Жихареву, который переступил порог Английского клуба в 1806 году, он показался ареопагом мудрецов, проявляющих в отношениях друг с другом терпимость философов афинской школы. «Какой дом, какая услуга — чудо! — писал он. — Спрашивай чего хочешь — все есть и все недорого. Клуб выписывает все газеты и журналы, русские и иностранные, а для чтения есть особая комната, в которой не позволяется мешать читающим. Не хочешь читать — играй в карты, в бильярд, в шахматы, не любишь карт и бильярда — разговаривай: всякий может найти себе собеседника по душе и по мысли… Он показался мне каким-то особым маленьким миром, в котором можно прожить, обходясь без большого (мира). Об обществе нечего и говорить: вся знать, все лучшие люди в городе членами клуба».
Среди членов Английского клуба были Н. М. Карамзин, И. И. Дмитриев, старый князь А. П. Вяземский и его сын, «молодой лев» Петр, братья Василий Львович и Сергей Львович Пушкины, острословы и стихотворцы, — словом, весь цвет образованной московской дворянской интеллигенции.
Одной из самых оригинальных фигур среди титулованных жителей допожарной Москвы был опальный граф Федор Васильевич Ростопчин. Л. Н. Толстой в «Войне и мире» нарисовал нам образ московского генерал-губернатора в основном одной — черной краской, изобразив его желчным сумасбродом, во многом виноватым в пожаре и гибели Москвы. Не жаловали графа и многие современники, тоже возлагая на него немалую долю ответственности за бедствия жителей старой русской столицы в грозную годину двенадцатого года. Другие же современники, например, Вигель, чрезвычайно положительно оценивают роль Ростопчина на посту генерал-губернатора, в привлекательном свете рисуют его человеческий качества, энергию и ум, высокую культуру и образованность.
Истина, как всегда, лежит где-то посредине между этими крайними суждениями.
Ростопчину не было и 40 лет, когда на него обрушилась опала Павла I. Поначалу он отсиживался в своей деревне, потом обосновался в Москве, где влился в кампанию обломков екатерининской эпохи, доживавших свой век в старой столице. Считать, однако, что эти жившие воспоминаниями шестидесяти- и семидесятилетние старцы, представители древних аристократических родов, приняли новоиспеченного павловского графа как своего, пожалуй, нельзя. Ростопчин в этой среде подвергался известному остракизму, за что платил презрением и насмешками, нажив себе этим немало врагов. Но графа это мало беспокоило. «Странный, непонятный был он человек! — писал о Ростопчине Вигель, не жаловавший обычно своих современников. — Без малейшего отвращения смотрел он на совершенное отсутствие мыслей московских, даже высших обществ и чрезвычайно забавлялся их нелепыми толками, сплетнями, пересудами». «Известное острословие свое, — продолжает Вигель, — умел Ростопчин удерживать, пока был государственным сановником; но тут, сделавшись мирным обитателем старой столицы, он захотел сложить оковы этикета, налагаемые на людей, находящихся в высоких должностях. Тогда дал он волю речам своим, но скоро увидел, с кем имеет дело. Можно было найти тогда в Москве довольно людей, которые, как говорится, были ему по плечу: …им одним мог он передавать высокие думы свои, сообщать свои оригинальные рассказы. С прочими же обходился он просто, был словоохотен, любил пошучивать и употреблял с ними язык, которым говорят совершеннолетние, играя с детьми».
Косной, консервативной, староукладной Москве было за что недолюбливать графа и бояться стать мишенью его язвительных выходок, но она разделяла его неистовую ненависть к «корсиканскому чудовищу», негодовала по поводу Тильзитского унижения, горячо надеялась на реванш после позора Аустерлица. Слишком горьким было отрезвление при вести о жестоком разгроме русской армии, ибо в канун сражения в Москве, как и в целой России, мало кто сомневался в победе над «Бонапартием».
Ведь еще в преддверии битвы члены достославного Английского клуба в Москве не сомневались в грядущей победе, а граф Ф. В. Ростопчин уверял, что русская армия такова, что ее не понуждать, а скорее сдерживать надобно, и если что может заставить страшиться за нее, так это одна излишняя ее храбрость. Достаточно только сказать: «За Бога, за царя и святую Русь», — чтобы русские солдаты без памяти бросились в бой и ниспровергли все преграды.
Вера в победу была так велика, что один из завсегдатаев Английского клуба, толстый, мирный помещик, расхрабрившись, при всем почтенном обществе кричал: «Подавай мне этого мошенника Буонапартия! Я его на веревке в клуб приведу». Когда у остряка-поэта Василия Львовича Пушкина, случившегося в тот момент быть в клубе, спросили, кто этот храбрец, который так отважно собирается расправиться с Наполеоном, тот тут же выдал такой экспромт:
Он месяц в гвардии служил И сорок лет в отставке жил, Курил табак, Кормил собак, Крестьян сам сек — И вот он в чем провел свой век!Ростопчин метал громы и молнии по адресу «московских пустомель», которые днем в Английском клубе кляли на чем свет стоит Бонапарта, а вечером битком наполняли залы театров, где давали представления французские труппы. С. П. Жихарев, бывший сам заядлым театралом, обескураженно замечал по этому поводу: «…Пока мы деремся с заграничными французами, здешние французы ломают разные комедии и потешают Москву как ни в чем не бывало. Никогда французский театр не видал у себя стольких посетителей, сколько съехалось в сегодняшний бенефис мадам Сериньи и мсье Роз».
Ростопчин гневно бичевал галломанию и преклонение перед всем иностранным, весьма распространенные среди москвичей, в своих комедиях и полемических брошюрах, в которых находил выход его неуемный политический темперамент, пока он находился не у дел.
Впрочем, не у дел граф находился только до 1809 года, когда царь, встретившись с Ростопчиным в Москве, оценил ум и энергию опального вельможи и призвал его в Петербург, где он был сделан обер-камергером и членом Государственного совета «с дозволением жить в Москве». С тех пор влияние Ростопчина стало расти.
Экстравагантные выходки Федора Васильевича никогда не обманывали его близких друзей, которые хорошо знали, что в этом человеке одновременно уживается и ловкий царедворец, и тонкий политик, и глубокий эрудит, собравший отличную коллекцию картин и великолепную библиотеку и обменивавшийся книжными редкостями с первым московским библиофилом графом Дмитрием Петровичем Бутурлиным.
И вот с таким сложным и противоречивым человеком Кипренскому довелось сойтись в Москве, при его содействии обрести очень важные знакомства и даже быть представленным членам царского дома…
Кипренский вошел в историю русского искусства как первый художник, который был тесно связан со всем миром отечественной культуры. Однако в этот избранный круг образованнейших русских людей как свой Кипренский был принят не сразу. Одно дело строгановский салон, куда президент Академии специально вводил наиболее одаренных своих воспитанников, и совсем другое дело иные кружки, где требовалось если не знатное происхождение, то обязательно — для людей литературы и искусства — общественное признание и известность. А таковых у вчерашнего выпускника Академии Ореста Кипренского пока не было. В Москве в этом отношении все было значительно проще.
Кипренский быстро вошел в число завсегдатаев литературно-светских салонов, начиная с салона Ростопчина, который посещали поэты, писатели и художники. Бывал здесь и такой «домосед», как Н. М. Карамзин, через которого, как надо полагать, Кипренский познакомился с П. А. Вяземским, начинавшим в это время печатать свои первые стихи, и написал с него портрет маслом, ныне утраченный, а также, по-видимому, и с В. А. Жуковским, который в 1808 году приступил в Москве к редактированию журнала «Вестник Европы». Образованная, культурная Москва была не такой уж многочисленной, ее представители чуть ли не повседневно общались друг с другом то в Английском клубе, то в салонах, то во время домашних театральных представлений, которые в старой русской столице были в большом ходу. Молодой, общительный и веселый петербургский художник стал своим человеком в кругах московских любителей искусства, оценивших его талант портретиста, готовность выступить в литературном состязании с чтением своих стихотворных опытов, горячую любовь к театру.
Среди домашних театров в Москве славились представления в доме графа Дмитрия Петровича Бутурлина, знаменитого библиофила и театромана, ставившего у себя на сцене драматические спектакли и даже оперы и выступавшего нередко в главных ролях. Спектакль был для графа неким священнодействием. Поэтому гости, какими бы знатными они ни были, находили двери его дома запертыми на замок, если они хотя бы на минуту опаздывали на представление.
Граф Бутурлин собрал замечательную библиотеку, насчитывавшую сорок тысяч томов и включавшую в себя редчайшие издания и рукописи, слава о которой шла по всей Европе. Дмитрий Петрович и сам по себе выступал в качестве некой живой московской достопримечательности. Французская портретистка Виже-Лебрен, побывавшая в Москве в 1800 году, рассказывала в своих мемуарах: «Граф Бутурлин был одним из самых выдающихся людей по своей учености и знаниям. Он говорил с удивительной легкостью на многих языках, а разнообразнейшие сведения придавали его разговору чрезвычайную прелесть; но это его преимущество нисколько не мешало ему отменно держаться просто, равно как и принимать радушно всех своих гостей. У него была в Москве огромная библиотека, состоявшая из различных иностранных и самых дорогих книг; память его была такова, что если он упоминал о каком-нибудь историческом факте, то он сейчас же прибавлял, из какой именно книги он это знает и где именно, в какой зале и на какой полке стоит эта книга… Я испытала это на себе, когда он говорил со мною о Париже, о его памятниках и достопримечательностях, и даже вскричала: не может быть, чтобы вы не были в Париже!»
Особо близкие отношения у Бутурлиных были с братьями Сергеем Львовичем и Василием Львовичем Пушкиными, тоже страстными театралами, непременными участниками представлений, устраиваемых в доме библиофила. Оба они сочиняли стихи, а Василий Львович и печатался, и к тому времени был уже довольно известным поэтом. Он в 1803 году совершил путешествие в Европу, встречался там с литературными знаменитостями, был принят Бонапартом, тогда первым консулом, а возвратясь в Россию, привез с собой отличную библиотеку.
В. Л. Пушкин с его восторженным характером, страстью к литературе и театру, чрезмерным вниманием к своей внешности и одежде был мишенью непрестанных иронических выходок со стороны друзей, которые без конца испытывали незлобивый нрав и неистощимое добродушие этого взрослого ребенка, подтрунивая над его слабостями.
П. А. Вяземский так рисует портрет Василия Львовича, только что вернувшегося из заграничного вояжа: «Парижем от него так и веяло. Одет он был с парижской иголочки с головы до ног… В простодушном самодовольстве давал он дамам обнюхивать свою голову». И. И. Дмитриев, когда В. Л. Пушкин собирался в заграничное путешествие, сочинил шутливое стихотворение, в котором заранее предсказал его восторги от встреч с чужеземными нравами и знаменитостями:
Друзья! сестрицы! я в Париже! Я начал жить, а не дышать! Садитесь вы друг к другу ближе Мой маленький журнал читать: Я был в Лицее, в Пантеоне, У Бонапарта на поклоне; Стоял близехонько к нему, Не веря счастью моему.Василий Львович нисколько не обиделся на И. И. Дмитриева за сочинение, в котором так мастерски был очерчен его образ, и с удовольствием читал его своим знакомым, включая и вот эти строки:
Я сам готов, когда хотите, Признаться в слабостях моих; Я, например, люблю, конечно, Читать мои куплеты вечно, Хоть слушай, хоть не слушай их; Люблю и странным я нарядом, Лишь был бы в моде, щеголять; Но словом, мыслью, даже взглядом Хочу ль кого я оскорблять? Я, право, добр! и всей душою Готов обнять, любить весь свет!..Наибольшую популярность Василию Львовичу, впрочем, обеспечила ходившая в это время в рукописных списках поэма «Опасный сосед», считавшаяся очень озорной по своему содержанию, ибо описывала посещение автором вместе со своим соседом Буяновым «веселого дома» и учиненную там драку. Поэма, написанная сочным, живым, выразительным языком, ценилась современниками за поистине хогартовское мастерство, проявленное автором при изображении удальского нрава своего героя.
Его брат Сергей Львович в печать стихов своих не отдавал и предпочитал читать их в светском обществе, где чрезвычайный успех имели также его остроты и каламбуры, надолго остававшиеся в памяти современников.
Жена Сергея Львовича, происходившая от арапа Петра Великого и обладавшая «прекрасной наружностью креолки», как и муж, безмерно любила светские развлечения. К Бутурлиным, своим родственникам, Пушкины являлись запросто, без затей, приводя с собой старших детей — дочь Ольгу и десятилетнего Александра. Дети Пушкиных либо резвились со своими сверстниками в детской, либо вместе со взрослыми были зрителями и слушателями театральных представлений и литературных чтений.
Для старших детей у Бутурлиных по субботам устраивались танцевальные вечера, в которых иногда принимал участие и Александр Пушкин.
Одна современница так вспоминала об этих вечерах: «Года за два или за три до французов, в 1809 или 1810 году, Пушкины жили где-то за Разгуляем, у Елохова моста, нанимали там просторный и поместительный дом, чей именно — не могу сказать наверно, а думается мне, что Бутурлиных. Я туда ездила со своими старшими девочками на танцовальные уроки, которые они брали с Пушкиной девочкой…
Пушкины жили весело и открыто, и всем домом заведовала больше старуха Ганнибал, очень умная, дельная и рассудительная женщина; она умела дом вести, как следует, и она также больше занималась и детьми: принимала к ним мамзелей и учителей и сама учила. Старший внук ее Саша был большой увалень и дикарь, кудрявый мальчик лет девяти или десяти, со смуглым личиком, не скажу, чтобы слишком приглядным, но с очень живыми глазами, из которых искры так и сыпались.
Иногда мы приедем, а он сидит в зале в углу, огорожен кругом стульями: что-нибудь накуролесил и за то оштрафован, а иногда и он с другими пустится в плясы, да так как очень он был неловок, то над ним кто-нибудь посмеется, вот он весь покраснеет, губу надует, уйдет в свой угол и во весь вечер его со стула никто тогда не стащит: значит, его за живое задели, и он обиделся; сидит одинешенек. Не раз про него говаривала Марья Алексеевна: „Не знаю, матушка, что выйдет из моего старшего внука: мальчик умен и охотник до книжек, а учится плохо, редко когда урок свой сдаст порядком: то его не расшевелишь, не прогонишь играть с детьми, то вдруг так развернется и расходится, что его ничем не уймешь; из одной крайности в другую бросается, нет у него средины. Бог знает, чем это все кончится, ежели он не переменится“. Бабушка, как видно, больше других его любила, и журила порядком: „Ведь экой шалун ты какой, помяни ты мое слово, не сносить тебе своей головы“».
Москва меценатов и библиофилов, писателей и ученых, радетелей отечественной культуры и патриотов приняла талантливого художника с распростертыми объятиями и немало способствовала тому, что именно здесь расцвело его дарование портретиста.
Орест работал в Москве так много, что Ростопчин писал в Петербург, что он «почти помешался от работы».
Первыми московскими портретами были, по-видимому парные изображения его московского покровителя графа Федора Васильевича и его милой супруги Екатерины Петровны. Именно эти блестяще исполненные полотна прославили Ореста в Москве и сделали имя его популярным.
Портреты Ростопчиных понравились москвичам прежде всего потому, что художник, отступив от общепринятых правил, совсем не захотел польстить своим моделям и написал их такими, какими они представились ему в жизни. Ф. В. Ростопчин, розовощекий, самоуверенный вельможа с большим лысеющим лбом и глазами навыкате изображен художником сидящим в кресле и погруженным в размышления. Но его глаза странным образом устремлены не внутрь себя, как у всякого задумавшегося человека, а зорко следят за чем-то, что происходит где-то в стороне от того направления, куда обращено его лицо. Оттого в его фигуре нет и тени «медитационной» расслабленности, она полна скрытого беспокойства и напряженности, точно сильно сжатая стальная пружина, готовая в любую минуту расправиться и высвободить искусственно сдерживаемую энергию. Вместе с чрезвычайно активным, действенным началом в характере Ф. В. Растопчина Кипренский откровенно показал и его чванливость, взбалмошность, деспотические черты…
Полную противоположность Федору Васильевичу представляет собой образ его жены, хрупкой по сложению, с покатыми плечами, на вид безвольной особы, которую художник изобразил с таким потерянным выражением на лице, что кажется, будто из глаз ее вот-вот брызнут слезы. Но вглядевшись пристальнее в эту женщину со скромной наружностью, пожалуй, даже некрасивую, в ее глазах замечаешь глубоко затаенную силу духа и характера. Екатерина Петровна, которую за тихий нрав и ее невзрачную внешность в салоне Ростопчиных незнакомые люди принимали за служанку, тщательно оберегала независимость своего внутреннего мира. В 1806 году она тайно перешла в католичество, о чем долгое время никто, включая мужа, даже не подозревал. Графиня, став «вероотступницей», что компрометировало ее и без того опального мужа в глазах царя, исповедывалась аббату Сюрюгу, еженедельно обедавшему у графа Ростопчина, гуляя с ним по обширным покоям своего дома и притворяясь, что ведет с иезуитом ничего не значащую светскую беседу. С годами ее приверженность католицизму приобрела прямо-таки фанатический характер. Она обратила в католичество свою дочь, любимицу отца, умиравшую в восемнадцатилетнем возрасте от чахотки, что было большим ударом для мужа, скончавшегося два года спустя после этого. В похоронах графа Ф. В. Ростопчина Екатерина Петровна наотрез отказалась участвовать, ссылаясь на разницу их религий. Е. П. Ростопчина, прожившая долгую жизнь (она умерла в 1859 году 83 лет от роду), впоследствии все более впадала в мистицизм и была известна как автор религиозных трактатов на французском языке, выходивших в России и во Франции…
Ничего этого Кипренский, писавший портрет Е. П. Ростопчиной в 1809 году, не мог знать, но он сумел своим зорким глазом разглядеть в Екатерине Петровне ее мистические наклонности и очень тонко посвятить в это зрителя, погрузив модель свою в полумрак, откуда она предстает подобно видению в светящемся ореоле кружев чепца и воротника, с воздетым к небу, полным религиозного экстаза взглядом…
Полюбились Оресту и братья Владимир Денисович и Василий Денисович Давыдовы, отставные военные, чья служба была пресечена Павлом I, как это случилось и со многими другими дворянами, жившими в Москве. Он часто бывал в просторном московском доме Василия Денисовича на Пречистенке. Его хозяин, отважный сподвижник Суворова, дослужился под славным началом Александра Васильевича до чина бригадира (как и, напомним, Алексей Степанович Дьяконов, отец Ореста), когда на него нежданно-негаданно обрушилась карающая десница царя-сумасброда, который каленым железом выжигал в русской армии суворовский дух. Василий Денисович поплатился за то, что оказался, помимо своей воли, замешанным в Смоленском заговоре 1798 года. Им руководили племянники Василия Денисовича полковник Александр Каховский и бомбардирский капитан Алексей Ермолов, намеревавшиеся освободить из новгородской ссылки Суворова, поднять его именем войска и добиться перемены правления в России по примеру Франции. Когда заговор был раскрыт, один из арестованных офицеров признался, что руководители готовившегося военного возмущения рассчитывали на поддержку и помощь Полтавского легкоконного полка во главе с его командиром В. Д. Давыдовым. И хотя сам Василий Денисович об этом ни сном ни духом не подозревал, его отстранили от службы, опорочили наветами о растрате казенного имущества, наложили разорительный штраф…
Василий Денисович, отрешенный от службы, за эти десять лет кое-как поправил свои имущественные дела, определил сыновей на службу и зажил вместе с братом жизнью типичного московского барина, проводящего лето в имении, а на зиму со всеми домочадцами переселявшегося в Москву, где водил дружбу с самыми образованными и просвещенными согражданами, посещал их салоны и домашние театры, был прилежным читателем московских литературных журналов и альманахов, сам был хлебосольным хозяином и интересным собеседником для своих гостей, среди которых оказался и молодой петербургский живописец.
Погрузневший, с округлившейся физиономией, с посеребренными, но все такими же, как и в молодости, густыми кудрями, Василий Денисович и в отставке сохранил славу острослова, балагура и весельчака, сохранил необыкновенное радушие и привычку жить открытым домом, где всегда были рады принять, накормить, обласкать гостя, ввести его в дружеский круг. Отменным доброжелательством к людям отличалась и супруга Василия Денисовича Елена Евдокимовна — высокая, красивая дама, родителем которой был екатерининский вельможа генерал-аншеф Щербинин. От отца генерала она взяла и свою стать, и строгий, несмотря на добрейшее сердце, вид.
Орест в короткое время стал своим человеком в семействе Давыдовых. По вечерам, когда у хозяина дома собиралась шумная компания друзей и родственников, которых оживлял остротами никогда не унывающий Василий Денисович, Кипренский, не расстававшийся нигде с рисовальными принадлежностями, устраивался где-нибудь в уголке поудобнее, и, участвуя в беседе, набрасывал портреты присутствующих, приводившие всех в изумление необыкновенным сходством и свободой художественной манеры.
Когда Василий Денисович надумал перебраться на лето в Аксиньино, тульское имение брата Владимира Денисовича, он предложил и Кипренскому провести вместе с ними жаркие месяцы на лоне природы. Славное это было времечко. Орест будто снова окунулся во времена своего детства. Просторы полей, шум зеленых дубрав — веселых, пронизанных солнцем, наполненных неумолчным щебетом птиц, звуки пастушеского рожка, петушиные крики на заре, аромат цветущих лугов, песни дворовых девушек по вечерам — все эти картины и приметы деревенской жизни всегда вызывали у Кипренского прилив сил и желания работать. Он никогда так много не рисовал, как в семье Давыдовых. Собственно, Кипренский-график, Кипренский — виртуозный мастер карандашного портрета родился в Аксиньине.
До нас дошли, по-видимому, только четыре его графические работы, сделанные в доме Давыдовых: портреты Василия Денисовича и Владимира Денисовича, «Матери с ребенком» (как считается, — мадам Прейс, жившей у Давыдовых) и «Слепого музыканта» со свирелью в руках. С точки зрения технической в первых трех портретах Кипренский средствами графики, собственно, еще следует живописным приемам, то есть будто бы совершает шаг назад по сравнению с блистательными набросками крестьянских типов в альбоме 1807 года. Но художник обратился к графическим приемам, воспроизводящим живописные, не потому, что был новичком в графике, а в силу каких-то вполне определенных причин. Возможно, что в Аксиньине у него не было красок и кистей, а ему хотелось отблагодарить радушных хозяев, сделав их портреты не в виде альбомных набросков, а в соответствии со вкусами и представлениями самих моделей об искусстве, чем, наверное, и объясняется выбор листов бумаги большого формата, тщательная прорисовка не только лица и рук портретируемых, но и одежды и фона с тяжелыми занавесами и другими деталями обстановки, делающими эти рисунки похожими на графические копии живописных работ. Изумительное мастерство рисовальщика Кипренский продемонстрировал здесь с полным блеском.
Но Орест, конечно, стремился не к тому, чтобы демонстрировать на этих рисунках совершенство своей графической манеры, а чтобы запечатлеть глубоко симпатичных и близких по душевному складу людей, вблизи которых ему было так тепло, свободно и непринужденно, передать атмосферу жизни давыдовского семейства с ее благодушием, простотой манер, сибаритством и беспредельной доброжелательностью к людям. Эти черты москвичей сразу обратили на себя внимание художника, едва он вступил в первопрестольную.
В Москве те же самые люди, что бывали в Петербурге, становились другими. Они здесь точно сбрасывали с себя тесный, застегнутый на все пуговицы, режущий шею жестким воротником мундир и облачались в свободный домашний халат, не стеснявший движений ни души, ни тела. Недаром старики Давыдовы облачены в домашние халаты, мадам Прейс — в домашнем платье.
В просторном халате и белой сорочке с расстегнутым воротником, открывающим заплывшую жиром грудь, предстает на рисунке добродушный бонвиван и хлебосольный хозяин Василий Денисович, спокойно доживавший свой век в уютном помещичьем гнезде после громов и молний военной службы. Облокотившись на стол, на котором лежит стопка бумаг, может быть, хозяйственных счетов, и замок, подперев щеку ладонью, он предается благодушным размышлениям, наложившим легкую грустную тень на глаза, но не изменившим добродушного выражения лица.
Спокойно покуривает трубочку тоже одетый в халат и домашний колпак и тоже облокотившись о стол, на котором лежит закрытая книга, Владимир Денисович, задумавшись, наверное, о прочитанном.
Прижимает к себе в порыве нежности ласкающегося ребенка молодая мать (мадам Прейс), облокотившись о тот же стол и отложив в сторону вязание. Одетая в простую домашнюю блузу, с наброшенным на плечи платком, с откинутой на мягкое изголовье кресла головой, она всем своим видом говорит об удовлетворенности жизнью, о просветлении, ниспосланным судьбой на ее душу. «Исповедальные портреты», которыми Кипренский прославит себя, начиная с московского периода своего творчества, ведут начало от давыдовских изображений, ибо именно здесь наиболее ярко раскрылось умение его дать в портрете раскрытую книгу душевной жизни человека, выразить идею гармонического человеческого бытия.
И в это же самое время Кипренский делает в Аксиньине набросок «Музыканта», используя чисто графические средства, ибо теперь его не связывают никакие условности, с помощью линии и штриха создав образ совсем иного эмоционального строя, далекого от какого бы то ни было гармонического начала. Пожилой, слепой человек с грубым, изможденным страданиями лицом, одетый в узкий, с чужого плеча сюртук, извлекает из жалейки незамысловатую мелодию для потехи таких же бедолаг-крепостных, мелодию, которая никак не оживляет его окаменевшего лица, ни его сердца, тоже окаменевшего от жизни, без единого проблеска радости. Упоительное счастье мадам Прейс, бесконечное довольство жизнью и благодушие натуры Василия Денисовича Давыдова, умиротворенность перед лицом надвигавшейся старости его брата Владимира Денисовича и высокая трагическая нота обездоленного слепого музыканта — Кипренский доказывал этими портретами, что ему под силу любой характер, любое эмоциональное состояние, что он способен постигнуть и выразить самые сложные, самые неуловимые движения души. Отныне каждый его новый портрет будет новой страницей в истории русского искусства, в постижении и отражении жизни и людей, в поисках новых решений…
Хотя Александр I снял опалу с Василия Денисовича, он на службу возвращаться не стал. Было уже поздно: ратное дело перешло ко второму поколению Давыдовых — к сыновьям Денису и Евдокиму, племяннику Евграфу, воспитанным с детства так, чтобы не посрамить славы отцов.
Орест еще в Петербурге был наслышан о старшем из сыновей Василия Денисовича, служившем в кавалергардах, который приобрел большую известность в столице благодаря своим эпиграммам и басням, ходившим в списках. Позднее автор этих басен называл успех, принесенный ему рукописными произведениями, «карманной славою»: «Карманная слава, как карманные часы, может пуститься в обращение, миновав строгость казенных надсмотрщиков. Запрещенный товар — как запрещенный плод: цена его удваивается от запрещения».
А плод и в самом деле был не из разрешенных, как можно судить по басне «Голова и Ноги», в которой подчиненные «ноги» позволяют себе такие слова по отношению к «царствующей голове»:
…А прихоти твои нельзя нам исполнять; Да, между нами ведь признаться, Коль ты имеешь право управлять, Так мы имеем право спотыкаться А можем иногда, споткнувшись — как же быть, — Твое Величество об камень расшибить.Весьма опасным вольнодумством была проникнута и басня «Река и зеркало». В ней вельможа, осужденный на эшафот «за правду колкую, за истину святую, за сих врагов царей», спасает жизнь тем, что в разговоре с монархом уподобляет себя и зеркалу, которое можно разбить, и реке, которую «истребить» невозможно, а ведь, говорит правдоискатель царю, «ты в ней найдешь еще себя». Басню заключала такая смелая концовка:
Монарха речь сия так сильно убедила, Что он велел ему и жизнь и волю дать… Постойте, виноват! — велел в Сибирь сослать, А то бы эта быль на басню походила.Денису Давыдову была приписана и басня о глухом тетереве, в котором современники тотчас увидели тугого на ухо Александра I.
Надо ли удивляться, что за подобные дерзости молодой баснописец, едва стихи его дошли до правительства, в 1804 году был выдворен из блестящего гвардейского столичного полка в провинциальную армейскую гусарскую часть, да и то должен был благословлять судьбу, что с ним так милостиво обошлись.
Пройдут годы. Наряду с глубокими политическими иносказаниями-баснями Денис Давыдов прославится своими подвигами на поле брани и полными темперамента и огня гусарскими балладами, воспевающими молодеческую удаль, бесшабашную смелость и вольнолюбивый нрав своих однополчан-гусар и вместе с тем — их верность воинскому долгу, преданность любезному Отечеству, готовность отдать жизнь ради его блага и славы;
Стукнем чашу с чашей дружно! Нынче пить еще досужно; Завтра трубы затрубят. Завтра громы загремят. Выпьем же и поклянемся, Что проклятью предаемся, Если мы когда-нибудь Шаг уступим, побледнеем, Пожалеем нашу грудь И в несчастьи оробеем…Эти строки, написанные Денисом Давыдовым в 1804 году, в период пребывания в армейской ссылке, тоже сразу получили широкую известность среди всей читающей публики России.
Но даже спустя десятилетия наряду с такими стихами в памяти современников будет жить и гражданская лирика, которой ознаменовал вступление на поэтическое поприще будущий герой войны 1812 года и которая сыграла свою роль в политическом просвещении передовых русских людей, включая и тех, кто в 1825 году выйдет на Исаакиевскую площадь. Декабрист Владимир Штейнгель напишет в 1826 году: «Кто из молодых людей, несколько образованных, не читал и не увлекался сочинениями Пушкина, дышащими свободою; кто не цитировал басни Дениса Давыдова: „Голова и Ноги“?»
Не забудет и правительство едких «сатир» вольнолюбивого поэта-гусара и никогда, ни при Александре I, ни при его преемнике Николае I, не снимет печати неблагонадежности с великого патриота и смелого воина, несмотря на его большие ратные заслуги перед Отечеством. Его подвиги будут замалчивать в печати, его будут без конца обходить при распределении боевых наград и прочих почестей.
Но все это еще было впереди, а в московские годы жизни Кипренского старший сын Василия Денисовича Давыдова был человеком, которого коснулись первые яркие лучи и поэтической и воинской славы, он был героем дня и среди молодежи, и среди бывалых воинов вроде его отца, с великим удовлетворением наблюдавшего, что молодое поколение Давыдовых не посрамило своей фамилии. Денис в 1806 году был возвращен в гвардию, «в Лейб-гусарский полк поручиком», как писал он впоследствии, продолжая следующим образом: «Вскоре загорелась война с французами, и знаменитый князь Багратион избрал его в свои адъютанты. Давыдов поскакал в армию, прискакал в авангард, бросился в сечу, едва не попался в плен, но был спасен казаками».
Изображенный такой скороговоркою эпизод боевого крещения Дениса в канун знаменитой битвы при Прейсиш-Эйлау говорит только о его скромности, но вовсе не о незначительности боевых дел, в которых ему пришлось принять участие в ходе этой кампании, принесшей ему, вопреки недоброжелательству двора, целых пять боевых наград: золотую саблю с надписью «За храбрость», ордена св. Владимира 4-й степени и св. Анны 2-й степени, золотой Прейсиш-Эйлаусский крест на георгиевской ленте и прусский почетный орден «Pour le mérite»…
Адъютантская должность Дениса не должна вводить в заблуждение: адъютанты, то есть связные военачальников, в те времена постоянно оказывались в гуще битв, передавая распоряжения полководцев, а нередко сами брали на себя предводительство в схватках с противниками, вели солдат в атаку.
Легендарную военную биографию приобрел и младший Давыдов — Евдоким, который даже раньше Дениса принял боевое крещение. Это произошло на полях Аустерлица, где во время знаменитой атаки кавалергардов он получил семь ран — пять сабельных, одну пулевую и одну штыковую. Тяжело раненного кавалергарда подобрали французы и отправили в город Брюн, где находилась Главная квартира Наполеона. Особую заботу о Евдокиме при транспортировке проявил французский поручик Серюг, который снабдил пленного едой и поместил его в госпиталь, пообещав при этом еще и содействие своего дяди, министра Маре.
При посещении лазарета Наполеон обратил внимание на забинтованного с ног до головы русского офицера и даже удостоил его вопроса:
— Сколько ран, мосье?
— Семь, ваше величество, — ответил Евдоким.
— Столько же знаков чести! — бросил при этом французский император эффектную фразу, о которой затем раструбили газетчики по всей Европе.
Долечивался Евдоким во Франции, где-то на берегах Роны. Там в него влюбилась прекрасная француженка, но русский пленный не поддался галльским чарам и, едва став на ноги, вернулся на родину.
Романтическая история Евдокима Давыдова получила широкую известность в русском обществе и позднее нашла отражение в литературе. О ней знал Пушкин, и согласно его свидетельству сюжет стихотворения Константина Батюшкова «Пленный», написанного в 1814 году, был навеян приключениями Евдокима Давыдова, который в краю, «где мирт душистый расцветает», грезил о своей заснеженной родине:
Отдайте ж мне мою свободу! Отдайте край отцов, Отчизны вьюги, непогоду, На родине мой кров, Покрытый в зиму ярким снегом! Ах! дайте мне коня; Туда помчит он быстрым бегом И день и ночь меня!Позднее отважному русскому офицеру, которого судьба провела через столько испытаний, посвятил свои строки и Вяземский.
Эти стихи лишь продолжили поэтический цикл в честь славных воинов из семьи Давыдовых, открытый еще в 1812 году Жуковским в «Певце во стане русских воинов», где в числе первых героев русской армии к Денису обращены строки гимна спасителям Отечества:
Давыдов, пламенный боец, Он вихрем в бой кровавый; Он в мире счастливый певец Вина, любви и славы.Денис, покрывший себя легендарной славой в 1812 году, Денис, создатель оригинального направления в русской поэзии, «любимец брани» и «любимец муз», стал главным героем этого цикла, в сотворении которого вместе с Жуковским, Батюшковым, Вяземским приняли участие Пушкин, Баратынский, Федор Глинка, Языков, Кюхельбекер, Евдокия Ростопчина.
Но первым одного из представителей молодого поколения Давыдовых еще в 1809 году — в канун грозы 1812 года — в образе отважного русского воина, кому судьба определит спасти Отечество от нашествия полчищ «двунадесять языков», воспел живописными средствами Орест Кипренский. Чутким сердцем художника он уловил веяния времени, нужду русского общества теперь уже не в отвлеченных героических характерах, какие, к примеру, пользуясь традиционными академическими приемами, он воссоздал в «Дмитрии Донском на Куликовом поле», а в их сегодняшнем, реальном, конкретном, повседневном воплощении. Повседневном не в смысле будничности, а в смысле доступности, зримости их в близком окружении, отсутствии в их облике черт исключительности…
Два поколения Давыдовых — это было и славное прошлое русской армии времен Румянцева и Кутузова, под началом которых ходил походами Василий Денисович Давыдов, и столь же славное ее настоящее, и надежда на будущее, которые воплощали в себе опаленные битвами последних лет Денис и Евдоким Давыдовы, а также их двоюродный брат Евграф, тоже, как и Денис, гусар, и тоже, как и они, уже вдосталь вкусивший порохового дыма.
Все они были храбрецы, люди доблести и чести — цвет русского офицерства, удивительным образом соединявшего в себе бесшабашную удаль, молодечество, широту души и зачастую разгульный характер с вдумчивым отношением к жизни, непоколебимой верностью долгу, глубокой, подлинной интеллектуальностью, столь любезной Оресту.
Оставив пока в стороне вопрос о том, кто из молодых Давыдовых увековечен Кипренским, отметим, что художник сразу решил создать программную картину. Именно картину, как он и называл впоследствии свое детище, а не простой портрет, чтобы вывести свою «идею» русского воина — надежду избавления от угрозы порабощения Отечества «корсиканским чудовищем». Накопленный им к тему времени опыт в портретной живописи вполне позволял ему надеяться на успех в переходе от портрета-этюда к портрету-картине или, если угодно, парадному портрету, как его понимала новая, романтическая школа живописи: фигуру взять в полный рост, в весьма выгодном для портретиста живописном гусарском одеянии, дать прочие военные аксессуары и фон согласно новым вкусам, а через характер портретируемого выразить характер всего молодого поколения русского воинства, которому надлежало в недолгом времени отстоять честь и независимость своей родины, переломить хребет считавшемуся непобедимым неприятелю, покорившему всю Европу.
Орест вложил в эту картину всю свою душу.
Подбоченясь, стоит, опираясь левой рукой на каменную плиту, а круто изогнутой правой — на собственный бок, красавец — усатый гусар с черными вьющимися кудрями и бакенбардами. Сияет золотое шитье на алом парадном ментике, золото сабли, на рукоятке которой покоится кисть левой руки, и кивера. Отливают молочной белизной лосины. Мягкий свет обрисовывает контур фигуры, отражается на стене за головой гусара, высвечивает красную ташку у его ног. Кивер, небрежно брошенный на каменный выступ слева от фигуры, да сабля, на которую опирается гусар кистью левой руки, — вот все аксессуары, которые очень красноречиво обрисовывают характер и личность героя. Обстановка проста до предела. Точь-в-точь, как в стихах Дениса Давыдова, который говорит о спартанской простоте его дома:
…В нем нет зéркал, ваз, картин, И хозяин, слава богу, Не великий господин. Он — гусар, и не пускает Мишурою пыль в глаза; У него, брат, заменяет Все диваны — куль овса. Нет курильниц, может статься, Зато трубка с табаком; Нет картин, да заменятся Ташкой с царским вензелем! Вместо зеркала сияет Ясной сабли полоса: Он по ней лишь поправляет Два любезные уса. А на место ваз прекрасных, Беломраморных, больших, На столе стоят ужасных Пять стаканов пуншевых!Ухарская, молодеческая поза рубаки-гусара и мечтательное выражение лица человека, глубоко чувствующего и мыслящего, — казалось бы, это несовместимые вещи, но они воспринимаются как нечто совершенно естественное в образе русского воина 1800-х годов, встающего с картины Кипренского. Такое же естественное, как сочетание в творчестве Дениса Давыдова острых политических сатир и лихих «зачашных песен» вроде вот этой, написанной в 1804 году:
Собирайся в круговую, Православный весь причет! Подавай лохань златую, Где веселие живет! Наливай обширны чаши В шуме радостных речей, Как пивали предки наши Среди копий и мечей.И тот же автор в своих «Договорах», отрешаясь от бесшабашного гусарского тона, дает такую убийственную характеристику «высшему свету»:
Здесь тьма насмешников, которых разговоры Кипят злословием; — ехидных языков Я, право, не боюсь; но модных болтунов, Кудрявых волокит, с лорнетами, с хлыстами, С очками на носу, с надутыми брыжжами — Как можно принимать? — Нет, без обиняков, Нет, нет, решительно: отказ им невозвратный! И для чего нам свет и чопорный и знатный, Рой обожателей и шайка сорванцов?Стихи эти написаны были Денисом Давыдовым до знакомства Кипренского с его отцом и дядей, они принесли громкую славу автору и их не мог не знать художник, приступая к работе над «картиной-портретом», которая была воспринята как живописное переложение поэтического образа гусара.
Но с кого писал свою картину Кипренский, с кого именно из младших Давыдовых? Можно ли считать, что на картине — изображение знаменитого героя-партизана 1812 года и поэта Дениса Давыдова? Того самого Дениса Давыдова, о внешности которого современник рассказывает нам: «Д. В. Давыдов был не хорош собою; но умная живая физиономия и блестящие выразительные глаза с первого раза привлекали внимание в его пользу. Голос он имел пискливый; нос необыкновенно мал; росту был среднего, но сложен крепко и на коне, говорят, был прикован к седлу. Наконец, он был черноволос и с белым клоком на одной стороне лба».
Примерно так же рисует Лев Толстой внешность персонажа «Войны и мира» Васьки Денисова, который «списан» с Дениса Давыдова, говоря, что это был «маленький человечек с красным лицом, блестящими черными глазами, черными взлохмаченными усами и волосами. На нем был расстегнутый ментик, спущенные в складках широкие чикчиры и на затылке была надета смятая гусарская шапочка».
Изображенный Кипренским гусар, как мы видим из этого, не похож на реального Дениса Давыдова с его характерной внешностью, запомнившейся современникам. Не похож он и на многочисленные достоверные портреты поэта-гусара, на которых, когда их авторы придерживались матери-натуры, мы видим, что знаменитый партизан и поэт и в самом деле «был не хорош собою» из-за маленького вздернутого носа — этакой кнопки на широком квадратном лице. Между тем у гусара, изображенного Кипренским, нос прямой, лицо удлиненное, правильных форм, шевелюра — густо-черная, без единой седины, тогда как Денис Давыдов со времен участия в знаменитой контратаке под Прейсиш-Эйлау, смявшей французов, носил в волосах седую прядь, воспетую Языковым, называвшим поэта-гусара —
…Ты, боец чернокудрявый, С белым локоном на лбу.Впрочем, суждения о похожести или непохожести портретов — чрезвычайно спорны и крайне субъективны, особенно если иметь в виду, что живописцы, как правило, приукрашивали свои модели. Во всяком случае, войдя в широкое обращение, картина Кипренского получила известность как непререкаемый портрет Дениса Давыдова, не встретив возражений со стороны еще остававшихся в живых его соратников и друзей и, более того, — со стороны сыновей и жены покойного к тому времени поэта-партизана.
Вообще это редкий, если не единственный — в отличие от литературы — случай в отечественной живописи, когда созданный художником персонаж стал жить самостоятельной, независимой жизнью, вступая даже в противоречие с волей и намерениями своего творца…
Пушкин, дабы в Татьяне Лариной не узнали себя какие-нибудь его современницы, объявил в восьмой главе «Евгения Онегина»:
А та, с которой образован Татьяны милый идеал… О много, много рок отъял!Но это не помешало некоторым здравствовавшим дамам еще при жизни поэта объявить, что именно с одной из них был «образован Татьяны милый идеал».
Нечто подобное, но только в противном смысле, произошло с образом гусара на картине-портрете Кипренского. Сам Денис Давыдов, умерший в 1839 году, не оставил нам никаких свидетельств, которые бы пролили ясность по этому запутанному предмету. Зато такой документ оставил Кипренский, не допуская никаких кривотолков по поводу того, кого он изобразил на своей картине.
В 1831 году из Неаполя Кипренский обратился с письмом к Николаю I, в котором предложил купить у него ряд картин. В приложенном к письму «Реестре картин» под номером 2 было обозначено: «Портрет Ев. В. Давыдова, в лейб-гусарском мундире, почти в целый рост картина. Писана в 1809 году в Москве».
Историк русского искусства Э. Н. Ацаркина, обнаружившая в архиве в сороковых годах нашего века этот документ, поэтому с полной уверенностью объявила, что на знаменитой картине Кипренского изображен не Денис Давыдов, как почти сто лет до этого считали специалисты, а его брат Евдоким Васильевич Давыдов. Исследовательница указывала, что при жизни Кипренского и Дениса Давыдова эту картину никто не принимал за изображение прославленного поэта и героя Отечественной войны, что так стали считать позднее, когда ни автора портрета, ни его модели уже не было на свете и они не могли опровергнуть родившуюся легенду.
Однако выводы Э. Н. Ацаркиной встретили решительные возражения как раз там, где исследовательница меньше всего их ожидала: среди специалистов по русской военной форме. Весьма резонно они заметили, что изображенный Кипренским офицер никак не может быть Евдокимом Васильевичем Давыдовым, поскольку тот был кавалергардом, а посему носил военную форму, ничего не имевшую общего с гусарским ментиком, в котором красуется модель художника.
Тогда было выдвинуто предположение, что это двоюродный брат Дениса и Евдокима — Евграф Владимирович Давыдов, служивший в лейб-гусарах и имевший в 1809 году чин полковника, тогда как Денис в ту пору был только штабс-капитаном.
С учетом этого задача, казалось бы, максимально упрощалась: достаточно было изучить знаки различия написанного Кипренским офицера, чтобы решить, какой же это из Давыдовых. Но установить чин офицера, изображенного на картине, на поверку оказалось невозможно, потому что художник допустил много неточностей в передаче живописного облачения героя, очевидно, считая подобные вещи делом несущественным для живописных достоинств своей работы. Вот что писал об этих «вопиющих» нарушениях в гусарской форме тех времен, допущенных Кипренским, специалист по военной форме, наш современник И. П. Шинкаренко: «…На ментике 11 рядов шнуров вместо 15, положенных по форме; опушка ментика сделана не из серых смушек, а из черного бобра; кивер увенчан не белым, а трехцветным султаном, присвоенным лейб-гусарским унтер-офицерам, а также обер-офицерам армейских гусарских полков. Цифровка на рукаве ментика выполнена произвольно, что вместе с перечисленными отклонениями не дает возможности судить о чине изображенного на портрете офицера».
И. П. Шинкаренко, опубликовавший свои замечания в 1977 году, возвращается к традиционной точке зрения и доказывает, что это — изображение Дениса Давыдова, на том основании, что только последний мог в силу своего безалаберного характера предстать перед живописцем в странной смеси гвардейского и армейского обмундирования.
Споры продолжаются, а знаменитая картина между тем обрела ныне самостоятельную жизнь, дав почву для новых легенд, окружающих жизнь и творчество художника, ее автора.
Взлет мастерства Кипренского в московский период и в самом деле был впечатляющим, ибо он с одинаковой легкостью переходил от реализма в портрете графа Ф. В. Ростопчина к высокой романтической одухотворенности в изображении В. А. Перовского в испанском костюме, от тонко переданной в портретах стариков Давыдовых душевной усталости пожилых людей до волнующей радости вступления в жизнь мальчика А. Челищева, от изумительной конкретики образа слепого музыканта до широких обобщений в портрете-картине гусара Давыдова…
Мы не знаем всех работ, над которыми трудился художник в эти годы. Многие из них погибли в пожаре Москвы, лишив нас возможности иметь полную картину замечательных достижений Кипренского-портретиста во время пребывания в этом городе.
Но полагал ли сам Орест, что теперь он достиг желанных рубежей славы? Нет, из того, что нам известно о его настроениях, выходит, что Кипренский свои успехи в портретном искусстве рассматривал только как залог для претворения давней мечты о зарубежном вояже, ибо, как осуждающе сообщал конференц-секретарю Академии художеств А. Ф. Лабзину граф Ростопчин, художник прямо-таки горел желанием «быть в Вавилоне французском».
Мечта его, впрочем, начинала сбываться. Тот же граф Федор Васильевич чуть позднее писал А. Ф. Лабзину: «Кипренский выработал весьма полезное для себя, и великий князь изволит определить ему ежегодно две тысячи рублей для езды в Париж, куда наш безрассудный Орест стремится».
Но покамест, в ожидании того, что великий князь Константин Павлович сдержит свое обещание, Орест отправился в Тверь, где располагался «малый двор» великой княгини Екатерины Павловны, вышедшей замуж за принца Георга Ольденбургского. Помог ему заручиться заказами «малого двора» опять же, судя по всему, граф Ростопчин, который хоть и ворчал на «безрассудного» Кипренского за его устремления в «чужие края», но в душе питал к нему слабость за великий талант и словом и делом способствовал свершению его намерений.
Двор Екатерины Павловны, покровительствовавшей искусствам, называли «русским Версалем». В Твери бывали И. И. Дмитриев, В. А. Жуковский, Н. М. Карамзин, читавший там главы «Истории государства Российского». С мнением Екатерины Павловны, державшейся весьма независимо, считался ее царствовавший брат, также наезжавший в Тверь. Здесь обретались вельможи, чье покровительство было чрезвычайно важно для Ореста и могло обеспечить ему безбедное существование на родине.
Но в Твери у Кипренского уже не было той свободной и симпатичной среды, которая так стимулировала и поощряла его художественные искания в Москве. Он написал и нарисовал в Твери много портретов, в том числе принца Георга Ольденбургского, князя И. А. Гагарина, коллекционера картин Н. С. Мосолова, однако эти работы не были новым шагом вперед их автора. Он как бы остановился в своем развитии, попав в официальную атмосферу «русского Версаля».
Любимый живописец русской публики
…Чему, чему свидетели мы были!
Игралища таинственной игры,
Металися смущенные народы;
И высились и падали цари;
И кровь людей то славы,
то свободы,
То гордости багрила алтари.
……………………………………
Вы помните: текла за ратью рать,
Со старшими мы братьями
прощались
И в сень наук с досадой
возвращались,
Завидуя тому, кто умирать
Шел мимо нас…
А. С. ПушкинВ марте 1812 года, ровно через три года после отъезда в Москву, Кипренский вернулся в Петербург. Он возвращался в столицу не с пустыми руками. Художник вез с собой портреты, которые встретят признание Академии и послужат вскоре основанием Константину Батюшкову назвать его любимым живописцем русской публики.
На суд Академии Орест представил изображения принца Георга Ольденбургского, гусара Давыдова, И. А. Гагарина и И. В. Кусова, а также несколько рисунков. Совет Академии высоко оценил эти работы. В решении было сказано, что Совет «с удовольствием видит, что сей молодой художник в продолжительную свою отлучку от Академии не только не ослабел в признанном от всех отличном его таланте в живописи, но приобрел еще большие успехи».
Кипренскому было присвоено звание академика, открывавшее ему путь для дальнейшей благополучной карьеры в стенах Академии. В ней теперь не было благодетеля Ореста: Александр Сергеевич Строганов умер за год до возвращения художника, простудившись при освящении Казанского собора, которому он отдал так много сил и саму жизнь.
Не было в Петербурге и его сына Павла Александровича, который еще раньше, разочаровавшись в Александре I, ушел в армию, и там на ратном поприще ярко расцвел его талант, которому не было дано развернуться на поприще гражданском.
Гражданские мундиры сменили на военные и многие другие знакомые Ореста. Его брат Александр, также вступивший после выхода из Академии художеств в армию, погиб во время русско-шведской кампании.
А тем временем на Россию стремительно надвигалась новая война со смертельно опасным и сильным врагом — наполеоновской Францией.
Кипренский оказался в центре водоворота, захватившего русское общество и в годы антинаполеоновской эпопеи, и в последующую пору свободолюбивых упований русских людей.
Судить о том, как Кипренский относился к общественным проблемам своего времени, мы можем на основании взглядов тех людей, с которыми он тесно общался как в России, так и за границей. Общение с такого рода людьми не могло не оставить в его душе следов. Многолетняя дружба с семьей Муравьевых, у которых он жил, по-видимому, еще в Москве, а потом в Петербурге, говорила о многом.
Семья Муравьевых не только дала одного из идеологов декабризма Никиту Муравьева, но и в лице старого Михаила Никитича Муравьева и его жены Екатерины Федоровны представляла собою наиболее образованную и передовую часть русского дворянства, которого к концу XVIII века широко коснулись идеи вольтерьянства. Академик Н. М. Дружинин совершенно справедливо писал в свое время: «„Вольтерьянство“ было не только идеологическим течением, но и современною модою. Мы не поймем этого общественного явления, если не уловим за его широкой и расплывчатой оболочкой закономерного и плодоносного жизненного ядра. Историки, которые настаивают на поверхностном и наносном характере русского вольтерьянства, не только преуменьшают серьезность его содержания, — они забывают, что всякое идеологическое заимствование имеет под собой определенную объективную подоснову».
Михаил Никитич окончил Московский университет, владел классическими и несколькими новыми языками, хорошо знал античную и новоевропейскую литературу, разбирался в вопросах истории и философии, писал по-русски и прозою и стихами. Благодаря этому он получил доступ к екатерининскому двору и стал воспитателем великих князей Александра и Константина.
В суровые времена павловского режима М. Н. Муравьев входил в тот небольшой кружок, который поощрял либеральные мечтания наследника престола. После воцарения Александра I Михаил Никитич сделался деятельным проводником преобразовательных начинаний Негласного комитета. Умер он в 1807 году.
По словам современников, дом матери будущего декабриста Екатерины Федоровны был «одним из роскошнейших и приятнейших в столице». Его всегда наполняли многочисленные родственники и друзья, а на открытые праздничные столы собиралось до семидесяти человек гостей.
Никита Муравьев родился 9 сентября 1795 года. Юноша хорошо знал латинский и греческий языки, мог самостоятельно переводить Тацита и читать в подлиннике Геродота, владел также новыми языками: французским, немецким и английским. Впоследствии, уже взрослым, он изучил итальянский и польский языки.
По окончании домашнего образования Никита Муравьев поступил в Московский университет. Кроме языков, он увлекался математикой, и в 1811 году принял активное участие в работе Московского общества математиков, которое было организовано его родственником Н. Н. Муравьевым. Общество возникло при Московском университете, ставило перед собой научно-просветительные задачи и сделалось зародышем будущего училища колонновожатых, на основе которого впоследствии возникла Академия Генерального штаба.
Война с Наполеоном прервала спокойное, безмятежное существование будущего декабриста.
Он рвался в действующую армию, но мать не давала согласия на это, ссылаясь на слабость его здоровья. Когда 6 августа французские войска овладели Смоленском и двинулись по направлению к Москве, Никита убежал из родного дома, чтобы принять участие в сражениях. Но крестьяне заподозрили в нем шпиона, нашли у него военные карты и связанного препроводили в Москву. Полицейские власти заключили Никиту Муравьева в тюрьму, и только допрос, произведенный Ф. В. Ростопчиным, рассеял недоразумение. Мать после этого не стала больше препятствовать военной службе сына.
8 июля 1813 года Никита Муравьев был произведен в гвардейские прапорщики и зачислен в свиту царя по квартирмейстерской части. Он участвовал в битве под Лейпцигом, поразив своих товарищей невозмутимым спокойствием при виде убитых и раненых.
В сентябре 1814 года Никита Муравьев вернулся в Петербург. Его грудь украшали два ордена.
Когда Наполеон вернулся с острова Эльбы во Францию и русские гвардейские полки были снова двинуты за границу, Никита после битвы при Ватерлоо жил в Париже, где посещал художественные галереи и театры, любовался картинами Давида, слушал парижскую оперу, посещал лекции в Парижском университете, внимательно наблюдал общественную жизнь Франции.
Парижские впечатления оказали огромное влияние на политическое развитие молодого офицера. Париж Никита Муравьев покинул поздней осенью 1815 года и в декабре вернулся в Россию, где его друзья и однополчане с жаром обменивались заграничным опытом. «В беседах наших, — писал И. Д. Якушкин, — обыкновенно разговор был о положении России. Тут разбирались главные язвы нашего отечества: закоснелость народа, крепостное состояние, жестокое обращение с солдатами, которых служба в течение 25 лет почти была каторга; повсеместное лихоимство, грабительство и, наконец, явное неуважение к человеку вообще».
В жизни Никиты Муравьева по возвращении на родину начался новый этап. Он прикомандирован к Гвардейскому корпусу. Приступает к обработке своих воспоминаний о битвах, свидетелем которых он был, занимается научным трудом о А. В. Суворове. Константин Батюшков, двоюродный брат Никиты по матери, близко наблюдавший его в тот период, посвятил ему такие строки:
…Твой дух встревожен, беспокоен; Он рвется лавры пожинать: С Суворовым он вечно бродит В полях кровавые войны И в вялом мире не находит Отрадной сердцу тишины.Никита очень много и упорно работает над собою. В библиотеке Муравьевых, которая позднее поступила в Московский университет, были представлены труды Гельвеция и Вольтера, Монтескье и Руссо, идеологов революционной эпохи, либеральных публицистов периода Реставрации.
Вместе со своим братом Александром он был одним из инициаторов создания первого декабристского союза — «Союза спасения». В 1817 году Никита стал членом литературного общества «Арзамас». Живой интерес к литературе и широкие связи среди писателей обеспечили ему равноправное положение за столом «Арзамаса», ибо он, получив хорошее классическое образование, позднее внимательно следил за произведениями Пушкина, Жуковского и Батюшкова, посещал литературные вечера, в беседах с друзьями, как вспоминали современники, любил «перебирать всю словесность от самого потопа до наших дней».
Батюшков и Гнедич считали его своим другом. Молодой Пушкин читал у Муравьевых свои нелегальные экспромты. Печатавшаяся на страницах «Сына Отечества» работа Никиты о А. В. Суворове вызвала лестные отзывы его литературных соратников.
В доме Муравьевой Кипренский, наверное, встречался и с М. С. Луниным, который, как и Батюшков, был племянником хозяйки дома. Этот бесстрашный кавалергардский офицер получил боевое крещение в битве под Аустерлицем, где погиб его младший брат, и во время военных действий с французами в 1807 году. Лунин отличался легендарной храбростью и вместе с тем абсолютной нетерпимостью к произволу и палочной дисциплине, которая насаждалась в русской армии. Он был героем нашумевшей истории вызова великого князя Михаила Павловича на дуэль за то, что тот оскорбил офицеров Кавалергардского полка.
В 1812 году, когда началась война с Наполеоном, М. С. Лунин, тяжело переживая неудачи русской армии, написал главнокомандующему письмо, в котором изъявлял желание принести себя в жертву Отечеству. Он хотел отправиться парламентером к Наполеону с тем, чтобы, подавая бумаги императору французов, убить его ударом кинжала в бок. Современник, который передает этот эпизод, рассказывает, что «Лунин точно бы сделал это, если б его послали…».
Пример высокого патриотизма показал и Константин Батюшков, старый приятель Кипренского еще по Москве… В 1807 году Батюшков записался в ополчение, был ранен в Пруссии. В 1808 году участвовал в войне со Швецией. С 1810 года он был в отставке, но в 1813 году снова поступает на военную службу. В качестве адъютанта генерала Николая Николаевича Раевского участвует в битве народов под Лейпцигом, в других сражениях. Получив отпуск, через Англию и Швецию возвращается в Петербург и тогда-то и пишет знаменитую «Прогулку в Академию художеств», где называет Кипренского «любимым живописцем нашей публики».
Орест с его страстной, порывистой душой, с его горячим интересом к общественной жизни своей страны не мог остаться в стороне от тех веяний, которые захватили лучших представителей передовой русской общественности. Грандиозные события, которые переживала Россия и вся Европа, атмосфера ожиданий, стремление способствовать общественному благу, воспламенившее цвет русской нации, — все это определило содержание творчества Кипренского.
Художник оставляет кисть и работает главным образом карандашом, стремясь не отстать от бурно развивающегося времени.
31 марта 1814 года он торжествующе записывает на одном из листов своего альбома: «Париж взят!»
Непосредственно на военные события Кипренский откликнулся двумя рисунками. Один из них был выполнен в 1812 году. Он представляет собой аллегорию. Александр I, изображенный в виде античного воина, преклоняет колени у ног величественной фигуры, олицетворяющей, видимо, Россию и вручающей ему копье. На заднем плане виден храм Славы. Другой рисунок-аллегория выполнен позднее и посвящен герою Отечественной войны, победителю Наполеона Михаилу Илларионовичу Голенищеву-Кутузову. Рисунок так и озаглавлен: «Кутузов, шествующий в храм Славы».
С этими аллегориями, которые, как предполагается, Кипренский выполнил в сотрудничестве с Алексеем Николаевичем Олениным, тесно связана серия других рисунков-аллегорий, сделанных Кипренским уже в Италии и представляющих собою его размышления о французской революции, Наполеоне, войне.
На одном из этих рисунков — юноша, приникший к груди женщины во фригийском колпаке. Она, несомненно, олицетворяет революционную Францию. Юноша сидит на груде трупов, в его руке обнаженный меч. На многих других рисунках мы часто видим фигуру юноши с завязанными глазами, с мечом и факелом в руках, который летит на некоем фантастическом животном. Под одним из таких аллегорических изображений есть подпись, которая помогает уяснить мысль художника: «Гений вольности, несомый химерою».
Эта же идея выражена в надписи художника к другому рисунку, на котором изображены несущиеся кони, бегущие люди и опять же — фигура с повязкою на лице: «Легко снять узду с коня, а надеть трудно». На многих рисунках мы видим Наполеона, который сидит на троне, а за его спиной — некое чудовище преподносит ему земной шар.
Мы не знаем, являются ли эти наброски эскизами неосуществленных композиций на исторические темы, или же это просто размышления художника на темы современной ему истории. Но во всяком случае они — ценный документ для изучения взглядов и настроений мастера в этот период.
Наполеон для него, как и для большей части тогдашнего русского общества, — чудовище, поработитель народов, первопричина величайших испытаний, которые выпали на долю русского народа в период французского нашествия. Для Кипренского, как и для многих других русских людей того времени, Наполеон — это порождение французской революции, порождение слепых, стихийных сил, которые она развязала (их олицетворяет юноша с завязанными глазами) и которые в конечном счете привели к власти «корсиканское чудовище».
Может показаться странным, что художник, живший в доме будущего декабриста и общавшийся с другими передовыми русскими людьми, которые подготовили событие 14 декабря 1825 года, — что этот же самый художник исповедует подобные взгляды. Но вспомним, что в 1815 году шестнадцатилетний Пушкин в своем стихотворении «Наполеон на Эльбе» подчеркивал, что низверженный тиран только и мечтал о том, чтобы мир снова оказался у его ног в оковах.
Давно ли с трепетом народы Несли мне робко дань свободы, Знамена чести преклоня… —говорит у Пушкина низложенный французский император. А вот что писал в 1818 году профессор А. П. Куницын, лицейский преподаватель Пушкина, воспетый поэтом: «Несчастные опыты Франции в преобразовании своего правительства самое слово „конституция“ сделали страшным; ибо с понятием оного начали совокуплять понятие о бунтах, о ниспровержении властей законных и о всяких неустройствах государства». По мнению А. П. Куницына, французы, «обольстившись свободой древних республик… приходили от рабства к безначалию, а от безначалия к рабству».
Мысли Кипренского, таким образом, очень близки мыслям Куницына, с которым художник, кстати, был знаком и переписывался. А Куницын, между прочим, был близок к декабристам.
Вспомним и о том, что «ужасы народной революции», анархии, безначалия пугали и дворян-революционеров. Они тоже ведь собирались действовать в интересах народа, но без народа…
Однако Кипренскому суждено было обессмертить свое имя созданием не аллегорических полотен на тему Отечественной войны 1812 года, а серией скромных карандашных портретов, которые он выполнил в 1812–1814 годах с героев войны, отстоявших в жестокой схватке с врагом честь и независимость Отечества.
Он торопится отразить на листах бумаги эпоху славы и надежд, в которой ему посчастливилось жить, стремится отразить в образах своих соотечественников дух времени.
Вот портрет Никиты Муравьева, которого Кипренский рисовал в Царском Селе в 1813 году: несколько угловатый, семнадцатилетний подросток с припухлым по-юношески ртом. «Молодой человек, умный и пылкий», как писал о Никите позднее Пушкин, запечатлен художником уже после того, как он самовольно пытался поступить в ряды действующей армии, но еще до ухода в армию с согласия матери.
А вот другой карандашный набросок с Никиты Муравьева, сделанный Кипренским два года спустя.
И какие два года!
Его юный друг за это время стал зрелым человеком, опытным, бывалым воином, прошедшим путь воинской славы до стен Парижа. Исчезла юношеская неуверенность взгляда, изменился рисунок твердо сжатых губ. От всего облика этого красивого молодого человека веет какой-то интеллектуальной просветленностью. Ведь именно в это время «беспокойный Никита», которому исполнилось девятнадцать лет, впервые стал задумываться о несовершенстве общественного устройства России, о необходимости посвятить свою жизнь борьбе за общественное благо. Обратимся опять к свидетельству декабриста И. Д. Якушкина, который писал: «В продолжение двух лет мы имели перед глазами великие события, решившие судьбы народов, и некоторым образом участвовали в них; теперь было невыносимо смотреть на пустую петербургскую жизнь и слушать болтовню стариков, выхваляющих все старое и порицающих всякое движение вперед. Мы ушли от них на 100 лет вперед».
Кипренский и изобразил своего героя сосредоточенно-задумчивым, точно всматривающимся в то, что ждало Россию впереди. «Этот человек один стоил целой академии», — скажет о Никите Муравьеве его родственник, друг и соратник по тайному обществу М. С. Лунин.
Вот другой приятель Ореста, любитель художеств Алексей Романович Томилов, который сменил фрак на форму ополченца и сидит перед художником в накинутой на плечи бурке, гордясь боевыми наградами, которые украшают его грудь. Томилов, глубоко изучавший изобразительное искусство, написавший даже специальный трактат по вопросам эстетики, в годину суровых испытаний оставил мирный очаг, сформировал из своих крестьян отряд и выступил на защиту Отечества. Он говорил, что был поражен «храбростью нашего народного войска». В своем отряде Алексей Романович ввел гуманные порядки, запретил «бить ратников». Томилов, в доме которого, помимо Кипренского, бывали художники Орловский, Егоров, Боровиковский и другие, в 1810-х годах состоял в масонской ложе, где были представлены также многие будущие декабристы. Он весьма иронически относился к Александру I, присвоившему себе славу победителя в общенародной борьбе и титул «Благословенного». Портрет Томилова — это тоже образ эпохи, образ поколения русских людей, которые отразили натиск наполеоновских полчищ и страстно искали общественный идеал в послевоенную пору.
А вот исполненный в том же, 1813 году портрет генерала Чаплица. 45-летний Ефим Игнатьевич Чаплиц участвовал в осаде Очакова и штурме Измаила под командованием Суворова, сражался на Кавказе, был в деле при Шенграбене и Аустерлице, Прейсиш-Эйлау и Фридланде. В 1812 году он воевал в составе славной армии Тормасова, позднее отличился в битве при Березине. Но на рисунке Кипренского бывалый воин генерал Чаплиц покоряет нас, как и ополченец А. Р. Томилов, не боевым видом, а своей глубокой, обжигающей человечностью. Томилов прямо смотрит на нас, и в его взгляде, во всей его позе есть еще что-то неловкое от того, что ему приходится позировать в непривычной для него военной форме. Мундир Е. И. Чаплица, увешанный крестами, — его привычная, повседневная одежда. Однако художник сочным живописным штрихом только обозначает мундир, а главное внимание уделяет лицу этого человека в минуту задумчивости о чем-то чрезвычайно близком, дорогом, во всяком случае, не имеющем ничего общего с деяниями грозного бога войны. Мы не видим из-за опущенных век глаз генерала, которые устремлены вниз. Быть может, он в это время читает письмо от своих близких, отчего лицо у него озарилось теплой, сердечной улыбкой…
Таковы и другие военные, запечатленные виртуозным карандашом Кипренского. Возьмем портрет Петра Алексеевича Оленина, сына директора Публичной библиотеки Алексея Николаевича Оленина, с которым Кипренский особенно сблизился уже после своего возвращения в Петербург из Москвы. Петр Алексеевич изображен художником в военном облачении. Эффектно накинутая на левое плечо шинель, поворот головы вправо, к зрителю, вовсе не сообщают фигуре Петра Алексеевича Оленина энергии и динамизма. От него тоже веет прежде всего задумчивостью. Он смотрит прямо на зрителя, но смотрит отсутствующим взглядом, поглощенный работой мысли. Мешковато сидящая на юноше форма ополченца, петличка, придерживающая эполет, съехавший со своего места, — все это как бы подчеркивает, что военные занятия, к которым обратился юноша, были лишь случайным эпизодом в его жизни, ибо он готовил себя к другому предназначению. Суровые испытания, выпавшие на долю отчизны, потребовали и от него взять в руки оружие, проявить твердость и стойкость духа в пылу сражений, когда рядом с ним погиб его родной брат. Едва же пора испытаний миновала, он возвратился к мирным занятиям, ничего общего не имеющим с бранной славой.
Но и профессиональные военные, у которых безукоризненная выправка, а взгляд тверд, лицо дышит отвагой, трогают сердце зрителя прежде всего своим обаянием и человечностью. Таковы портреты неизвестного военного врача, неизвестного военного в чине генерала, неизвестного молодого гусарского офицера, в котором некоторые исследователи видят черты молодого Чаадаева. Таковы и изображения многочисленных гражданских лиц, созданных в это время художником. Их отличает душевная ясность, гармоническая целостность личности, светлое восприятие мира и людей, как и образы военных, сотворенных в это время волшебным карандашом Кипренского.
Любопытно заметить, что художник при этом почти не обращался к карандашным портретам с людей, которых бы он не знал хорошо и с которыми бы не находился в близких, дружеских отношениях. И военные, и штатские лица, мужчины, женщины, подростки, которых запечатлевает художник, — это люди, с коими Кипренский встречался или в доме Е. Ф. Муравьевой, или А. Р. Томилова, или директора Публичной библиотеки А. Н. Оленина. При всем сходстве эти кружки имели между собой немало и различий. В доме Е. Ф. Муравьевой Кипренский видел людей, одушевленных высокими гражданскими помыслами, будущих декабристов. У А. Н. Оленина художник встречал не только своих коллег — живописцев и скульпторов, но весь цвет русской интеллигенции той поры. Томиловский кружок не был таким многочисленным, как оленинский, в нем преобладали чисто художественные интересы, он был более однороден.
Старый друг Кипренского А. Р. Томилов к моменту возвращения художника в Петербург из Москвы уже оставил службу, обзавелся семьей, еще глубже ушел в изучение искусства, в собирательство. Археология, изобразительные искусства, литература, история — широта интересов директора Публичной библиотеки А. Н. Оленина находила отражение и в составе его кружка, в котором были представлены и художники, и писатели, и историки, и просто крупные царские сановники. У А. Р. Томилова собрание знаменитостей не было столь ярким. Хозяин дома глубоко интересовался именно изобразительным искусством, и потому среди его друзей преобладали художники.
Легко и непринужденно чувствовал себя Кипренский в доме Томилова. Свое глубокое увлечение искусством, свою меценатскую страсть Алексей Романович сумел передать не только друзьям и родственникам, но даже соседям по имению Успенское, где Орест Адамович бывал летом. Увлечение Томилова искусством со временем стали разделять его племянники Михаил и Алексей Ланские. Михаил Ланской вместе с дядей посещал мастерские знакомых живописцев. Начал коллекционировать живопись и графику. Будучи кадровым военным, он и позднее, когда жил в других городах, стремился повсюду встретиться с художниками, возил с собою набор гравюр. Михаил Ланской мечтал о заграничном путешествии, чтобы познакомиться с шедеврами европейской классики. Кипренского поэтому связывали с братьями Ланскими общие интересы и чувство глубокой симпатии. «Михаилу Павловичу Ланскому в знак истинной любви и дружбы», — написал художник на портрете его матери, который он сделал карандашом в 1815 году.
В доме Томилова нередко разгорались жаркие споры, в которых принимал самое активное участие и Орест Кипренский. Хозяин дома был не просто знатоком живописи, умевшим с одного взгляда определить принадлежность картины той или иной эпохе, но и оригинальным мыслителем, развивавшим перед своими слушателями и собеседниками передовые для своего времени взгляды на искусство. Поблескивая умными живыми глазами, с мягкой улыбкой он говорил:
— Главное в искусстве — не чтó, а как. Как, к примеру, древние смогли создать высокие примеры подражания природе, которую одну образцом принимать должны художники. Но не становитесь рабами гения. Обращая чувства и рассудок ваш к сим произведениям, постигайте в них различные способы, коими разные великие художники достигали своей цели. Мозг ваш не должен быть кунсткамерой, музеумом чужих стилей. Стили надобно изучать, чтобы свои способности лучше образовать…
Орест во время этих бесед, как обычно, набрасывал черты участников томиловских художественных собраний. Нередко он откладывал карандаш в сторону и вставлял в разговор свое слово:
— Очень, очень верно. Вот причина того, что все художники в Рим устремляются. Великих мастеров изучить, чтобы свой определить подход, свои образовать способности.
— Цель живописи, — продолжал Томилов, — в передаче тех чувств или ощущений, какие предмет, художником избранный, над ним произвести может. Эта цель составляет поэтическую цель живописи. Без поэзии художества холодны, сухи и мертвы. Поэзия — вот душа живописи, душа всего изящного…
Томилов, как и его друзья — художники Орест Кипренский и Александр Орловский, — выступал за новое, романтическое искусство. Но если живописцы пролагали путь к новому постижению природы и людей своими произведениями, то Томилов теоретически обосновывал новый художественный метод. Вспомним, что у теоретиков классицизма предметом для подражания была не природа, а нетленные шедевры классического искусства и что они требовали исправлять природу согласно раз и навсегда данным образцам прекрасного, ставили в творчестве на первое место рассудок, а не чувство. А Орловский, к примеру, создавая портретные образы, не только не исправлял натуру, но даже подчеркивал уродливость моделей или же старческую деформацию лица, вдыхая в них свой бурный темперамент и свое сугубо индивидуальное восприятие мира и людей.
Кипренский был человеком и художником иного склада. Однако он тоже не искал в лицах отвлеченной правильности и красоты, даже как бы предпочитал некрасивые, неправильные лица, наделяя их при этом таким человеческим обаянием, таким душевным теплом, таким глубоким внутренним достоинством, что именно эти черты становились главными и определяли суть образа.
Хозяйку дома Варвару Алексеевну Томилову никак нельзя было назвать красавицей. Широкое, монголовидное лицо, неправильные черты. Такой и изобразил ее Кипренский, нисколько не ставя перед собой цели приукрасить модель. Кажется, что сидевшая к нему боком женщина, заметив, что ее рисуют, на минуту отвлеклась от занимавшей ее беседы и повернулась к художнику. На лице портретируемой засветилась едва заметная доброжелательная улыбка. Простое домашнее платье, накинутая на плечи косынка, непроизвольная поза, открытое доброе лицо — все это делает портрет Варвары Алексеевны одним из самых обаятельных женских образов, которые были созданы Кипренским в эти годы.
И совсем иное содержание другого замечательного портретного образа Кипренского, родившегося опять же в доме Томиловых. Речь идет о портрете француженки Вилло, которая воспитывала детей Томиловых. Орест стремился показать в гувернантке-француженке главным образом чувство внутреннего достоинства, которое она сумела сохранить в чужой стране, завоевав большое уважение со стороны и своих хозяев, и их гостей. Эта работа художника вызвала всеобщее восхищение. «Кипренский, — писала В. А. Томилова, — сделал портрет мадемуазель Виллор до того похожий, что это поистине удивительно. Я попросила моего друга (имеется в виду А. Р. Томилов. — И. Б. и Ю. Г.) подарить мне его ко дню рождения».
Еще один необычайно поэтический женский образ — портрет М. А. Кикиной — был выполнен Кипренским в 1810 году. Молодая, миловидная, одетая в домашнее платье женщина сидит, задумавшись о чем-то очень дорогом и светлом.
Если бы портреты Кипренского обозначать не по имени изображенных, а по состоянию моделей, то эту работу можно было бы назвать «Мечтательницей». Хрупкая, немножко беззащитная фигурка Кикиной вызывает у зрителей прилив горячей, захватывающей нежности. Этот графический шедевр Кипренского удивительно музыкален гибкими певучими линиями. Как непохожи эти три женщины, которых увековечил карандаш художника! И в то же время, как они близки друг к другу душевной просветленностью, глубокой человечностью!
Орест проявлял удивительную способность находить в своей душе отклик на любое психологическое состояние моделей. Он понял, что главное в характере В. А. Томиловой — доброта и мягкость, необычайная благожелательность к людям. И, отображая это в рисунке, Кипренский в то же время говорит, что не только видит, не только понимает эти душевные качества своей модели, но и разделяет их, сочувствует им. В сдержанной и немного чопорной француженке Вилло Кипренский отметил главное — стремление к сохранению собственного достоинства, единственного, что осталось у этой женщины, которая вынуждена мыкать горькую судьбу на чужбине. И тут он тоже становится на сторону своей модели, заставляя зрителя проникнуться сочувствием к доле женщины, обреченной скитаться по свету, чтобы заработать себе на кусок хлеба. В портрете Кикиной Кипренский захватывает зрителя своим восхищением перед этой женщиной с возвышенным строем души и мыслей…
Поражает умение художника распознать в человеке главную черту, которая украшает его, составляет наиболее сильную и привлекательную сторону в его характере. Кажется, что, создавая эти портреты, Кипренский каждый раз умел перевоплощаться в своих персонажей. Его душевная чуткость была поистине изумительна. Он становился то мечтательно-задумчивым, выполняя изображение Кикиной, то сдержанно-замкнутым, когда рисовал Вилло, то исполнялся душевной деликатности и доброты к людям, уподобляясь В. А. Томиловой, когда делал ее портрет.
Нет, Орест не был актером. Все эти черты и свойства характера были чертами и свойствами его натуры. Именно поэтому он тотчас находил, улавливал их в других и воспевал в своих чудо-рисунках. Ценность человеческой личности, ее внутренняя свобода, благородство душевных побуждений, преданность высоким гуманистическим идеалам — вот что лежит в основе образов, созданных Кипренским в его гениальной карандашной сюите 1810-х годов. Перенося на бумагу облик соотечественников, он отражал дух времени и нравственную атмосферу своей эпохи.
И в то же время Кипренский легко и непринужденно избегал главной опасности, которая подстерегала его на пути создания типических образов своего времени благодаря умению увидеть в каждом персонаже его неповторимую человеческую индивидуальность. Гравер Н. И. Уткин предстает человеком, отличающимся необычно пылким темпераментом. Художник А. Г. Варнек — очень тонко подмеченным духом снобизма. Неизвестный, запечатленный на листе, на котором стоит дата 19 февраля 1813 года, — могучей цельностью характера. М. П. Мордвинов — силой воли и ума…
Индивидуальное, однако, только подчеркивает общее, что объединяет всех персонажей Кипренского. Оно, это общее, — в поразительной душевной полноте, в гармонии человека со средой, в высоком осознании ими своего общественного долга.
Величие и твердость духа, готовность к самопожертвованию ради счастья своей страны и своего народа, героическое воодушевление, идущее из самого естества, из самых глубин сердца и души, — вот что воплощено в образе молодого офицера, принимаемого в наше время за П. Я. Чаадаева. Гордо откинув назад голову, молодой гусар, почти мальчик, как бы бросает смелый вызов тем бурям и опасностям, которые ждут его на боевом пути. Лицо его озарено большой внутренней силой. Это один из самых типических образов русских людей, созданных Кипренским в годы великого поединка с наполеоновскими завоевателями. Чаадаев ли это или нет, в сущности, не имеет большого значения при оценке шедевра Кипренского. Перед нами один из тех, кто в самой ранней юности должен был вступить в бой с врагом, и с честью выдержал этот бой…
Очень интересна серия портретных рисунков, сделанных Орестом в эти годы с подростков. Кипренский, как об этом говорит замечательный портрет калмычки Баяусты, относящийся к 1813 году, был великолепным психологом, умеющим проникать в мир детских чувств.
Девочка-подросток Баяуста, одетая в ярко-красный тулупчик, отороченный черным мехом, и шапочку-колпак, подбитую таким же мехом, запечатлена Кипренским в момент, когда она стремится изо всех сил сдержаться, в то время как ее всю так и распирает от желания прыснуть, громко рассмеяться. Девочка эта жила в доме супругов Олениных, как тогда было принято, в числе многих других приживалок и воспитанниц, она, как рассказывают мемуаристы, сопровождала мать хозяина в церковь, где клала вместо нее земные поклоны.
Зависимое положение вовсе не сказалось на характере девочки, очень смышленой, живой и жизнерадостной. Художник бережно и любовно изобразил непосредственность детской натуры.
В это же самое время рождаются и его карандашные наброски Петрушки-меланхолика, мальчика Моськи, мальчика Андрюшки, в которых также отражена детская непосредственность чувств и душевная красота.
Серию интересных юношеских портретов Кипренский сделал летом 1813 года и в Царском Селе, где он жил в семье Е. Ф. Муравьевой, снимавшей там дачу. Царское Село было модным местом летнего времяпрепровождения. Любимая загородная резиденция Екатерины II во времена Павла была заброшена и вновь возродилась только при Александре I. За императором сюда потянулась и высшая петербургская знать.
Популярность Царского Села еще более упрочилась, когда в 1811 году здесь открылся Лицей.
Александр I мыслил Лицей как аристократическое учебное заведение, которое было призвано готовить государственных мужей, обладающих солидным образованием. Недаром для начала император собирался поместить в Лицей и своих младших братьев Николая и Константина, которые уделяли слишком много внимания учениям на плацу и слишком мало — «изящным искусствам».
Среди преподавателей Лицея были такие передовые профессора, как А. И. Галич и А. П. Куницын. Друг Пушкина Иван Пущин рассказывал в воспоминаниях, что уже в первой же лекции А. П. Куницын в присутствии императора проявил необычайную смелость и независимость суждений: «Смело, бодро выступил профессор политических наук А. П. Куницын и начал не читать, а говорить об обязанностях гражданина и воина. Публика, при появлении нового оратора, под влиянием предшествовавшего впечатления, видимо, пугалась и вооружалась терпением; но по мере того как раздавался его чистый, звучный и внятный голос, все оживлялись, и к концу его замечательной речи слушатели уже были не опрокинуты к спинкам кресел, а в наклоненном положении к говорившему: верный знак общего внимания и одобрения! В продолжение всей речи ни разу не было упомянуто о государе: это небывалое дело так поразило и понравилось императору Александру, что он тотчас прислал Куницыну Владимирский крест — награда, лестная для молодого человека, только что возвратившегося перед открытием Лицея из-за границы, куда он был послан по окончании курса в Педагогическом институте, и назначенного в Лицей на политическую кафедру».
Идеи А. П. Куницына, читавшего лекции о естественном праве и доказывавшего неотъемлемость прав для каждой отдельной человеческой личности, падали на весьма благоприятную почву. Это были прогрессивные идеи, и не случайно Куницын впоследствии поплатился за них отставкой. Но дело было сделано, и этот профессор немало способствовал тому, что среди лицеистов первых наборов утвердился особый «лицейский дух» — дух вольнолюбия, независимости суждений, презрительного отношения ко всякого рода холопству и раболепию. Недаром будущий шпион третьего отделения Фаддей Булгарин счел нужным написать донос на Царскосельский Лицей, в котором писал о «лицейском духе, когда молодой человек не уважает старших, обходится фамильярно с начальниками».
Нужно ли говорить, что «лицейский дух» не исключал, а напротив, подразумевал горячий патриотизм, которым тогда было воодушевлено все русское общество. Пущин писал: «Жизнь наша лицейская сливается с политическою эпохою народной жизни русской: приготовлялась гроза 1812 года. Эти события сильно отразились на нашем детстве. Началось с того, что мы провожали все гвардейские полки, потому что они проходили мимо самого Лицея; мы всегда были тут, при их появлении, выходили даже во время классов, напутствовали воинов сердечной молитвой, обнимались с родными и знакомыми; усатые гренадеры из рядов благословляли нас крестом. Не одна слеза тут пролита!..
Когда начались военные действия, всякое воскресение кто-нибудь из родных привозил реляции; Кошанский (преподаватель лицея. — И. Б. и Ю. Г.) читал нам их громогласно в зале. Газетная комната никогда не была пуста в часы, свободные от классов; читались наперерыв русские и иностранные журналы, при неумолкаемых толках и прениях; всему живо сочувствовалось у нас: опасения сменялись восторгами при малейшем проблеске к лучшему. Профессора приходили к нам и научали нас следить за ходом дел и событий, объясняя иное, нам недоступное».
Юные лицеисты, почти дети, очень рано стали взрослыми. Детские шалости и проказы отнюдь не мешали им жить одними чувствами и мыслями вместе со всей нацией.
Пушкин называл себя и своих сверстников этого времени юношами-мудрецами. Мудрецами потому, что они еще в отроческом возрасте постигли, что такое родина, и стали проникаться гражданскими идеалами.
Кипренский, надо думать, еще с Москвы хорошо помнил кудрявого мальчика, сына Сергея Львовича и племянника Василия Львовича Пушкиных, завсегдатаев встреч в бутурлинском доме. Некогда медлительный, неповоротливый увалень, Александр Пушкин теперь превратился в живого и подвижного, как ртуть, подростка, поражавшего лицеистов удивительным поэтическим даром.
С лицеистами Кипренского познакомили, конечно, Муравьевы. Никита, который был почти сверстником многих из воспитанников Лицея, посещая его, виделся с Александром Пушкиным, о котором он еще в письме к матери в апреле — мае 1815 года из Вены спрашивал: «Что делает Пушкин? Бывают ли у вас Катенин, Гнедич, Крылов?»
С юношами Орест мог завязать знакомство и во время спектаклей, которые они устраивали с приглашением посторонних, а также лицейских балов, в которых участвовали приезжавшие в Царское Село барышни — родственницы самих лицеистов или же члены семей проводивших лето в Царском Селе вельмож. Влюбчивые подростки боготворили царскосельских красавиц, которые посещали их балы. Вспоминая о Лицее, когда во главе его встал Энгельгардт, Иван Пущин рассказывал: «В доме его мы знакомились с обычаями света, ожидавшего нас у порога Лицея, находили приятное женское общество… Во всех этих увеселениях участвовало его семейство и близкие ему дамы и девицы, иногда и приезжавшие родные наши. Женское общество всему этому придавало особенную прелесть и приучало нас к приличию в обращении».
Наибольшей влюбчивостью, естественно, отличался юный Пушкин. «…Первую платоническую, истинно пиитическую любовь, — писал лицеист С. Д. Комовский, — возбудила в Пушкине сестра одного из лицейских товарищей его (фрейлина К. П. Бакунина). Она часто навещала брата и всегда приезжала на лицейские балы. Прелестное лицо ее, дивный стан и очаровательное обращение произвели всеобщий восторг во всей лицейской молодежи. Пушкин, с пламенным чувством молодого поэта, живыми красками изобразил ее волшебную красоту в стихотворении своем под названием „К живописцу“».
До нашего времени дошло немного его портретных рисунков, выполненных в Царском Селе. С пометой «Сарское Село» и датой «1813 год», собственно, сохранился только один портретный рисунок — Никиты Муравьева. Но наверняка в Царском Селе был выполнен и портрет пастелью лицейского товарища Пушкина А. П. Бакунина, на котором стоит монограмма художника и дата: 1813 год. В 1813 году лицеистов еще не пускали на побывку к родственникам в Петербург, и потому портрет этот мог быть сделан только в Царском Селе.
Там же, по всей видимости, Кипренский портретировал и Наташу Кочубей, дочь Виктора Павловича Кочубея, князя, графа, министра внутренних дел России. Наташа Кочубей в 1813–1815 годах лето вместе с родителями проводила в Царском Селе. И это именно она, а не Бакунина, была «первым предметом любви Пушкина». В Катеньку Бакунину он влюбился позже, посвятив ей серию из целых 22 лицейских стихотворений.
Чувство Александра Пушкина к Наташе Кочубей оставило и в его душе, и в душе Наташи очень светлый след. Есть мнение, что это Н. В. Кочубей нарисовал он в 8-й главе «Евгения Онегина» («К хозяйке дама приближалась, за нею важный генерал».). После смерти Пушкина Наталья Викторовна, как передают современники, «с большим жаром» говорила в защиту памяти поэта.
Наташа была на год моложе Пушкина, и в 1813 году ей было всего тринадцать лет. Она еще — полуребенок-полубарышня. Но именно в этом возрасте девочкам так хочется быть взрослыми. И Кипренский с удивительной душевной деликатностью сумел подметить это и передать на своем портрете. Трогательно-наивное, комически-серьезное лицо девчушки, повернутое в сторону собеседника, прямо-таки заражает зрителя доверием к людям и верой в жизнь.
Весь облик Наташи дышит такой чистотой, такой незамутненностью души, таким открытым сердцем, что, кажется, это о ней напишет позднее Пушкин строки, рисуя образ русской девушки Татьяны Лариной:
За что ж виновнее Татьяна? За то ль, что в милой простоте Она не ведает обмана И верит избранной мечте? За то ль, что любит без искусства, Послушная влеченью чувства, Что так доверчива она, Что от небес одарена Воображением мятежным, Умом и волею живой, И своенравной головой, И сердцем пламенным и нежным?В Пушкине, писал позднее Гоголь, «русская природа, русская душа, русский язык, русский характер отразились в такой же чистоте, в такой очищенной красоте, в какой отражается ландшафт на выпуклой поверхности оптического стекла… Сочинения Пушкина, где дышит у него русская природа, так же тихи и беспорывны, как русская природа. Их только может совершенно понимать тот, чья душа носит в себе чисто русские элементы, кому Россия родина, чья душа так нежно организована и развилась в чувствах, что способна понять не блестящие с виду русские песни и русский дух; потому что чем предмет обыкновеннее, тем выше нужно быть поэту, чтобы извлечь из него необыкновенное и чтобы это необыкновенное было, между прочим, совершенная истина».
Орест Кипренский по-своему тоже верно и искренне отразил русский дух, русский характер, русскую душу в своих замечательных портретных работах середины 1810-х годов. Его женские образы удивительно пушкинские по своему характеру, по своей поэтической цельности и простоте. Нам легко представить, что именно такой вот девушке, как Наташа Кочубей, с ее широко распахнутой миру душой могли принадлежать строки о беззаветной любви, о которой нам поведал поэт в «Письме Татьяны»:
Другой!.. Нет, никому на свете Не отдала бы сердца я! То в вышнем суждено совете… То воля неба: я твоя; Вся жизнь моя была залогом Свиданья верного с тобой; Я знаю, ты мне послан Богом, До гроба ты хранитель мой… Ты в сновиденьях мне являлся, Незримый, ты мне был уж мил, Твой чудный взгляд меня томил, В душе твой голос раздавался…Портрет Александра Бакунина, лицейского товарища Пушкина, выдержан Кипренским в той же психологической стихии, что и образы героев 1812 года. Это, говоря словами Пушкина, образ юноши-мудреца. Юноши, который с детских лет познал испытания, выпавшие на долю Отечества. Ведь лицеисты, хотя они и не принимали участия в военных действиях, тоже могли бы сказать о себе, что они все были сыновьями 1812 года. Хрупкая фигурка юноши, которая становится еще более хрупкой на фоне массивной спинки кресла, только еще более подчеркивает серьезность мысли, что светится в глазах портретируемого мальчика.
Это поколение русских людей действительно очень рано стало взрослым и очень рано стало задумываться о судьбах своей страны.
Стремительная поступь истории воспитывала гражданские чувства, ускоряла расставание с детством лицейских недорослей. Уже в годы учебы в Лицее Пущин, Дельвиг, Кюхельбекер и Вольховский вошли в преддекабристскую организацию «Священная артель», которая была создана Александром Муравьевым и Иваном Бурцевым. «Еще в лицейском мундире я был частым гостем артели… — вспоминал Иван Пущин. — Постоянные наши беседы о предметах общественных, о зле существующего у нас порядка вещей и о возможности изменения, желаемого многими втайне, необыкновенно сблизили меня с этим мыслящим кружком: я сдружился с ним, почти жил в нем».
К декабристам пришел позднее и Александр Бакунин, который стал членом декабристского «Общества семисторонней, или семиугольной, звезды».
Прочная слава, завоеванная на портретном поприще, давала Оресту надежду на продвижение по академической лестнице еще на одну ступеньку. Он представляет серию своих новых работ на рассмотрение Совета Академии и 1 сентября 1815 года удостаивается высокой чести быть назначенным советником Петербургской Академии художеств.
В августе 1815 года в Петербург приехал Жуковский. Орест не видел Василия Андреевича с той поры, когда осенью 1811 года, в канун войны, уехал из Москвы в Тверь. Его одногодок (если годом рождения Кипренского считать тот, что был указан в академических бумагах) за это время оставил ремесло издателя и редактора, сменил в 1812 году перо на штык, записавшись в ополчение, получил боевое крещение при Бородине. Потом он прошел дорогами войны до Вильны, где тяжело заболел к чуть не отдал Богу душу. По выздоровлении получил чин штабс-капитана и орден святой Анны, сменил затем снова штык на перо, прославил подвиг своего народа в стихах «Певец во стане русских воинов», которые знала наизусть вся образованная Россия, пережил крушение в личной жизни, убедившись в невозможности соединить жизнь с горячо любимой Машенькой Протасовой, также горячо и беззаветно любившей его, написал большую часть своих лучших поэм и баллад, стал первым российским поэтом, заворожив читателей звучностью и красотой русской речи в своих стихах.
Суровая школа жизни и сияние славы ни в чем не изменили Василия Андреевича. Он и внешне мало чем изменился за эти четыре года. Такой же худощавый, легкий в движениях, чуть сутулившийся молодой черноволосый мужчина. Такой же доброжелательный и ласковый к людям, такой же увлекательный собеседник и неистощимый на веселые затеи человек.
Жуковский нагрянул в Петербург как раз к представлению новой пьесы А. А. Шаховского «Липецкие воды», в которой ее даровитый автор, стоявший на стороне литературных староверов, ополчался на главу новой, романтической школы в русской литературе, выведя его в роли восторженного стихотворца Фиалкина, так и сыпавшего тирадами, как две капли похожими на отрывки из сочинений автора «Светланы».
Друзья Жуковского были возмущены, а он, мил человек, не только не думал возмущаться — сам смеялся от всей души над собственной карикатурой, остроумно набросанной Шаховским. Но сторонники «новаторской» партии не думали оставлять без ответа уже не первый выпад против них противников из консервативного лагеря и тотчас скрестили с ними шпаги, опубликовав в защиту новой поэзии серию язвительных фельетонов. Д. В. Дашков поместил в «Сыне отечества» «Письмо к новейшему Аристофану», в котором, по словам современника, «как палицей, так и бил сплеча» в «новейшего Аристофана» — А. А. Шаховского.
Д. Н. Блудов сочинил «Видение в какой-то ограде, изданное обществом ученых мужей», где заставил героя, в котором нетрудно было узнать Шаховского, исповедоваться в тайных, но всем известных грехах своих. П. А. Вяземский выступил с циклом едких эпиграмм…
«Теперь страшная война на Парнасе, — иронизировал Жуковский по поводу разгоревшихся литературных страстей, — около меня дерутся, а я молчу». Но, «чуждаясь всякой чернильной брани», поэт вовсе не стоял, умывая руки, в стороне от баталии, в центре которой оказались он сам и его стихотворные творения. Он стал признанным лидером возникшего в это время объединения своих единомышленников — «Арзамасского братства»…
Шаховской и его партия давно уже были объединены «Беседой любителей русского слова», созданной еще в 1811 году адмиралом А. С. Шишковым. «Беседа» была задумана как оплот против растущего влияния Н. М. Карамзина и его сторонников, самым талантливым из которых был Жуковский, и выступала против вводимых ими языковых новшеств и свежих, легких и оригинальных поэтических форм.
Слыханное ли дело — Н. М. Карамзин для новых понятий, рождаемых временем, вводил странно звучавшие неологизмы или даже прибегал к галлицизмам вроде таких, как культура, цивилизация, публика, энтузиазм, промышленность, развитие?..
А. С. Шишков полагал, что такие слова засоряют русский язык, предлагал расширять словарный запас русского языка только за счет церковнославянизмов, за что его сторонников прозвали «варягороссами».
История давно произнесла свой вердикт о споре «шишковистов», ни одно словообразование которых не привилось в русском языке, с «карамзинистами», проложившими путь в русскую литературу Александру Пушкину. Но современникам не так просто было решить, на чьей стороне истина. «Беседа» родилась в сложный и трудный период русской истории, когда дворянское общество, в течение целого столетия черпавшее все передовое на Западе, внезапно обнаружило после Аустерлицкого и Тильзитского унижений, что тот же самый Запад, где безраздельно утвердилось «корсиканское чудовище», грозит теперь самому существованию русского государства и что эта угроза исходит от страны, чьи язык и культура по-прежнему властвовали на берегах Невы и Москвы среди так называемого образованного сословия. Защита ценностей отечественной культуры и родного языка, обращение к славным делам предков, героическим страницам российской истории диктовались глубокими политическими соображениями, отвечали потребностям развития национального самосознания.
Вигель, вспоминая о возникновении «Беседы любителей русского слова», писал: «Обстоятельства чрезвычайно благоприятствовали ее учреждению и началам. Мудрено объяснить состояние умов тогда в России и ее столицах. По вкоренившейся привычке не переставали почитать Запад наставником, образцом и кумиром своим; но на нем тихо и явственно собиралась страшная буря, грозящая нам истреблением или порабощением; вера в природного, законного защитника нашего (то есть царя. — И. Б. и Ю. Г.) была потеряна, и люди, умеющие размышлять и предвидеть, невольно теснились вокруг знамени, некогда водруженного на Голгофе, и вокруг другого, невидимого еще знамени, на котором уже читали они слово Отечество. Пристрастие к Европе приметно начало слабеть и готово было превратиться в нечто враждебное; но в ней была порабощенная Италия, страждущая и борющаяся Гишпания, Германия, которая тайно молила о помощи, и Англия, которая не переставала предлагать ее. Воспрянувшее в разных состояниях чувство патриотизма подействовало, наконец, на высшее общество: знатные барыни на французском языке начали восхвалять русский, изъявлять желание выучиться ему или притворно показывать, будто его знают. Им и придворным людям натолковали, что он искажен, заражен, начинен словами и оборотами, заимствованными у иностранных языков и что „Беседа“ составилась единственно с целию возвратить и сохранить ему его чистоту и непорочность; и они все взялись быть главными ее поборницами».
Заседания «Беседы» обставлялись торжественным ритуалом и были пронизаны официальным духом. Залу для заседаний предоставил в своем великолепном доме на Фонтанке Г. Р. Державин. В присутственные дни она освещалась, как «храм бога света», и туда являлись, непременно в мундирах и при всех орденах, а прекрасный пол — в бальных платьях, и, если среди них были статс-дамы, то последние должны были быть «в портретах».
Члены общества и почетные гости в звездах и лентах рассаживались за столами, а посетители — на стульях, расставленных в три ряда вдоль стены. Во время заседаний устраивались либо чтения литературных произведений, либо театральные представления. Театральной частью заведовал сам князь А. А. Шаховской, суетливый человек лет тридцати пяти, очень толстый и неуклюжий, с огромным носом и с пискливым голосом, которым он учил актеров их ремеслу.
Чтение продолжалось часа три кряду, после чего следовал ужин, а затем снова возобновлялось знакомство с литературными новинками, уровень которых часто был ниже всякой критики. Смертельно скучавшие дамы изо всех сил старались изобразить интерес к происходящему, но при всяком удобном случае стремились покинуть почтенное собрание. С. П. Жихарев так рассказывает в своих мемуарах об одном из заседаний «Беседы»: «Вчерашний вечер… не похож был на вечер литературный. Кого не было! Сенаторы, обер-прокуроры, камергеры и даже сам главнокомандующий С. К. Вязмитинов…
Началось чтение. Читали стихи какого-то Кукина на случай избрания адмирала Мордвинова, друга А. С. Шишкова, в губернские начальники московской милиции. Стихи очень плохи: видно, что они произведение какого-нибудь домашнего стихотворца, более усердного, нежели талантливого. Хозяин прочитал перевод свой нескольких писем Фенелона о благочестии; нет сомнения, что эти письма камбрейского архиепископа в высокой степени поучительны и полезны, но надобно читать их дома, с некоторым размышлением, а не в таком обществе, которое собирается следить за успехами русской литературы не по переводам известных иностранных писателей, а по новым оригинальным сочинениям, да и перевод Захарова напыщен и вовсе не имеет характер фенелонова слога, столь простого и благородного. Слушая эти письма, гости почти дремали, но, кажется, хозяин не замечал этого и безжалостно продолжал чтение до самого ужина, а между тем Вязмитинов уехал, воспользовавшись минутою отдохновения чтеца; за ним вскоре удалились князь Салагов, Резанов и еще многие, одни за другими, вставая потихоньку с мест своих, прокрадывались из гостиной на цыпочках; нечувствительно кружок разредел, и остались только мы, большею частью слушатели по призванию, то есть те, которым хотелось или ужинать или читать стихи свои».
Дошла очередь и автора воспоминаний читать стихи, которые вызвали град критических замечаний сановных слушателей потому, что они тотчас угадали в них «московскую школу».
«В заключение, — продолжает С. П. Жихарев, — добродушный хозяин сказал мне с видом прозорливца, что он тотчас же угадал, что я принадлежу к новой московской школе. „В вас есть способности, — промолвил он, — но вам надобно еще поучиться. Поживите с нами, мы вас выполируем…“
А между тем я подслушал, как Гаврила Романович (Державин), который, видно, не большой охотник до грамматики и просто поэт, кому-то прошептал: „Так себе, переливают из пустого в порожнее!“
Ужин был славный».
Примерно так же проходили и другие собрания «Беседы», на которых присутствовал С. П. Жихарев. На одном из них ему довелось читать стихи Г. Р. Державина «На выступление корпуса гвардии в поход», в котором были такие строки:
Греми, рази ехидн Илектра на волнах; Освободи Берлин, Лежащий во змиях.Несмотря на весь свой пиетет к престарелому поэту, Жихареву с его вкусами «московской школы» было, признается он, совсем не по сердцу декламировать подобные вирши. Произведения сановных сочинителей были еще слабее, их дилетантский уровень коробил таких авторов, как И. А. Крылов, который открыто посмеивался над пестрыми сборищами «Беседы», изобразив ее маститых членов в басне, где Проказница-Мартышка, Осел, Козел да косолапый Мишка затеяли сыграть Квартет, да никак не могли поделить места, за что заслужили суровую отповедь автора: «А вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь».
Друзья Жуковского решили пародировать торжественные заседания «Беседы» на своих дружеских сходках, которые и положили начало Арзамасскому обществу безвестных людей. Идея названия принадлежала Блудову, который как-то проездом через Арзамас слышал в трактире, как в соседней комнате группа местных обитателей забавно толковала о литературе. Первое заседание состоялось в доме С. С. Уварова 14 октября 1815 года. Хозяин дома предоставил для этой цели помещение своей библиотеки, где был поставлен длинный стол с чернильницей, перьями и бумагой, занял председательское место и произнес «тронную» речь. Жуковский тотчас увидел в «Арзамасе» отличную возможность для розыгрыша противников романтической школы, предложил выработать «узаконения» общества, которые он облек в такие юмористические формы, что все помирали со смеху. Жуковскому же, который стал душой общества, принадлежала идея подавать на ужин почтенному собранию непременно жареного гуся, коими так славился город Арзамас, и сделать его изображение эмблемой нового литературного объединения.
Членам общества присваивались забавные прозвища, взятые из баллад Жуковского. Сам Жуковский, избранный секретарем общества, был наречен Светланой, Блудова назвали Кассандрой, Александра Тургенева — Эоловой Арфой, Уварова — Старушкой.
Неистощимый на выдумки Жуковский придумал забавную процедуру заседаний нового общества и приема новых членов. Вечер обыкновенно начинался с чтения протокола предыдущего заседания, что сразу же настраивало «арзамасцев» на веселый лад. Вновь принимаемый член общества должен был произнести похвальное слово своему усопшему предшественнику, а за неимением таковых в «Арзамасе», их брали напрокат из «Беседы», всячески иронизируя при этом над их мнимыми литературными заслугами. «Арзамасцы», впрочем, охотно подтрунивали и сами над собой, считая, что оружие смеха должно и разбивать противников, и вместе с тем служить воспитанию вкуса в собственных рядах. Больше всего «арзамасцы», пожалуй, потешались над простодушным Василием Львовичем Пушкиным при приеме его в члены общества.
Василий Львович давно был на ножах с «шишковистами» и уже одно только это давало ему право на почетное место в «Арзамасе». Еще в 1810 году он опубликовал «Послание к В. А. Жуковскому», в котором заклеймил «весь собор безграмотных славян», их кондовый консерватизм:
Слов много затвердить не есть еще ученье: Нам нужны не слова, нам нужно просвещенье.А. С. Шишков ответил В. Л. Пушкину обвинением в преклонении перед иноземщиной. Василий Львович не остался в долгу и опубликовал новое послание — на этот раз к Д. В. Дашкову, в котором были такие строки:
Невежда может ли отечество любить? Не тот к стране своей усердие питает, Кто хвалит все свое, чужое презирает; Кто слезы льет о том, что мы не в бородах, И, бедный мыслями, печется о словах! Но тот, кто, следуя похвальному внушенью, Чтит дарования, стремится к просвещенью.В «Липецких водах» Шаховской наряду с воздыхателем Фиалкиным вывел и лихого гусара Угарова, списав его с героя поэмы Василия Львовича «Опасный сосед» и с самого ее автора и отомстив таким образом последнему за очень остроумный выпад в свой адрес в строках поэмы…
Однако литературные заслуги не избавили Василия Львовича от проказ «арзамасцев», которые придумали специально для него немыслимо сложную и забавную процедуру приема, уповая на его добродушие и незлобивый нрав и помня о его принадлежности к масонам, откуда и были взяты таинства церемонии.
Кандидата в «арзамасцы» нарядили в хитон, на голову водрузили широкополую шляпу, а в руки дали посох странника. В этом одеянии с завязанными глазами из парадных комнат квартиры Уварова его свели на нижний этаж по узкой и крутой лестнице. Там ему бросали под ноги хлопушки, по которым он ступал. Потом его долго мучили вопросами, после чего вооружили луком и стрелою, которою он должен был поразить чучело с огромным париком и безобразною маскою. Чучело, на котором был начертан стих Тредиаковского «Чудище обло, озорно, трезевно и лаяй», изображало «Дурной вкус или Шишкова». За этим последовало еще немало проделок забавлявшихся «арзамасцев», над младенчески наивным автором «Опасного соседа», обильно приправленных назидательными речами, после чего ему было объявлено, что он стал полноправным членом общества с прозвищем Вот. На следующем заседании, как было записано в протоколе, Василия Львовича было решено произвести в старосты «Арзамаса» с прибавлением к его прозвищу двух односложных слов «я» и «вас», так что впредь его следовало именовать «Староста Вот я Вас»…
Самое удивительное было в том, что эти дурачества в одинаковой мере позабавили всех их участников, включая и жертву — «его превосходительство Старосту Вот я Вас».
Орест Кипренский был близок и к членам «Беседы», и к «арзамасцам», имел друзей и в том, и в другом лагере, писал портреты виднейших представителей и той и другой стороны. Впрочем, четкой границы между двумя обществами как противоборствующими сторонами никогда и не было. Да и в самой «Беседе» поначалу превалировал дух патриотизма, а не консервативные тенденции, возобладавшие там после Отечественной войны. Наряду с Шишковым ведь там заседал И. А. Крылов, состоявший в приятельских отношениях с «арзамасцами», а Г. Р. Державин очень ценил В. А. Жуковского и видел в нем своего преемника в русской поэзии, которому он посвятил такие строки:
Тебе в наследие, Жуковский, Я ветху лиру отдаю; А я над бездной гроба скользкой Уж преклоня чело стою…Надо помнить и о том, что в «Арзамасе» были не только Жуковский, Вяземский, Батюшков, Денис Давыдов и будущие декабристы Н. И. Тургенев, Н. М. Муравьев, М. Ф. Орлов, но и будущий идеолог «православия, самодержавия и народности» и гонитель Пушкина С. С. Уваров, будущий делопроизводитель Верховной следственной комиссии по делу декабристов и министр внутренних дел Д. Н. Блудов, карьерист и выскочка Д. П. Северин, впоследствии — злобный враг Пушкина, против которого будет направлена его эпиграмма «Ваш дед портной, ваш дядя повар».
Словом, не просто было разобраться в том, кто вступает в литературные битвы с открытыми знаменами, а кто высматривает, чтобы сделать себе на литературе политический бизнес, переметнувшись в нужный момент на сторону, которой будут благоволить власти предержащие.
Кипренский как первый русский портретист романтического направления должен был бы быть всецело на стороне В. А. Жуковского и его партии. Но он в это же самое время оставался еще и художником исторического жанра, ибо никогда не переставал мечтать о триумфе на поприще исторической живописи и только ждал своего часа. Классицистическая эстетика «Беседы» поэтому не могла быть вовсе чужда Кипренскому, она занимала еще достаточно места в его мировоззрении как художника.
Но сердцем, душою, всем живописным темпераментом он был романтиком и, следуя этому методу, создал уже свои лучшие работы, которые в то же время были лучшими работами русской романтической портретной живописи. Нельзя считать случайным, что портрет А. С. Шишкова Орест сделал совсем в другой манере по сравнению с портретом В. А. Жуковского.
Шишкова Кипренский написал в стиле старых русских мастеров, создавая образ просвещенного русского вельможи. В парадном мундире, с лентой и орденами А. С. Шишков изображен сидящим в кресле в три четверти оборота к зрителю. В левой руке он держит листы бумаги с письмом или рукописью, правой опирается на столик, на котором небрежно брошены две книги в переплетах с золотым тиснением. Седая грива волос, волевое лицо с несколько тяжелым подбородком. Основатель «Беседы любителей русского слова», автор трактата «Рассуждения о старом и новом слоге российского языка», адмирал, член Государственного совета, почетный член Академии наук, президент Российской академии, министр народного просвещения и глава цензурного ведомства, А. С. Шишков изображен здесь так, как подобало изображать в старину людей его калибра — в полном соответствии с требованиями и нормами парадного классицистического портрета, то есть с теми требованиями и нормами, которые адмирал отстаивал в ходе борьбы с карамзинистами в литературе.
Кипренский, написавший этот портрет в 1825 году, после первой поездки в Италию, проявил в нем поразительную гибкость своей кисти. Глядя на портрет А. С. Шишкова, трудно, почти невозможно поверить, что его написал тот же художник, который создал портреты Адама Швальбе, мальчика А. Челищева, «Молодого человека в розовом шейном платке», который «изобрел» лирический русский камерный карандашный портрет, окончательно возвестивший наступление новой эпохи в отечественном портретном искусстве.
И совсем в другой манере по сравнению с А. С. Шишковым написал Кипренский в 1816 году портрет В. А. Жуковского. Художник знал поэта и как вдумчивого редактора журнала «Вестник Европы», мысли которого о литературе и искусстве во многом совпадали с воззрениями самого Кипренского, и как неистощимого на выдумки и веселые проказы лидера «Арзамаса», орудием смеха боровшегося за победу новых тенденций в отечественной словесности, и как милого человека, друга своих друзей, необычайно доброжелательного и мягкого. Но еще Кипренскому было ведомо, что Василий Андреевич был незаконнорожденный и как таковой был обречен после своего появления на свет на ярмо крепостного рабства, не будь у его отца, «честнейшего и благороднейшего» надворного советника Афанасия Ивановича Бунина, приятеля, мелкопоместного и бездетного дворянина Андрея Григорьевича Жуковского, который согласился усыновить мальчика, дать ему свою фамилию, а вместе с нею и дворянство. Что, однако, не избавило Василия Андреевича от судьбы социально отверженного, от двусмысленного положения в семье Буниных, от трагической неустроенности в личной жизни…
Кому, как не Кипренскому, тоже незаконнорожденному и тоже лишь на бумаге имевшему отца, а мать — в роли барской наложницы, кому, как не Кипренскому, было лучше знать душевные терзания Василия Андреевича, по приезде в Петербург переживавшего одну из самых горьких годин в своей жизни, когда он писал: «О, Петербург, проклятый Петербург с своими мелкими, убийственными рассеяниями! Здесь, право, нельзя иметь души! Здешняя жизнь давит меня и душит!»
Кипренский, однако, работая над портретом, взял в Жуковском главное — его романтическую музу. Василия Андреевича он показал в минуту творческого озарения. На темном, почти нейтральном фоне, на котором угадываются клубящиеся облака, гнущиеся от бури деревья, причудливые силуэты таинственного средневекового замка, выступает сливающаяся с фоном фигура поэта, застигнутого живописцем в тот момент, когда на его устах, кажется, рождаются строки новой баллады:
Владыко Морвены, Жил в дедовском замке могучий Ордал; Над озером стены Зубчатые замок с холма возвышал; Прибрежны дубравы Склонялись к водам…Портрет Жуковского — это выношенная Кипренским идея поэзии, отрешения человека от всего обыденного, мелкого, житейского в минуту вдохновения, идея высокого парения человеческого духа. В отличие от карандашных портретов 1812–1813 годов — это не «исповедальный образ», не изображение человека, раскрывающего свою душу не только перед художником, но и перед зрителем, а творца, уединившегося в мире собственной фантазии и тем самым отдалившегося от зрителя, но не от живописца, ибо поэзия и живопись, как говаривал сам Жуковский, «родные сестры», что позволило портретисту увидеть то, что сокрыто тайной для простого смертного, проникнуть в глубины поэтического творчества, отразить полет мысли, рождение чудных поэтических образов.
Портрет Жуковского — это жизнь духа в его чистом виде. Кипренский никогда еще не ставил перед собою такой сложной задачи, как при работе над этим полотном. В карандашном портрете Константина Батюшкова, выполненном за год до этого — в 1815 году, перед нами просто образ высоко интеллектуального, образованного, мыслящего человека, который спокойно позирует художнику, следя глазами не за рукой искусника-портретиста, а за чем-то посторонним, что делает образ еще более интимным и естественным. Не знай мы, что это поэт Константин Батюшков, отгадать принадлежность модели художника к поэтическому цеху было бы нелегко, ибо такой же полной духовной жизнью живут и многие другие люди, увековеченные Кипренским теперь уже более чем за десятилетнюю карьеру его как художника-портретиста. И на живописном, и на карандашном портретах Батюшкова он изображен в интимной, домашней обстановке, в момент счастливого душевного равновесия, но отнюдь не в момент творчества.
То же самое можно сказать и об отличном карандашном портрете И. А. Крылова. А Жуковский застигнут художником именно в момент высокого напряжения поэтической мысли, о чем говорит его глубоко ушедший в себя взгляд. Здесь перед нами живописный эквивалент романтика-творца, рожденного, чтобы мучиться и страдать мучениями и страданиями всего человечества. И этот ушедший в себя взгляд, и полуоткрытые, точно шепчущие слова стихов губы, и развевающиеся на ветру черные кудри, и лицо поэта, точно вырванное из тьмы лучом скользящего света, подобно тому, как его мозг извлекает из хаоса звуков звуки гармонии и красоты — все направлено на то, чтобы подчеркнуть состояние творческого горения портретируемого. Не лишни ли при этом, не слишком ли навязчивы, умозрительны детали романтического пейзажа? Нет, Кипренский считал, что без них образ творца будет недосказан.
Лишь позднее он станет изображать людей творческого труда, включая и свои автопортреты, более скупо, только силою кисти выявляя их духовные начала и избегая романтических аксессуаров. Сохранится лишь идея исключительности при характеристике гения творческого труда, будь то поэт, писатель или художник.
В этих образах, следовательно, художник продолжает высказывать мысли о неординарности творческой личности, в известной мере ставит ее над толпой, отказываясь от прежних приемов, когда зрителям казалось, что изображаемые им люди, являются перед зрителем с «душою нараспашку».
В живописной форме Кипренский тонко отразил не раз возобновлявшуюся в русской литературе тему «поэт и толпа», став на сторону Жуковского, и его друзей, которые призывали не искать легкого успеха у «толпы», то есть у невежд и завистников, погубивших талантливого драматурга Владислава Озерова, а уповать на бесстрастный суд потомков. В послании «К кн. Вяземскому и В. Л. Пушкину» Жуковский писал:
Друг Пушкин; счастлив, кто поэт; Его блаженство прямо с неба; Он им не делится с толпой: Его судьи лишь чада Феба; Ему ли с пламенной душой Плоды святого вдохновенья К ногам холодных повергать, И на коленях ожидать От недостойных одобренья?Орест Кипренский выражал те же идеи в искусстве, что и передовые деятели русской литературы, шел с «веком наравне», прославляя независимое служение музам, яркую, смелую, свободную, творческую личность, которая не склоняет головы перед сильными мира сего и не заискивает перед «толпой», предпочитая роль гордой и непонятой одиночки.
Нет контакта ни со зрителями, ни с художником и в образе другого арзамасца, созданного Кипренским в том же 1816 году — в портрете С. С. Уварова. Жуковский одинок, отъединен от «толпы», потому что он принадлежит миру своих поэтических грез. Уваров же одинок потому, что принадлежит узкому кругу великосветских денди, каким его художник изобразил с ног до головы, в изысканном костюме, в расслабленной позе, долженствующей изображать разочарование и усталость светской жизнью.
От всей фигуры Уварова отдает каким-то безотчетным чувством неискренности, позы, игры. Игры в разочарование, игры в усталость и пресыщение светскими удовольствиями, игры в дендизм с этими небрежно брошенными на столик цилиндром и перчатками, с этим стеком, который он продолжает держать в левой руке, с этой неопределенной блуждающей улыбкой на лице, которая скорее говорит о полном удовлетворении модели своей ролью, а не о разочаровании, являет нам жуира, а не скептика и Чайльд Гарольда (или, как это будет решено уже в наше время, — Евгения Онегина, в 1816 году, кстати, еще не задуманного Пушкиным)…
В композиции картины есть аналогии с портретом гусара Давыдова. На обоих портретах фигуры изображены почти в полный рост, и та и другая модель позируют художнику стоя, опираясь одной рукой о столик: Давыдов левой, Уваров правой. Оба портретируемых держат в левой руке предмет, который очень важен для их характеристики. Оба смотрят не прямо на зрителя, а в сторону: Давыдов вправо, Уваров влево. И у того, и у другого тщательно прописаны руки, играющие важнейшую роль в раскрытии образов.
На этом собственно и кончаются аналогии. По колориту это две противоположные вещи. Напряженно горят краски на портрете Давыдова. Приглушены изысканные в своем сочетании тона на портрете Уварова: зеленовато-оливковый фон стены и канелированной колонны, темно-серые — костюма, розовато-желтые — лица и рук, где даже красная скатерть с темными цветами на столике звучит глухо. Сабля, за эфес которой, молодечески подбоченясь, держится Давыдов, подчеркивает активное начало, энергию этого человека. Стек, которым играет Уваров, выполняет совсем другую роль: он усиливает нарочитость образа, рефлективность, бездеятельность, обманчивость утонченного облика модели. Пейзажный, романтический фон на портрете Давыдова слабо конкретизирован, позволяя зрителю своей фантазией дополнить биографию отважного воина, вообразить те бури и грозы кровавых сражений, которые остались за его спиной. Фон на портрете Уварова предельно конкретизирован — богатый интерьер с колонной, которая, как на портрете А. Р. Томилова, должна означать его причастность к миру художеств. Но у Томилова этот атрибут дополняется еще миниатюрой в руке и становится убедительным благодаря вдохновенному выражению лица, а у Уварова, напротив, разрушается аксессуарами его светского быта. «Роль в портрете С. С. Уварова, — справедливо замечает современный исследователь, — затмевает духовное начало».
Как смог Кипренский разглядеть за щеголеватой внешностью этого молодого арзамасца тонко играемую им «роль», как он смог распознать в этом завитом красавце с картинно-томной внешностью фальшь и притворство, скрывавшие его неуемное честолюбие и жажду власти, вскоре вознесшие его на вершину служебной карьеры? Уже через два года после создания этого портрета С. С. Уваров становится президентом Академии наук, в 1832 году — управляющим министерством народного просвещения, в 1833 году — министром, председателем Главного управления цензуры, в 1846 году он получает титул графа.
Нет, Уваров, как свидетельствуют современники, был не без способностей. Но головокружительную карьеру его «таланты» никогда бы не обеспечили, если бы он не позаботился гарантировать свое будущее выгодной женитьбой. Вот что сообщает по этому поводу всезнающий Вигель:
«У князя Потемкина был один любимец, добрый, честный, храбрый, веселый Семен Федорович Уваров. Благодаря его покровительству, сей бедный рядовой дворянин был флигель-адъютантом Екатерины и под именем вице-полковника начальствовал лейб-гренадерским полком, коего сама называлась она полковником. Он мастер был играть на бандуре и с нею в руках плясать вприсядку. Оттого-то без всякого обидного умысла Потемкин, а за ним и другие прозвали его Сеней-бандуристом… Во время короткого знакомства моего с г. Уваровым (сыном. — И. Б. и Ю. Г.) мне случилось с любопытством смотреть на портрет или картину, в его кабинете висящую. На ней изображен человек лет тридцати пяти, приятной наружности, в простом русском наряде с бандурою в руках, но с бритою бородою и с короткими на голове волосами. На нескромный вопрос, мною о том сделанный, отвечал он сухо: „Это так, одна фантазия“. Я нашел, однако же, что на эту фантазию чрезвычайно похож меньшой брат его Федор Семенович… В родстве с Куракиными да с Голицыными, воспитанный на знатный манер каким-то ученым аббатом, он спозаранку исполнился аристократического духа… Мальчик был от природы умен, отменно понятлив в науках, чрезвычайно пригож собою, говорил и писал по-французски в прозе и в стихах, как настоящий француз; все хвалили его, дивились ему, и все это вскружило ему голову. Семнадцати лет, не боле, попал он ко двору камер-юнкером пятого класса».
Тем временем над головою преуспевающего юноши собирались грозовые тучи. Его мать, рано оставшаяся вдовой, пустилась в спекуляции, заложив имение под большие проценты «по казенному питейному откупу», но потерпела неудачу, и С. С. Уваров стал перед угрозой «совершенного разорения». «Чтобы сохранить довольно завидное положение, в котором он находился, готов он был на все. Одна фрейлина, богатая графиня Разумовская, двенадцатью годами его старее, которая, не знаю по какому праву, имея родителей, могла располагать собою, давно была в него влюблена; а он об ней думать не хотел. Узнав о крайности, к которой он приведен, она без обиняков предложила ему руку свою, и он с радостью принял ее. Этот брак в полном смысле составил фортуну его».
Да и как не составить, если тестем юного Сергея Семеновича был всемогущий граф Алексей Кириллович Разумовский, вскоре ставший министром просвещения. А. К. Разумовский, пишет Вигель, тотчас доставил зятю вместе с чином действительного статского советника место попечителя Санкт-Петербургского учебного округа и президента Академии наук. И ему было тогда, подчеркивает Вигель, только двадцать три года от роду.
С тех пор Сергей Семенович не терял даром ни одного дня. Он был достаточно хитер и умен, чтобы поддерживать ради укрепления собственного реноме приятельские отношения с кругом «Арзамаса», одним из основателей которого он состоял. Ради того, чтобы светить отраженным блеском талантов, он любил изображать из себя мецената, до поры до времени сохранял лояльные отношения с Пушкиным, заявлял, что хочет видеть поэта «почетным членом своей Академии наук», отпускал комплименты его творчеству, даже выступил в качестве переводчика на французский язык стихотворения «Клеветникам России». При этом, однако, Уваров исказил дух и смысл пушкинской оды, подогнав ее к официозной точке зрения, после чего преподнес перевод Бенкендорфу для вручения Николаю I.
Но в действительности, как рассказывает Н. И. Греч, отнюдь не питавший также дружеские чувства к поэту, Уваров, «не любивший Пушкина, гордого и не низкопоклонного», еще в 1830 году позволил себе оскорбительно высказываться о предках поэта, что тут же дало повод Булгарину опубликовать на эту тему пасквиль, на который Пушкин ответил гордой «Моей родословной».
Став министром и председателем Главного управления цензуры, Уваров, сосредоточивший в своих руках огромную власть, счел, что он теперь уже может не церемониться с великим русским поэтом и не скрывать к нему глубокую внутреннюю неприязнь. Он отдает распоряжение подвергать цензуре произведения Пушкина «на общем основании» вопреки заявлению Николая I, сделанному еще при встрече с поэтом в 1826 году в Москве, о том, что роль его цензора он, царь, берет на себя; калечит цензурными изъятиями пушкинского «Анджело». Уваров принимал самое активное участие в травле поэта в последние годы его жизни. В феврале 1835 года Пушкин, говоря о реакции на выход его «Истории Пугачевского бунта», отмечал в своем дневнике: «Уваров большой подлец. Он кричит о моей книге как о возмутительном сочинении… Он не соглашается, чтоб я печатал свои сочинения с одного согласия государя. Царь любит, да псарь не любит. Кстати, об Уварове: это большой негодяй и шарлатан. Разврат его известен. Низость до того доходит, что он у детей Канкрина (Егора Францевича, министра финансов в 1822–1844 годах. — И. Б. и Ю. Г.) был на посылках. Об нем сказали, что он начал тем, что был б…, потом нянькой, и попал в президенты Академии наук… Дашков (министр), который прежде был с ним приятель, встретив Жуковского под руку с Уваровым, отвел его в сторону, говоря: „Как тебе не стыдно гулять публично с таким человеком!“»
Отношения Уварова и Пушкина приобрели открыто враждебный характер после того, как поэт, выведенный из себя цензурными пакостями Уварова и его клеврета князя М. А. Дондукова-Корсакова, председателя Цензурного комитета, а с марта 1835 года — вице-президента Академии наук, опубликовал стихотворение «На выздоровление Лукулла». В сатире все узнали министра просвещения, который не преминул пожаловаться на Пушкина царю. Уваров не ограничился этим, он развернул широкую кампанию преследования поэта по всем линиям. Окончательно выведенный из себя поэт пишет новую эпиграмму на неунимающегося Зоила и его протеже «В Академии наук заседает князь Дундук», в которой не обошел и «разврат» Уварова, подчеркнув, что министра связывают с вице-президентом Академии наук противоестественные отношения. Даже после смерти Пушкина Уваров не мог преодолеть своего враждебного отношения к нему, требовал от цензоров соблюдения в некрологах «надлежащей умеренности и тона приличия» и высказывал недовольство «пышною похвалою» «Литературных прибавлений к Русскому инвалиду» по адресу покойного поэта…
Таковы лишь некоторые черточки в биографии сноба, с гениальной прозорливостью изображенного Орестом Кипренским еще в 1816 году, на заре его карьеры…
По пути на «родину искусств»
Адриатические волны,
О Брента! нет, увижу вас
И, вдохновенья снова полный,
Услышу ваш волшебный глас!
Он свят для внуков Аполлона…
А. С. ПушкинВ мае 1816 года Орест Кипренский отправился наконец в долгожданное заграничное путешествие.
Начиналась совершенно новая глава в его жизни. Ему только что исполнилось 34 года. Он вступил в возраст, когда подводят первые итоги жизни, кои тешили его самолюбие, питали надежды на новые художественные подвиги, когда он посетит обетованную землю искусств, увидит прославленные шедевры кисти и резца, ставшие альфой и омегой для артистов всех стран и народов. Он, Орест Кипренский, сын Адамов, за свои заслуги в отечественных художествах удостоен академического звания. Его называют любимым живописцем русской публики, и поэты слагают оды в честь его «чудесной кисти», открывшей новую эпоху в отечественном портретном искусстве. На него, незаконнорожденного сына крепостной девки Анны Гавриловой, обратила благосклонный взор сама императрица, назначившая ему пенсию для поездки в чужие края. Его как равного принимают в свое общество самые образованные люди России, которым он, как скажет потом Пушкин, из поэтического Рима пришлет поклон. Он носит гордое имя русского, чье могучее Отечество только что спасло народы Европы от тирании корсиканского чудовища…
Легко и вольготно было на душе у Ореста. Дилижанс, кативший по наезженному курляндскому тракту, казалось, вез его не в неведомые дали чужих стран, а в новую, яркую, сверкающую жизнь, обещавшую новые блистательные успехи и новые изысканные радости бытия. Кипренским владело то возвышенное состояние духа, когда в голове сами собой возникали стихи, когда хотелось обнять все человечество и поделиться с ним счастливым расположением духа.
Но до бумаги, на которой Кипренский попытался передать свои чувства и впечатления путешественника, он доберется только через год, прожив не один месяц в Италии, откуда направит обстоятельное письмо новому президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину, назначенному тем временем на этот пост.
Благодаря письму, адресованному Оленину, путешествие — это, пожалуй, единственный короткий период в жизни Кипренского, о котором он сам поведал довольно обстоятельно потомкам. Письмо свидетельствует о незаурядном литературном таланте художника, и потому оно было опубликовано уже в 1817 году в газете «Сын отечества», став фактом культурной жизни России. О письме спустя шесть лет после его обнародования все еще помнил молодой Александр Пушкин, живя в ссылке в «прозаической Одессе», сделал запись о нем на страницах дневника вступавший на декабристское поприще Н. И. Тургенев.
«Вам, милостивый государь, — говорит Кипренский, обращаясь к Оленину, — известно, что Ваш покорнейший слуга выехал из Петербурга 14 мая. Этот день будет мне памятен во всю мою жизнь, я не могу описать того прискорбия, кое чувствовал при расставании с сим наипрекраснейшим в свете и несравненным городом, где я с малых лет щедротами монаршими был воспитан и обучен; где счастие имел снискать знакомство и дружбу людей почтенных и где, наконец, о неизреченное счастие! сделался известным самой добродетели, в виде ангела украшающей трон славы — трон царя-мирапобедителя».
И далее он продолжал: «Мая 21-го дня с утра, при благополучном ветре, пустились в море, корабль наш летел на всех парусах, презирая Балт, величественное зрелище сие производило во мне некое трепетание сердца. День был прекрасный, и еще вечер не настал, как вдруг все переменилось. Нахмурилось небо, разгневались волны, и все пошло вверх дном. Кой-как добились до Любека в четырнадцать дней и то беспрестанно повторяющимися бурями. Капитан корабля Бюм сказывал, что подобные бури весьма редко случаются».
Все письмо написано таким же взволнованным слогом, все письмо — такой же эмоциональный рассказ о необыкновенных приключениях, которыми повсюду сопровождалось путешествие художника.
После бури, перенесенной во время плавания, на суше его ждали новые напасти. Близ Касселя перевернулась коляска, в которой ехал художник, и он сильно повредил себе глаз. Случилось это ночью, в местах, где шалили разбойники, и потому путешественникам, пока они ждали починки дилижанса, пришлось натерпеться немало страху.
Судя по письму Кипренского, единственным его попутчиком в дилижансе в это время был Жан-Франсуа-Андре Дюваль, сорокалетний петербургский златокузнец, свернувший свое дело в России и ехавший в Женеву, на родину отца, чтобы обосноваться там навсегда. Отец Жана-Франсуа, тоже ювелир Луи-Давид, покинул Швейцарию еще в середине прошлого века и сначала вместе с братом занимался своим ремеслом в Англии, а в 1753 году переселился в Россию, где первые четыре года работал в компании с соотечественником Иеремией Позиком, ставшим в Петербурге придворным ювелиром. Привезенные Луи-Давидом собственной работы табакерки, украшенные драгоценными металлами, карманные часы и прочие произведения ювелирного искусства пришлись весьма по вкусу императрице Елизавете Петровне, питавшей страсть к дорогим безделушкам и украшениям. Дело у одаренного женевского златокузнеца сразу пошло на лад, он скоро стал работать самостоятельно. 13 марта 1776 года у него в Петербурге родился сын, которого он назвал Жаном-Франсуа-Андре и с детских лет стал учить ювелирному делу, оказавшемуся столь прибыльным и этой далекой северной стране. Мальчик проявил большие способности и с годами показал, что ему вполне по силам продолжать «дело» отца и с блеском выполнять заказы царского двора теперь уже при новой императрице — Екатерине II. Сам же Луи-Давид то ли по причине сурового петербургского климата, то ли от непосильных трудов на благо семьи с возрастом стал сильно недомогать, и ему пришлось опять уехать к брату в Лондон, оставив мастерскую на попечение сына.
Жан-Франсуа-Андре не посрамил имени отца. Златокузнечное дело Дювалей продолжало процветать в Петербурге, и в 1803 году Жан-Франсуа удостоился особой чести — звания придворного ювелира. Доходов хватало и на безбедное существование в русской столице, и на то, чтобы отложить кое-что про черный день. Часть средств Жан-Франсуа вкладывал в собирательство, покупая картины старых мастеров, и скоро имел превосходную коллекцию, в которой, кроме живописи, было немало ценных скульптурных произведений и отличный набор старинных камей.
Став состоятельным человеком, Жан-Франсуа-Андре все чаще задумывался о возвращении на землю отцов. Дюваль, который родился, вырос и стал зрелым человеком в России, так и не завел там себе семьи и в сорок лет продолжал ходить в холостяках.
И вот теперь он навсегда оставил Россию и ехал в Женеву, сдружившись по дороге с симпатичным и общительным русским художником, вместе с которым осматривал достопримечательности лежащих на пути городов, посещал музеи, делил неудобства и приятные мгновения путешествия.
О происшествии с каретой Орест в своем письме повествует так: «Как мы насмотрелись разных диковинок в Каселе, в ночь пустились далее в добрый путь в сопровождении молодецкого дождя. Неподалеку от первой станции почталион опрокинул нашу коляску в канаву: семь радужных цветов ознаменовали под глазом падение мое, господин Дюваль очень хорошо упал, тем и отделался. Слуга, который мечтал о себе, что все знает, потому что прозвищем Тепфер (то есть по-немецки — гончар, горшечник. — И. Б. и Ю. Г.) и притом каретной подмастерье, спал на козлах, спустя рукава; как повалилась коляска набок, натурально он слетел, и слетел ровно на девять шагов от седалища своего, лицом в самую грязь — безпощадно! Да так счастливо, что как ни в чем не бывал».
Дюваль и Кипренский остались одни на пустынной ночной дороге рядом с опрокинутой коляской, а кучер с Тепфером отправились в ближайшее селение за подмогой. Орест с большим юмором описывает, как они с Дювалем, опасаясь нападения бандитов, изображали вооруженную до зубов стражу коляски: «Между тем как мы с сопутешественником одни оставались на дороге среди глубокой ночи, нечего нам было делать! Мы вооружились терпением и храбростию, обнажили сабли, стучали и гремели оными, давая тем чувствовать окрестностям, что вооруженные суть на страже колесницы. Никакой змей, никакое чудовище и ни один волшебник не дерзнул к нам явиться на сражение; един токмо дождь нас дурачил без пощады, лил ливмя. Герои вымокли, прозябли и притом дожидались целые три часа, покуда набрали двенадцать человек, кои насилу пришли и насилу-насилу подняли коляску! Она потерпела, но колесам ничего не сделалось, следовательно, мы немедля отправились далее».
Утром, когда тучи разошлись и засверкало яркое весеннее солнце, ночные неприятности забылись и Орест вновь не переставал восхищаться дивными видами, открывшимися с высоты холмов и пригорков. Вдоль дороги тянулись бесконечные ряды тополей или цветущих фруктовых деревьев — груш, яблонь, слив, вишен — настоящего живого туннеля из зелени и цветов, наполнявших коляску нежным ароматом весны. Каждый клочок земли был любовно возделан, готовый вознаградить сторицей вложенный в него труд…
Где-то около Фрейбурга Кипренский снова пережил в пути сильную бурю: «Проехали Офеноург, миновали Росштадт, переменили лошадей в Кюзингене — облака стали ужаснее собираться, и — уже все небо тучами обнеслось. На минуту сделалась мертвая тишина во Вселенной… Потом вдруг помчался вихрь, завертелся прах, с деревьев листья полетели; град величины неимоверной по земле рассыпался, застучал, заскакал, ветры завыли! — и сделалась ужасная буря; наконец, пролились целые небеса. Я чаял видеть всемирный потоп.
Ну уж дождь! Подобной бури я никогда не видывал, насилу добились до Фрейбурга сквозь черную шатающуюся аллею печальных тополей. Тут принуждены были мы остаться проночевать».
Что это, только плод воображения художника, разгоряченного романтической фантазией, мистификация читателя? Нет, сквозь призму личного восприятия экзальтированной натуры Кипренского перед нами проходят вполне реальные картины и вполне обычные эпизоды странствия, которые у других путешественников часто не вызывали иных эмоций, кроме скуки.
Младший товарищ Кипренского по Академии пейзажист Сильвестр Щедрин в творчестве тоже был романтиком. Но в его письмах мы находим совсем другие слова, относящиеся к морскому путешествию по Балтийскому морю, которое он совершил через два года после Кипренского: «Я не буду вам описывать этого скучного вояжа, где мы видели одно небо да воду, да вдали показывались некоторые острова…
Но вот, маменька, где можно сыскать больше скуки, как на море, а пуще в сильную погоду? Не найдем места на корабле, на палубе быть нельзя, волны плещут через корабль, в каюте нельзя быть, от качанья мы ползали на четверенках, чтоб не зашибиться и не зашибить кого-нибудь из товарищей; предосторожность эту получили мы от опыту, стукнувшись раза три об стену или об стол или тому подобное; одно спасение — лежать, но и то катишься на ту сторону, на которую клонится корабль».
Не понравилось путешествие на корабле и спутнику Сильвестра Щедрина — скульптору Самуилу Гальбергу. Он писал об этом: «Во вторник, 30-го июля, почувствовав тошноту, я вышел на палубу; начиналась буря, корабль наклонялся то туда, то сюда; волны плескали через борт, и меня всего облило. По совету капитана я убрался в каюту, лег и не шевелился. Вечером стало несколько тише, и я, узнав, что мы у Гохланда, выполз из норы на воздух. Безобразный камень, с проседающими из расселин деревьями, стоял перед нами».
И у Щедрина, и у Гальберга мы находим массу бытовых подробностей, относящихся к путешествию. Они рассказывают о морской болезни, о расходах за путевые услуги, о стычках с жуликоватыми прибрежными служителями, которые стремились ободрать неопытных русских путешественников, о меню в чужеземных трактирах, где им приходилось питаться по пути в Италию. Гальберг сообщает, что в Свинемюнде их потчевали обедом, который составляли угри, суп из черники и жареная телятина, которая, иронизирует скульптор, была похожа на ветчину.
Все эти мелочи жизни Кипренский в своем дорожном дневнике полностью опускает. Для него бытовые детали не имеют никакого значения, тогда как они — все для Сильвестра Щедрина. Вот как он описывает город Штеттин: «Что мне вам сказать об Штеттине? Мы в нем пробыли несколько часов, город обширной и уже видно, что очень старинной. Многие домы разваливаются… В Штетине все в движении, везде что-нибудь да продают, нагружают корабли, вывозят товары, везде куча народу. Мы пошли по берегу, но страшная духота от нечистот нас остановила, и мы пошли шататься по улицам, кривым, узким и грязным, и сверх того дурно вымощенным».
Орест Кипренский воспринимает чужеземную действительность совсем по-другому: «До самого Базеля по дороге с удовольствием я озирался по всем сторонам, на каждом почти шагу приходил в восторг при виде роскошествующей природы посреди изобилия своего. Она, возлежа на цветах благоуханных, поля живописала приятною зеленью, оттенки разлагая полосами; испещренная одежда ее расстилалась по лугам, горам и долинам; иногда в речке она собою любовалась. Пушистые ивы охотно присуседивались к источникам вечную жажду свою утолять, но зато во время зноя прохлаждали тенью пасущиеся стада. Чистосердечный пастух, окинув глазом пространство луга, — покоен и мало заботится о завтрашнем дне. О благодатная природа! сколь ты прелестна! Подлинно вся Баденская земля есть сад преблагословенный».
Наряду с «роскошествующей» природой Кипренского в одинаковый восторг приводили и столь же живописные виды старинных германских городов и селений с их древней архитектурой:
«…Когда мы стали подъезжать к Гейдельбергу, не могли довольно налюбоваться наипрекраснейшим видом сим. Представьте себе город, по крутому берегу расположившийся как нарочно, чтоб с него срисовывать, над городом, во-первых, представляется взору великолепный готический замок, который мало снаружи потерпел от времени; замок поставлен выше города на горе, а позади строений и замка высокие горы, кои как будто коронуют все зрелище картины».
Кипренский, взявшись за перо, не перестает быть художником; за невозможностью по недостатку времени доверить кисти передачу своих ощущений он прибегает к слову, чтобы выразить свое, художественное восприятие мира.
Путешественник Кипренский никак не считает возможным иронизировать над тем, что он видит, проезжая по чужим землям. Для него все это — или предмет для восхищения, или повод для глубоких раздумий. Ирония если и проскальзывает, то только по отношению к самому себе и к спутникам по вояжу.
Но в «Дорожном дневнике» Кипренского, выдержанном в традициях литературного сентиментализма, юмор — явление случайное, а преобладают живописные зарисовки и попытки определить свое отношение к увиденному. «Дорогой видим повсюду землю, обработанную с великим тщанием, — рассказывает Кипренский о своих наблюдениях при поездке по Германии, — между пашен рассажены яблони и другие плодоносные деревья; под сению диких каштанов и тополей покоятся селения, вокруг селений сады и огороды полны произрастаний, радуют изобилием мирных поселян».
От идиллической картины опять же в духе сентиментализма Кипренский переходит к назидательным рассуждениям, в которых нетрудно проследить отзвуки идей о французской революции, распространенных тогда в России и нашедших отражение в его рисунках с изображением «юноши с завязанными глазами»: «Женева недаром славится просвещением, правительство весьма надзирает за воспитанием нравов, оно знает, что за пренебрежением нравов следует само собою пренебрежение законов, а потом и величайшее несчастие, иногда неуважение властей».
И снова романтический пафос и романтические метафоры в описании природы Альп, через которые художник проезжал из Женевы в Италию: «…Натура здесь чудесна! превосходит всякое воображение. Всемогущий, созидая мир, рече: да будет. Поколебались небеса, силы небесные умолкли, и хаос вострепетал! — и бысть. Земля окаменела, и до сих дней она сохраняет вид ужаса в тех величайших скалах, кои видны с высоты Семплома по другую сторону дороги. Безмолвие и дикость царствуют в сих местах. Вообразите себе гранитную… стену, от самого долу возносящуюся превыше облаков, перпендикулярно, и в сем величественном виде оная продолжается на несколько миль; выше сих ужасных гор другие, те еще выше! туды ворон и костей не занашивал, те горы осуждены на вечные снеги. Когда же наклонитесь, то видите внизу громадами разбросанные камни, отторгнувшиеся от гор. Я не хочу описывать несчастную реку Деверию, протекающую между сих бездушных камней, кои на каждом шагу ей препятствуют в течении. С удовольствием я смотрел, как она, побеждая все препятствия, каждую минуту с шумом превращалась в водопады».
В Женеве, куда путешественники прибыли 1 июля, Кипренский вместе со своим попутчиком остановился в доме старшего брата Дюваля, остававшегося жить в Швейцарии, и пробыл там три месяца: июль, август и сентябрь. Такую длительную задержку в пути Орест объяснял необходимостью лечения ушибленного под Касселем глаза. Но это, кажется, был только предлог, ибо больной глаз не помешал ему много и успешно работать над портретами, общаться с общественными деятелями Швейцарии и своими коллегами-художниками. Из последних он отметил в письме к Оленину двух: портретиста Массота и пейзажиста А. В. Тепфера, «который, — сообщал Орест, — пишет Швейцарию в том роде, как Тениер писывал Фландрию». С А. В. Тепфером, кстати, приятель Кипренского Жан-Франсуа-Андре вскоре породнился, женившись в 1821 году на его дочери Нинетте.
Очень интересным и поучительным оказалось и общение Кипренского с родственником Дювалей Пьером-Этьеном-Луи Дюмоном. Оресту положительно везло на встречи с интересными людьми, у которых на роду было написано оставить свой след в истории. Дюмон был сам — живая история. В молодости он в качестве проповедника тоже побывал в России, был знаком и дружен с Лагарпом. В первые годы французской революции жил в Париже, редактировал там газету «Курьер де Прованс», был секретарем Мирабо (о котором оставил том интересных воспоминаний) и, видимо, у этого выдающегося трибуна французской революции прошел школу ораторского искусства, которым владел в совершенстве. С 1792 года Дюмон жил в Лондоне, где сблизился с английским философом и юристом Иеремией Бентамом, восприняв его учение, развивавшее идеи французских материалистов об «общественной пользе» как основе права и нравственности, готовил к печати сочинения Бентама, пропагандировал его идеи по возвращении на родину. В 1809 году Дюмон был введен Александром I в состав комиссии по составлению законов Российской империи. Женевский демократ помчался в Петербург, окрыленный мечтою о личном участии в конституционных преобразованиях великой державы. Но в России его ждало жестокое разочарование. Он не обнаружил в окружении Александра I серьезного стремления к реформам политического строя, а лидер «реформаторов» граф М. М. Сперанский прямо признался ему, что не верит в возможность установления политической свободы в России.
Но и после стольких испытаний этот плотный, почти шестидесятилетний человек сохранял юношескую свежесть духа и живой, энергичный темперамент политического борца, когда, откинув назад львиную голову, блистал красноречием в Большом женевском совете, членом которого он был с 1814 года. Вот почему Кипренский подчеркивал в письме к Оленину, что на своем полотне он написал Пьера-Этьена Дюмона, которого в Петербурге представлять не надо было, «ораторствующим, как обыкновенно женевцы привыкли видеть его в Совете, вдали изобразив снежные горы Альп». То есть художник открыто заявлял, что в портрете Дюмона он хотел вывести образ демократа, действующего в свободной стране, с выборной системой управления…
Возникновение этого замысла у Ореста было вполне закономерно. Конечно, сыграли свою роль встречи с самим Дюмоном, сказалось обаяние его яркой личности. Но главное было в другом. Кипренский, может быть, и сам не осознавая этого, нуждался в таком человеке, искал его, чтобы через портрет выразить свое отношение к швейцарским демократическим порядкам, к идее свободы. Иначе никак нельзя объяснить, почему он из всех возможных поз избрал для портретируемого именно позу оратора в выборном народоправном органе…
Дювали тоже принадлежали к кругу женевских демократов, а Жан-Франсуа-Андре после возвращения на родину дважды избирался в Совет: в 1818 и 1822 годах. В Женеве Кипренский, стало быть, соприкоснулся с совершенно новой для себя средой, соприкоснулся с народом, пользовавшимся благами политической свободы, о которой только мечтали лучшие люди России.
Тремесячная остановка в Швейцарии обогатила политическую палитру Ореста. Попутчиком Жана-Франсуа-Андре Дюваля он оказался случайно, но его интерес к принципам народоуправления был совсем не случаен, ибо он возник, видимо, еще в пору тесного общения со Строгановыми, отцом и сыном, для которых пребывание в Женеве и встречи с ее гражданами обозначили важнейший этап в их духовном развитии. Недаром художник в письме Оленину нашел такие теплые слова о строгановском семействе, недаром подчеркивал, как он чтит «всегда живущего в моей памяти графа Александра Сергеевича Строганова», желал «совершенного выздоровления гр(афу) Павлу Александровичу», а жене последнего графине Софье Владимировне особо просил передать, что он «более почувствовал в отдаленности, сколь Россия любезна», отвечая этими словами на какие-то давние разговоры с ней о предстоявшей ему поездке в «чужие края».
Павлу Александровичу Строганову приветов и пожеланий здоровья из Рима от благодарного художника уже не суждено было услышать. С тех пор как в 1807 году граф оставил политическое поприще и, будучи уже сенатором и тайным советником, поступил в армию простым волонтером, он прошел славный боевой путь. В первых же боевых действиях с французами в 1807 году он проявил блестящие военные способности, был награжден орденам святого Георгия третьей степени и из тайных советников переименован в генералы. Потом он участвовал в войне со шведами в составе корпуса Багратиона, после чего, опять же вместе с Багратионом, был перемещен на турецкий фронт, где так же отличался мужеством и командными способностями, отмеченными новыми наградами.
Отечественную войну Павел Александрович встретил командиром сводной дивизии, входившей в корпус генерала Тучкова, принял участие в Бородинском сражении, во время которого он успешно выполнил возложенную на его дивизию задачу — сдерживать натиск французов под деревней Утица, а по смерти в этой битве Тучкова принял на себя командование корпусом. За Бородино граф был произведен в генерал-лейтенанты. Он участвовал во многих других битвах с французами на территории России и во время заграничных походов русской армии, включая знаменитую битву под Лейпцигом. В феврале 1814 года Павел Александрович потерял своего единственного восемнадцатилетнего сына: ядром противника ему оторвало голову. Несчастье непоправимо надорвало силы Павла Александровича. Его поразила скоротечная чахотка, вынудившая оставить службу. Никакое лечение ему не помогало. 10 июня 1817 года болезнь унесла его в могилу. Кипренский, когда писал свое письмо, еще не знал об этом печальном событии…
Внимание Кипренского именно к Швейцарии мог привлечь и еще один его знакомый, которому он просил кланяться в письме Оленину, — Николай Михайлович Карамзин, за двадцать семь лет до этого также путешествовавший по этой горной стране и уделившей ей много внимания в своих «Письмах русского путешественника».
Карамзинская литературная манера, сентиментальный слог, отступления — все это присутствует и в «Дорожном дневнике» Кипренского. На Швейцарию, ее народ, ее обычаи, демократические принципы правления Кипренский во многом смотрел глазами Карамзина, разделял мысли писателя, его политические симпатии. Писатель ведь прямо заявлял, что он на стороне народоправия, которое наблюдал в Швейцарии. Приехав в Базель, Карамзин тотчас уведомил своих близких в России: «Итак, я уже в Швейцарии, в стране живописной натуры, в земле свободы и благополучия! Кажется, что здешний воздух имеет в себе нечто оживляющее; дыхание мое стало легче и свободнее, стан мой распрямился, голова моя сама собою подымается вверх, и я с гордостью помышляю о своем человечестве».
Очень характерно, что и Кипренский, путешествуя по Швейцарии и вступив на территорию свободолюбивого кантона Во, родины Лагарпа, счел нужным отметить, что его ворота украшает надпись: «Свобода и отечество», то есть подчеркнул, подобно Карамзину, что побывал на «земле свободы».
С чем знакомил своих соотечественников, рассказывая о Базеле, Николай Михайлович Карамзин? «Хотя в Базеле народ не имеет законодательной власти и не может сам избирать начальников, — сообщает автор „Писем русского путешественника“, — однако ж правление сего кантона можно назвать отчасти демократическим, потому что каждому гражданину открыт путь ко всем достоинствам в республике и люди самого низкого состояния бывают членами большого и малого совета, которые дают законы, объявляют войну, заключают мир, налагают подати и сами избирают членов своих. — Хлебники, сапожники, портные играют часто важнейшие роли в базельской республике».
Кипренский писал «Дорожный дневник» спустя почти 30 лет после путешествия Карамзина. Писал после уроков Великой французской революции, якобинской диктатуры, термидорианской реакции, прихода к власти Наполеона, захватнических войн наполеоновской Франции, Отечественной войны 1812 года. Но, как и в карамзинской прозе, главное, что бросается в глаза при чтении «дневника», — это нескрываемые вольнолюбивые симпатии автора, которые он выразил и словом в письме к А. Н. Оленину, и кистью, написав портрет швейцарского демократа Пьера-Этьена-Луи Дюмона.
С кем именно из жителей Женевы, кроме Дювалей и Дюмона, послуживших моделями портретных работ Кипренского, и швейцарских художников, он общался в Женеве, мы не знаем. Но что такое общение имело место, что Орест внимательно присматривался к людям чужой страны и их нравам, размышлял об этом, можно не сомневаться. Между строк ясно читается в письме к А. Н. Оленину восхищение художника трудолюбием швейцарцев, их тщательно возделанными полями, тучностью стад, благосостоянием как результатом древних демократических порядков.
«Господин Дюваль, — пишет Кипренский, — живет прекрасно, дом у него в Женеве славной, притом хороший кабинет картин; дача в девяти верстах от города в Картини преславная, здесь отлогости гор посвящены Бахусу и Церере; богаты луга, я часто любовался на пастве стадами его. Опытность людей научает вести дом наилучшим образом».
В доме Дювалей, чья жизнь в течение двух поколении была связана с Россией, к русскому художнику относились самым доброжелательным образом. Жан-Франсуа Андре внимательно присматривался к его работе и не без влияния Кипренского обратился впоследствии к живописи, оставив немало картин, которые ныне украшают швейцарские музеи.
Дювали рассказывали Кипренскому, что при Наполеоне племянника Жана-Франсуа-Андре хотели взять в солдаты «великой армии», готовившейся к походу на Россию. Но отец юноши решил не допустить этого. Обратившись с письмом к наполеоновскому эмиссару, он, по словам Кипренского, заявил, что «скорее пожертвует он сыновнею жизнию», нежели увидит его в роли врага страны, которой его фамилия служит более семидесяти лет. В результате этого письма Наполеон освободил молодого Дюваля от рекрутского набора.
Сделанные в Женеве портреты Кипренский показал на городской выставке, где они получили очень хорошую оценку. «Здесь весьма лестно, да и везде приятно заслуживать доброе имя, — с удовлетворением писал Кипренский А. Н. Оленину. — Мы, Ваше превосходительство, третьего дня… получили весьма приятное известие, а именно: Канова, Жерард и Ваш покорнейший слуга провозглашены членами Общества любителей искусств в Женеве».
Трудно представить, чтобы Кипренский прожил три месяца в Женеве и ограничил свое пребывание в Швейцарии только этим городом. Наверняка он, несмотря на ушибленный глаз, облазил по горным тропинкам живописные окрестности Женевы, путешествовал по берегам Лемана, посещал другие швейцарские кантоны. Это позволило ему сразу по пересечении границы увидеть разницу и в образе жизни людей, и в уровне благосостояния между свободной Швейцарией и задавленной двойным гнетом — местных и иностранных сатрапов — Италией.
Карамзина, как и других путешественников, после Швейцарии попадавших в Италию, поражала разница в уровне жизни двух стран. «Во всей Швейцарии, — писал он, — видно изобилие и богатство; но как скоро переступишь в Савойскую землю (Савойя в те времена входила вместе с Пьемонтом и островом Сардиния в состав Сардинского королевства со столицей в городе Турине. — И. Б. и Ю. Г.), увидишь бедность, людей в разодранных рубищах, множество нищих, — вообще неопрятность и нечистоту. Народ ленив, земля необработана, деревни пусты. Многие из поселян оставляют свои жилища, ездят по свету с учеными сурками и забавляют ребят. В Каруше, первом савойском городке, стоит полк; но какие солдаты! какие офицеры! Несчастная земля! Несчастливый и путешественник, который должен в савойских трактирах искать обеда или убежища на время ночи! Надобно закрыть глаза и зажать нос, если хочешь утолить голод; постели так чисты, что я никогда на них не ложился».
Кипренский в письме Оленину ни слова не пишет о бедности и нищете итальянского населения. Но об этом мы читаем между строк в его фразе: «Тогда Италия мне совсем еще была не знакома, ибо я лучше ее воображал. И до сих пор, вот уже июнь месяц, не вижу в Италии ни саду Европы, ни Рая земного».
И тон его повествования о чужих землях после пересечения итальянской границы становится иным. Жизнь людей там даже после беглого взгляда представала отнюдь не в розовых красках…
Наверное, поэтому встреча с Италией в районе прославленного своей красотой озера Лаго Маджоре совсем не произвела впечатления на художника, которому к тому же не понравилась манера итальянцев уродовать деревья, обрезая их ветви и уподобляя их человеческим фигурам. «…Но я не люблю, — писал художник, — обрезанных дерев… не люблю также дурных статуй, уродливых чудовищ, кои поделаны из белого мрамора; здесь оных без числа…»
2 октября Кипренский прибыл в Милан. «Город великолепен, — писал он Оленину, — некоторые улицы довольно широки. Публичное гулянье прекрасно, оно возвышено, и с онаго видел весь город, в конце города обширное Марсово поле, а подле Амфитеатр, в котором помещается тридцать шесть тысяч зрителей. Я все объехал слегка. Театр della Scala после Неапольского есть самый величайший в Италии».
Милан понравился художнику, и потому этому городу более, чем другим, повезло в «Дорожном дневнике». «В Милане, — рассказывает он, — довольно шумно, и приметно движение в городе, особенно на площади подле собора. Здесь множество шарлатанов; они проповедывают с великим криком учение свое; один превозносит до небес ваксу, другой разговаривает с бедным ослом, кажет ему отгадывать тумпаковые часы и проч(ее); иной разглаголывает со слушателями своими, показывает большую книгу с раскрашенными картинками Ветхого Завета и рассказывает им происшествие Адама и Евы с великим красноречием, припевая; некоторые с гитарами расхаживают, поют и пляшут, несмотря на то, что сами говорят — все необходимые вещи, как-то хлеб и проч(ее), удвоились в цене. Они весьма жалуются на дороговизну».
Кипренский провел в Милане пять дней. Он внимательно осмотрел все достопримечательности города, посетил знаменитый готический собор, картинную галерею Брера, трапезную церкви Санта Мария делле Грацие, где смотрел «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи. «Соборная церковь, — писал Кипренский, — по-здешнему Duomo начата отстраиваться в 1386 году и есть величайший храм в Италии, после церкви святого Петра. Храм построен в немецком готическом вкусе, сей храм имеет много величественного».
Среди прочего Кипренский осмотрел и мощи… святого, которые хранятся в соборе: «Под алтарем, куды сходят по маленькой лестнице из церкви, есть придел, где мощи святого Карла Барромея, кои видны совершенно, ибо гроб сделан наподобие… стекол весь из кристал де рош, спаян сребром и золотом, во гробе положен епископский жезл, усыпанный драгоценными камнями, и повешена золотая корона; стены сплошь вылиты из сребра с барельефами, изображающими деяния сего мужа».
«Ходил смотреть Вечерю тайную Леонарда де Винчи, — продолжает Кипренский рассказ о миланских впечатлениях, — картина сия весьма потерпела, доминиканцы, я думаю, тоже весьма пособили времени над оною поработать. Голова Спасителя более всего сохранилась и есть творение великого гения».
В картинной галерее Брера Кипренский осмотрел не только работы старых мастеров, среди которых он особо отметил картину Гвидо Рени «Святые Петр и Павел», но также посетил и экспозицию молодых художников. От оценки работ молодых живописцев он воздержался. Но весьма строго отнесся к копии с «Тайной вечери» Леонардо да Винчи, которую выполнил миланский живописец Босси. «Копия жалости достойна» — таков был суровый приговор русского художника. Не менее сурово Кипренский отнесся и к популярному в его время гравюрному воспроизведению знаменитой фрески Леонардо да Винчи: «Моргенов эстамп есть не иное что, как слабое начертание, сравня с оригиналом. У него представлены головы апостолов с какими-то повислыми и вострыми носами, напротив того в оригинале все головы имеют черты весьма приятные».
По дороге из Милана во Флоренцию Кипренский останавливался в Модене, где также посмотрел местную картинную галерею. Шедевры великих мастеров итальянского Возрождения вызвали у него горячее желание побыстрее взяться за кисть, чтобы использовать новый художественный опыт. «При виде творений гениев, — делится он своими мыслями с Олениным, — рождается смелость, которая в одно мгновение заменяет несколько лет опытности». Художнику не терпелось приступить к делу: «Мы не ударим себя лицом в грязь», — уверял он высокого адресата.
Через неделю после отъезда из Милана, 14 октября утром, Кипренский приехал во Флоренцию. В Милане накануне отъезда он побывал в Амфитеатре на народном зрелище, как он писал, «достойном рукоплесканий». Кипренский так рассказывал об этом действе. «Три партии, трех цветов, были одеты римскими воинами, по-театральному, и пустились взапуски бежать. Победителям роздали знамена и повезли на быках, украшенных лаврами, в колеснице. Но всего смешнее, как выставили в ряд 28 мучных мешков, в коих были завязаны 28 карлов по самую шею, и только одни головы снаружи видны; по сигналу они побежали, то есть попрыгали вперед, ибо иначе нельзя с места перейти. Рукоплескание и хохот раздавался по целому Амфитеатру. Бедные карлы трудились, трудились подпрыгивать, до поту большого лица своего, и почти все перепадали на поприще славы; но духу не теряли, упавшие катались кубарем. Римские воины подбегали падающих подымать, а тех, кои совсем выбились из сил, выносили вон. Однако достиг до меты один карл и получил знак, а с оным и денежное награждение».
Флоренция, главный город Тосканы, колыбели итальянского Возрождения, родины Джотто, Леонардо да Винчи и Микеланджело, очаровала художника. «Город прекрасный, — писал он Оленину, — здесь множество есть хороших вещей, о коих в свое время будет написано Вашему превосходительству».
Сдержал ли Кипренский обещание и написал ли Оленину о своих флорентийских впечатлениях, неизвестно. Во всяком случае, такого письма в архивных хранилищах не найдено. В Рим Кипренский приехал 26 октября поздно вечером. «На другой день поехали увидеть Капитолию; видим форум-романум, амфитеатр Титов, видим, что римляне не любили посредственное. Все планы их были велики, обширны; настоящей меры не было ни в чем, особенно в пороках».
Изложение римских впечатлений, собственно, на этом и кончается. Кипренский обещал сделать это впоследствии, ссылаясь на то, что ему надо было углубить знание Италии: «До будущего времени оставлю замечания мои об Италии, надобно весьма с оною познакомиться, чтоб в суждениях не ошибаться…»
Рим, виа Сант’Исидоро, напротив капуцинского монастыря
…Светлый край, где небо блещет
Неизъяснимой синевой,
Где море теплою волной
На пожелтевший мрамор плещет,
И лавр и темный кипарис
На воле пышно разрослись,
Где пел Торквато величавый,
Где и теперь во мгле ночной
Далече звонкою скалой
Повторены пловца октавы.
А. С. ПушкинВ Риме Кипренский снял квартиру на виа Сант’Исидоро у домовладельца Джованни Мазуччи. Через двадцать лет на той же самой улице Сант’Исидоро, что напротив Капуцинского монастыря, и у того же самого Джованни Мазуччи остановится другой русский путешественник, которого звали Николаем Васильевичем Гоголем.
Эта улочка, располагающаяся на холме Пинчо, близ площади Испании и церкви Тринита деи Монти, сохранилась и в наши дни. Гоголь, обращаясь к своему приятелю Данилевскому, так объяснял, как можно разыскать его обиталище: «Прежде всего найди церковь святого Исидора, а это вот каким образом сделаешь. Из Piazza di Spagna подымись по лестнице на самый верх и возьми направо. Направо будут две улицы; ты возьми вторую; этою улицею ты дойдешь до Piazza Barberia. На эту площадь выходит одна улица с бульваром. По этой улице ты пойдешь все вверх, покамест не упрешься в самого Исидора, который ее и замыкает; тогда поверни налево. Против самого Исидора есть дом № 16 с надписью над воротами: Appartements meublé. В этом доме живу я».
Во второй половине прошлого века, после объединения Италии и провозглашения Рима столицей нового государства, район города, в котором жил Кипренский, а позднее и Гоголь, подвергся сильной перестройке. От площади Барберини к древнеримским степам, которые проходят по границе большого римского парка Вилла Боргезе, была проложена широкая магистраль виа Венето, на которой построили фешенебельные отели, здания министерств и банков, доходные дома. От площади Барберини вниз, к площади Колонна и к центральному проспекту средневекового Рима Виа дель Корсо, также была пробита новая широкая улица — виа Тритоне с тяжелыми, многоэтажными домами.
А во времена Кипренского и Гоголя здесь пролегали живописные средневековые улочки-щели, на которых жил простой римский люд. Из окон домов и с балконов свешивалось белье. Тут на углу была лавка зеленщика, который устраивал красочную выставку из своих товаров, занимая половину улицы. Рядом располагалась кузница. У входа в нее стояли лошади, у которых меняли подковы. Чуть поодаль фруктовщица расставляла корзины с золотистыми плодами: яблоками, грушами, апельсинами. У дверей остерии с повозки, запряженной осликом, по утрам сгружали бочонки с вином. Хозяин остерии между тем прилаживал на дверях своего заведения оливковую ветвь, означавшую, что в заведении есть молодое вино, привезенное из Дженцано или Фраскати, которые, как и другие окрестные поселения, жители «вечного города» называют Castelli romani — Римские замки, потому что они выросли вокруг средневековых крепостных резиденций бывших феодальных сеньоров. За остерией обувщик чинил башмаки прямо на улице какой-то синьоре, которая, босоногая, стояла рядом, незлобиво переругиваясь с приятельницей, высунувшейся из окна соседнего дома.
Другие дородные матроны сидели у подъездов своих домов на каменных ступеньках или на вынесенных из дома скамейках в окружении целых выводков детей, вязали, штопали белье или искали насекомых в головах друг у друга и заодно следили за приготовлением пищи на жаровне, стоявшей рядом.
Еще дальше была лавка старьевщика, который выставлял на улицу все свои богатства: старинные подсвечники, колченогую статую атлета с отбитыми руками, набор медных плошек, потертый восточный ковер, большую золоченую раму для картины, металлические трости и прочие, никому не нужные товары, на которые никто из обитателей улицы не обращал ровно никакого внимания.
Время от времени хозяйки, занимавшиеся стряпней у себя в доме, показывались в окне, спускали на веревке вниз корзинку и требовали от услужливого зеленщика Пино или булочника Микеле наполнить ее своими товарами: щепоткой петрушки, полдюжиной морковок, двумя кочанами салата-латука и прочими дарами природы впридачу к непременным хрустящим булочкам чириоле, излюбленному лакомству римлян. Операция эта сопровождалась красочной дискуссией с торговцами, угрожавшими прекратить отпуск в кредит своих товаров, если синьора не заплатит долг, но тем не менее покорно выполнявшими заказ неплатежеспособной клиентки.
По вечерам на голову прохожего на этих улочках могли обрушиться выплеснутые из окна помои или куча мусора, хотя на каждом углу дома висели потемневшие от времени мраморные таблички с распоряжениями властей, грозившими строгими карами тем, кто будет вот таким образом освобождать свои жилища от «иммондиций»…
Вся жизнь с утра до ночи здесь развертывалась на глазах друг у друга, все жили друг перед другом нараспашку. Каждый знал, что приготовлено на обед у соседей, какую обнову купил синьор Джузеппе молодой жене, как третьего дня синьора Тереза крупно поссорилась с синьорой Амалией. Ни одного заметного события на своей и соседней улице, во всем квартале, в соседних кварталах не случалось, чтобы во всех деталях не быть обсужденным обитателями, которые от зари до зари проводили дни на брусчатке мостовой, бывшей их салоном, гостиной и клубом.
Сильвестр Щедрин в подробнейших посланиях в Петербург так живописал обитателей виа Пурификационе, на которой Кипренский, рядом с виа Сант’Исидоро, помог ему снять жилье: «Теперь напишу вам, маменька, нечто об образе жизни итальянцев, ограничивая себя одною той улицей, в которой живу, и каким образом день начинается и оканчивается. Итальянка, вставши поутру, наискавшись вшей и причесав свою голову, выносит свои упражнения на улицу и начинает работать. Вокруг каждой стоят женщины, пять или более, сложа руки, разговаривают, тут же начинают проходить разнощики, крича: „аква вита!“[1], и каждая выпьет за байок. За ним пастух со свистом гонит коз, и кому надо молоко, он тут же и подоит, другого молока здесь не употребляют, выключая козьяго. Позавтракав таким образом, начнут готовить обед, очищая разные пряные коренья, которые употребляют в пищу сырые. Это я говорю об людях простых, что здесь называется „дженти ординари“, а народ почище, то есть „дженти полито“, те целый день зевают в окошко, ничего не делая, это об женщинах, а мущины идут на работу, а большая часть толкается на площадях и улицах. Часов в девять начинается крик. Первый есть какой-нибудь сборщик церковный, прося денег для божьей матери, св. Франциска и на души, находящиеся в чистилище, и проч(ее). После тянутся жиды, крича беспрестанно: „абито веккио“[2]. За ними явится слепой нищий и, остановившись пред окнами, читает псалмы, другая партия слепых проиграют на инструментах и пропоют. После мальчишка, стоя посредине улицы, поет жалобные театральные арии и декламирует и проч(ее), словом сказать, беспрестанно какие-нибудь явления».
Сильвестр Щедрин с его увлечением театром и жизнь чужой страны воспринимал как бесконечное представление, которое его и развлекало, и преисполняло симпатией к итальянцам, их нравам и обычаям: «Вечером другое: каждая сидит у своих дверей, ибо простой народ живет в нижних этажах (не имея окошек, выключая двери, над которой маленькое, в два стекла окно), и разговаривают во все горло. Под нами живет одна женщина, великая охотница браниться, и всегда почти задирает кого-нибудь, и брань начинается всегда тихо, потом громче, после во все горло, и все живущие в улице высунутся из окошек, а люди, живущие внизу, пристают и делают партии, и брань становится общей; каждая старается сказать бонмо, для забавы зрителей, и уязвить свою соперницу, после чего шум начинает переходить с одного конца улицы до другого, и оканчивается тем, что уже нет домов; тут уже становится общая тишина, и, наконец, каждая, сказав своей соседке „феличе нотте“[3], захлопнет окошко, потом другая, потом третья, и так далее, и по всей улице только и слышно стук окон и „феличе нотте!“».
Очень сочными красками нарисовал позднее жизнь в народных кварталах «вечного города» Николай Васильевич Гоголь на страницах своей незаконченной повести «Рим»: «Тут все откровенно, и проходящий может совершенно знать все домашние тайны; даже мать с дочерью разговаривают не иначе между собою, как высунув обе свои головы на улицу; тут мужчин незаметно вовсе. Едва только блеснет утро, уже открывает окно и высовывается сьора Сусанна, потом из другого окна выказывается сьора Грация, надевая юбку. Потом открывает окно сьора Нанна. Потом вылезает сьора Лучия, расчесывая гребнем косу; наконец, сьора Чечилия высовывает руку из окна, чтобы достать белье на протянутой веревке, которое тут же и наказывается за то, что долго не дало достать себя, наказывается скомканьем, киданьем на пол и словами: „Che bestia!“[4]. Тут все живо, все кипит: летит из окна башмак с ноги в шалуна сына или в козла, который подошел к корзинке, где поставлен годовой ребенок, принялся его нюхать и, наклоняя голову, готовился ему объяснить, что такое значат рога. Тут ничего не было неизвестно: все известно. Синьоры все знали, что ни есть: какой сьора Джюдита купила платок, у кого будет рыба за обедом, кто любовник у Барбаручьи, какой капуцин лучше исповедует. Изредка только вставляет свое слово муж, стоящий обыкновенно на улице, облокотясь у стены, с коротенькою трубкою в зубах, почитавший необходимостью, услыша о капуцине, прибавить короткую фразу: „Все мошенники“, — после чего продолжал снова пускать под нос себе дым».
…Выходя из дома, Орест спускался по улице к церкви Санта Мария делла Кончеционе, иначе называемой церковью капуцинов, первый этаж которой украшали Гвидо Рени, Доминикино и Караваджо, а подземелье — сами капуцины, соорудившие настоящий храм мертвых, где из костей и черепов четырех тысяч умерших братьев были изготовлены колонны и арки, люстры, канделябры, подсвечники — весь жуткий декор обширнейших подземных залов.
Оставив слева церковь капуцинов, Кипренский выходил на площадь Барберини, где возвышался поросший мхом фонтан Тритона, сделанный по рисунку Бернини. Кругом фонтана тоже были расставлены лотки зеленщиков. Тут же паслись козы. По сторонам площади стояли невысокие здания с облупившейся штукатуркой, окрашенные поблекшей желтой или красно-охристой краской с зелеными, вечно закрытыми ставнями. За этими домами поднимались могучие формы палаццо Барберини, который строили славные зодчие римского барокко — Карло Мадерно, Борромини, Бернини.
Площадь славилась тем, что на ней находился трактир «Лепре», где столовались иностранные художники, — жившие в Риме.
От фонтана Кипренский поворачивал направо и выходил на прямую, как стрела, улицу, которая в те времена называлась страда Феличе, а сейчас — виа Систина.
Виа Систина за последние 160 лет почти не изменилась. Одним своим концом она выходит к площади с фонтаном Тритона, другим — к церкви Тринита деи Монти, которая увенчивает знаменитую Испанскую лестницу. Лестница водопадом широких ступенек спускается к просторной площади Испании с небольшим фонтанчиком в виде лодки, сооруженным в память о наводнении, когда разлившиеся воды Тибра залили весь город и по этой площади римляне плавали на лодках.
Площадь Испании, виа Систина и прилегающие к ним другие улицы — это центр «артистических» кварталов Рима. Здесь жили поколения иностранных художников, которые в течение веков приезжали в Рим для изучения его богатого культурно-исторического наследия и совершенствования своего мастерства.
Если пересечь площадь Испании, то после лестницы сразу же попадешь на улицу Кондотти, на которой с правой стороны находится знаменитое римское «Кафе Греко». «Кафе Греко», так же как и трактир «Лепре» на площади Барберини, были наиболее популярными местами общения иностранной художественной колонии в Риме. Именно в «Кафе Греко» приходила почта из России на имя русских художников, архитекторов и скульпторов, которым довелось побывать на «родине искусств». Здесь они могли познакомиться друг с другом, обменяться мнениями о последних событиях.
Виа Кондотти упиралась в главную римскую улицу — Виа дель Корсо. Улицу гигантских палаццо, построенных в эпоху Возрождения, выходящую одним своим концом на просторную пьяцца дель Пополо, через которую Кипренский въехал в «вечный город», другим — к античным развалинам Форума и Капитолийскому холму, где, следуя древней традиции, 21 апреля Рим справляет день своего рождения.
На Капитолийском холме, архитектурный ансамбль которого был спланирован Микеланджело, в этот день как во времена Кипренского, так и в наше время устраиваются торжественные церемонии. Белокаменные палаццо, построенные по рисункам великого флорентийца, украшаются старинными гобеленами и штандартами с гербами древних кварталов города. Капитолийская площадь, поражающая удивительной гармонией и совершенством архитектурных форм, вечером расцвечивается пламенем средневековых факелов, завораживая волшебной игрой света и тени на мраморе дворцов и античных статуй…
В год приезда Кипренского Рим отметил 2569-ю годовщину своего основания, ибо согласно легенде он был заложен Ромулом, потомком троянца Энея, сыном весталки Реи Сильвии и бога Марса, в 753 году до нашей эры.
Легенда гласит, что один из потомков Энея, царь Нумитор, был свергнут с престола своим братом, кровожадным Амулием. Узурпатор убил сына Нумитора, а дочь его, Рею Сильвию, чтобы избавиться от законного наследника престола, посвятил в весталки, которые давали обет безбрачия.
Но Рея Сильвия родила от самого бога Марса двух сыновей — близнецов Ромула и Рема. Тогда жестокий Амулий решил избавиться от появившихся на свет претендентов на престол, повелев сбросить младенцев в воды Тибра.
И опять произошло чудо: братья-близнецы волною были вынесены на берег, где их вскормила своим молоком дикая волчица, а вырастил подобравший их царский пастух. Став взрослыми, братья узнали о проделках Амулия и совершили справедливое возмездие, вернув трон своему деду. Они же и основали «вечный город», названный в честь Ромула Roma — Римом.
Возникшая впоследствии ссора между братьями имела трагический исход. Ромул убил Рема.
Такова легенда об основании Рима. Но только ли это легенда?
Ученые, в течение столетий считавшие личность Ромула плодом народной фантазии, в последнее время начинают пересматривать свои воззрения на легендарные сведения об основании Рима. Новейшие археологические раскопки дают основания предполагать, что Ромул был вполне реальной исторической личностью. Археологические данные свидетельствуют, что на Палатинском холме, где согласно преданиям Ромул и Рем основали Рим, уже с конца девятого века до нашей эры обитали древние пастушеские племена латинов, которые поклонялись богине Палес, покровительнице стад. В честь этой богини ежегодно 21 апреля устраивались пышные празднества, которые со временем превратились в церемонии в честь основания города.
Благоговейным почитанием обитателей Палатинского холма и много позднее легендарной даты основания Рима пользовались вполне реальные предметы вроде фигового дерева, под которым по преданию оказались выброшенные на берег близнецы, пещера, в которой скрывалась знаменитая волчица, хижина пастуха, приютившего сыновей Реи Сильвии. Что касается самой легенды о волчице и божественном происхождении Ромула и Рема, то все это, по мнению ученых, — позднейшие мифологические наслоения вокруг реальных фактов и реальных личностей Ромула и Рема, основателей города, родословную которых пастушеские племена по вполне понятным причинам вели одновременно и от бога Марса, и от внушавшего им священный ужас зверя — волчицы…
Бесчисленная череда столетий, из которых складывается прошлое города, оставила на его земле свою печать, каждая эпоха засвидетельствовала здесь свое присутствие, превратив Рим в неповторимое, уникальное явление человеческой культуры — раскрытую книгу истории мировой цивилизации. «О Рим, ты целый мир!..» — восклицал Гёте, который писал: «Чем дальше едешь по морю, тем более глубоким становится оно. Подобно этому можно сказать о Риме».
Античная цитадель города Капитолий — лучшая точка для обозрения древнего Рима, откуда открываются дивные виды на руины Форума, замыкаемые на горизонте изломанной линией Колизея, на величавые контуры императорских дворцов и терм Палатина, на средневековые кварталы и памятники Возрождения, окружающие Капитолийский холм с его южной и западной стороны. На самом Капитолии соседствуют бок о бок античность и Возрождение: дворцы, возведенные по рисункам Микеланджело, покоятся на древнеримских фундаментах, а площадь украшает знаменитая конная статуя императора Марка Аврелия, чудом уцелевшая в эпоху варварских нашествий на «вечный город». На Форуме и Палатине в первозданном виде господствует атмосфера античности: здание древнеримского сената, почти не тронутые временем арки Септимия Севера и Тита, колоннады древних базилик и храмов, аркады дворцов, вымощенная глыбами древнего камня Священная дорога, по которой входили в Рим триумфаторы.
В южных и юго-западных кварталах — настоящая чересполосица эпох и стилей. Средневековая ткань города здесь включает в себя и светлые античные образы, и гармоничные шедевры Возрождения, которые удивительным образом уживаются друг с другом, не мешая каждой эпохе говорить о себе полным голосом. Иногда тысячелетия истории города сплавлены в одном каком-либо памятнике. Таков, например, театр Марцелла, сооруженный в период правления Цезаря и Августа, превращенный во времена средневековья в крепость, а в эпоху Возрождения в дворец — палаццо Орсини с присущими этому стилю архитектурными атрибутами, которые как бы подчеркивают здесь преемственность эпох, поступательный ход развития истории.
И так в старом Риме было на каждом шагу. Рядом с театром Марцелла возвышались стройные беломраморные колонны храма Аполлона, основанного в пятом веке до нашей эры, а чуть поодаль — развалины Портика Оттавии, сестры императора Августа, у которых приютился живописный продуктовый рынок. И опять же соседство таких на первый взгляд несовместимых вещей нисколько не оскорбляло вкуса, ибо в Риме античные руины издревле были не предметом музейного мира, а частью жизни его обитателей, согретой, очеловеченной современностью. Поэтому они и воспринимались здесь как-то по-другому, теряя холодность музейных экспонатов…
За Портиком Оттавии тянулись средневековые народные кварталы Рима: стиснутые домами улочки, почерневшие, замшелые стены каменных строений, оставляющие в вышине лишь узкую синюю полоску неба. Только иногда дома там раздвигались, чтобы представить взору чудный палаццо Возрождения или замечательный античный памятник, а затем снова продолжалась средневековая теснота и скученность.
К этому Риму надо было привыкнуть, чтобы понять его своеобразную прелесть, ни с чем не сравнимую и ни на что не похожую. Старый Рим, обрушивавший на новичка целый каскад самых неожиданных впечатлений, торопливого туриста, ожидающего увидеть здесь все разложенным по полочкам, мог привести в оторопь и оставить разочарованным. Но разочарование быстро проходило. Рим обладал магической способностью располагать к себе сердца людей. Несколько простодушно, но очень верно об этом сказал Федор Иордан: «По приезде в Рим, несмотря на его грязь и стертые стены домов, вы немедленно с ним дружитесь. Все в нем грязно… но великолепно!»
Покорял прежде всего добродушный, незлобивый характер итальянцев, их гостеприимство, тонко развитое чувство прекрасного, их красочные обычаи. Виа дель Корсо становилась центром грандиозного народного представления во время знаменитого карнавала, когда все римляне — и стар, и млад, и патриции, и плебеи — вдруг смешивались в одну бурлящую радостью и беззаботностью толпу, которая неистово предавалась удовольствиям праздника.
Как в Риме все было не похоже на чинный Петербург с его ровной и размеренной жизнью, с его никогда и нигде не исчезающими социальными гранями!
В римском карнавале привлекало больше всего именно это — возможность забыть об имущественных и иных различиях между людьми и стать членами единого человеческого сообщества, живущего теми же чувствами, теми же интересами, теми же радостями, что и все. Не случайно поэтому путешественники оставили нам так много зарисовок римского карнавала. Вот что писал о римском карнавале прибывший в Рим осенью 1818 года Сильвестр Щедрин:
«Наконец, дождались карнавала, о котором подробно написать бы вам, маменька; но сколько ни описывай, нельзя вообразить и нельзя иметь понятия, не видавши оного, каким образом веселится народ в сие время…
Что же касается до народу, то вообразите себе, что целый город сошел с ума, — в подобном случае, что станут делать? Я воображал, что, будучи никем не знаем, и полагая, что мое лицо также маска для карнавалу, и еще новенькая, которую никто не узнает, но лишь вышел, как и в меня стали швырять конфетами; увидевши, что нет спуску, я пристал к нашим лифляндцам и швырял также конфетами и встречных, и поперечных. Прогуливаясь с Батюшковым по Корсу, как нас обоих завидели, то тотчас явится маска с метелкою, вычистит платье и за работу ударит тупым концом и пойдет далее; всякий подходит, берет за руку, визжат и делают разные дурачества, иные одеты художниками, прескверно, в соломенных, треугольных шляпах, ходят с портфелями, держа в руках головешки, или большие угли, обступают попавшегося, рисуют с него портрет, выхваляя голову, фигуру и прочее… И чудное дело, всякий говорит и называет это дурачеством, но никто не может усидеть дома. Мне один сурьезный ученый немец, приехавший с молодым, мне знакомым Голицыным, говорил, удивляясь, что он никоим образом не может усидеть дома во время карнавалу, и заключил тем, что кто может это время тратить за книгою, тот, должно быть, мертвой».
Равным образом зрелище римского карнавала позднее захватило и Николая Васильевича Гоголя. В письме к сестрам он рассказывал: «Я не знаю, писал ли я вам что-нибудь о карнавале, то, что называется у нас масленицею. Это очень замечательное явление. Вообразите, что в продолжение всей недели все ходят и ездят замаскированные по улицам во всех костюмах и масках. Иной одет адвокатом с носом, величиною через всю улицу, другой турком, третий лягушкой, паяцом и чем ни попало. Кучера даже на козлах одеты женщинами в чепчиках. Всякий старается одеться во что может, кому не во что, тот просто выпачкает себе рожу, а мальчишки выворотят свои куртки и изодранные плащи. У каждого в руках по целому мешку шариков, сделанных из муки. Этими шариками они бросают друг в друга и засыпают совершенно всего мукою. Все смеются и хохочут».
Гоголь, как выражался Федор Иордан, который тесно общался с писателем в Италии, тотчас сдружился с Римом, когда приехал туда.
И уже в первых письмах Николая Васильевича содержатся страстные панегирики Италии и Риму. Чем же больше всего очаровала эта страна и этот народ великого русского писателя-реалиста? «Что тебе сказать об Италии? — поверяет он 30 марта 1837 года Н. Я. Прокоповичу. — Она прекрасна. Она менее поразит с первого раза, нежели после. Только всматриваясь более и более, видишь и чувствуешь ее тайную прелесть. В небе и облаках виден какой-то серебряный блеск. Солнечный свет далее объемлет горизонт. А ночи?.. прекрасны. Звезды блещут сильнее, нежели у нас, и по виду кажутся больше наших, как планеты. А воздух? — он так чист, что дальние предметы кажутся близкими. О тумане и не слышно».
И в письме А. С. Данилевскому, помеченном 15 апреля 1837 года: «Когда въехал в Рим, я в первый раз не мог дать себе ясного отчета. Он показался маленьк(им). Но чем далее, он мне кажется большим и большим, строения огромнее, виды красивее, небо лучше, а картин, развалин и антиков смотреть на всю жизнь станет. Влюбляешься в Рим очень медленно, понемногу — и уж на всю жизнь».
Летом 1837 года Гоголь, скрываясь от римской жары, уехал в Германию. Уехал и сразу же стал скучать по Италии и Риму. «И когда я увидел наконец во второй раз Рим, — писал он, вернувшись в „вечный город“, — о, как он мне показался лучше прежнего! Мне казалось, что будто я увидел свою родину, в которой несколько лет не бывал я, а в которой жили только мои мысли. Но нет, это все не то, не свою родину, но родину души своей я увидел, где душа моя жила еще прежде меня, прежде чем я родился на свет… Всю зиму, прекрасную, удивительную зиму, лучше во сто раз петербургского лета, всю эту зиму я, к величайшему счастию, не видел форестьеров[5]; но теперь их наехала вдруг куча к пасхе, и между ними целая ватага русских. Что за несносный народ! Приехал и сердится, что в Риме нечистые улицы, что нет никаких совершенно развлечений, много монахов, и повторяют вытверженные еще в прошлом столетии из календарей и старых альманахов фразы, что италианцы подлецы, обманщики и проч(ее) и проч(ее), а как несет от них казармами, — так просто мочи нет».
Кипренский был художником и не оставил нам такого обширного эпистолярного наследия, как Гоголь, в котором рассказал бы о своих мыслях и чувствах по приезде в Италию. Но благодаря автору «Ревизора» мы имеем возможность восстановить психологическую атмосферу, в которой жили и творили русские художники на итальянской земле.
При этом, конечно, никак нельзя забывать того, что писатель прибыл в Рим из России, пережившей восстание декабристов и познавшей тяжесть николаевской реакции. Кипренский же и его друзья Сильвестр Щедрин и Самуил Гальберг приехали в Италию задолго до 14 декабря 1825 года. Они, как и многие другие представители их поколения русской интеллигенции, в те времена еще были одушевлены надеждами, еще верили в либерализм русского царя Александра I, еще носили в душе гордость за подвиг России, которая дала Европе освобождение от наполеоновского владычества. Гоголь, как рассказывают его друзья, очень неохотно показывал при пересечении европейских границ свой паспорт. Ему не доставляло никакого удовольствия объяснять, что он русский, что он подданный николаевской России.
Кипренский, когда в Швейцарии его паспорт приняли за некую китайскую грамоту, с гордостью разъяснял, что это русский паспорт, что он — российский гражданин. В письме к Оленину Кипренский, прожив нисколько месяцев в Италии, прежде всего спешил сообщить, что «лучше ее воображал», что не видит в этой стране «ни саду Европы, ни Рая земного». И тут же, подчеркивая свои патриотические чувства, добавлял, противопоставляя упадку Италии растущую славу и могущество своей родины: «В некие годы! — не сумневаюсь, что здесь могло быть нечто подобное Раю, равно как в некие годы были непроходимые леса и болота там, где славный Петро-Александров град…»
А Гоголь всячески подчеркивал несовпадение своих взглядов на Италию и ее народ с мнением высокопоставленных петербургских чинуш. Говорить во времена Гоголя хорошо об Италии и ее народе, угнетаемом союзной с Россией Австрией, было совсем немодно. Одновременно с Гоголем в Риме весной 1837 года пребывал великий князь Михаил Павлович, который ругал на чем свет стоит Италию и итальянцев, а его раболепствующее окружение из великосветских щеголей согласно ему поддакивало. И это представителя царствующего дома имел в виду Николай Васильевич, когда изливал в письмах свое негодование по поводу оскорбительного отношения к итальянскому народу со стороны вельможных русских путешественников, от которых — напомним слова писателя — казармой несло так, что просто мочи нет. Намек на Михаила Павловича, который был командиром Гвардейского корпуса и изводил подчиненных невыносимой муштрой, был более чем прозрачен…
Кипренский же, напротив, говоря об Италии, заявляет: «…я радуюсь, что родился русским и живу в счастливый век Александра Первого и Елисаветы Несравненной…»
Сочувствие бедственному положению Италии у Кипренского в 1817 году, когда итальянцы связывали еще свои надежды на освобождение от австрийского гнета с новой ролью в международной политике России Александра I, вызывало прилив патриотических чувств, а у Гоголя, двадцать лет спустя, когда именно николаевская Россия помогла Австрии сохранить свое господство на Апеннинском полуострове, — желание не иметь ничего общего с петербургскими пособниками австрийских палачей Италии.
Прозрение у самого Кипренского наступило в Италии и во многом — благодаря Италии. Жуткая нищета итальянцев, как мы помним, поразила художника сразу же после пересечения швейцарской границы, покончив с иллюзиями насчет «Рая земного», коим грезилась «родина художеств» из Петербурга. Страна, родившая на своей земле бессмертные образы красоты, при ближайшем рассмотрении оказалась самой обездоленной из всех европейских стран, по дорогам которых Кипренский проехал, направляясь в Рим. И таково было впечатление всех русских путешественников.
Даже у не очень склонного к эмоциям Федора Иордана сердце сжалось при виде рубищ Италии, особенно на фоне ее роскошной природы, которой русский гравер так радовался после суровых альпийских пейзажей в Швейцарии: «При спуске в скором времени мы почувствовали теплоту, начали помаленьку скидывать с себя пледы, затем шинели. Чудо перерождения представилось моему взору: всюду зелень, голубое небо, палящее солнце. Долой пальто, жарко делается в карете. Боже мой, что за прелесть! Вчера был холод, вокруг все было мертво, обнаженныя деревья стояли, как черные истуканы, и украшали мертвую природу. Теперь же цветущее веселое лето, вся природа в зелени и солнце радует и жжет палящими своими лучами. Это прерождение дало мне понять, отчего Италия называется садом Европы. К пяти часам вечера мы были в гостинице, где почувствовали себя немного разочарованными. Народ показался мне страждущим, неопрятным и бедным после тех местностей Европы, которыя я проезжал, особенно после Швейцарии, соседки Италии. Вид поселян меня пугал: они стояли кое-где в артистических позах, плащи закинуты на плечи ловко, художественно, но они все изношены и в заплатах; характерныя лица, с прекрасными, темными головами, но цвет лица желтый, лихорадочный — они выглядят тщедушными».
А вот слова графа Ф. Г. Головкина, бывшего посла России в Неаполе, путешествовавшего в 1816–1817 годах по Италии: «Сколько бедняков в Апеннинах! Это возбуждает ужас и жалость. Они встречаются по сорока и по пятидесяти, с дикими воплями. Два дня тому назад у дверей того заезжего дома, где я ночевал, было найдено два человека, умерших с голоду. Урожай в этом году был богатейший, но церковную область разоряют эти ужасные монополии. Вообще в Италии все народы жалуются на своих монархов… Я только удивляюсь, как все население не переходит в стан разбойников…»
В Швейцарии, на родине Лагарпа, в кантоне Во Орест запомнил лозунг-девиз его граждан: «Свобода и отечество!» Проехав же Италию с севера до Рима, Кипренский увидел, что итальянцы не имеют ни свободы, ни отечества и что вину за это в немалой степени несет Россия, победительница Наполеона, Россия его кумира Александра I.
Венский конгресс и другие международные встречи новых повелителей Европы, объединившихся в Священный союз, отдали Италию на заклание Австрии. Страна была раздроблена на целых восемь государств: Пьемонт или Сардинское королевство, австрийские владения (они включали северные области Ломбардию и Венето), герцогства Пармское, Моденское и Тосканское, княжество Лукка, Папское государство и Королевство Обеих Сицилий (Неаполитанское королевство). Австрия не только захватила Ломбардию и Венето, но и практически контролировала все так называемые независимые итальянские государства, за исключением Сардинского королевства. В Парме, Модене и в Тоскане на престолы были посажены отпрыски австрийской династии Габсбургов. Австрийские гарнизоны были размещены на территории Папской области. Австрия могла диктовать внешнюю и внутреннюю политику Королевству Обеих Сицилий и назначать австрийского генерала главнокомандующим неаполитанской армии.
На весь Апеннинский полуостров легла тень тяжелого солдатского австрийского сапога, топтавшего национальное достоинство Италии.
Австрия же ходила в привилегированных союзниках России, и русский царь не иначе обращался к австрийскому императору, как словами «любимый брат мой»…
На размышления влекли и вести из России, где во все большую силу входил у Александра А. А. Аракчеев. Царь, без конца разъезжавший по Европе, вручил управление государством именно этому кровожадному зверю, одно имя которого наводило всеобщий ужас и омерзение.
Настроения надежд, горячих упований, веры в будущее постепенно сменялись настроениями разочарования, апатии, неверия. Император Александр I, в честь которого после победы над Наполеоном слагались оды, теперь все более представлялся неким двуликим Янусом. За границей он по-прежнему поддерживал окружавший его ореол «монарха-гражданина», даровал конституцию Польше, произносил либеральные речи. Обещал Александр дать конституцию и России и даже поручил своему временщику разработать проект освобождения крестьян от крепостной зависимости. В 1818 году в речи при открытии Варшавского сейма он публично посулил ввести конституционное правление и в России.
Но все это были слова. На деле же крепостная зависимость крестьян оставалась в неприкосновенности. Более того, крепостные порядки стали постепенно распространяться и на армию. Ради экономии средств на содержание огромной армии А. А. Аракчеев подбросил Александру I идею об организации военных поселений. В этих поселениях солдаты-крестьяне должны были овладевать военным делом, служить в армии и одновременно кормить самих себя, обрабатывая землю. Это была худшая форма военно-крепостного гнета. По барабанному бою крестьяне выходили на пахоту, по барабанному бою с пахоты шли на военные учения. В военных поселениях царила жесточайшая палочная дисциплина, вся жизнь была строжайше регламентирована. Железному порядку должны были подчиняться все жители, включая женщин и детей. Крестьяне повсеместно требовали отмены военных поселений, но Александр I был неумолим. «Военные поселения, — говорил он, — будут, хотя бы пришлось уложить трупами дорогу от Петербурга до Чудова». А расстояние это равнялось более чем ста километрам.
Идея военных поселений была проверена на практике самим А. А. Аракчеевым. Этот жуткий персонаж выдвинулся на политическую сцену России еще при Павле I. Он был подполковником, когда Павел вступил на престол. Через два дня после этого он стал генерал-майором и имел две тысячи душ. Павел оценил собачью преданность Аракчеева, его неукротимое желание услужить. «На просторе разъяренный бульдог, — пишет современник, — как бы сорвавшись с цепи, пустился рвать и терзать все ему подчиненное: офицеров убивал поносными, обидными для них словами, а с нижними чинами поступал совершенно по-собачьи; у одного гренадера укусил нос, у другого вырвал ус, а дворянчиков унтер-офицеров из своих рук бил палкою… Чрезмерное его усердие изумило самого царя, и в одну из добрых минут, внимая общему воплю, решился Павел его отставить и сослать в пожалованную им деревню Грузино…»
Вот тогда-то Аракчеев и попробовал на досуге дополнить крепостные порядки, которые он находил недостаточно строгими, еще и военной дисциплиной. Это было подлинное изуверство. «Сельское житье его было мучительно для несчастных крестьян, между коими завел он дисциплину совершенно военную, — свидетельствует мемуарист. — Ни покоя, ни малейшей свободы, ни веселия, плясок и песней не знали жители села Грузина. Везде видны были там чистота, порядок и устройство, зато везде одни труды, молчание и трепет… Все было на немецкий, на прусский манер, все было счетом, все на вес и на меру. Измученный полевою работой, военный поселянин должен был вытягиваться во фронт и маршировать; возвратясь домой, он не мог находить успокоения: его заставляли мыть, и чистить избу свою и мести улицу. Он должен был объявлять о каждом яйце, которое принесет его курица. Женщины не смели родить дома: чувствуя приближение родов, должны были являться в штаб».
Словом, жизнь в аракчеевской деревне была сплошным адом. Произвол Аракчеева не имел никаких пределов. Он издевался над людьми как хотел. Одним из его развлечений были свадьбы. Когда Аракчееву бурмистр докладывал о предстоящих свадьбах, то он вызывал к себе женихов и невест, расставлял их попарно, жениха с выбранной им невестою. Затем он приказывал перемешать женихов и невест таким образом, чтобы в парах оказались чужие, не любящие друг друга молодые люди, и приказывал их обвенчать. Если же ему докладывали, что какая-либо из сторон не согласна на это, то он давал короткий приказ: «Согласить». Согласие вырывалось ценою жесточайшего наказания, для чего в Грузине в графском арсенале всегда стояли кадки с рассолом, в котором мокли розги и палки. Аракчеев предпочитал, чтобы среди его рабов больше рождалось мальчиков, нежели девочек. И женщинам, которые приносили ему девочек, он угрожал даже штрафом.
Помимо розг, провинившиеся крестьяне могли быть наказаны также и тем, что им надевались на шею железные рогатки. Фанатическая любовь к чистоте Аракчеева также оборачивалась для его рабов беспредельными издевательствами. Посетителей Грузино поражало, что в его саду не видно было опавших листьев. Листья, оказывается, обязаны были немедленно собирать крестьянские дети, которые днями должны были сидеть, укрывшись в кустах сада. Аракчеев обожал певчих птиц и тут тоже прибегал к мерам, которые полностью отвечали его стилю правления. «Я нынешнюю весну, — пишет граф одному из корреспондентов, — строгий отдал приказ в своем Грузине всех кошек посадить на привязь, дабы более моим птицам садовым дать свободы».
Аракчеев был весьма сластолюбив. Одна из его сердечных привязанностей крепостная Анастасия Минкина вошла к графу в огромнейшее доверие и на целые двадцать пять лет стала его домоправительницей и наперсницей в жестоких издевательствах над крестьянами. Впрочем, в последнем она, по свидетельствам, превзошла и самого Аракчеева. Не выдержав истязаний, крестьяне убили Минкину. Рассказывают, что, когда Аракчеев узнал об этом, приехав в Грузино, он в порыве отчаяния выскочил без фуражки из экипажа, с криком и воплем бросился на траву, рвал на себе волосы, бился в судорогах. «Мщение Аракчеева убийцам было беспощадно… — пишет современник. — Мне, …невольному свидетелю казни, при воспоминании об этой трагедии и теперь еще слышатся резкие свистящие звуки ударов кнута, страшные стоны и крики истязуемых и какой-то глухой, подавленный вздох тысячной толпы народа, в назидание которого совершались эти наказания».
А царь, раздававший в Европе конституции, питал к этому человеку безграничное доверие, удостаивал его личных визитов в Грузино, где, чтобы сделать удовольствие своему любимцу, проявлял знаки внимания и к Анастасии Минкиной, заходил в ее комнаты, пивал у нее чай. Вслед за царем самые высшие сановники, чтобы заслужить милость Александра, должны были гнуть спины не только перед всесильным временщиком, но и перед его сожительницей. «Генералы всевозможных рангов, нисколько не стыдясь, — читаем в мемуарах, — целовали ей руки, бесконечно льстили ей, заискивали ее милостей, служили для нее шпионами и доносчиками. По смерти Настасьи в ее бумагах нашлись очень любезные письма к ней разных высокопоставленных лиц с присоединением дорогих сюрпризов вроде кружев, серег».
Глухие вести об аракчеевском произволе, о двуличии Александра доходили до Италии и вместе с итальянскими наблюдениями со временем определили подлинный переворот в душе Ореста Кипренского, сказавшийся самым решительным образом и в творениях его кисти и карандаша, и в отношении к России и ее повелителю.
Признание Европы
…Дорогою свободной
Иди, куда влечет тебя свободный
ум,
Усовершенствуя плоды любимых
дум,
Не требуя наград за подвиг
благородный.
Они в самом тебе. Ты сам свой
высший суд;
Всех строже оценить умеешь ты
свой труд.
Ты им доволен ли, взыскательный
художник?
А. С. ПушкинСняв в Риме студию, Кипренский, как рассказывают его первые биографы, тут же укатил во Флоренцию.
Формально русские художники-пенсионеры состояли при Римской Академии Сан Лука, которая и должна была по договоренности с Петербургской Академией художеств их опекать. На деле же они были предоставлены самим себе и прокладывали дорогу в искусство на свой страх и риск.
Русского посольства в Риме из-за дипломатических осложнений, вызванных наполеоновскими войнами, в это время еще не было. Интересы России при папском дворе представлял временный поверенный в Тосканском герцогстве генерал Николай Федорович Хитрово, зять М. И. Голенищева-Кутузова, женатый на любимой дочери покойного полководца Елизавете Михайловне. Поэтому именно Николаю Федоровичу было направлено из Петербурга рекомендательное письмо за подписью секретаря императрицы Н. М. Лонгинова.
Письмо Н. М. Лонгинова датировано 17 мая 1816 года. Секретарь императрицы писал в нем:
«Милостивый государь Николай Федорович!
Государыня императрица Елизавета Алексеевна, обратив внимание свое на способности советника здешней Академии художеств г-на Кипренского, оказавшего отличные успехи в исторической и портретной живописи… высочайше повелеть мне соизволила просить Ваше превосходительство о принятии г. Кипренского в свое покровительство и о способствовании ему видеть все, что заслуживает наблюдения художника в Италии и что наиболее нужно для его упражнений. Не сомневаюсь, что милостивое руководство Вашего превосходительства, испытанного любителя художеств, послужит к усовершенствованию талантов г-на Кипренского… и принесет великую пользу российским художествам».
Кипренский, как видно, и решил воспользоваться покровительством русского посланника, с которым успел познакомиться, когда в октябре 1816 года проездом останавливался на неделю во Флоренции.
Но город на Арно его привлекал и по другой причине. Столица Тосканы тогда считалась излюбленным местопребыванием странствующих русских аристократов.
Русская колония во Флоренции была весьма многочисленной. Помимо семейства Н. Ф. Хитрово, в нее входили Лунины, Толстые, Кочубеи, Панины, Гурьевы, Гагарины и многие другие. В этом перечне мы, несомненно, встречаем имена лиц, которые послужили моделями для остающихся неизвестными портретных работ Кипренского и которые часто выступали в качестве покровителей и доброжелателей художника.
Наиболее активной при этом, безусловно, была роль семьи русского дипломатического представителя при Тосканском дворе, прежде всего — сердобольной Елизаветы Михайловны Хитрово, которая позднее опекала молодого Александра Брюллова в Неаполе, благодаря чему местная знать, включая королевскую семью, буквально засыпала его заказами. Можно не сомневаться, что и во Флоренции дочь Кутузова также способствовала популяризации искусства Кипренского, тем более что в данном случае она действовала не только по своей инициативе, но и выполняла прямое поручение императрицы. Выражалось это главным образом в хлопотах о заказах на портреты как русских аристократов, так и герцогской фамилии и флорентийской знати, с которыми у семейства Хитрово были отменно хорошие отношения.
Кипренский, наверное, исполнил эти заказы с блеском, что и позволило ему в короткое время завоевать в городе на Арно такой авторитет и такую популярность, что он был избран членом Флорентийской Академии художеств и первым среди русских живописцев получил предложение написать для Уффици свой автопортрет…
Генерал Хитрово, человек еще не старый, часто хворал, к дипломатическим обязанностям, которые были для него совершенно в новинку, относился с прохладцей и всю свою деятельность свел главным образом к устройству не реже двух раз в неделю балов, на коих собирался весь город. Впрочем, балы тоже были нужны не столько ему самому, сколько Елизавете Михайловне. У той от первого брака подрастали две юные красавицы дочери Екатерина и Дарья (Доротея), о судьбе которых уже надо было заботиться, хотя старшей минуло только 13, а младшей — всего 12 лет.
Елизавета Михайловна, тридцатичетырехлетняя дама, не в пример мужу, была полна энергии и живости, без памяти любила общество и светские развлечения. Черты ее красивыми, пожалуй, назвать было нельзя, но большие голубые глаза, в которых светились ум и добросердечие, чрезвычайно украшали ее лицо. Она грустила об отце, в память о котором всегда держала в руках перевязанные георгиевской лентой его часы («Они были у него при Бородине», — говаривала Елизавета Михайловна), и первом муже, герое Аустерлица, Федоре Ивановиче Тизенгаузене.
О подвиге Ф. И. Тизенгаузена было широко известно в России. Во время Аустерлицкого сражения граф был при своем тесте на Праценских высотах, где решалась судьба битвы. Как свидетельствовал военный летописец, в один из самых напряженных моментов боя, когда русские войска начали отступать и был ранен Кутузов, его «любимый зять… флигель-адъютант граф Тизенгаузен со знаменем в руках повел вперед один расстроенный батальон — и пал, пронзенный насквозь пулей». Другой очевидец, Федор Глинка, опубликовавший вскоре после Аустерлица свои знаменитые «Письма русского офицера», об этом же событии рассказывал: «В сражении под Аустерлицем был смертельно ранен зять Кутузова Тизенгаузен, прекрасный молодой человек. Движимый духом мужества, он стремился в самые опасные места; пуля пробила ему грудь — он упал с лошади…»
С генералом Н. Ф. Хитрово Елизавета Михайловна обручилась в 1811 году, после шестилетнего вдовства, а четыре года спустя отправилась с ним во Флоренцию, где она, дочь Кутузова, была принята самым благожелательным образом и владыками итальянских государств, и местной аристократией, и знаменитостями из мира литературы и искусства. Контактов с дочерью победителя Наполеона искали все. Сохранились целые папки писем владетельных особ, государственных мужей и людей искусства всей Европы к Елизавете Михайловне, ее мужу и дочерям. Среди них есть письмо мадам де Сталь от 22 декабря 1816 года, адресованное Н. Ф. Хитрово, в котором мы читаем: «Я вам писала из Болоньи, дорогой генерал, и вы мне не ответили — таковы русские, в тысячу раз более легкомысленные, чем французы. Несмотря на свое злопамятство, я рекомендую вам господина и госпожу Артур, моих знакомых ирландцев, которые год тому назад собирали в своем салоне в Париже самое приятное общество — попросите госпожу Хитрово, у которой столько любезной доброты, хорошо их принять ради меня и постарайтесь вспомнить о моих дружеских чувствах к вам, чтобы оживить ваши. До свидания. Все, окружающие меня, вспоминают о вас…»
Об образе жизни супругов Хитрово во Флоренции граф Ф. Г. Головкин рассказывал: «Русский посланник умен и приятен в обращении, но он большею частью бывает болен, а страшный беспорядок в его личных делах налагает на него отпечаток меланхолии и грусти, которых он не может скрыть. Его образ жизни лишен здравого смысла. По вторникам и субботам у него бывает весь город, и вечера заканчиваются балом или спектаклем. По поводу каждого придворного события он устраивает праздник, из коих последний ему стоил тысячу червонцев. При таком образе жизни он задолжал Шнейдеру за свою квартиру и во все время своего пребывания во Флоренции берет в долг картины, гравюры, разные камни и пр.».
Неразумные траты и долги до добра не могли довести любого, а не только человека, занимавшего высокий дипломатический пост. И катастрофа над семьей Хитрово не замедлила разразиться. Об этом нам все тот же граф Ф. Г. Головкин сообщает: «…В один прекрасный день… ко мне является генерал Хитрово, в страшно расстроенном виде… Он сознался, что в том отчаянном положении, в котором находятся его дела, и в тот момент, когда он ожидал помощи, ставшей для него необходимой, он получил ошеломляющее известие о потере своего места; что это место совсем упраздняется и что ему отказывают в какой-либо помощи; и, наконец, что немилость эта, по-видимому, решена бесповоротно, так как ему предлагают маленькую пенсию, но с условием, чтобы он остался жить в Тоскане».
Случилось, словом, то, что неминуемо должно было случиться. Хотя Н. Ф. Хитрово обращался даже к тосканскому министру иностранных дел графу Фоссомброни с просьбой добиться от кредиторов отсрочки платежей, один из них, некий Самуэль Тедеско, подал на русского дипломата в суд. Разразился скандал, сведения о котором не могли не дойти до Петербурга.
За генерала Хитрово там пытался заступиться австрийский посол при русском дворе барон Лебцельтерн, который представлял и интересы Великого Тосканского герцогства, но его старания остались втуне. В своем письме от 9 февраля 1817 года Лебцельтерн докладывал: «Здесь вызвало недовольство, что генерал Хитрово оказался в центре денежного скандала… Шаги, которые я предпринял, чтобы облегчить его участь, ни к чему не привели, ибо опыт показал, что его привычка тратить больше, чем позволяют его возможности, неисправима».
Потерпев служебную катастрофу и вынужденный оставаться во Флоренции до тех пор, пока не расквитается с долгами, Н. Ф. Хитрово стоически переносил удары судьбы. Ф. Г. Головкин уже 21 апреля 1817 года отмечал в одном из писем: «Генерал Хитрово переносит свое несчастие… мужественно… Он все продает и рассчитывается с своими кредиторами; свое хозяйство он упразднил и нанял маленькую квартиру».
Приемы для «всего города» пришлось прекратить, но служебные и финансовые неприятности зятя Кутузова не только не изолировали его от флорентийского общества, а, напротив, вызвали волну сочувствия и желания прийти на помощь: «Двор и (флорентийское) общество, — писал Головкин, — высказали еще больше участия, чем мог ожидать этот бедняга».
Николая Федоровича и его жену по-прежнему с распростертыми объятиями принимали в лучших домах Флоренции и всей Италии, их рекомендации по-прежнему имели очень большой вес. Поэтому Оресту, который прибыл во Флоренцию, казалось бы, в самый неподходящий момент — когда над головой Н. Ф. Хитрово сгустились черные тучи, — тем не менее было оказано все необходимое содействие.
Флорентийские связи потом помогли освоиться Кипренскому и в Риме, где единственным его соотечественником — собратом по кисти — был пейзажист Федор Матвеев, «человек старый и хворый», как писал о нем Константин Батюшков (приехавший в Италию зимой 1819 года), который «сорок лет прожил… в Риме и никакого понятия о России не имеет: часто говорит о ней, как о Китае…».
У Кипренского с Матвеевым отношения что-то сразу не сложились, да Орест ничего особенного и не ожидал от общения со стариком, слава которого весьма полиняла оттого, что он как бы застыл в старой манере и продолжал писать итальянские виды так, как их писали еще в прошлом веке…
Скоро в Риме, впрочем, объявился и русский посол. В январе 1817 года Александр I назначил на этот пост Андрея Яковлевича Италинского, старого, опытного дипломатического волка, сделавшего большую карьеру благодаря своим масонским связям. Италинского открыл все тот же барон Гримм, который именно в среде «свободных каменщиков» подбирал нужных людей для русской империи. Родившись в 1743 году в Киеве, Италинский образование получил в тамошней духовной академии, но потом вознамерился стать эскулапом, изучал медицину сначала в Петербурге, а затем за границей — в Эдинбурге, Лондоне и, наконец, в Париже, где его и высмотрел острый глаз барона Гримма. В 1780 году Гримм представил 37-летнего Италинского путешествовавшему по Европе великому князю Павлу Петровичу, на которого бывший воспитанник Киевской духовной академии произвел самое благоприятное впечатление, что и определило крутой поворот в судьбе последнего. Италинский оставляет медицину и вступает на дипломатическое поприще: в 1781 году по протекции Гримма он становится секретарем русского посольства в Неаполе, а в 1795 году, после четырнадцатилетней службы там, — русским послом при неаполитанском дворе. Шесть лет спустя Италинского переводят на еще более ответственный пост: послом в Оттоманской империи.
И вот теперь, когда престарелому дипломату было семьдесят четыре года, его направили снова в Италию.
Этот, в отличие от Николая Федоровича Хитрово, не устраивал балов ради упрочения своих связей и сбора информации, да и католические прелаты, управлявшие Папским государством, на балы не ходили. Италию новый русский посол в Риме, по выражению Батюшкова, знал, как «Отче наш». А для сбора информации к его услугам была разветвленная масонская сеть, благодаря которой он был отлично осведомлен обо всем, что происходило в Риме — от основания до самой вершины пирамиды власти. Италинский даже смог прислать в Петербург подробные характеристики на каждого кардинала с перечислением сильных и слабых сторон, порочных наклонностей каждого и т. п. Посол при этом не считал нужным скрывать своего презрения к ватиканской камарилье, ибо, докладывал он в одной из депеш, «корпус прелатов, прежде блиставший именами, богатством и талантами, сейчас кишит порочными и низкими личностями».
Агенты Меттерниха изображали Италинского чуть ли не единомышленником карбонариев, но это была явная клевета. Революционером русский посол при ватиканском дворе никогда не был и в меру своих сил стремился предотвратить революционный взрыв в государстве, где представлял интересы российского императора. Но он ненавидел Австрию, присвоившую себе плоды победы России над Наполеоном, упорно искал возможности помешать расширению ее владычества на Апеннинском полуострове, клеймил «слепое беззаконие» папских правителей, которое превратило страну в «огромный вулкан», чреватый революционными потрясениями. А эти потрясения, по мнению Италинского, были бы только на руку Австрии. Поэтому русский посол считал необходимым проведение в Папской области либеральных реформ, которые бы покончили с произволом властей и разорительной налоговой системой, «ненавистной римлянам, ибо они рассматриваются как стадо овец, чью шерсть пастух стрижет в любое время года».
Нетерпимым и чреватым взрывом считал Италинский и положение в остальных итальянских государствах, за исключением, пожалуй, Тосканы с ее несколько либеральными порядками. Он писал в Петербург: «Это факт, что почти все население Италии настроено против существующих установлений. Одни стремятся преступным путем достичь того, что они называют возрождением. Другие отвергают столь предосудительные средства; эти люди имеют большое влияние на всю нацию и даже на секты. Однако поскольку они стоят перед фактом австрийского владычества, какими бы словами его ни приукрашивали, отчаяние всегда будет поддерживать в них мятежный дух. Можно на какое-то время силой сдержать взрыв враждебности и отчаяния 18-миллионной нации, но рано или поздно какое-либо благоприятное для ее дела обстоятельство ослабит давление, следствием чего явится самая ужасная анархия».
Выход Италинский видел в том, чтобы русский император оказал давление на папу, толкнув его на путь реформ, и чтобы Россия выступила против экспансионистских планов Австрии на Апеннинском полуострове. «Я всегда привожу в пример Тоскану, — писал Италинский в своем донесении в Петербург, — пребывающую в тишине и спокойствии благодаря хорошему управлению. Уверен, что по той же причине смогут избежать революции и папские владения, коль скоро их правительство соблаговолит серьезно заняться устранением злоупотреблений… Пусть же его величество император склонит папу к такому акту справедливости и благоразумия, пусть его императорское величество соизволит поручить мне побеседовать здесь от его имени с наиболее влиятельными лицами и уверить их, что Италия не принесена в жертву Австрии, как пытаются всем внушить, и, смею заверить, я смогу поручиться за спокойствие страны».
Вот к такому, отнюдь не однозначному человеку Кипренскому суждено было попасть в зависимость в годы жизни в Италии, отчего судьба его круто переломится и он до конца своих дней будет носить наброшенную на него Италинским и его клевретами тень…
Но это все было еще впереди, а поначалу ничто не омрачало существования Ореста в чужой стране, кроме одного — нехватки положенного его благодетельницей содержания. Константин Батюшков, приехав в Рим и познакомившись там с житьем русских пенсионеров-художников, ужаснулся их нищенскому положению, о чем в письме А. Н. Оленину он писал так: «Скажу вам решительно, что плата, им положенная, так мала, так ничтожна, что едва они могут содержать себя на приличной ноге. Здесь лакей, камердинер получает более. Художник не должен быть в изобилии, но и нищета ему опасна. Им не на что купить гипсу и нечем платить за натуру и модели. Дороговизна ужасная! Англичане наводнили Тоскану, Рим и Неаполь; в последнем еще дороже. Но и здесь втрое дороже нашего, если живешь в трактире, а домом едва ли не в полтора или два раза. Кипренский вам это засвидетельствует».
Кипренский занимался в Италии портретами не только в силу влечения, но и из-за нужды — чтобы пополнить довольно скудный бюджет. И уже первый портрет, выполненный в Риме — полковника Альбрехта, — сослужил художнику хорошую службу, обеспечив регулярные заказы и русских путешественников, и коренных римлян. «Сей портрет, с удовлетворением сообщал Орест А. Н. Оленину, меня очень хорошо познакомил с Римом».
С русскими клиентами Ореста, конечно, не надо было знакомить, ибо среди путешественников его имя было достаточно известно. В их числе ему встретились добрые старые знакомые по Москве и Петербургу, как, к примеру, князь Григорий Иванович Гагарин с семейством: красавицей женой Екатериной Петровной и сыновьями Евгением и Григорием, будущим славным русским художником. Друг Василия Андреевича Жуковского еще со времен Московского университетского пансиона, князь Григорий Иванович тоже был литератором, писал стихи, состоял в «Арзамасе», почитался среди лучших знатоков живописи. Кипренский, портретировавший князя еще в 1813 году в Петербурге, с большим удовольствием написал портреты всего семейства Гагариных и в особенности остался доволен изображением меньшего сына Евгения, получившимся на редкость похожим. Григорий Иванович охотно заходил в мастерскую Ореста, любил потолковать с ним об искусстве, посетить студии других художников, итальянских и чужестранных, вместе постоять перед шедеврами ватиканского собрания и партикулярных римских коллекций. Князь, служивший по дипломатическому ведомству в чине действительного статского советника, в 1816 году по расстроенному здоровью ушел в отставку и жил в Италии в качестве частного лица. На службу он вернулся только в 1822 году, когда был назначен в апреле месяце советником русской миссии в Риме.
Орест, однако, портреты все же считал делом второстепенным, а своим первым долгом полагал создание исторической картины, отвечающей его официальному званию исторического живописца. «Начал весьма смелое дело: Аполлона, поразившего Пифона, — уведомлял он Оленина. — Я взял весь мотив, да и всю осанку Аполлона Бельведерского; словом, сего Аполлона переношу на картину в ту же самую величину. Вы знаете, сколь мудреное дело сделать, чтобы сия фигура не походила на статую в картине. Великое было мне затруднение найти для сего модели, по нашему натурщиков, однако сыскал частями весьма хороших. Слепок же алебастровый мне вылил формовщик М. Канова[6], бесподобный. Все здесь находят, что предприятие весьма новое и дерзкое, но не сумневаются, что мы, Ваше превосходительство, в оном успеем. Мы не ударим себя лицом в грязь».
Аполлон, конечно, должен был олицетворять Александра I, а пораженный Пифон, конечно же, — Наполеона. Замысел картины целиком отвечал патриотическим настроениям, которые обуревали художника по приезде в Италию. Он, кажется, вполне искренне верил, что в новый век можно создать по старым канонам убедительную историческую композицию, и готов был ради этого даже принести свою романтическую музу в жертву старым, классицистическим принципам, в согласии с которыми он собирался работать над аллегорией «Аполлон, поражающий Пифона». Орест так был захвачен этой идеей, что торопил А. Н. Оленина прислать ему если не сам лук, то хотя бы рисунок лука и обозначить его размеры.
Но Константин Батюшков, приехавший в Рим через полтора года после того, как было написано письмо Кипренского Оленину, обнаружил, что художник даже не приступал к работе над исторической картиной. Он, сообщал Батюшков, «еще не писал Аполлона и едва ли писать его станет, разве из упрямства».
Батюшков при этом вовсе не обвинял Ореста в лености. Напротив, поэт подчеркивал, что он «делает честь России поведением и кистию». «В нем-то и надежда наша!» — восклицал Константин Николаевич, особенно расхваливавший «голову ангела, прелестную поистине, лучшее его произведение».
Орест и в самом деле в Италии не сидел сложа руки, раз уже в 1819 году Уффици предложили ему написать свой автопортрет как знак признания его художественных заслуг. Помимо «Ангела, прижимающего к груди гвозди от распятого Христа», так восхитившего Батюшкова, Кипренским к концу 1819 года были написаны «Молодой садовник», «Девочка в маковом венке» («Мариучча»), «Цыганка с веткой мирта в руке», портреты полковника Альбрехта, К. Н. Батюшкова, А. М. Голицына, а также выполнена целая серия карандашных портретов, в том числе А. Я. Италинского.
Посла Орест изобразил в мундире с лентой при всех многочисленных орденах, которыми был удостоен этот вельможа, имевший чин тайного советника. Фигура взята в три четверти оборота: так, чтобы были на виду все посольские регалии. Поелику же Андрей Яковлевич был не только крупным сановником, но и обладателем «маленького музея», то есть ценного собрания произведений искусств, книг и манускриптов, из которых особенно славились старинные арабские рукописи, Кипренский изобразил посла держащим в руках какие-то листы, может быть, с теми самыми древними арабскими письменами — предметом жгучего интереса со стороны тогдашних итальянских ориенталистов, обращавшихся даже к владетельным особам с просьбой составить протекцию и помочь получить доступ в библиотеку русского дипломата.
У Италинского — задумчивое лицо скорее мыслителя и ученого, чем высокопоставленного чиновника. Это, словом, тот образ, который встает со страниц писем К. Н. Батюшкова, говорившего об Италинском: «Старец почтенный и добрый, уваженный всеми».
Сходный портрет русского посла оставил и Стендаль в «Прогулках по Риму», где ему посвящены такие строки: «Г-н Италинский… философ школы великого Фридриха: большой ум и образование, еще большая простота: это — мудрец вроде милорда Марешаля и Жан-Жака Руссо. Ему дали секретарей посольства, которые знают все, что происходит в Италии…»
Работая над портретом Италинского, Орест резко изменил свою графическую манеру петербургского периода: вместо свободной штриховки и очень обобщенной передачи одежды скрупулезнейшим образом прорисовывал шитье на мундире, ордена, пуговицы и прочие аксессуары, отчего кажется, что перед нами не рисунок, а литография с живописного произведения. В такой же рисовальной манере Кипренский выполнил в Италии и другие портреты высоких официальных лиц.
Но когда он от особ официальных переходил к людям, с которыми чувствовал себя менее скованно, его карандаш обретал иные свойства: прежнюю свободу и выразительность рисунка, лаконизм применяемых графических средств, непринужденность исполнения, глубину в раскрытии образа. Глядя на портрет А. Я. Италинского, видишь прежде всего большой труд, вложенный художником в эту работу, и конструирование образа по заранее составленной схеме, продиктованной сановными и прочими достоинствами портретируемого. Своего отношения к модели Кипренский не высказывает.
А вот к аббатам Скарпеллини и Сартори, портреты которых Кипренский сделал в беглой, импровизационной манере петербургского периода, он выразил сочувственное отношение и симпатию. Зорок проникающий прямо в душу взгляд Сартори, о котором мы ничего не знаем, кроме того, что он был духовным лицом и, как это нам поведал художник, обладал острым, хотя и несколько скептическим умом. Лучится добротой и глубокой мыслью лицо дородного лобастого старца Скарпеллини, в котором на рисунке Кипренского можно узнать, несмотря на отсутствие каких бы то ни было атрибутов, ученого, даже если бы мы не ведали, что этот аббат был астрономом, заведовал кафедрой в Римском университете, был основателем Капитолийской астрономической обсерватории, реформатором Академии деи Линчеи…
И совсем в другой манере исполнено изображение красавицы С. С. Щербатовой, в котором Кипренский опять отказался от импровизационности и решил вступить в состязание с французскими собратьями, сочинив элегантнейший по композиции рисунок, где искания формального совершенства не помешали ему создать образ, полный душевного очарования и грации, — в духе его проникновенных женских образов петербургского периода. Орест хотел показать, что ему все по плечу, что он готов бросить вызов любому современнику…
Еще более честолюбивые задачи поставил он перед собою в портретной живописи, где захотел помериться силами с самими корифеями Возрождения. Впрочем, нет, Орест не намеревался состязаться с великими мастерами прошлого, он лишь полагал, что приспело время возродить гармонию, полноту жизни и красоту бессмертных образов Рафаэля и Леонардо да Винчи.
— При виде творений гениев рождается смелость, которая в одно мгновение заменяет несколько лет опытности, — любил говорить Кипренский, часами простаивавший в Уффици и Ватикане перед картинами и фресками великого художника из Урбино, которого он называл альфой и омегой для всех живописцев.
Орест одобрительно относился к исканиям немецких художников — «назарейцев» в Риме, которые в своем искусстве пытались следовать урокам живописцев, предшественников Рафаэля. Но сам он недоумевал при этом: зачем им понадобилось подражать Перуджино, если после него был Рафаэль — высшая, недосягаемая вершина?..
Лучший живописный портрет Кипренский написал в 1819 году в Италии с князя Александра Михайловича Голицына, которого он знал еще по Твери, где князь был гофмейстером великой княгини Екатерины Павловны. Князь, больной туберкулезом, который в 1821 году сведет его в могилу, ради поправки здоровья приехал в Италию, сдружился там с русскими художниками, заказывал им картины. Он был одним из тех русских путешественников, к кому Орест Адамович питал самое искреннее расположение. Именно поэтому в портрете нет и тени той «отстраненности», какая бросается в глаза на многих других изображениях, выполненных Орестом в Италии с высокопоставленных русских особ. Александра Михайловича он написал на фоне римского пейзажа с куполом собора святого Петра, возвышающимся над черепичными крышами и зелеными купами деревьев. Фигура взята поколенно, приподнята над горизонтом, как в портрете Анджело Дони кисти Рафаэля, которым Кипренский восхищался в Уффици. Слева и справа ее обрамляют пинии, сверху — бездонное итальянское небо, взятое в полукружие по верхнему краю картины, — дань старым итальянским мастерам. Полукружие арки повторяется в силуэте фигуры с покатыми плечами, нервном жесте тесно сомкнутых рук, в линиях купола собора, как бы отделяя фигуру от зрителя, замыкая ее в себе. Этим приемом художник концентрирует внимание на лице портретируемого, объятого глубокими, неспокойными мыслями в виду панорамы «вечного города». О своей ли судьбе задумался этот человек, которого неумолимая болезнь уже наметила жертвой, о судьбе ли своей страны, стоявшей накануне нового великого испытания, или же о судьбе всего человечества, тысячелетия истории которого застыли в римских камнях, — мы не знаем. Но мы знаем, мы видим, что Кипренский опять очень тонко уловил дух эпохи и настроения русского общества, лучшие представители которого именно в это время были заняты мучительными поисками идеалов, размышлениями о путях переустройства российской жизни, готовились сделать революционный выбор. В картине-портрете А. М. Голицына Орест снова создал программное произведение с глубокими философскими обобщениями — плодами его собственных наблюдений и раздумий. В портрете удалось сказать намного больше, нежели то можно было сделать в аллегорической композиции «Аполлон, поражающий Пифона», картон для которой так и стоял чистым в римской студии Ореста.
Картины Кипренского оживленно обсуждались в среде русских людей, приезжавших в Италию, они становились событием всей художественной жизни Рима. Весной 1819 года по случаю визита австрийского императора там была устроена выставка работ иностранных художников, о которой Самуил Гальберг в письмах на родину рассказывал так: «Разного рода картин и рисунков находилось на сей выставке около 170, по большей части труды разных немецких, в Риме живущих, художников. Однако ж между ними отличалась одна картина, голова плачущего ангела, писанная г. Кипренским, советником И(мператорской) А(кадемии) х(удожеств)».
Сообщаемые из Италии сведения об успехах художника горячо обсуждались образованной Россией. Александр Иванович Тургенев 5 марта 1819 года писал своему другу П. А. Вяземскому: «Князь Гагарин восхищается новой картиной Кипренского и пишет о нем как о будущем великом художнике. Новая картина изображает ангела; в руках его гвозди, коими прибит Спаситель был ко кресту. Ангел прижимает гвозди к сердцу и заливается слезами. Выражение прелестно!»
Вяземский, однако, не согласился с тем, что подобные сюжеты должны занимать внимание современного художника, между ним и А. И. Тургеневым по этому предмету разгорелся спор. Поэт писал: «…Мне не нравится мысль Кипренского. Во-первых, ангел не может понять телесной боли и, следственно, держа гвозди, нечего ему сострадать Христу, а к тому же страдания Спасителя для нас, а не для ангелов спасительны были, и тут также дела ему нет до гвоздей. А еще вопрос, может ли ангел плакать? Плакать — нам, грешникам, а им только что смеяться. Отлагая всякое богохульство в сторону, я думаю, что искусствам пора бросить истощенное и искони неблагодарное поле библейское».
Рассуждения Вяземского не убедили Александра Ивановича, который в очередном письме заявлял: «Мнение твое о картине Кипренского не совсем справедливо. Неужели гвозди должны напоминать только одну физическую боль, а вместе и не великую мысль искупления страданием, — мысль жертвы, которую находим мы во всех возвышенных религиях. И разве ангелы не должны радоваться нашему спасению?.. Да и зачем лишать ангелов слез, лучшей, благороднейшей принадлежности человека, малым чем от них умаленного? Если они не будут плакать, хотя от радости, то умрут от скуки бессмертия; и беспримерного блаженства. Нет, милый, оставь им слезы радости, а нам слезы горести, а Кипренскому — мысль его…».
Находясь вдалеке от России, Орест продолжал своими творениями занимать современников. И как жаль, что «Ангел», вызвавший даже по описаниям споры у людей, которые ценили талант художника, с тех пор исчез и следы этого произведения не обнаружены по сей день, как не обнаружены следы многих других его итальянских работ…
Но вообще в Риме по-прежнему путешественников из России было меньше, чем во Флоренции, и Орест часто наведывался в город на Арно. Туда осенью 1817 года пожаловал со всем многочисленным семейством, приживалами и приживалками старый московский знакомый Ореста Дмитрий Петрович Бутурлин. Граф сильно постарел, потучнел и очень сдал здоровьем. В сыром петербургском климате застарелая астма чуть было совсем не свела его в могилу, и это заставило нелегкого на подъем Дмитрия Петровича решиться на трудный и утомительный вояж в далекую Италию в надежде, что целебный авзонийский климат восстановит его силы и продлит дни.
Первое время Бутурлины жили в отеле у Шнейдера, а потом сняли просторный палаццо Гвиччардини, подле резиденции великого герцога Тосканского.
Орест был частым гостем в палаццо Гвиччардини, где со всеми удобствами разместилось семейство графа. Дмитрий Петрович в Италии с ее сухим и теплым воздухом стал меньше страдать от удушья и охотно встречался с общительным и живым художником, который так прославился своей кистью еще в Москве. Граф сохранил прежние странные привычки, обедал отдельно от семьи, допуская к своей трапезе лишь старшую дочь Марию, если не было гостя, которого он хотел отметить этой честью. Орест был удостоен подобного отличия, ибо Дмитрий Петрович ценил его не только за талант, но и за ум, наблюдательность, начитанность и философский склад ума.
Во время наполеоновского нашествия граф потерял в Москве дом и знаменитую библиотеку — все сорок тысяч томов, сгоревших в московском пожаре, в коем погибли и другие замечательные книжные собрания: Мусина-Пушкина, Демидовых, Василия Львовича Пушкина. Дмитрий Петрович тяжело переживал потерю.
— Уничтожение моей библиотеки лишило меня всех моих привычек, — жаловался он. — Приобретать новые в мои лета весьма трудно. Ибо в молодости, в возрасте страстей и заблуждений, я постоянно находил спокойствие и истину в беседе с моими книгами. Они заменяли мне друзей, наставников и руководителей.
Но хоть граф и сетовал на то, что ему поздно начинать новое дело, любовь к книге у него была такова, что он почти в шестьдесят лет стал собирать в Италии новую библиотеку. Библиофильская страсть у Дмитрия Петровича так и не остыла, несмотря на преклонные лета, болезни и потери. Он показывал Оресту новые приобретения, сделанные в Италии, и говорил:
— В летах, когда человек живет воспоминаниями, одни книги могут дать ему совет, подпору и утешение.
Орест слушал мудрого библиофила и все удивлялся, что тому удалось сохранить ясной и чистой русскую речь в семье, где все — и жена, и дети — говорили друг с другом только по-французски. Почти всегда только по-французски объяснялись и русские путешественники, навещавшие Бутурлиных, да и сам граф, когда брался за перо, тоже предпочитал этот язык, но родной все-таки ничуть не забывал.
Супруга библиофила очаровательная Анна Артемьевна внешне изменилась мало. В свои сорок с лишним лет, родив восьмерых детей, она продолжала блистать молодостью и красотой и на прогулках со старшим 23-летним сыном графом Петром Дмитриевичем вполне могла сойти за его жену или сестру. Петр Дмитриевич к тому времени дослужился до звания подпоручика, участвовал в антинаполеоновской кампании, был в деле под Дрезденом и Парижем, за отличия в боях пожалован орденом Владимира. Взяв отпуск, он сопровождал родителей в поездке в Италию и оставался во Флоренции почти до конца 1818 года. Взрослой была и старшая дочь Бутурлиных Мария Дмитриевна, умная и рассудительная девица, увлекавшаяся рисованием. Остальные представители молодого поколения Бутурлиных были еще детьми: Елизавета, родившаяся в 1804 году, Михаил, появившийся на свет в 1807 году, и совсем маленькая Елена, которой к моменту переезда родителей в Италию было только четыре года.
Все дети Бутурлиных, за исключением Михаила Дмитриевича, остались по смерти родителей жить в Италии. Михаил же Дмитриевич вернулся в Россию и написал очень интересные мемуары, в которых в числе прочего поведал нам о жизни русской колонии во Флоренции и о русских людях и иностранцах, с которыми встречались в Италии Бутурлины. Из этих мемуаров мы знаем, что библиофил в Италии общался с русскими художниками, делал им заказы, принимал в своем флорентийском доме Ореста Кипренского.
В палаццо Гвиччардини Бутурлины даже завели себе домашнюю православную церковь, в которой вместе с членами бутурлинского семейства молились и другие русские люди, сохранявшие верность православию. Из Бутурлиных, впрочем, православными остались до конца дней только сам глава семейства Дмитрий Петрович, умерший в 1829 году, и Михаил Дмитриевич. Анна Артемьевна, все дочери и Петр Дмитриевич в скором времени перешли в католичество к великому огорчению богомольного старого библиофила. В доме, как и в Москве, был устроен домашний театр. На его сцене с успехом выступала и Елизавета Михайловна Хитрово, тесно сдружившаяся с бутурлинским семейством. Она продолжала жить во Флоренции. Дочери ее подросли, Елизавета Михайловна стала вывозить их в свет, где на них заглядывались первые женихи Тосканы. Обе дочки были и в самом деле писаные красавицы, особенно младшая, Дарья, обладавшая очаровательной внешностью и очень живым нравом. Отчим, Николай Федорович, любил девочек, и они, не помнившие отца, тоже платили ему искренней привязанностью.
Судьбе, однако, было угодно лишить дочерей Елизаветы Михайловны и этой привязанности. Николай Федорович, часто прихварывавший, 19 мая 1819 года умер, оставив жену и падчериц в чужой стране без средств существования и с невыплаченными долгами. Елизавета Михайловна оказалась прямо-таки в ужасном положении. Спасение было только в выгодном замужестве дочерей, судьбу которых она и решила устроить как можно скорее. Женщина практичная, не страдавшая ложной гордостью, она не скрывала своих намерений и даже обращалась к самому Меттерниху с просьбой помочь ей определить дочерей. Младшую, Дарью, «пристроить» удалось довольно скоро: во власти чар юной внучки Кутузова, которой не исполнилось еще 16 лет, оказался австрийский посланник при тосканском дворе генерал Шарль-Луи Фикельмон. Жених обладал всем — и знатным происхождением, и богатством, и высоким положением, — чтобы претендовать на руку внучки Кутузова. Поэтому, хотя генерал был на 27 лет старше своей невесты, его виды не были отвергнуты и дело стало близиться к свадьбе. Меттерних, видевший Елизавету Михайловну и ее дочерей во время конгресса в Лейбахе, писал в январе 1821 года жене: «Мадам Хитрово находится здесь вместе с обеими своими очаровательными дочерьми. Мы все влюблены в этих молодых особ. Одна из них должна выйти замуж за молодого дипломата, богатого и из хорошей семьи, который работает в нашем посольстве в Риме; руку другой дочери жаждет получить наш чрезвычайный посланник во Флоренции, очень умный и достойный человек. Ему 42–43 года, тогда как юной девушке не исполнилось еще 16 лет. Если он в итоге будет счастлив, я буду очень рад, потому что я очень люблю этого человека, который, можно сказать, является моей правой рукой».
После свадьбы Елизавета Михайловна вместе со старшей дочерью переселилась в Неаполь, куда вскорости был переведен послом генерал Фикельмон.
А русская колония во Флоренции тем временем продолжала расти. Привлекал русских путешественников и прекрасный тосканский климат, и либеральные порядки герцогства, отсутствие там тех стеснений, которые особенно были обременительны в Риме, где папская полиция не знала никакого удержу. Из-за этого Рим покинул уральский железоделательный магнат Николай Никитич Демидов, не выдержавший придирок папских властей. Стендаль, живший в это время в Италии, так свидетельствует о причинах отъезда русского мецената из «вечного города»: «Г-н Демидов, этот оригинальный человек и богатый благотворитель, собирающий коллекцию головок Греза и реликвий св. Николая, держал в Риме труппу французских актеров, которые играли в палаццо Русполи водевили театра „Жимназ“. К несчастью, в одном из водевилей какой-то персонаж назывался Сент-Анж (то есть Святой Ангел. — И. Б. и Ю. Г.), и в пьесе встречалось восклицание: „Клянусь Богом!“ Это чрезвычайно оскорбило его святейшество монсеньора делла Дженга, кардинала-викария (уполномоченного папой Пием VII исполнять обязанности римского епископа). Позднее, в царствование Льва XII, актеры г-на Демидова, легкомысленные, как все французы, провинились тем, что поставили другой водевиль, один из персонажей которого назывался Сен-Леон (то есть Святой Лев. — И. Б. и Ю. Г.). Наконец однажды представление, начавшееся в четверг, закончилось только в двенадцать с четвертью ночи, заняв, таким образом, четверть часа пятницы — дня, посвященного поминовению смерти Иисуса Христа. Это повлекло за собою всяческие притеснения полиции по отношению к г-ну Демидову (в этой стране она еще сохраняет всю ужасную силу инквизиции), и русский меценат, на счет которого кормилось много сотен бедняков и устраивались два приятных празднества в неделю, переехал во Флоренцию».
Перебравшись во Флоренцию, вспоминал, в свою очередь, Михаил Дмитриевич Бутурлин, Николай Никитич Демидов «зажил там владетельным князьком второй руки. Нанимаемый им палаццо Серистори у моста Delle grazie представлял пеструю смесь публичного музея с обстановкою русского вельможи прошлого века. Тут были французские секретари, итальянские комиссионеры, сибирские горнозаводские конторщики, приживалки, воспитанницы и в дополнение ко всему этому французская водевильная труппа в полном составе… Сверх сего штата постоянно проживали у него бездомные игроки и паразиты… В доме Н. Н. Демидова находилась также выставка малахитовых и других ценных вещей, а в саду — коллекция попугаев. Оба эти отделения были доступны флорентийским зевакам… Французские спектакли давались два раза в неделю, а затем следовал бал. Самого хозяина, разбитого параличом, перевозили из комнаты в комнату на креслах с колесами. Конюшни были наполнены английскими кровными лошадьми… Случалось, что Николай Никитич, рассматривая отчеты сибирских своих заводов, нужным находил вытребовать для личных объяснений во Флоренцию какого-нибудь из уральских своих прикащиков и, получив такое приказание, сибиряк запрягал тройку в повозку, и, на основании поговорки, что „язык до Киева доведет“, в ней проезжал всю Россию и Германию и являлся к барину во Флоренцию, не говоря ни на каком другом языке, как на родном».
Завзятый театрал, Орест не пропускал ни одного демидовского представления, но охотно посещал и итальянские театры, особое предпочтение, как истинный романтик, отдавал при этом драматическим спектаклям.
В Риме театральная жизнь, несмотря на препоны ватиканской цензуры, тоже била ключом. Ставились пьесы и о русской жизни, иногда очень наивные, заставлявшие Ореста от всей души хохотать там, где по ходу действия зрителю полагалось бы плакать. За год жизни в Италии он совсем освоился с чужой страной, завел себе массу знакомых и среди иностранных художников, и среди итальянских мастеров, и среди самого разнообразного простого люда.
В октябре 1818 года в Рим, наконец, прибыли новые «академисты»: пейзажист Сильвестр Щедрин, исторический живописец Василий Сазонов, скульпторы Михаил Крылов и Самуил Гальберг и архитектор Василий Глинка.
Орест был без памяти рад землякам, почитал своим долгом на правах старожила заботиться о подыскании им приличного жилья и мастерских, использовать связи среди именитых русских путешественников, чтобы организовать им заказы и тем самым избавить их от нужды. Новички были глубоко тронуты заботой старшего товарища по Академии. Сильвестр Щедрин писал из Рима родным в Петербург: «Г-н Кипренский очень хлопотал, чтоб достать нам квартиры посходнее и с ним в одном доме». Гальберг в реляции в Академию художеств счел нужным особо отметить деятельное участие в его судьбе Кипренского, который помог ему получить первый заказ и «при всех других случаях, — добавлял скульптор, — оказывал нам всевозможную помощь». Такой же выгодный заказ Орест организовал и для Сильвестра Щедрина — написать неаполитанские виды для великого князя Михаила Павловича. «В сем же обязан я г. Кипренскому… он очень много хлопотал и поступал во всех случаях благородно и пользовался благосклонностью вел(икого) князя к нему в пользу нашу», — писал родным пейзажист.
Нетрудно вообразить, какое моральное удовлетворение доставляла Оресту сама возможность быть полезным своим младшим товарищам.
Доброта его была беспредельна. Первый биограф Кипренского Владимир Толбин, основываясь на свидетельствах современников, рассказывал: «Замечательный как художник… Кипренский был еще замечательнее собственно как человек… Не было человека, более справедливого, более симпатичного к тому, что только касалось истинного дарования, как Кипренский. Всегда деятельный, всегда готовый на помощь и поощрение, нередко он обегал весь Рим, чтобы посмотреть на что-нибудь новенькое и изящное, чуть лишь до него доходили слухи. С карманами, наполненными кренделями и сухарями, которыми он имел обыкновение кормить голодных римских собак, пренебрегаемых своими хозяевами, Кипренский являлся на чердак какого-нибудь молодого неизвестного художника и, заметив в нем признаки таланта, помогал и словом и делом. Известность о его добродушии и готовность служить всякому, чем он мог, сопровождала Кипренского из Петербурга в Италию, и многие письма, оставшиеся в его бумагах, писанные к нему из Женевы, Лозанны, Парижа и Германии, в которых, с полной уверенностью на его помощь, рекомендовались ему молодые художники, — свидетельствуют о его бескорыстном расположении к добру».
С молодежью, приехавшей в Рим, у Ореста отношения поэтому были самые сердечные. Его любили за доброту, уважали за мастерство, признанное в Европе, ценили за дух товарищества, открытый, мягкий нрав. Русские «артисты» часто собирались в студии Кипренского. Один по дороге прихватывал оплетенную соломой фьяску с белым орвьето или красным кьянти, другой покупал на углу горсть жареных каштанов и кусок овечьего сыра; пили вино, заедая этой немудреной снедью, и до утра спорили о художнических делах, о России, об Италии, шутили, разыгрывали друг друга. Заводилой всегда был хозяин студии. Особенно доставалось Василию Сазонову, здоровому увальню, приехавшему в Италию на средства графа Румянцева — за его полную неспособность к иностранным языкам, страсть к женскому полу и неумеренное поклонение Бахусу. Тот лениво отбивался от шуток, заявляя, что без женщины в жарком климате никак нельзя, как нельзя и обойтись без божественного нектара, коим только и можно утолить в этой знойной стране жажду.
Сильвестр очень смешно изображал, как Василий Сазонов в овощной лавке просил показать торговцу, какие фрукты тот хотел купить, полагая, что если он, Василий, покажет сам, то его все одно не поймут. Сам Сильвестр изрядно знал немецкий и французский и быстро осваивал итальянский, столь похожий на язык галлов. Высокий, стройный красавец, он обладал жизнерадостным нравом и имел характер ровный и приятный, умел ладить с любыми людьми, будь то сановные заказчики или товарищи по Академии. Поселился Щедрин вместе с Самойлой Гальбергом, тихим, маленьким человеком, который во время вечеринок у Ореста больше молчал и только улыбался в ответ на веселые выходки своих темпераментных собратьев. Всегда готовый услужить товарищам, Самойлушко Гальберг был всеобщим любимцем в русской художнической колонии, которая через год вновь увеличилась числом, когда в Рим прибыли исторический живописец Петр Басин, архитектор Константин Тон и другие питомцы Академии. Вечеринки у Ореста посещал и Филипп Эльсон, архитектор, приехавший в Италию на средства графини Потоцкой.
Из всех русских пенсионеров Кипренский по одаренности выделял Сильвестра Щедрина. Устроенный Орестом заказ на неаполитанские виды от великого князя вскоре заставил того покинуть друзей в Риме и переселиться в Королевство Обеих Сицилии, где жилье пейзажисту предоставил в своей квартире на набережной Санта Лучия Константин Батюшков, служивший в русском посольстве при неаполитанском дворе. Батюшков тоже сразу оценил талант Сильвестра и еще в Риме сделал ему первый заказ на вид с паперти храма Сан Джованни ин Латерано. Поэт справедливо рассудил в беседе с Орестом:
— Меня несколько червонцев не разорит, а художнику будет польза, поелику о его картине станет известно и другим русским.
Но Оресту больше всего по душе пришелся Самойло Гальберг, которому он, не боясь подвоха, поверял свои душевные тайны и поручал деликатные комиссии после отъезда из Италии. Вновь прибывшие тоже признавали авторитет Ореста, прислушивались к его советам, пользовались его связями. Все знали, с каким блеском он нарисовал портреты великого князя и его многочисленной свиты, включая славного старика Лагарпа. Никто тогда не разглядел за виртуозным мастерством художника его полного безразличия к портретируемым. Ко всем портретируемым, за исключением одного человека — швейцарского демократа и покровителя итальянских карбонариев. Бывший воспитатель русского царя, стремившийся сделать из него «монарха-гражданина», сопровождая Михаила Павловича, не только по словам мадам Нессельроде, вел себя как смутьян, проповедуя идеи свободной Италии и представляя Александра I сторонником этих идей. На это обращал внимание своего правительства и английский посол Гордон, писавший в донесении от 22 апреля 1819 года: «Лагарп появляется в Италии то тут, то там и произносит речи, призывающие к самой чистой демократии».
Такой человек не мог не возбудить интереса и сочувствия у Ореста, который в Швейцарии, на родине Лагарпа, восхищался демократическими порядками, восторжествовавшими в этой стране.
К Кипренскому при работе над портретом возвратилось творческое озарение, которое родило его гениальную графическую сюиту 1810-х годов и позволило вновь создать образ, захватывающий высоким полетом духа и проникновенной человечностью, образ, в котором художник выразил свое представление о гражданине мира и бескорыстном борце за свободу народов. Если бы мы совсем ничего не знали о взглядах художника, то достаточно было сравнить сделанные им изображения других членов свиты Михаила Павловича и его самого, людей, в которых карандаш портретиста с беспощадной правдивостью выявляет прежде всего черты казарменной заурядности и посредственного самодовольства, с вдохновенным образом демократа Лагарпа, чтобы отгадать тайные думы и общественные симпатии автора этих рисунков…
Орест, увы, не умел быть неискренним, хитрить и скрытничать не только в искусстве, но и в жизни. И если в России это до поры до времени никак не сказывалось на его судьбе и даже, напротив, привлекало к нему людей, которым импонировала артистическая независимость мысли художника, то в узком кругу русской колонии в Риме, жившей по своим особым правилам и законам, те же самые черты характера Кипренского уготовили ему весьма серьезные испытания.
Как, с чего все началось, при нынешнем объеме известных фактов проследить довольно трудно. Все вроде бы для Кипренского складывалось как нельзя лучше. Придворные и сам великий князь остались чрезвычайно довольны портретами Ореста. Другие его работы, сделанные кистью, тоже были приняты заказчиками и зрителями с восторгом. Его талант заметили итальянские ценители и нарекли его «русским Ван-Дейком», то есть наградили его высшей похвалой, какую только тогда можно было представить. Русские знатоки, приезжавшие в Италию, писали о нем как о великом русском художнике.
В 1818 году оканчивалось определенное Кипренскому пребывание в Италии. Его просьба о продлении срока была тут же удовлетворена. Н. М. Лонгинов в своем письме от 18 января 1818 года сообщал художнику: «Хотя я и замедлил отвечать на письмо ваше от 21 ноября, но сие нимало мне не мешало выполнить желание ваше, о чем и предписано уже в начале сего месяца банкирам Ливио. Итак, остаетесь вы на третий год в Риме — дай Бог успехов больше и больше! Уверить вас могу, что ее величество с удовольствием согласилась на просьбу вашу, тем более что занятия и прилежание ваше не могут быть нам неизвестны. Ведь мы охотно расспрашиваем о человеке, о коем интересуемся, а отзывы о вас крайне удовлетворительны для всех доброжелателей ваших».
Через год Кипренский вновь обратился к своей высокой покровительнице с просьбой о продлении еще на год итальянского «пенсионерства», на что опять поступило милостивое согласие, переданное, как обычно, через Н. М. Лонгинова, который писал: «Я имел счастие вручить письмо ваше государыне императрице и с удовольствием извещаю вас о вновь последовавшей к вам высочайшей милости ее императорского величества, дозволением остаться еще на один год в Риме, на иждивении монархини, но с тем условием, что отсрочка сия уже далее продолжаться не будет. Итак, будущий 1819 год вы пробудете еще в Риме; 1820-й употребите на путешествие во Франции и в Германии; а в начале 1821 года, надеюсь, что вы доставите в отечестве удовольствие любителям художеств видеть усовершенствование вашего искусства и отдать вам такую же справедливость дома, какую вы приобрели в Италии».
А еще через год, 10 февраля 1820 года, Н. М. Лонгинов уведомлял Кипренского, что императрица рекомендует ему побывать в Неаполе, который художник еще не успел посетить, затем кратчайшим путем следовать, как он и намеревался, для усовершенствования своего искусства в Париж, исключив при этом из маршрута Венецию, ради «сохранения времени столь драгоценного». Вслед за этим Н. М. Лонгинов направил Кипренскому новое письмо, в котором извещал, что он послал «кредитивы» в города, через которые пролегал маршрут художника, и вновь настойчиво повторял: «Дружески прошу и советую вам не опоздать выездом из Рима, чтобы совершить в лето и осень путь до Парижа».
Не вняв этим наставлениям, Кипренский остался в Риме еще на целых два года, в течение которых у него резко обострились отношения с А. Я. Италинским. Впрочем, конфликт этот, как можно судить по письмам Н. М. Лонгинова, вполне назрел уже к концу 1819 года, раз секретарь императрицы так настоятельно требовал от Кипренского ускорить его отъезд из Италии. Посланник открыто проявил свою неприязнь к Кипренскому, когда добивался прибавки к пенсии русским художникам в Италии. В 1820 году вышел указ об увеличении довольствия, но происками Италинского Кипренский прибавкою демонстративно был обойден. «…Министр, — рассказывал Сильвестр Щедрин в письме Гальбергу, — писавши к президенту (Академии художеств А. Н. Оленину. — И. Б. и Ю. Г.) разные похвалы о нас, упомянул так, что о Кипренском он этих похвал не может сказать». Обвиняя художника в зазнайстве и бездеятельности, Италинский требовал отозвать его из Италии. «…Я считаю своей обязанностью просить Вас насколько возможно сократить его пребывание не только по вышеназванной причине», — многозначительно намекал русский посланник в письме к А. Н. Оленину на серьезность прегрешений Кипренского.
Что же произошло, чем так прогневил Кипренский посольское начальство, которое до этого столь милостиво относилось к нему? Прогневил тем, что не признал за Италинским права распоряжаться его судьбой и повелевать им как последним чиновником. «Я буду… требовать объяснения, — бушевал Н. М. Лонгинов в письме от 8 июня 1820 года президенту Академии художеств А. Н. Оленину по поводу упреков посла художнику, — почему он (то есть Кипренский. — И. Б. и Ю. Г.) не поставил первейшею обязанностию заслужить милостивое и доброе мнение человека (то есть Италинского. — И. Б. и Ю. Г.), который не только по месту, но особенно по доброте и известным сведениям в художестве имел право, можно сказать, на слепое повиновение господина Кипренского».
А повиновения, судя по всему, Андрей Яковлевич требовал в связи с тем, что решил вручить Оресту должность главы русской художественной колонии в Риме, главы, а вместе с тем и соглядатая за пенсионерами Академии художеств. Италинский, у которого все было разложено по полочкам, Италинский, у которого отличным образом было налажено получение информации отовсюду и обо всем, никак не мог допустить, чтобы такая информация не поступала из колонии русских «артистов», предоставленных самим себе и подверженных в силу контактов с итальянской средой весьма нежелательным влияниям. Кипренский со всех точек зрения подходил для роли главы русских художников. И по возрасту, и по авторитету, и по известности ему там не было равных. Но Орест с негодованием отверг «пропозиции» посла да еще, кажется, при этом оповестил всех своих коллег о том, чего домогался от него глава дипломатической миссии. Поэтому хотя последний, потерпев фиаско с Кипренским, в конце концов уговорил принять на себя функции соглядатая престарелого Матвеева, это уже не могло дать желаемых результатов, ибо пенсионеры теперь прекрасно знали об истинной роли доверенного Италинского и держали с ним ухо востро. Самуил Гальберг прямо писал своим родным в Петербург: «Матвеев, правда, исправляет ему (Италинскому. — И. Б. и Ю. Г.) в рассуждении нас должность — попросту сказать — шпиона; но и он что может об нас сказать? Мы только изредка с ним встречаемся в Кафе Греко, и то по вечерам, когда он уж на все сквозь стакан смотрит».
Однако пенсионеры, зная о возложенной на Матвеева миссии, старались поддерживать с ним видимость хороших отношений, на что Кипренский при прямодушии его натуры совершенно не был способен и относился к пейзажисту с нескрываемым презрением. Это не могло не ухудшить еще более нерасположения к Оресту Италинского.
А хулить Кипренского, обвинять его в «малых результатах» поездки в чужие края посланник со своей точки зрения имел все основания. Объявленная Петербургу историческая композиция «Аполлон, поражающий Пифона», которой Кипренский как пенсионер императрицы мог бы отблагодарить за оказанное ему внимание, так все еще и не была начата, а он к тому же, забросив сюжет, прославляющий Александра I, принялся за новую историческую картину, лишенную какого бы то ни было патриотического звучания. То была «Анакреонова гробница», воспевающая — в духе анакреонтической поэзии — радости жизни. Это было расценено и в Риме, и в Петербурге как проявление опасного вольнодумства. Алексей Николаевич Оленин прямо-таки с испугом отреагировал на сообщение Батюшкова об охлаждении Ореста к сюжету «Аполлона». «Молчать надобно», — внушал президент Академии художеств поэту, сообщившему такую крамольную весть.
Но гневное письмо секретаря императрицы Н. М. Лонгинова, клеймившее Кипренского за то, что тот отказался пойти на «слепое повиновение» Италинскому, было написано 8 июня 1820 года, то есть до событий неаполитанской революции, разразившейся летом 1820 года. На этом основании в наше время исследователи пришли к выводу, что прежняя точка зрения, согласно которой Кипренский вызвал гонения потому, что оказался причастен к революционным событиям в Италии, неверна.
Если под «причастностью» иметь в виду членство в одном из тайных обществ итальянских карбонариев или, скажем, участие в выступлениях неаполитанских конституционалистов, то, конечно, Кипренского заподозрить в этом не мог даже сам Италинский. Вместе с тем нет никаких оснований и для выводов противоположного рода только потому, что в итальянском альбоме Кипренского есть серия уже упоминавшихся рисунков на тему французской революции, воцарения Наполеона, развязанных им кровавых войн и освободительной миссии России, в которых ясно читается отрицательное отношение художника к революции и ее последствиям — порабощению Францией независимых стран и народов. Ведь к моменту написания письма А. Н. Оленину в июне 1817 года Кипренский по-иному стал смотреть на недавние исторические события и их главных действующих лиц.
За год заграничной жизни он увидел, что Наполеон не был только порождением зла. Политическое видение Кипренского стало острее. Он знал теперь, что Франция принесла Италии не только новые узы, но и, например, наполеоновский кодекс, защищавший права граждан и отмененный абсолютистскими режимами, которые были восстановлены на Апеннинском полуострове Священным союзом. Не случайно, описывая задним числом свои впечатления от путешествия, Кипренский подчеркивал, что его поразила грандиозность работ по прокладке пути через Симплонский перевал: «Лежачих не бьют, нельзя не отдать справедливости, что колоссальная работа Симплонской дороги честь делает господину Наполеону». Те же мысли приходят к художнику и в Милане. Рассказывая о посещении Миланского собора, он считает нужным присовокупить: «Наполеон после коронации своей в Италианские короли повелел храм сей докончить следующим образом: он приказал продать все имения, принадлежащие сей церкви, и оную сумму на работу употребить». То же самое умонастроение улавливается и в его описании «Тайной вечери» Леонардо: «Говорят, когда здесь был Наполеон во время коронации своей, два раза ходил смотреть остаток сей, и по целому часу сидел против сей картины…»
Впрочем, это было только начало процесса переоценки ценностей. Революцию Кипренский по-прежнему воспринимал как всеобщее помрачение умов. «Италия дорогою ценою покупала республику, — поверял он свои мысли президенту Академии. — Она до сих пор дурачеств не может позабыть… но люди несовершенны, часто не ведают, что творят».
Не поколебалась тогда еще и вера художника в царя: «Времена Фемистокла и Перикла, вы будете всегда образцами всем народам; я радуюсь, что родился русским и живу в счастливый век Александра Первого и Елисаветы Несравненной…»
Не будем, однако, упрекать художника в политической незрелости и наивности. Атмосфера ожиданий либеральных инициатив от Александра I в ту пору была такова, что художник, собираясь изобразить царя в образе «Аполлона, поражающего Пифона», чистосердечно верил в то, что его имя можно поставить рядом с именами вождей древнегреческой демократии…
Но преклонение перед Александром не только не противоречило, а напротив, подразумевало сочувственное отношение к чаяниям итальянских патриотов о свободной, независимой, демократической Италии. Ибо первым, кто сочувствовал патриотическим устремлениям итальянцев, был сам русский царь. Так уверял всех, кто с ним соприкасался, Лагарп. Так считали и сами итальянские карбонарии, которые главные упования на претворение в жизнь мечты о независимой Италии возлагали на Александра I. «Все взгляды обращены к России, — писал тогда один из деятелей итальянского освободительного движения. — Итальянцы сознают, что эта великая держава — единственная, чьи намерения по отношению к ним могут быть бескорыстны, и что лишь только с императором Александром они могут связывать надежды на свое благоденствие».
Насколько сильны были эти настроения среди участников революции 1820–1821 годов в Неаполе, например, можно судить по воззванию, с которым обратились в начале революции ее руководители к нации, вполне всерьез уверяя, что на их стороне — симпатии и поддержка русского царя. В воззвании говорилось: «Среди иностранных держав есть Александр, самый великий монарх мира. Он публично заявляет о том, что поддерживает восстание тех народов, которые добиваются равенства перед законами. Он внушает венценосцам Европы, что нельзя командовать умами людей».
А раз так, то Орест никак не мог считать крамолой свой интерес к итальянцам, которые болели душой за судьбу отчизны, свои контакты с ними, свое жгучее любопытство к событиям в Неаполе, свое сочувственное отношение к итальянской революции. Ведь это была не слепая и разрушительная стихия, если идеи итальянских революционеров разделял и поддерживал сам царь. На что уж Сильвестр Щедрин был осторожен и дипломатичен в поведении и поступках, но и он, единственный из пенсионеров оказавшийся в Неаполе, когда там вспыхнула революция, в письмах и не думал осуждать смутьянов, говорил о них весьма доброжелательно, не скрывал приятельских отношений с ними и интереса к деятельности неаполитанского парламента. Больше того, узнав, что немецкие художники, возвращаясь из Неаполя в Рим, рассказывают всякие небылицы о революции, Щедрин счел нужным написать Самуилу Гальбергу:
«…Приезжающим к Вам немцам не слишком верьте, они, как сказывают, привирают без милости. Неаполь теперь так тих, что не уступит ни одному немецкому городу».
О революции Сильвестр рассказывал в одном из писем так: «Народ в Неаполе собрался на площади перед дворцом и требовал себе конституции; наследный принц со своей фамилией вышел на балкон в знак одобрения, и было объявлено, что через восемь дней все будут удовлетворены, и как требования сии были сделаны народом хорошего состояния, почему и не было никаких беспорядков, и все было спокойно».
Щедрин в это время жил в приморском городке Кастелламаре, откуда ездил на этюды в горное селение Граньяно. «Спустя несколько дней (после революции. — И. Б. и Ю. Г.), — пишет пейзажист, — я опять начал ездить в Граньяно, на меня все таращили глаза, видя совершенно без кокарды, но я очень спокойно везде садился рисовать и через несколько дней приобрел себе пропасть приятелей, то есть из мужиков, отставных солдат и протчих людей, и был их услугою чрезвычайно доволен; сии люди меня столь любили, что, зная обыкновенное время, в которое я проезжал, стояли на горах, чтоб меня не пропустить, и лишь я показывался, то тотчас меня окружали, рассказывали мне разные новости. Их страшно беспокоют австрийцы, почему они спят с открытыми окнами и с заряженными ружьями, чтоб при приближении неприятеля тотчас быть готовыми к защите, несмотря на то, что в неделю ни под каким видом нельзя придти австрийцам в Неаполь».
Осенью пейзажист переехал в Неаполь, где с интересом наблюдал жизнь обретшей конституционное правление столицы, подчеркивая, что беспорядками там и не пахнет. «…Что ж пишут газетчики, то не всему верьте, — здесь до сей поры совершеннейшая тишина, и вечером нельзя пройти семи-десяти шагов, не встретя патруль. 31-го генваря был торжественный выезд принца-регента в парламент, заседание которого закрыто до будущего месяца. Вам, конечно, хочется узнать, каким порядком читаются дела парламента. Парламент устроен в церкви св. Себастияна, одни говорят, на время, а другие, что он тут останется навсегда; круглая довольно большая зала, уподобить оную можно с нашею круглою залою в Академии, в коей одно полукружие занимает 105 депутатов, места сделаны амфитеатром, другое полукружие возвышенное место, на котором сидит президент и два секретаря для иностранных и протчих, оставшееся же место между полукружьями на возвышении тоже амфитеатром занимает народ. Заседание начинается следующим порядком: лишь президент займет свое место, объявляется, что заседание открыто, тогда депутаты все садятся, а секретарь читает им дела, после чего каждый депутат, желающий говорить, вставши с своего седалища, объявляет свои мнения на читанное дело или на предложенный вопрос президентом, другой вставши предлагает свой, и окончивается все общим согласием».
Словом, в революционном Неаполе Щедрин чувствовал себя преспокойнейшим образом. Угнетала его лишь мысль, что в этот «тишайший» Неаполь нагрянут австрийцы, ибо в Троппау к тому времени уже заседал Священный конгресс. «Я же теперь сижу у моря да жду погоды во всей форме, во всем смысле сего слова, — жаловался пейзажист. — Неаполь находится в глубочайшей тишине, все ожидают окончания конгресса. Дай Бог, чтобы обошлось без шуму и военной тревоги. Мне очень жаль будет покинуть эту землю. Терпение… Иной, проживши 60 лет, не видал в течение сего времени столько политических перемен, которые теперь случаются в один год, а наша братья не знала другой тревоги, как палитра с кистями, тоже должна терпеть».
К марту 1821 года Сильвестру, как он писал родным в Петербург уже из Рима, «пришлось покинуть прелестный Неаполь, хотя не было никакой опасности». Благоволивший к художнику русский посол Густав Оттонович Штакельберг к тому времени уехал из Неаполя, а на его место вместе с австрийскими войсками, оккупировавшими Королевство Обеих Сицилий в соответствии с решениями Священного конгресса, явился новый посол — Петр Яковлевич Убри, крутой и бездушный чиновник, который тут же распорядился об отъезде пейзажиста в Рим — подальше от центра «смятения умов».
Сильвестр был главным источником сведений о неаполитанской революции для Ореста и не мог не укрепить настроений последнего в пользу «мятежников», которые написали имя русского императора на своих знаменах и никак не представлялись слепой и разрушительной силой, коей пугал государей Европы австрийский канцлер Меттерних.
— Очень и очень любопытно! — повторял Орест, слушая рассказы Сильвестра о неаполитанских событиях, когда пейзажист снова стал посещать вечеринки у Кипренского. — Очень и очень поучительно и интересно!
Сильвестру после Неаполя Рим решительно не нравился, он совсем отвык от порядков церковного государства. Скука по вечерам, особенно в пост, чрезвычайная: ни театров, в которых в Неаполе он сидел всякий вечер, ни других развлечений, точно ты попал на огромный монастырский двор.
То ли дело было в столице Королевства Обеих Сицилий, на прелестной набережной Санта Лучия, где он снимал свою студию и где жизнь под его окнами не утихала ни на час ни днем, ни ночью. Если не пошел в театр, подходи к окну: тут перед тобой бесплатное представление:
— Вы сами себе представьте весь ералаш! — рассказывал пейзажист. — Весь берег уставлен стойками, где лазароны продают рыбу, устриц и протчих морских гадин. Тут же колодезь с серной водой, коей любят они себя потчевать, трактиры, где на открытом воздухе кормят одними рыбными блюдами. Множество народу наполняют сию часть города, особливо вечером. В десять часов садятся ужинать и ужинают до трех часов утра. А шум становится с каждым часом ночи все более, все стойки освещены, и каждый лазарон во все горло кричит: муж жене, жена мужу, а с ними заодно и дети. Ложась спать, я запирал жалюзи, потом окошко, потом внутренние ставни — так нет, шум все одно не дает спать. А они, окаянные, пляски затеяли под скрипку. Скрипка ничего — да проклятый дирижер так громогласно руководит танцами, что нет никаких сил спать. Встанешь, распахнешь окно, а они, видишь, не одни танцы устроили, а и маскарад заодно. Самый ловкий танцор поставит себе на шляпу зажженные свечи и фигуры разные выделывает, а мальчишки прыгают и тушат свечки. А там и новая затея, до коих народ неаполитанский весьма горазд…
Задел Сильвестр за живое Ореста своими рассказами о Неаполе. Ведь недаром говорят: «Посмотри Неаполь и умри!» — ибо кто не видел этой земли, почитай, не знает Италии. Николай Михайлович Лонгинов рекомендовал посетить Неаполь, но то было до революции. А с другой стороны, и отмены упомянутой рекомендации из Петербурга не последовало. Разве это не давало ему право на вояж, хоть в Неаполе теперь хозяйничали австрийцы, подавившие карбонарскую революцию, а присутствие там Сильвестра Щедрина господин Убри почел весьма нежелательным, что и было причиной возвращения того в Рим?..
Совершил ли Орест новый опрометчивый шаг, ездил ли он в неспокойный Неаполь 1821 года или нет? Кажется, все-таки ездил. И не только ездил, но и возбудил этим крайнее неудовольствие Петра Яковлевича Убри, вслед за Италинским пославшего в Петербург донос на строптивого художника. «На меня, поверите ли? — признавался позднее Кипренский Самуилу Гальбергу. — Не токмо Итальянской, — но и Убри Убривич из Неаполя чуху писал».
Так на живописца окончательно пала тень политической неблагонадежности со всеми вытекающими отсюда последствиями.
В это тяжелое время, когда Оресту с его общительным характером пришлось, по сути дела, вести жизнь затворника, он много работал над своей новой исторической картиной «Анакреонова гробница». «Лишь только встанет, тотчас за работу и вплоть до самых сумерек», — рассказывал Самуил Гальберг. Моделью для молоденькой вакханки ему служила белокурая девочка Мариучча. Он встретил ее случайно, подыскивая натурщиков для картины, и с тех пор всей душой привязался к ребенку, который скрашивал его дни в ту нелегкую пору жизни. Владимир Толбин, биограф художника, рассказывал: «Замечательная красота малютки, слабое здоровье ее и крайняя бедность, в которой она находилась, возбудили в добром сердце Кипренского особенное к ней участие. Чувство это еще более усилилось, когда были собраны о ней некоторые сведения. Вскоре оказалось, что мать Мариуччи была женщина поведения подозрительного. Желая спасти бедную девочку от бедности и еще более от дурных примеров, Кипренский переместил ее совершенно в свою квартиру, к полной радости корыстолюбивой женщины, которой Орест Адамович обязался выплачивать каждый месяц известную сумму денег, что и исполнял с точностью».
А тут как раз на Кипренского свалилась новая беда. Была убита одна римская натурщица, а вину за преступление возложили на него. Смаковались жуткие подробности убийства: женщину Кипренский будто бы сжег живьем, облив скипидаром…
Хотя облик убийцы никак не вязался с характером Кипренского, история эта испортила Оресту немало крови при жизни и долго, чуть ли не до наших дней, преследовала его после смерти. Раз Кипренского в папском Риме с его полицейским режимом никто и не думал привлекать к ответственности, значит, он не имел никакого касательства к преступлению. А между тем Николай Врангель, например, в своих печально знаменитых очерках о художнике еще в 1912 году эпизод с натурщицей изображал так, будто Кипренский и в самом деле был причастен к ее зверскому умерщвлению, после чего, дескать, отправился в Париж «с целью рассеяться и уйти от кошмара воспоминаний». Образ Кипренского у Врангеля стилизуется под некоего демонического сумасброда-романтика, способного в духе Караваджо на любое безрассудство вплоть до убийства человека…
Вообще в этой истории в том виде, в каком она дошла до нас, полно противоречий и всяких других несуразностей. Федор Иордан, который по приезде в Рим в 1835 году общался с Кипренским, относит трагедию с натурщицей к первому пребыванию Ореста в Италии и считает, что убитая женщина была матерью Мариуччи. По Толбину же, трагедия разыгралась во второй приезд Кипренского в Италию, незадолго до его кончины, а мать Мариуччи и натурщица, принявшая столь мученическую смерть, — разные женщины, поскольку мать девочки согласно биографу Ореста преследовала русского художника своими вымогательствами вплоть до его отъезда во Францию и, стало быть, в то время, вопреки сведениям Иордана, была жива и здорова. О том, что по отъезде Кипренского из Италии его натурщица (а также, очевидно, сожительница) пребывала в добром здравии, свидетельствует упоминание Орестом в письме из Петербурга от 25 ноября 1825 года Самуилу Гальбергу о некой Нене, которую художник называет «моей» и которая была в курсе его хлопот о судьбе Мариуччи. Правда, Кипренский не был уверен, что Нена сохранила к нему доброе расположение, и просил Гальберга не говорить ей, что это ему нужен адрес одного римского священника, который мог знать о местонахождении Мариуччи; «Есть поп, прекрасный человек, который был и в Петербурге и очень любит русских. Это надобно спросить у бывшей моей Нены, которая его знает именно и где он живет. Спрашивая о сем человеке Нену, никоим образом не надобно меня поминать, а то она об нем не скажет. Сей поп также участие брал в участи Марьючи».
Из этого письма, таким образом, тоже получается, что убиенная женщина не была ни матерью Мариуччи, ни натурщицей Кипренского…
Нужно учесть, что Иордан, главный источник сведений о происшествии, писал свои мемуары глубоким старцем, сорок лет спустя после встреч с Кипренским, и память могла сыграть с ним любую злую шутку. Перечитаем его строки о событии, которое бросило столь мрачную тень на Ореста в некогда счастливые итальянские годы его жизни: «О нем (Кипренском) рассказывали ужасную историю: будто он имел на содержании одну женщину, которая его заразила, и будто болезнь и неблагодарность этой женщины привели его в исступление, так что однажды он приготовил ветошку, пропитанную скипидаром… (наложил на нее) и зажег. Она в сильных мучениях умерла.
Зная мягкий характер Кипренского, я не мог верить, чтобы он мог сделать столь бесчеловечный поступок, разве под влиянием вина, будучи не в своем виде. Однажды я воспользовался случаем и, оставшись один с Кипренским, решился спросить его об этой ужасной истории. Он прехладнокровно ответил мне, что это варварство было делом его прислуги. Она его (т. е. слугу) заразила и что он, этот слуга, умер от сифилиса в больнице, почему и не могли судом его (Кипренского) оправдать, а прислугу наказать».
Как ни странно, но добрейший Иордан до конца не исключает вину Кипренского в убийстве неизвестной нам римлянки, и это его слова почти буквально повторяет Врангель, уверяющий нас, что в Париж Орест уехал «с целью рассеяться от угрызений совести».
Однако не будем обвинять в некой злокозненности престарелого гравера при сочинении им своих мемуаров. В Италию он приехал после четырехлетнего пребывания в пуританской Англии, и жизнь иностранной художественной колонии в Риме поразила его своей относительной вольностью. На рассказы о происшествии с Кипренским он смотрел сквозь призму другой трагической истории, которая случилась в Риме в конце 20-х годов и в центре которой был тоже русский художник — начинавший входить в славу молодой Карл Брюллов.
Дело было так. По приезде в Италию Брюллов завел себе, подобно другим художникам, «временную подругу жизни». Избранницей Брюллова была миловидная француженка Аделаида Демюлен. Вначале она зарабатывала себе на хлеб экономкой в доме одной русской княгини в Риме, а потом прибилась к колонии русских художников, которых, как пишет Иордан, она «страстно любила», отдавая особое предпочтение красавцу и великану Сильвестру Щедрину. Когда пейзажист в 1825 году вновь уехал в Неаполь, неутешная Аделаида перешла на роль «временной подруги» к Карлу Брюллову, который хоть и совсем не отличался богатырским сложением, тоже нравился женщинам и сумел внушить любвеобильной Аделаиде такую же страстную привязанность, что и его атлетический предшественник. Не веря в глубину чувств непостоянной Аделаиды, Брюллов, которого француженка со временем стала одолевать бурными приступами ревности, слегка поддразнивал ее. По вечерам, зная, что пожираемая ревностью возлюбленная следит за его окнами, он брал в руки манекен и изображал, что ласкает другую женщину. При встречах доведенная до умопомрачения Аделаида обрушивала на Брюллова град упреков, а когда не удавалось его видеть, забрасывала письмами с угрозами покончить с собой. Карл не принимал всерьез угрозы взбалмошной француженки. Получив однажды очередное такое письмо, он, не распечатывая, бросил его в сторону. Между тем на следующий день по Риму разнеслась весть, что рано утром какая-то иностранка наняла на площади Испании карету, подъехала к Тибру, отпустила извозчика и, оставшись в предрассветном Риме одна, бросилась в воду. Когда утопленницу вытащили, в ней опознали девицу Демюлен. Только тогда Карл вспомнил о письме, в котором Аделаида в самых отчаянных тонах умоляла неверного возлюбленного вернуться к ней, если он не хочет стать причиной ее смерти. Ответа Аделаида требовала в тот же вечер…
Гибель натурщицы повергла Брюллова в страшное смятение, он долго ходил как потерянный, не в силах взяться за кисть. Из подавленного состояния согласно Иордану живописца вывела графиня Юлия Павловна Самойлова, появившаяся в это время в Риме и тоже не устоявшая перед обаянием личности и таланта восходящей звезды русского искусства. Влюбившаяся в живописца графиня повезла его в Неаполь, где, по Иордану, при виде развалин Помпеи Брюллов, все еще не оправившийся от пережитой в Риме трагедии, и замыслил свою картину — о трагедии целого народа, жителей погибшего от Везувия античного города…
Так представлялось дело пожилому Иордану, когда он в середине 70-х годов писал свои мемуары. Эпизод с самоубийством Аделаиды Демюлен он запомнил и изложил правильно, как о том можно судить по другим дошедшим до нас свидетельствам. А вот факты и даты, связанные с зарождением у Брюллова замысла «Последнего дня Помпеи», гравер, несмотря на всю логичность его реконструкции событий, перепутал безбожным образом, о чем неопровержимо говорят документы, включая письма самого «великого Карла», Так вот, согласно этим источникам идея большой картины о гибели Помпеи у Брюллова действительно мелькнула во время посещения руин этого города в сопровождении одной русской графини. Только звали графиню не Самойлова, а Мария Григорьевна Разумовская, и произошло это не в 1829 году, когда в Риме появилась Юлия Павловна, а раньше — еще в 1827 году. И именно к этому году надо отнести начало работы Брюллова над прославленным полотном, тогда же заказанным ему графиней Разумовской и лишь позднее, при невыясненных обстоятельствах, передавшей заказ в руки Анатолия Николаевича Демидова, сибирского миллионера, жившего во Флоренции, — тоже неистового поклонника Брюллова…
Так слабеющая память иногда подводит мемуаристов, а вместе с ними и тех, кто слишком доверчиво воспринимает их свидетельства, не сопоставляя их с другими данными и источниками.
Брюлловская история своим трагическим исходом наложилась и на восприятие Иорданом рассказов о пережитой Кипренским драме и заставила его даже допустить мысль, что тот, пусть «не в своем виде», но все же способен был на смертоубийство…
Однако что касается времени, в какое случилось злополучное происшествие, правда, наверное, на стороне Иордана, а не Толбина. В 30-х годах Гальберга в Риме не было, а он пишет о злоключениях Кипренского как очевидец и свидетель, каким он мог быть только в начале 20-х годов, когда жил по соседству с художником в испанском квартале «вечного города». «Общее мнение было против него до такой степени, — читаем мы у Гальберга, — что долго не смел он один по улице пройти. Очень вероятно, что это имело влияние на последующие его работы…»
…А в Риме, между тем, появился наконец русский салон, который открыла приехавшая в марте 1820 года в «вечный город» княгиня Зинаида Александровна Волконская. Зинаида Александровна, дочь князя А. М. Белосельского-Белозерского, который, как мы помним, был русским посланником в Турине, почитала Италию своей второй родиной, в детстве еще в совершенстве овладела «языком Тасса», была на дружеской ноге с миром литературы и искусства всей Европы, ибо много путешествовала по свету. Первейшая красавица, она обладала великолепным голосом, коим пленила самого Россини, весьма недурно рисовала, писала музыку, сочиняла стихи и прозу. Княгиня к тому же отличалась редкими душевными качествами, была проста и мила в обращении, имела верный вкус в художествах. Дом Зинаиды Александровны, снявшей апартаменты в роскошном палаццо Поли у фонтана Треви, очень скоро превратился в подлинный русский литературно-художественный клуб, центр общения ее соотечественников, обитавших на берегах Тибра.
Палаццо Поли находился в двух шагах от площади Испании, то есть рядом с улицами, на которых жили русские художники. Для них приезд З. А. Волконской, гостеприимно распахнувшей двери своего дома всем, кому дорого просвещение и искусство, независимо от происхождения и титулов, был подлинным благословением судьбы.
Неприкаянным пенсионерам было очень тепло у княгини, где обаяние хозяйки легко растапливало отчуждение и лед сословных предрассудков, а ее высокая культура помогала объединить весьма разные духовные интересы и потребности. Самуил Гальберг писал осенью 1820 года Сильвестру Щедрину в Неаполь, что по приезде в Рим Зинаида Александровна сразу же перезнакомилась со всеми русскими художниками, посещала их мастерские, стала привлекать их к участию в своих домашних спектаклях.
В палаццо Поли декламировали стихи, музицировали, пели, ставили русские пьесы и даже оперы. Для своего домашнего театра Зинаида Александровна написала музыкальную драму «Жанна д’Арк» по Шиллеру, в которой она исполняла заглавную роль, а в остальных ролях выступали ее гости. Это — «женщина прелюбезная, преумная, предобрая, женщина — автор, музыкант, актер, женщина с глазами очаровательными», — писал о З. А. Волконской Гальберг.
Вернувшись в Рим, Сильвестр Щедрин также вошел в круг посетителей салона Зинаиды Александровны. В письме родителям от 15 декабря 1821 года он рассказывал: «…Мы вчера провели вечер у княгини в день ее именин, собрание было домашнее и состояло из нас и итальянцев, любителей музыки и играющих у нее в театре; сидя у княгини в комнате, все забывались разными играми и неприметно один после другого уходили, и под конец она осталась почти одна; между прочим, одну залу убрали на манер древних римлян, повсюду установлена была серебряной посудой, вазами, лампадами, коврами, все это было переплетено гирляндами и делало вид великолепной; все мущины, одетые в римские платья, ввели княгиню в сию комнату, которую довольно удивила столь скорая перемена; дамы ужинали по-римски, лежа на кушетках вокруг стола, а кавалеры в римских платьях, с венками на головах, им служили… После ужина много шутили, пели в честь ей стихи, словом сказать, было совершенно весело, подобным образом мы забавлялись у нее на даче во Фраскати; сия почтенная дама часто посещает наши мастерские и в каждом принимает живейшее участие… У княгини Волхонской часто бывает опера, где она сама играет и поет превосходно, а наша братия также занимает иногда роли безгласные…»
Сильвестру Щедрину принадлежит и описание римского карнавала, участвовать в котором их вовлекла опять-таки З. А. Волконская: «Княгиня Зенеида Александровна Волхонская со всеми домашними были наряжены кошками, чем наполнили всю свою коляску, равно козлы и запятки были уставлены кошками, позади ее, также в коляске, наша братия, именно я, Гальберг, Сазонов и Тон были наряжены собаками; таковые новые маски обратили на себя всех внимание, крик и хохот раздавался повсюду в награду…»
Орест с большим удовольствием бывал в доме княгини, где в непринужденной атмосфере, которую так умела создавать хозяйка, невольно забывались невзгоды, неотступно преследовавшие его все последнее время.
Невзгоды невзгодами, а расставаться с Римом ему совсем не хотелось. «Все его задерживало в Риме, — писал Владимир Толбин, — и веселое общество, и товарищи-соотечественники, и дружба с самыми замечательными художниками, в числе которых были Карл Вернет, Торвальдсен, Канова, Камуччини и другие, и, наконец, странная, безотчетная любовь к маленькой девочке, черты которой так часто любил воспроизводить Кипренский на своих картинах…»
Хлопот с девочкой Кипренскому пришлось хлебнуть полной чашей. Маменька Мариуччи, заметив привязанность художника к своей дочери, решила шантажировать его, чтобы увеличить плату. Орест сначала уступил, что только разожгло аппетиты мегеры. Требования денег все росли, и Кипренскому, как сообщает Владимир Толбин, наконец надоело «удовлетворять частым и непомерным требованиям разгульной маменьки; он отказался дать что-либо, кроме условленной ежемесячной платы, и мать, собрав целую шайку сволочи, в которой один солдат играл роль ее мужа, насильно увела дочь к себе. Картина Кипренского еще не совсем была кончена…, через день или два он пошел ее навестить; она была в казарме, и кругом ее пьяные, буйные солдаты. Увидев своего благодетеля, девочка зарыдала, бросилась целовать его руки и умолять, чтобы он взял ее с собою. Кипренский сам заплакал, успокоил ее, как мог, и вышел с твердою решимостью спасти несчастную… С родительницей была улажена новая сделка, уже не словесно, а на бумаге, по форме, составленная адвокатом, прописанная и подписанная несколькими свидетелями. Этим актом мать и родня отказывались от всех притязаний и передавали все свои права на Мариуччу Кипренскому, а он, с своей стороны, обязывался дать ей воспитание, сообразно с своими средствами».
Для обучения девочки грамоте Орест нанял старого аббата, с восторгом следил за успехами своей воспитанницы, удивляясь ее природным способностям. Он был счастлив, как может быть счастлив человек, впервые в жизни познавший отцовские чувства и тихую прелесть семейной жизни. С детства лишенный родительской ласки, родственных привязанностей, теплоты родного очага, Орест испытывал величайшее блаженство от того, что рядом с ним было беззащитное существо, вручившее ему свою судьбу, обязанное ему избавлением от нищеты, голода и побоев и платившее за это беспредельной преданностью и любовью. Вот что говорил Кипренский в письме одному приятелю о том, какое место заняла в его жизни маленькая девочка Мариучча: «Как можно оставаться равнодушным, видя около себя существо, которое живет и дышит только что для меня, которому мнения мои составляют как бы правило, а желание как бы закон, которому привычки мои обращаются в наклонность, которое удовлетворяет сердце мое своею нежностью, гордость мою своею покорностью, уверенность в истинной, нерасчетливой любви ревностью, странною в девочке таких лет и показывающею в ней натуру, способную дойти со временем, в отношении меня, до самого высокого самопожертвования…»
И в другом письме, написанном вскоре после отъезда из Италии, Орест, обращаясь, видимо, к тому же адресату, признавался: «Ты не поверишь, как может иногда блаженствовать отец чужого дитяти — это я испытываю на себе! Полагаю, ты понимаешь, что я хочу этим выразить. Ты не можешь, ты не должен, я уверен, позабыть моей малютки, о которой я писал тебе. В настоящее время она одна соединяет в себе для моего сердца, для моего воображения все пространство времени и мира. Мне кажется, что мысль моя блещет только сквозь ее мысль, что все на свете я способен любить только после нее и только то, что она любит. Ни одного чувства, которое бы к ней не относилось, не пробегает в душе моей. Ни одного разговора не проходит, в который бы, хоть тайно, да не вмешивалось ее имя».
Необходимость отъезда из Италии, расставания с ребенком, заботу о котором Орест считал своим первым долгом и перстом судьбы, были для него настоящей трагедией. Как быть? Взять девочку с собой в Петербург, где у него при всей художнической славе и известности не было ни кола ни двора, представлялось чистым безумием. Да, папские власти ни за что и не позволили бы Кипренскому взять с собой в Россию Мариуччу, поскольку художник с точки зрения юридической был для нее чужим человеком. Оставлять девочку в руках преступной маменьки означало обречь ее на то, чтобы она со временем тоже стала на путь порока, означало обречь ее на неминуемую гибель. Кипренский не видел другого способа обезопасить Мариуччу, как поместить ее в воспитательный дом при каком-нибудь монастыре. Но не в Риме, где жестокосердная родительница не преминула бы разыскать девочку и сделать снова из нее обменный товар, а где-нибудь за его пределами. Выбор пал на воспитательный дом при монастыре близ тосканского города Ареццо. Уладить это дело Оресту, наверное, помогла княгиня Зинаида Александровна, у которой были большие связи не только с итальянским миром искусства, но и с крупными католическими прелатами, мечтавшими обратить в лоно римской церкви эту знатную и влиятельную русскую даму.
С надежным веттурино Орест тайно отправил Мариуччу в Перуджу, куда он думал выехать вслед за нею с тем, чтобы потом самому отвезти ее в монастырь под Ареццо. Но мать Мариуччи каким-то образом узнала о намерениях Кипренского, подняла страшный скандал, добилась, что полиция снарядила погоню и вернула с полпути ее дочь в Рим. Все это было затеяно только лишь для того, чтобы сорвать с русского художника новый куш. Но на этот раз Орест не уступил и обратился за поддержкой к властям. Он написал статс-секретарю Ватикана кардиналу Консальви письмо, которое нам известно в переводе с итальянского по публикации Владимира Толбина. «Орест Кипренский, русский живописец, советник Императорской Петербургской Академии, — говорилось в письме, — изъявляя глубокое уважение к высоким свойствам души вашего высокопреосвященства, молву о которых он постарается распространить в своем отечестве всем, кто только будет спрашивать его о Риме, покидаемом им в будущее воскресенье, прибегает с следующею просьбой. Он желает воспитать одно нежное, грациозное дитя, прекрасное в самом его убожестве, со всею родственною нежностью, и в особенности во всех строгих догматах католической религии. Судьба этого дитяти сильно занимает сердце Кипренского, проникнутого к бедной девочке отеческою любовью, потому более, что на мрачной и безнравственной стезе, по которой идет мать ее, и она не замедлит сама, со временем, совратиться с пути чести и добродетели. Поздно, к сожалению, мог я высказать эту истину ее матери, и потому умоляю ваше высокопреосвященство дозволить, чтобы девочка по достижении четырнадцатилетнего возраста (у Толбина сказано „достигающая“, но это явная ошибка перевода, ибо Мариучче в 1821 году было всего десять лет, как о том говорят найденные нами в римских архивах документы. — И. Б. и Ю. Г.) разделила судьбу с своим благодетелем. Орест Кипренский желает поместить ее в одно из учебных заведений Парижа, куда он едет и в котором обязуется окружить ее всеми нравственными потребностями, нужными молодости. Повторяя, что девочка будет воспитана в католической религии, как и была до сего, живя в его доме, Кипренский умоляет ваше высокопреосвященство оказать ему милость эту, испрашиваемую им без соизволения матери бедной малютки».
Письмо дало ход делу, но не так, как хотелось Оресту. Мариуччу было решено поместить в воспитательное заведение за счет казны и при этом сохранить ее местопребывание в тайне не только от падшей маменьки, но и ее благодетеля, русского художника. В итоге Орест покидал Италию, надолго потеряв следы дорогого ему существа, что крайне его огорчало и беспокоило, ибо он твердо решил и впредь принимать участие в судьбе девочки. И все же главного ему удалось добиться — Мариучча надежно теперь была ограждена от влияния своей родни…
«Бойтесь невской воды…»
Благословен твой подвиг новый,
Твой путь на север наш суровый,
Где кратко царствует весна…
А. С. ПушкинОрест ехал в Париж, но думами весь был в Риме. Каково придется там милой Мариучче? Не дай Бог, она окажется у матери: та ведь постарается направить ее по своей, порочной стезе, и пропадет ни за что милое создание, коего присутствие так согревало его душу в Риме, когда нежданно-негаданно на него свалилось столько бед. Последнею был показ на выставке «Анакреоновой гробницы» и плохой прием ее и итальянскими газетчиками, и своими, русскими знатоками. Среди них был и добрейший Григорий Иванович Гагарин, находивший, что в этой картине Орест «впал в преувеличенность колорита».
Правда, приятель Кипренского поэт-монах Микеле Чотти сочинил и издал еще в 1821 году, задолго до окончания «Гробницы», поэму в ее честь, где тоже «впал в преувеличенность», воздавая ей неумеренные похвалы, чем повредил художнику, который в сердцах называл автора поэмы «дураком и ослом вместе». Чотти уверял в своей поэме, что «сила, соединенная с талантом, водила этой кистью», и предвещал в заключительных строках: «Наградой за работу художника будет его возвращение в славную империю Петра Великого, блеск которой ныне придает Александр I, коего можно сравнить лишь с Александром Македонским».
Увы, суждения римских газетчиков были прямо противоположными. Они находили картину «странной», полагая, что в ней причудливым образом соединились «основательные знания, искусство в исполнении, рачительная отделка с манерностью…»
Манерным представлялся сам замысел художника воспеть «праздник жизни» в отвлеченных мифологических образах — вакханки и козлоногого сатира, лихо отплясывавших у могилы Анакреона под звуки свирели, на которой играет пан. Манерной казалась сама живопись, эксперименты художника в области колорита и светотени, в результате чего, писал один современник, «богатый ландшафт освещен слабо, как будто луною, а фигуры стоят в ярких лучах солнца. Тело написано весьма странным образом: оно как будто составлено из определенных красок: белой, желтой, красной и голубой, но таким образом, что они на некотором расстоянии вообще составляют тон тела; краска наведена так густо, что в некоторых местах сморщилась наподобие кожи».
Приговор итальянских критиков был весьма суров. «Как в наше время, — восклицал один из них, — человек с истинным талантом мог избрать столь превратный путь!»
Такой прием в Риме не сулил успеха в Париже, но Орест все одно решил испытать судьбу и первым среди русских живописцев показать свои картины в этом «Вавилоне искусств».
Николай Михайлович Лонгинов полагал, что в Париже Оресту будет патронировать Александр Михайлович Голицын, но тот, приехав во Францию, совсем стал плох здоровьем и за полгода до этого скончался.
Правда, во французской столице были у Кипренского и другие знакомые и доброжелатели, прежде всего граф Федор Васильевич Ростопчин и его супруга Екатерина Петровна, обосновавшиеся там еще в 1817 году.
Граф оставался на посту генерал-губернатора Москвы до августа 1814 года. Он сильно страдал от нападок за действительные и мнимые ошибки в 1812 году, очень сдал здоровьем и, получив отставку, сразу отправился для лечения за границу, где прожил целых восемь лет. Пребывание на водах укрепило его силы. Но еще более поправке здоровья способствовала моральная атмосфера на чужбине, где, оказалось, его имя пользовалось большой известностью как человека, сыгравшего свою роль в поражении Наполеона. В городах ему устраивали торжественные приемы, художники писали с него портреты, хозяева гостиниц отказывались брать с него плату, дамы домогались у него визитов, чтобы «взглянуть на виновника гибели Наполеона». В Ливерпуле его именем была названа площадь, в Испании обиходным стало выражение для обозначения решительных действий: «Это по-ростопчински». В Париже во время представлений в театрах часто бывало так, что взоры зрителей были обращены не на сцену, а на ложу бывшего генерал-губернатора Москвы. Короли Англии и Пруссии удостоили его аудиенцией…
Граф воспрянул духом. Живя в Париже, он, утоляя любознательность, ездил в другие страны, посетил Италию, где встречался со своим московским портретистом Орестом Адамовичем Кипренским. Художник знал, что в Париже можно будет положиться на доброе расположение графа и графини Ростопчиных.
Были там и собратья по искусству — Константин Тон и Федор Эльсон, уехавшие раньше Ореста из Рима.
Путь в Париж и далее на родину точно был расписан Оресту Николаем Михайловичем Лонгиновым: Рим — Флоренция — Милан — Генуя — Париж — Бельгия — Голландия — Дрезден — Мюнхен — Вена — Варшава — Петербург…
Но уже на первом этапе путешествия, прибыв в любезную его сердцу Флоренцию, Орест сделал остановку на несколько недель. Предлогом для этого, по его словам, была болезнь. Болезнь, впрочем, если и была, то не столь серьезная, если она не мешала Кипренскому развлекаться в городе на Арно, общаться с соотечественниками, которых, как всегда, там было больше, чем в Риме, выполнять их заказы на портреты, а заодно еще и выискивать молодые таланты и опекать их.
Кое-что об этом мы узнаем из двух писем Ореста, которые он направил из Флоренции Самуилу Гальбергу. Одно он пометил февралем, без указания дня, второе написал 25 февраля — накануне отъезда из столицы Тосканы. Поводом для обоих писем были хлопоты о подопечных Кипренского, без которых он, видно, не умел жить. В первом случае это был сам податель письма, как сообщал Орест, «некто голландец из Амстердама, метящий, как равно и наш Басин, в исторические живописцы, что, — добавлял Кипренский, — весьма похвально». «Нет ли у Масучия ателье для него?» — спрашивал Орест у Самуила Гальберга. В противном случае, писал он далее, посоветуйте ему поискать у перекрестка Куаттро фонтане — Четырех фонтанов: «там, кажется, весьма порядочное место для трудолюбивого человека, там же, думаю, подешевле и даже большие суть пусты». «Пожалуста, ежели можно и время вам дозволяет, подумайте сладить студию голландцу», — взывал к скульптору Орест, остававшийся, несмотря на все удары судьбы, таким же неисправимым доброхотом, что и прежде.
Изложив просьбу насчет «голландца», Орест тут же думал о том, как бы услужить и самому добряку Самуилу Ивановичу. Во Флоренции он случайно встретил в гостинице, где жил, Франсуа Дюваля, племянника своего попутчика по вояжу из Петербурга в Женеву, и от него узнал, что его швейцарский знакомый находится в Риме. Огорчению Ореста, разминувшегося со столь приятным человеком, не было предела. «Скажите господину Дювалю, — писал он Гальбергу, — что я весьма сожалею, и не понимаю, как это случилось, что последние дни, как я был в Риме, и он приехал, и мы не виделись. Это мне так досадно и жаль, что вам и сказать не умею. Ежели бы мне было время, нарочно бы воротился в Рим, чтобы с ним увидеться». Орест рекомендовал скульптору сдружиться с женевским ювелиром: «Вы будете весьма довольны знакомством господина Дюваля, ради Бога, сыщите его немедленно, ибо он скоро оставит Рим, и пригласите к себе, покажите работы, он из лучших знатоков в художестве в Европе и может быть вам полезен».
Можно не сомневаться, что в своем письме Дювалю, которое Орест просил передать Гальберга и которое не дошло до нас, он с самой лучшей стороны рекомендовал русского скульптора женевскому коллекционеру.
Одновременно Орест сообщал Гальбергу и о том, что в Рим собирается «со всею своею фамилиею и своим народом» граф Дмитрий Петрович Бутурлин, который намеревался поселиться тоже в районе перекрестка Куаттро фонтане, в палаццо князя Альбани. Орест советовал и Гальбергу, и всем другим русским «артистам» воспользоваться пребыванием в «вечном городе» славного русского мецената, но при этом дружески предостерегал не совершить тактических промахов перед лицом рафинированного знатока художеств: «А к Бутурлину и прочим русским вояжерам ради Бога не делайте визитов гуртом, вить вы не дюжинные. Это я вам говорю по дружбе, скажите же и другим нашим любезным московитам и прошу весьма от меня кланяться».
Сам Орест и в этот раз, как и раньше, часто бывал у Бутурлиных в палаццо Гвиччардини, обедывал с Дмитрием Петровичем, который читал художнику отрывки на своего сочинения на французском языке «О греках, о турках и о европейском общественном сознании».
Это был настоящий политический памфлет, написанный старым библиофилом в защиту дела греческой свободы, — страстный, смелый, полный негодования и боли по поводу безразличия, с каким Европа взирала на то, как Турция уничтожала целый народ, восставший против кровавого оттоманского ига. Дмитрий Петрович говорил, что он единым духом продиктовал свою работу еще в июле 1821 года, когда Австрия подавила революции в Неаполе и Пьемонте и стала интриговать вокруг Греции, утверждая устами Меттерниха, что «брешь, пробитая в системе европейского союза войной с турками, явилась бы брешью, через которую ускоренным шагом вторглась бы революция».
Александр I опять спасовал, Священный союз в угоду принципам легитимизма готовился отдать греков на растерзание турецким карателям, одержимым мусульманским фанатизмом, вырезавшим поголовно население целых районов и с особенной жестокостью расправлявшимся со священнослужителями-христианами.
Дмитрий Петрович глубоко страдал, рассказывая о греческих ужасах. Он читал отрывки из памфлета, ратовавшие за греческую свободу и гневно клеймившие политику Священного союза, цель которого, — подчеркивал автор, — «постоянное противодействие всем улучшениям, всем изменениям». Нельзя, писал библиофил, лишать народы права выбирать форму правления сообразно с духом и потребностями времени, навязывать обществу неизменные правила означает обречь его на смерть…
Анна Артемьевна в этот приезд Ореста во Флоренцию показала полученный из России альбом рисунков крепостного человека Бутурлиных Ивана Бешенцева, где были карикатуры на семейство библиофила, их родственников и знакомых. Графиня рассказывала, что этот Иван Бешенцев был настоящим самородком, писал стихи, участвовал в спектаклях и особенный дар имел к рисованию смешных шаржей, коими заполнил целый альбом. Альбом Бутурлины оставили в своем калужском имении Белкино, но, скучая по привычному русскому окружению, вспомнили о забавных рисунках, в которых оживали и они сами, и многочисленные посетители их дома, и то теперь уже далекое время, ибо первые рисунки Бешенцев сделал еще в начале века. Альбом выписали во Флоренцию, охотно перелистывали его сами и показывали русским друзьям.
Орест нашел у Бешенцева и изображения многих знакомых москвичей. Особенно его позабавил шарж на Василия Львовича Пушкина. Иван Бешенцев и в самом деле был даровитым человеком. Видно, что ремеслу художника он нигде не обучался, но имел меткий глаз, схватывавший в человеке смешную сторону, каковой и была у незабвенного Василия Львовича страсть к щегольству. Бешенцев потому и представил его на рисунке отчаянным франтом. С завитыми черными кудрями, замысловато завязанным галстуком, в розовых панталонах в обтяжку и шелковых чулках, на рисунке он галантно расшаркивался, держа в руке наимоднейшую черную шляпу.
Дмитрий Петрович тут же продекламировал посвященные щеголю-Пушкину стихи Ивана Ивановича Дмитриева, которые как нельзя более подходили к рисунку:
Я вне себя от восхищенья! В каких явлюсь к вам сапогах! Какие фраки! панталоны! Всему новейшие фасоны!Орест от души смеялся, рассматривая работы своего собрата-самоучки, который изобразил и брата Василия Львовича — Сергея Львовича и его супругу Надежду Осиповну, женщину строгую и властную и потому выглядевшую так смешно в позе прилежной ученицы домашнего художника Бутурлиных, как ее представил Бешенцев. А самого Сергея Львовича художник нарисовал совсем в другом виде. Слегка откинул голову назад, с сардонической миной на лице, он, казалось, готов был отпустить очередной каламбур, которыми так славился в московских и петербургских гостиных. В отличие от брата Сергей Львович совсем не был франтом, что также отметил художник: одежда сидит мешковато на довольно нескладной фигуре этого человека с несоразмерно большой головой и выпирающим из сюртука брюшком…
Орест сообщал Гальбергу, что во Флоренции он бывал и в домах итальянской аристократии: «Здесь славный бал давал в новом своем доме prîncipe Borghese[7]. Дом хорошо освещен был в модном вкусе». Кипренский не удержался при этом, чтобы не подтрунить над Василием Сазоновым: «Но я не танцевал; предоставляю пение, пляски, пантомимы и танцы г-ну Сазонову, он объиталианился совсем в Рыме».
Орест скучал без римских соотечественников — собратьев по искусству. Он с ними совсем сжился в «вечном городе», коего название Василий Сазонов с его малороссийским говором за три с лишним года так и не научился правильно произносить и говорил не Рим, а Рым. Скучал по римской компании соотечественников и Филипп Эльсон, который в это время писал тому же Гальбергу из Парижа: «Теперь у вас должно быть очень весело, много иностранцев, также, я думаю, довольно и наших господ. Часто ли бываете у княгини (З. А. Волконской. — И. Б. и Ю. Г.) и какие удовольствия вы без меня имели, что представляли, напиши о всем. Мое нижайшее почтение княгине и ее фамилии, г. Barbieri, г. Bruni, md. Barbieri и проч., М. Григ. Крылову, О. А. Кипренскому, Ф. М. Матвееву, С. Ф. Щедрину, С. К. Сазонову, Торвальдсену и всем художникам, кои меня знают».
Ореста не радовала ни предстоящая встреча с Парижем, ни последующее возвращение на родину. «Г-ну Щедрину будет с полагоря, — писал он Гальбергу, — в Риме скоро весна начнется, пиши весну красками, а я приближаться буду к зиме. Хоть и говорят у нас, будто в зимний холод всякий молод, да вить молод поневоле, чорт побери такую молодость. Я думаю, что весьма большую имеют причину все вообще художники любить Рим».
Но тяжелые предчувствия не меняли характера Ореста. Поводом для его письма Гальбергу от 25 февраля была снова комиссия, которая состояла в следующем: «Княгиня Е. А. Суворова, — писал он скульптору, — едет в Рим, я просил ее человека отдать вам узелок с старым сюртуком моим, который я забыл в Риме отдать Gaetan’у, который, у 4-х Красавиц в кафе ботегою[8] служит».
Судя по всему, Орест во Флоренции смог поправить свои финансовые дела и обновить гардероб, а заодно сделать услугу своему итальянскому приятелю, слуге кофейни «4-х красавиц» в Риме. Об этом же говорит и фраза: «А Скуделярию скажите, что от меня он будет иметь удовлетворительный ответ из Парижа».
Скуделларио был римским банкиром, которому Кипренский, уезжая из Рима, как видно, остался должен. Ясно, что «удовлетворительный ответ» кредитору Кипренский мог дать, получив и выполнив какой-то крупный и хорошо оплаченный заказ.
Что это был за заказ? Мы знаем только одну крупную работу художника, выполненную им после отъезда из Рима по пути на родину, — живописный портрет тридцатипятилетней Екатерины Сергеевны Авдулиной. Раньше считалось, что этот портрет Кипренский написал во Флоренции. Теперь некоторые исследователи склоняются к выводу, что Е. С. Авдулину художник портретировал в Париже, где она с мужем, генералом А. Н. Авдулиным, была одновременно с Кипренским. В пользу такого предположения, по мнению сторонников этой точки зрения, говорит и жест сложенных рук портретируемой, повторяющий жест «Моны Лизы» Леонардо, которую Кипренский увидел, только приехав в Париж, где она была выставлена с 1804 года в Большой галерее Лувра. Возможно, однако, что Орест начал портрет во Флоренции, а закончил его в Париже. В композиции портрета можно отметить влияние итальянцев, которых Орест видел во Флоренции. Например, тициановской «Элеоноры Гонзага» из Уффици, где сходным образом расположена фигура в прямоугольнике холста, также слева от изображения находится провал окна с пейзажем, который и здесь несет большую смысловую нагрузку, также в элегическом ключе трактован образ. Как «итальянский» воспринимается в холсте Кипренского и мотив ветки гиацинта.
Кипренский имел обыкновение указывать место и дату создания своих работ. На рисунках он иногда проставлял не только год и месяц, но даже число. Иногда же он «датировал» свои произведения, вводя в число — аксессуаров цветы, причем не букеты, как это делали многие художники, а только один, от силы два-три вида цветущих растений.
Венок из алых маков на голове «Мариуччи» с вплетенными мелкими ромашками мог быть написан в мае, когда окрестности Рима кажутся огненно-красными от пышного цветения полевых маков.
Е. А. Телешова в роли Зелии держит в руках колосья и цветок ромашки, что позволяет сделать вывод: ее портрет был написан в разгаре русского лета.
На портрете Е. С. Авдулиной в проеме окна стоит стакан с веткой гиацинта. Время цветения гиацинтов в садах и парках центральной Италии — конец февраля — начало марта. Это может служить доказательством того, что над портретом он действительно начал работать в 1822 году в Италии. Кстати, и пейзаж, который виден в окне, по своему характеру типично итальянский с конической горой, похожей по очертаниям на Везувий. И еще один косвенный довод — форма стакана, в котором стоит гиацинт, чисто итальянская, сохранившаяся в стеклодувном производстве этой страны до наших дней…
Итак, Орест для своего самого значительного женского живописного портрета, выполненного в первый итальянский период, опять использовал классическую ренессансную формулу, обратившись на этот раз к наследию Тициана, художника, который с тех пор и до конца жизни будет его кумиром. Кстати, цветы, а позднее и фрукты на портретных работах Кипренского тоже, видимо, от Тициана. До поездки в Италию их на картинах-портретах Кипренского не было.
Но что Кипренский хотел поведать зрителю иносказаниями, к которым он широко прибег в картине: опадающими цветами с ветки гиацинта, клубящимися в проеме окна грозными свинцово-серыми облаками? То ли, что жизнь, олицетворяемая облаками, проносится мимо, а портретируемой отныне суждено стареть в четырех стенах домашней обители, о чем, быть может, несколько прямолинейно говорят осыпающиеся и увядающие лепестки гиацинта? То ли здесь содержится намек на какие-то скрытые причины душевной неустроенности этой еще молодой женщины, сидящей в кресле в какой-то уныло-застылой позе и предающейся грусти?..
Мы не знаем, чем опечалена генеральша Авдулина, как не знали того и современники, отчего, однако, образ не обретает ореола таинственности, не вызывает ни сочувствия, ни жгучего желания проникнуть во внутреннюю жизнь этой женщины, ибо маленькая головка красавицы с невыразительными глазками и жеманно поджатыми губками, собственно, ничем интересным и не обещает вознаградить любопытства к ее думам и заботам. Взгляд невольно отвлекают в картине частности — великолепно переданная тонкая кожа лица, шеи и рук, узоры накинутой на плечи шали, ожерелье и браслеты на руках и, конечно, чрезвычайно выразительно написанные руки, на которых видна каждая прожилка. Словом, произошло то, что происходило всегда, когда Орест портретировал заурядного, скучного, неинтересного человека, не способного вдохновить на создание действительно одухотворенного образа. Екатерина Сергеевна, богатая представительница «серого общества», не вписывалась в усвоенную ею роль просвещенной и тонкой меценатки, хотя ее муж генерал А. Н. Авдулин и состоял членом Общества поощрения художников, интересовался литературой и искусством. Идея оказалась, как справедливо замечает современный исследователь творчества Кипренского, «как бы извне предложенной портретному образу»…
В Париж Кипренский добрался только в начале апреля. И тут его тоже ожидали всякие неприятности. Молва о его опале следовала за художником неотступно. Соученик Ореста по Академии художеств Карл фон Штейбен, живший в Париже, которому Кипренский решил нанести визит, отказался видеть его. Картины, отправленные разными путями из Италии в Париж, прибыли туда не все, часть их все еще была в дороге, а Салон открывался 24 апреля.
В каталоге Салона значилось четыре работы Кипренского: «Анакреонова гробница», «Цыганка с веткой мирта», «Портрет Мариуччи» и «Автопортрет».
«Автопортрет» к открытию Салона так и не поспел, пришлось ограничиться показом только трех произведений. Кипренский с трепетом ожидал реакции избалованной парижской критики и публики на свои картины. Салон собрал грандиозное число картин, скульптур, графических произведений, архитектурных проектов — более 1700. Ничего подобного в Риме, где Оресту поначалу виделись целые «полки художников», не бывало. Картины Кипренского утонули в море других работ, главным образом французских художников, на которые здесь и было обращено преимущественное внимание.
Дебюта Ореста в парижском Салоне с волнением ожидали и все его русские собратья по художественному ремеслу. Филипп Эльсон писал 16 апреля 1822 года Гальбергу в Рим: «Орест Адамович у нас уже с 12 дней, и, как говорят, его картина („Анакреонова гробница“. — И. Б. и Ю. Г.) хороша… — но как вы ее нашли в Риме с тамошними знаменитыми художниками? Верно, он ее показывал прежде своего выезда. Она будет на здешней публичной выставке с 24-го сего апреля, (так) что ты после узнаешь, какой она сделала блеск».
«Блеска» картина Кипренского в Париже не сделала. Ее не поняли там, а давний соперник русского художника Франсуа Жерар изрек о ней туманную фразу:
— Живопись эта не нашего века.
Оценка модного французского живописца, который был удостоен высших похвал за выставленную в Салоне картину «Коринна», навеянную одноименным романом мадам де Сталь, дошла быстро до России и предопределила плохой прием русской публикой работы, которой Кипренский отдал столько сил и вдохновения.
В наше время считается, что фразу Жерара надо истолковывать так, что Кипренский в «Анакреоновой гробнице» обогнал свое время, в чем-то предвосхитив позднейшие искания Ге и Врубеля, стремлением добиться драматических эффектов столкновения света и тени, сияния красок в мерцающих сумерках. Но это всего лишь предположения. Картина погибла очень скоро, потому что краски и грунт, изготовленные Кипренским по его собственной технологии, оказались весьма недолговечными, красочный слой пожух, потрескался и стал чуть ли не кусками отваливаться от холста, который своевременно не был реставрирован, а потом и вообще был утерян, составив этим еще одну неразрешимую загадку его творчества…
Самое странное, однако, было в том, что картину Кипренского не поняли и его друзья — русские «артисты», относившиеся к нему благожелательно и наблюдавшие процесс ее создания. «Вы желаете знать про картину г-на Кипренского, какой она сделала эффект на здешней выставке. Скажу вам откровенно, что она была такая же чудная, как и в Риме», — сокрушенно сообщал Эльсон Гальбергу. Эльсон тут же добавлял, что по картине «можно было видеть, что это работал Орест Адамович со всею странностию». По словам архитектора, однако, в области исторической живописи «не было ему здесь больших соперников, ибо большая часть оплошала из тех знаменитых художников». Сам Эльсон Жерара относил к числу «знаменитых» мастеров и о его большой картине «Коринна» говорил, что «она была очень хороша». А о прочих, продолжал он, нечего сказать, «почему и г-н Кипренский поддержал с большою частью своею небольшою, но мастерскою головою, писанной с римлянки, которой вы знаете положение — оглядывается назад, с цветком в руке (имеется в виду „Цыганка с веткой мирта в руке“. — И. Б. и Ю. Г.); хотя она была темна, но это было прилично; так что и некоторые французы со всею своею самолюбиею сознавались, что в ней видно великого мастера, смело, решительно и с большою уверенностью употребил он тут свою кисть; была еще Мариюча, но не то; хотел он выставить свой портрет, но мы его не видали».
Ко всем прочим невзгодам теперь прибавилась и неудача в Салоне. Оскорбительное пренебрежение французской критики больно задело самолюбие художника. «Во французах, — писал Орест Гальбергу, — патриотизм доходит до бешенства. Они у всех иностранцев хотят все достоинства отнять. В журнале Miroire сказано, что русские храбры из боязни кнута, а французы одни токмо храбры из чести и из любви ко славе и подвигам. Какие бестьи!»
Неприютно, даже после всех римских злоключений, было Оресту в этом городе. «В Париже, — жаловался он, — очень весело жить тем, кто совсем не разумеет изящных художеств, и только любит девок, поваров и театры, да еще… ничем не занимается, кроме туалета». Однако ж и в Россию Орест после неудачного дебюта в Салоне не торопился, хотя по официальным каналам ему уже дано было знать о желательности скорейшего возвращения на родину. «…Я через четыре месяца в самую зиму, может быть, явлюсь в град Петров, — сообщал Орест Гальбергу, — куды весьма меня зовут, чтобы мириться со мною».
Торопиться в Россию, куда, как теперь стало известно Кипренскому, на него написали доносы сразу два российских посла, было ни к чему, не взяв реванша за неудачу в Салоне. Скрепя сердце, Орест оставался в постылом Париже, хотя там его все раздражало: самодовольство французов, их эгоцентризм и даже привычка покрывать лаком стены и потолки кофеен, что ему напомнило покойного вице-президента Академии художеств П. П. Чекалевского — любителя неумеренного потребления лака. Он продолжал тосковать по Италии, ибо, писал Орест Гальбергу: «Нет (ничего) лучше Рима под небесами для художника…» Скучал по шумной компании римских друзей, богемному духу их жизни. И требовал от Гальберга, чтоб он подробнейшим образом живописал ему житье-бытье русских «артистов» в Риме. Переиначивая смешным образом фамилии двух молодых русских живописцев, приехавших в Рим в 1821 году, Габерцеттеля в Габерсупа, а Филиппсона в Филиппов-сына, он спрашивал: «А господин Габерсуп привыкает ли к италианскому супу и к макаронам? Все хочу знать, и Филипов-сын, доброй, восклицает ли? Да не мимо идет чаша сия!»
Кстати, Орест ценил живописное мастерство пейзажиста Филиппсона, о котором, к сожалению, почти ничего не известно историкам русского искусства, поручал ему делать римские виды. «…Да не забудьте, — наказывал он Гальбергу в письме из Флоренции, — у Филипсона взять мои рисунки, им рисованные, особенно вид Тринита де-монти… два рисунка. Да еще он мне обещал из своего окна монастырь St. Isidoro, точно в том виде, как из моего окна было видно. Я и заплатил уже».
Но, по-прежнему считая самым талантливым своим собратом Сильвестра Щедрина, Орест из Парижа спешил добрым словом помочь ему, рекомендуя съездить в умбрийский городок Терни и посмотреть тамошний водопад, поразивший своей живописностью Кипренского: «Скажите господину Щедрину, что я весьма много потерял, что, будучи в Риме, не знал, как великолепно Терни и каскада Марморе. Ежели он не видал сего места, то чтобы не терял времени и спешил ехать туды списывать. Я ничего в свете поразительнее сего не видел. Ежели бы знал, как оно хорошо, верно бы 6 месяцев прожил там, чтобы сделать чудесные картины пейзажей. На каждом там шагу встречается новая обдуманная и преоконченная картина и композиция славная. Натура сие место написала с превеличайшим вкусом». И добавлял к этому: «Я бы лучше выбрал 12 тысяч доходу годового жить в Риме, нежели два миллиона жалованья, чтобы жить в Париже».
Впрочем, несмотря на такую неприязнь к французской столице, Кипренский усмотрел в ней и поучительные вещи касательно художеств. «Нельзя себе представить, сколько живописцев в Париже, и все почти заняты, — писал он своему приятелю в Рим. — Работы заказывают им не иностранцы, а свои». И оплачивали заказы, как выяснилось, несравненно выше, чем русские меценаты. То же и с оплатой труда артистов в театрах: «…вообще в лучших театрах никого почти нет, кто меньше 20 000 франков получает. У нас, напротив, (простому) актеру дают 250 рублей, а лучшему 1200, а уже, наконец, разве только Семеновой 5000».
Самому Оресту в Париже, однако, приходилось рассчитывать только на внимание российских меценатов. Благо там все еще оставался граф Федор Васильевич Ростопчин с Екатериной Петровной, помнившие и ценившие славного русского мастера.
Граф Федор Васильевич постарел, стал еще более желчным и колючим человеком. За границей к бывшему павловскому канцлеру и александровскому генерал-губернатору Москвы привыкли, он перестал возбуждать прежний интерес. Ростопчин страдал от нездоровья, от отсутствия дела, к которому он мог приложить оставшиеся у него силы, от заграничного уклада жизни, к чему он так и не мог привыкнуть за все эти годы. Но больше всего огорчений приносила Федору Васильевичу собственная семья. Старший его сын Сергей в Париже непрерывно кутил. Несмотря на предостережения отца, он в результате разгульной жизни вошел в крупные долги и попал в долговую тюрьму. Екатерина Петровна теперь уже ни от кого не скрывала своего католицизма. Она стала фанатичной прозелиткой римской церкви, увлекла за собой дочерей, некоторых родных, знакомых. Граф глубоко страдал от духовного одиночества внутри своей собственной семьи, его все больше охватывала тоска по России, куда он твердо решил вернуться, чтобы сложить кости на родной земле.
Федор Васильевич радушно встретил земляка-художника, с которым отводил душу в откровенных беседах, пока тот делал новый карандашный портрет графа. Портрет Ростопчину понравился тонко подмеченным и переданным его настроением, и он надписал под изображением: «Без дела и без скуки: сижу поджавши руки».
Благодаря главным образом Федору Васильевичу у Ореста и в Париже были заказчики и его пребывание во французской столице растянулось на целых 16 месяцев. Известно, что в это время он нарисовал, кроме супругов Ростопчиных, графа Н. Д. Гурьева, давно жившего в Париже Григория Владимировича Орлова — крупного мецената и знатока художеств, работавшего над книгой «История живописи в Италии». Кроме того, им были созданы, также переведенные в литографии, портреты Лампреди, находившегося в Париже на положении политического эмигранта, и другого, неизвестного итальянца — некоего кавалера де Анджелиса. Портретировал ли он кого-либо из французов, неизвестно, как неизвестно и то, работал ли он наряду с карандашом также и кистью или же увлечение литографией поглотило Ореста целиком. Неведомы и другие портретные работы Кипренского парижского периода с русских, кроме уже перечисленных. А что они были, можно не сомневаться, ибо иначе, лишившись еще в Италии пенсионерского содержания, он бы не смог прожить в славившемся дороговизной Париже почти полтора года.
Домой Кипренский отправился только летом 1823 года. Его пригласил в свои попутчики Александр Яковлевич Лобанов-Ростовский, богатый коллекционер и историк-любитель, который по дороге намеревался заехать в Мариенбад к Гёте с тем, чтобы Орест, если это окажется возможным, сделал портрет немецкого поэта. Путешественники в июне были уже в Дрездене, где Кипренский встретился с немецким художником Карлом Фогелем фон Фогельштейном, которого давно знал, ибо Фогельштейн жил в России, бывал в Италии, когда там находился его русский коллега. Мастера портретировали друг друга, благодаря чему осталось изображение Ореста, сделанное не его рукой, — сухое, маловыразительное, но очень точно передающее черты лица знаменитого русского живописца.
12 июля 1823 года Гёте отметил в своем дневнике визит к нему Кипренского и Лобанова-Ростовского. Последнее упоминание о русских гостях относится к 18 июля. За эти дни Орест сделал два карандашных портрета поэта, которыми остался очень доволен. Позднее в письме Гальбергу он сообщал: «Из Парижа прислали литографию с моего рисунка Гёте, которого я нарисовал преудачно, и сходство необыкновенное. Я рисовал его в Мариенбаде».
Гёте и Кипренский много говорили об искусстве. На великого германского поэта произвела впечатление оригинальность взглядов русского живописца на современное искусство и классику. В письме к Шультцу от 30 июля 1823 года Гёте сообщал: «Раньше я позировал несколько часов русскому живописцу, заканчивавшему свое образование в Риме и Париже, хорошо мыслящему и искусно работающему…»
Кипренский через своих друзей, немецких художников-«назарейцев» еще в Риме мог ознакомиться с эстетическими воззрениями Гёте, которые были так близки к его собственным размышлениям о целях и путях развития искусства, к его собственным исканиям в живописи. Гёте в одной из своих работ писал: «Показать со всей четкостью внутреннее содержание через внешнюю форму было величайшим и единственным желанием лишь самых великих мастеров. Они стремились не только возможно правдивее воплотить свое понимание явления, нет, созданное ими изображение должно было заступить место самой природы и, более того, превзойти ее. Но для того необходима была прежде всего величайшая тщательность выполнения…»
Не к тому ли самому стал стремиться в Италии Кипренский, когда во всей своей впечатляющей художественной мощи пред ним предстало наследие великих мастеров прошлого? Напомним слова современника, говорившего, что Кипренский «хотел в наивозможно тщательной отделке найти новое средство для полного выражения жизни в своих произведениях. Кажется, он предполагал, что эту отделку можно довести до того совершенства, которое совершенно скроет живопись, скроет следы движения кисти, сольет краски в неуловимые переходы оттенков цветов и произведет в картине тот же самый нерукотворный вид, какой имеют предметы в природе».
Но даже если Кипренский не знал до встречи с Гёте его мыслей о сущности классического искусства, если он познакомился с ними только во время сеансов, то все равно ясно, насколько по душе было художнику встретить в великом немецком мыслителе своего единомышленника по взглядам на искусство. Духовное единение с портретируемым всегда было для Ореста залогом успеха, вдохновляло на создание лучших творений, какими, видимо, и были выполненные им изображения Гёте. Увы, эти портреты до сих пор не разысканы, и мы знаем о них лишь по литографии француза Греведона, которая совершенно не удовлетворила Кипренского. «Так досадно, — писал Орест о литографии Гальбергу, — что худо сделан, хоть выбрали для сего лучшего там рисовальщика в оном роде. Князь Лобанов-Ростовский, который о сем хлопотал, говорил, что многие приезжали художники к г-ну Gravedon-литографу любоваться рисунком, я выпишу оригинал и сам налитографирую столь славного и почтенного человека». Остается только пожалеть, что Оресту не удалось вытребовать у Греведона свои рисунки, которыми он, хоть и задним числом, взял реванш у высокомерного Парижа за неуспех своих работ в Салоне…
К концу лета Кипренский был уже в России.
Неласково встретил Петербург художника, возвратившегося после семилетнего пребывания в «чужих краях». Его демонстративно не приняли великие князья. Недовольство двора особенно бросалось в глаза на фоне чрезвычайных милостей, которыми был осыпан пейзажист М. Н. Воробьев, почти одновременно с Кипренским возвратившийся в Петербург из вояжа в Иерусалим. Воробьева обласкал сам царь. «Со своими иерусалимскими видами, — сообщал Самуилу Гальбергу его брат Иван, — был он у государя и лично объяснял сии рисунки. Он бывает и у великих князей и третьего дня в субботу мне встретился, ехавши из Аничкова дворца, где были его картины выставлены на показ».
По примеру двора от Кипренского стала отворачиваться и петербургская знать. Федор Брюллов, старший брат Александра и Карла, со злорадством, поскольку весьма ревниво относился к славе других художников, сообщал им в Италию, что Оресту «отказали во многих домах» и что «…император оставил без всякого внимания лентяя Кипренского».
Худая молва, пущенная Италинским и Убри, сделала свое дело. Его обвиняли в лености, потому что он, личный пенсионер императрицы, вопреки заверениям так и не закончил картину, прославлявшую апофеоз Александра I в войне с Наполеоном. «Анакреонова гробница» встретила в России, как и за границей, почти всеобщее непонимание. Академическое начальство отвернулось от впавшего в немилость художника. Ему не было пожаловано давно заслуженное профессорское звание…
Судьба Кипренского глубоко беспокоила его друзей, русских пенсионеров в Риме, которые с благодарностью помнили о его поддержке на чужой земле. «Не забудьте мне хорошенько написать, как он в Питере живет, как принят и т. д.? — писал своим родным в Петербург Самуил Иванович Гальберг. — Нам всем чрезвычайно интересно узнать о нем; он меня очень любит и даже сделал мне добро, ибо заказом от в(еликого) к(нязя) Михаила Павловича мы ему обязаны. И так мне было бы очень прискорбно узнать, что он в несчастии, а еще скучнее ничего не знать».
В ответ на эту просьбу братья Самуила Карл Иванович и Иван Иванович Гальберги и их зять Александр Христофорович Востоков, филолог и поэт, знавший Кипренского со времен совместной учебы в Академии, пытались снабдить римских приятелей Ореста вестями о его жизни в Петербурге.
«Вам желательно знать, — писал А. X. Востоков в письме от 24 мая 1824 года, — что делается с Кипренским? Я его видел с месяц тому назад идущего к графу Шереметеву, с которого он пишет портрет. По его отзывам на счет некоторых людей, сужу я, что он не совсем доволен приемом, какой ему здесь сделали. Впрочем, он все тот же балагур, каким был исстари. Карл Иванович и Иван Иванович берутся доставить к нему письмо ваше и напишут к вам об нем подробнее».
Письмо Карла Ивановича Гальберга с подробным рассказом о Кипренском сохранилось. Вот что он сообщал брату о приеме, уготованном на родине живописцу: «Письмо твое к Кипренскому отдал ему Иван Иванович и при этом случае не видел его работу, ибо встретились на дороге. Кипренский пишет портрет с графа Шереметева за 5000 рублей. Об нем хотя тебе и написали Александр Христофорович и Иван Иванович, но, конечно, написали мало. Они и сами более не знают. А ты желаешь знать о его житье-бытье обстоятельно. Так как я с ним не знаком и он меня не знает, то чтоб что-нибудь и от себя об нем тебе написать, расспрашивал я об нем у служащего Герольдии губернского секретаря Каталымова, который прежде работал у Кипренского, растирал ему краски и покрывал лаком его картины и который в бытность Кипренского в Италии и Франции был его здесь поверенным, часто мне об нем говорил. Ты его, я думаю, знаешь, под именем Иванушки. Он и теперь у Кипренского бывает часто. Вот что он мне сказал: „Кипренский нанимает квартиру на Английской набережной в доме Купеческого общества, что прежде был дом банкира Раля, и платит в месяц 100 рублей, но в квартире почти не живет, а только ночует. Поутру с 9-го или 10 часа отправляется работать в дом графа Шереметева, где почти всегда и обедает. После обеда по большей части бывает у князя Гагарина. Приемом, сделанным ему в Питере, не очень, кажется, доволен, и это, вероятно, от того, что об его житье-бытье италианском не весьма хорошие получены были здесь вести и, как Кипренский говорил Каталымову, совершенно ложные. Он не был принят великими князьями и потому не мог оправдаться. Впрочем, ежели судить по тому, что он в состоянии платить за одну квартиру 100 рублей в месяц, то ему здесь не худо“. Это все мне рассказывал Каталымов и к тому прибавил, что Кипренский думает опять уехать в благословенную Италию и ожидает только того, когда граф Шереметев вознамерится вояжировать по Европе. Но Глинка, у которого я также об этом расспрашивал (не говоря ему слышанного от Каталымова) уверяет, что ни граф Шереметев, ни Кипренский не думают выехать из Питера. Кому верить? Думаю, что Кипренский с Иванушкой говорил откровеннее».
Правда, несмотря на холодный прием официального Петербурга, Кипренского встретили на родине и благожелательные отклики на его работы. «Журнал изящных искусств», издававшийся В. И. Григоровичем, поместил одобрительную рецензию на эрмитажную выставку работ Кипренского, устроенную вскоре после его приезда в Петербург. Орест показал в Эрмитаже «Анакреонову гробницу», «Портрет Е. С. Авдулиной», «Автопортрет», «Цыганку с веткой мирта в руке», «Мариуччу», «Портрет пожилого человека» и несколько карандашных работ, включая «Портрет А. Я. Италинского». В рецензии говорилось также о новых технических исканиях художника, его изменившейся манере налагать краски, придавать красочному слою гладкий, эмалеподобный вид, скрывавший движение кисти и приводивший некоторых знатоков в недоумение. Отвечая им, «Журнал» В. И. Григоровича отмечал, говоря об «Анакреоновой гробнице», в которой больше всего проявились новые живописные приемы Кипренского: «Достоинства картины заключаются в превосходном выражении, в сильном освещении, в удивительной круглоте фигур, в точности распределения света и теней и такой отчетливости в отделке, примера коей мы еще не видывали в произведениях русской школы. Картина сия показывает, что художник вникал в произведения старинных первоклассных художников и заимствовал от них то, чего многим русским художникам не доставало, то есть силы и окончания. Он указывает им путь к новому для них роду совершенства…»
Высказывая и некоторые критические замечания по поводу этой картины, В. И. Григорович одновременно очень высоко оценивал новые портретные работы Кипренского и решительно выступал против хулителей художника, объявлявших целиком негативным для его творчества заграничный опыт. «На вопрос: выиграл ли он от сего путешествия? — писал В. И. Григорович, — беспристрастный знаток, видавший прежние и нынешние его произведения, без сомнения, отвечать будет, что он несомненно более выиграл, нежели как многие утверждают».
Однако такие отзывы погоды не делали, и Кипренского по-прежнему окружала атмосфера недоброжелательности со стороны официальных кругов. Положение мало изменилось и после того, как он выполнил старый «долг», закончил и выставил в 1825 году «Аполлона, поражающего Пифона». Картина, задуманная художником в годы всеобщего увлечения Александром и ожидания от него либеральных реформ, в 1825 году давно уже не отвечала ни взглядам самого ее автора, ни духу времени. «Дней Александровых прекрасное начало» кануло в Лету. Лучшие люди России были удручены тем, что с благословения царя были подавлены революции в Неаполе, Турине и Мадриде. С неслыханным ожесточением в стране преследовалось всякое проявление свободной мысли. Молодой поэт, гением которого восхищалась вся просвещенная Россия, был в изгнании. В Академии художеств стараниями ее нового президента А. Н. Оленина все более насаждался дух казенщины…
Некогда добродушный, просвещенный покровитель искусства А. Н. Оленин теперь выступал совсем в иной роли — в роли бездушного чинуши, целиком поглощенного заботами о своей карьере, который окружал себя писателями и художниками только для того, чтобы в лучах чужой славы быстрее двигаться по службе, что и занимало все его помыслы.
В самом деле. Показной универсализм А. Н. Оленина отдавал чем-то анекдотическим. Он был художником-дилетантом (занимался медальерным искусством), ученым-дилетантом (писал статьи по археологической тематике), бухгалтером-дилетантом (его перу принадлежит труд «Краткое рассуждение о бухгалтерии и в особенности о бухгалтерии казенных мест»). Нестор Кукольник в свое время говорил: «Если начальство прикажет, сделаюсь акушером». А. Н. Оленин сделался бы и акушером-дилетантом, если бы счел, что это послужит его карьере. Профессионалом он был только в одной области — сфере придворной службы.
Как и пушкинский Троекуров, Алексей Николаевич был родственником княгини Е. Р. Дашковой, наперсницы Екатерины II, что и позволило ему быстро преодолеть первые ступеньки служебной лестницы и оказаться на виду у «влиятельных особ» и императрицы. А к тому времени он уже в совершенстве владел искусством «заискивать у сильных мира сего», как отмечают даже те биографы А. Н. Оленина, которые произносят по его адресу панегирики. Он брался за все что угодно, хорошо усвоив железное правило беспринципных карьеристов — служить не делу, а использовать любое дело для собственного возвышения. Начинал А. Н. Оленин как военный, был «квартермистером» артиллерии, но ратная служба не могла прийтись ему по душе как по причине чрезвычайно малого роста («его чрезмерно сокращенная особа», — острил по этому поводу Ф. Ф. Вигель), так и ввиду отсутствия других данных, обеспечивающих успех на военном поприще. Впрочем, и на военной службе Алексей Николаевич не терял даром времени и сочинил там ученый труд о «толковании многих русских военных старинных речений», за что благодетельница и родственница, президент Российской академии княгиня Е. Р. Дашкова провела его в члены академии. К переходу на гражданскую службу Оленин приурочил другое сочинение — сделал 92 виньетки, которые украсили рукописное собрание стихотворений Г. Р. Державина, преподнесенное императрице 6 ноября 1795 года.
Сменив военный на штатский мундир, Оленин поступил на службу в Государственный ассигнационный банк, через год стал советником правления этого банка, а еще через год — его управляющим «с пожалованием в статские советники». В том же 1797 году его назначают управляющим Монетным двором и к концу года производят в действительные статские советники. В 1799 году — он обер-прокурор 3-го департамента Сената, в 1801-м — статс-секретарь, в 1803-м — товарищ (или, по-нынешнему, — заместитель) министра уделов. Такой стремительный взлет А. Н. Оленин совершил всего лишь за восемь лет.
В дальнейшем он с такой же легкостью продолжал коллекционировать новые высокие должности, чины, почетные звания. А. Н. Оленин стал почетным членом Академии художеств и Оружейной палаты, за деятельность в 1806–1808 годах в составе частей народного ополчения, созданных в связи с угрозой войны с Наполеоном, получил должность генерала милиции с правом ношения мундира после роспуска милиции и не расставался до самой смерти с этим мундиром, хотя в военных действиях с французами не участвовал.
Оленин был, между прочим, одним из ближайших сотрудников М. М. Сперанского, но при падении последнего не только сумел вывернуться, но даже получил очередное повышение.
В 1811 году Оленин был назначен директором Публичной библиотеки, а в апреле 1817 года — президентом Академии художеств при сохранении других многочисленных должностей. На этом посту он поправил расстроенные финансы заведения, достроил его здание, но больше всего налегал на утверждении в Академии духа слепого повиновения властям предержащим. Алексей Николаевич и здесь умел пустить пыль в глаза своим мнимым демократизмом, в частности, изволил трапезничать вместе с учениками. Но одновременно не без его участия был отстранен от должности и отправлен в ссылку конференц-секретарь Академии А. Ф. Лабзин, который осмелился возразить против избрания почетным членом Академии всесильного князя В. П. Кочубея как «человека надутого и ничего не значущего». Когда же Лабзину разъяснили, что Кочубея надо избрать на том основании, что он близкое к императору лицо, прямодушный конференц-секретарь предложил заодно удостоить такой чести и государева кучера Илью Байкова, поелику уж ближе, чем он, к царю никто не сидит.
А. Н. Оленин стал неукоснительно проводить в жизнь пункт устава Академии, согласно которому в нее запрещалось принимать крепостных. В отличие от П. А. Вяземского и даже графа М. С. Воронцова, будущего новороссийского генерал-губернатора, которые в это время еще верили в благие намерения Александра I и готовили для него проект освобождения крестьян, проницательный и хитрый царедворец Оленин вовремя сменил вывеску и открыто декларировал крепостнические убеждения. При этом он заходил так далеко, что бил реакционностью своих взглядов даже самого Аракчеева…
Дело в том, что нововведения Оленина показались странными Аракчееву, не понимавшему, почему это он не может выучить в Академии своего крепостного на художника или архитектора и использовать его потом, как ему заблагорассудится. В ответе временщику Алексей Николаевич доказывал, как пагубно, с его, просвещенной, точки зрения, смешение свободных учеников Академии «с крепостными людьми, принадлежащими к холопскому званию, столь уничижительному не токмо у нас, но и во всех землях света». Почему же пагубно? Да потому, оказывается, что «истинным, обществу полезным художником, — распространялся новоиспеченный президент Академии художеств (письмо Аракчееву датировано 31 декабря 1817 года), — без доброго поведения, благородного любочестия и некоторой возвышенности духа быть никак не можно. Сообщение же, а кольми паче сожительство с порочными людьми, особливо в самых молодых летах, совершенно подавляют все способности к художествам. По несчастию, — разъяснял Алексей Николаевич Аракчееву, — гнусные самые пороки вообще принадлежат холопскому, или рабскому, состоянию, в котором они получаются, так сказать, в наследство, а потому тесное сообщение сего рода людей и равенство оных в воспитании с юношами свободного состояния более приносят общего вреда, нежели пользы».
Перед такой железной аргументацией закоренелого крепостника, прятавшегося под личиной «просвещенного вельможи», спасовал даже Аракчеев, заявивший Оленину: «…Буди ваша воля, вы, филозофы нынешнего века, лутче знаете нас, псалтырников…»
Для полноты портрета А. Н. Оленина следует, забегая вперед, напомнить о его отношениях с А. С. Пушкиным. Поэт, как известно, был влюблен в дочь Оленина Анету, посвятил ей несколько прекрасных стихотворений. Самой Анете крайне льстило ухаживание Пушкина, первого поэта России. В своих воспоминаниях, говоря о себе в третьем лице, Анна Алексеевна рассказывала о Пушкине, что «знала его, когда была еще ребенком». С тех пор, продолжала Анета, она с восторгом восхищалась его увлекательной поэзией. Но когда поэт, которого Анета называет «самым интересным человеком своего времени», попросил ее руки, президент Академии художеств, действительный тайный советник, член Государственного совета, Председательствующий в департаменте гражданских и духовных дел, член Главного управления цензуры и прочая, и прочая, и прочая, наотрез отказал, считая для дочери брак с гениальным русским поэтом оскорбительным мезальянсом. Алексей Николаевич, которого Пушкин позднее называл «пролаз» и «нулек на ножках», собирая в своем салоне писателей и художников, в глубине души больше всего на свете ценил не таланты, а чины…
Художники его единодушно ненавидели. Да и как было не ненавидеть человека, который с таким слепым упорством проводил принципы сословности художественного образования и, как подчеркивает историк Академии, «особенно… заботился о нравственном воспитании детей и строго следил за точным исполнением религиозных обрядов, а чтение Библии сделал обязательным». Человека, который, к ужасу художников, ввел в Академии вахтпарады. Человека, заслугой которого, по словам его биографа, было то, что он установил «более строгий надзор и наблюдение» за пенсионерами Академии, отправляемыми за границу…
Известно, что Карл Брюллов на товарищеском обеде по случаю окончания учебы в 1821 году провозгласил тост за профессоров Академии, а ее президента предложил предать анафеме. Что Самуил Гальберг говорил: при Оленине Академию «всю хотят переломать и перекрутить, так что сердце вовсе отлегло от Академии, и я ни за что не хотел бы принадлежать ей». Что Федор Толстой, бывший при Оленине вице-президентом Академии, писал о нем: «При всем его образовании, любви к искусству, несмотря на полный авторитет, который он умел приобрести до того, что каждое его слово в высших кругах общества было законом, Оленин своим управлением сделал… более вреда, нежели пользы. Алексей Николаевич был слишком самонадеян в своих познаниях и слишком верил в непогрешимость своих взглядов и убеждений».
Даже апологетически настроенные биографы А. Н. Оленина отмечают, что новый патрон Академии доходил до того, что не гнушался выдавать чужие работы за свои, то есть был способен на прямой плагиат…
И вот в руках такого человека оказалась по возвращении на родину судьба Ореста Кипренского, который своим поведением в «чужих краях» прогневал самого императорского посла и вызвал недовольство секретаря императрицы. После репримандов таких высоких инстанций А. Н. Оленин тем более имел все основания поставить на Кипренском крест. К тому же художник целиком «оправдывал» теорию президента о неискоренимой порочности людей «рабского происхождения», будучи незаконнорожденным сыном крепостной…
Неудивительно, что письма Кипренского друзьям в Рим были полны негодования на прием, который уготовила ему в Петербурге Академия, руководимая А. Н. Олениным. «Академия художеств под спудом. Вы прежде меня видели превращение ее. Я не очень верил, а глазам своим доверился. Все там в малом виде», — изливал душу Кипренский в одном из первых своих писем Самуилу Гальбергу. «…Академия здесь… заплеснила Олениным или от Оленина», — говорил он в другом письме. «Как вы счастливы, что пьете из Тревия, — снова обращается Кипренский в тяжелую минуту к Гальбергу. — Слушайте дружеский мой совет для вашего здравия и благоденствия самим оракулом изреченный: бойтесь невской воды — вредна для мрамора… Менее всего надейтесь на Академию, здесь талантов совсем не надобно. Сам президент Оленин в публичном одном собрании сказал, что Академия обязана пещись о воспитанниках только до тех пор, пока они в школе. По выходе же из Академии она не знает их и не обязана им ничего делать… Вот какого невежу полуученого Академии ветром надуло».
Он рекомендует друзьям извлечь урок из того, что случилось с ним, пишет, что никто не советует «путешествие на север». «Коротко и ясно», — предупреждал Орест. И в другом письме: «Живите в раю земном и оживляйте мраморы. Совет мой крепко в… душе держите: что лучше холодные камни дешево продавать, нежели самому замерзнуть на любезной родине. Честь отечеству делать можно везде. Трудно приобрести талант, а потерять легко». И далее — о себе и своей воле устоять в борьбе против жизненных незадач: «Слон добра не хотел мне делать, а зла не удалось сотворить. Серый волк пусть с голоду болтает хинею вместе с Мухомором, а я с помощью правды иду себе вперед».
Под «Серым волком» Орест несомненно имел в виду седовласого Италинского, под «Мухомором», конечно же, — Убри, ибо это им принадлежала пущенная из Италии по адресу художника клеветническая «хинея», омрачившая его возвращение на родину. Третьим лицом, столь вредившим Оресту в «любезном отечестве», был, разумеется, Алексей Николаевич Оленин, этот злой карлик, «нулек на ножках», которого, чтобы подчеркнуть «его чрезмерно сокращенную особу», Кипренский с присущим ему юмором величал «Слоном»…
Что это так, говорят письма Кипренского Гальбергу, в которых он всю силу сарказма обрушивает именно на этих трех своих главных недоброжелателей. «У нас начал расти, не подумайте, чтобы Оленин стал расти, нет! он никогда не вырастет!..» — прохаживался Орест по поводу ненавистного президента Академии художеств. И в другом письме по поводу авторов злых наветов: «Дурак Убри и вояжирующие наши русачки, молодые барчики, я говорю о малом числе оных вольнодумцов, кои набрались дури в чужих землях, обо мне распустили здесь невыгодные о мне мысли; но они не помогли им. Я всегда пребуду верен друзьям, отечеству, художествам; пребывал всегда неверным приятному послу. Вот правила мои до женитьбы; а после, когда сдурачусь жениться, нужда научит калачи есть».
Ко всему прочему престарелый Италинский, взявшийся по поручению высокой покровительницы Ореста за отправку из Рима его работ «Плачущий ангел» и «Портрет Лагарпа», что-то напутал, и они не пришли вовремя ни в Париж к открытию Салона, ни в Петербург по возвращении художника на родину. Может быть, задержка была устроена и специально, чтобы более убедительным выглядел навет насчет «малых результатов» заграничного вояжа Кипренского.
Орест поэтому недаром рвал и метал по адресу Италинского. «Старый музульманин, — иронизировал он над занятиями арабскими письменами русского посла в Риме, — не мудрено, что не запомнит ничего, что делает и что посылает. Ему простительно, лихому старому лекарю», — вновь язвил художник на этот раз по поводу эскулапского прошлого дипломата.
Неосмотрительные высказывания Кипренского по адресу столь высокопоставленных особ не могли не усугубить трудностей, с которыми он столкнулся на родине: письма, особенно шедшие за рубеж, аккуратно перлюстрировались. Служебные неприятности, которые привели к многолетней опале, у П. А. Вяземского, служившего в 1818–1821 годах в канцелярии российского наместника в Варшаве Н. Н. Новосильцева, начались, когда он стал критиковать в письмах политическое двуличие и показной характер либерализма Александра I. Письма Кипренского не носили столь ярко выраженного политического характера, в них не затрагивалась особа самого императора, они касались только его сановных чиновников, но и этого было достаточно, чтобы печать неблагонадежности легла на художника до конца его дней.
У Ореста не было другого средства, чтобы отстоять свое честное имя, кроме творений его кисти и карандаша, и потому он так беспокоился о судьбе «Ангела» и «Портрета Лагарпа». В последнем случае, кстати, речь идет, наверное, не об известном карандашном рисунке на бумаге, который Кипренский беспрепятственно мог везти с собой, а о холсте, картине маслом, о коей мы ничего не знаем.
В конце концов затерявшиеся работы, к вящей радости художника, прибыли в Петербург. Разыскать их помог Г. И. Гагарин. «Лагарпов портрет и ангел, — с радостью сообщал Орест Гальбергу, — приехали наконец в Питер. Скажите князю Гагарину (об этом) и поблагодарите за его старание». Стали поправляться и другие дела. Свет оказался не без добрых людей. Портрет Д. Н. Шереметева («показать хочется здесь сею работою успехи путешествия», — поверял Орест надежды, связанные с этим заказом) полностью восстановил репутацию Кипренского, хотя дохода принес не так уж много. Орест писал Гальбергу: «Граф Шереметев заплатил за свой портрет тринадцать тысяч рублей. По русским ценам довольно, а я, и кто знает дело, ценю сорок тысяч работу, т. е. так, как в Париже ценят вещи».
Слухи об успехе Кипренского дошли до Рима, где этому искренне порадовались его друзья, русские пенсионеры. «Я слышал, — говорил Сильвестр Щедрин в одном письме, — что он писал очень хорошо портрет Шереметева».
Тронулся лед и в отношениях с царской фамилией, от которой последовал первый заказ. Это был реванш над преследователями художника. «Уведомьте, порадуйте… его (Италинского), что я, слава Богу, здоров и начну вскоре писать большую интереснейшую картину — портрет моей покровительницы императрицы, — докладывал торжествующий Кипренский Гальбергу в Рим. — Эскиз уже я имел счастие лично представить». Вместе с Италинским посрамлен был и другой недоброжелатель Кипренского президент Академии художеств А. Н. Оленин, который, узнав о заказе императрицы, тут же сменил гнев на милость в отношении художника. «Итак, к его несчастию, должен был он признать, — писал Орест Гальбергу, — что с талантом моим не шутил (я) в Риме, не потерял мое время. Он говорит, что я будто воскрес. Вот, Самуил Иванович! Без президента и без Старого хрена можно очнуться, коли покажешь (себя) народному суждению».
И чуть позже — тому же Гальбергу Орест вновь сообщал, что дела его наладились совершенным образом: «О себе ничего не могу сказать, кроме того, что я, слава Богу! очень доволен теперешним моим положением…»
Кипренский много и увлеченно работает, создает серию портретных шедевров, которые вошли в золотой фонд отечественной художественной культуры и наглядно показали, что, вопреки наветам злопыхателей, не оскудела кисть художника, не притупился его взгляд, не утратился вкус, отличавший его работы доитальянского периода.
В этих портретах он продемонстрировал новые завоевания кисти, неизбывное желание обогащать искусство новыми приемами, органическую неспособность удовлетворяться достигнутым, идти уже по проложенному им пути, гарантировавшему успех. Орест выступает в новом для себя жанре парадного портрета, в коем выполнено изображение его друга и покровителя Д. Н. Шереметева, сына бывшей крепостной актрисы — знаменитой Параши, мецената, меломана, относившегося к художнику с искренней симпатией и предоставившего ему жилье и мастерскую в доме на Фонтанке. Пишет, упреждая в этом Карла Брюллова, портрет К. И. Альбрехта на фоне природы петербургских окрестностей. Создает героизированный образ русского воина в портрете кавалергарда Н. П. Трубецкого, пишет глубокий психологический портрет пожилого А. Р. Томилова и собственный автопортрет 1828 года (в масле и в карандаше), вводит элементы жанра в портретные характеристики Е. А. Телешевой и А. Ф. Шишмарева, работает в области чистого жанра, написав знаменитую «Бедную Лизу», создает ряд графических шедевров и в их числе — очаровательный рисунок с А. А. Олениной.
В 1827 году Кипренский пишет прославленный портрет А. С. Пушкина, в котором поставил перед собою сложнейшую задачу — отобразить психологическое состояние человека, занятого интеллектуальным творчеством, опоэтизировать средствами живописи этот труд, возвысить образ творца. Портрет Пушкина не родился вдруг как плод счастливой удачи художника. Он был подготовлен всей его блистательной портретной галереей. Поэтому, когда пришло время увековечить черты величайшего русского поэта, Кипренский с полным сознанием своей ответственности перед потомками приступил к делу и создал произведение, которое обеспечило бы бессмертие и ему самому в истории отечественной культуры, даже если бы результаты его многолетней творческой жизни ограничились одним этим шедевром — живым воплощением неугасимого горения высокого человеческого духа…
В портрете А. С. Пушкина Кипренский совершил столь высокий взлет еще и потому, что лира поэта была созвучна музе художника. Кипренский, как мы уже имели случай говорить, мог знать поэта мальчиком еще в долицейскую его пору, когда Пушкины жили в Москве и тесно общались именно с тем кругом передовой дворянской интеллигенции старой русской столицы, с которым так близко сошелся и художник, приехав туда и 1809 году.
Вполне возможно, что и юный поэт с детства знал о талантливом отечественном живописце, создавшем именно в Москве целый ряд своих лучших портретных работ. Первым документально подтвержденным свидетельством знакомства А. С. Пушкина с творчеством Кипренского считается написанное в мае 1818 года в доме А. И. Тургенева известное его стихотворение «К портрету Жуковского». Стихотворение было приурочено к выходу гравюры Ф. Вендрамини с портрета В. А. Жуковского кисти Кипренского. Однако Пушкин, безусловно, знал имя художника и ранее, ибо читал его «Дневник заграничного путешествия», опубликованный в 1817 году и так врезавшийся в память поэта, что он помнил его шесть лет спустя, когда, обращаясь к А. И. Тургеневу, писал ему 1 декабря 1823 года из Одессы: «Вы помните Кипренского, который из поэтического Рима напечатал вам в „Сыне отечества“ поклон и свое почтение».
Поэтому представляется вполне убедительной гипотеза советской исследовательницы, доктора искусствоведения Т. А. Алексеевой о том, что фраза из стихотворения Пушкина, посвященного Кипренскому — «ты вновь создал, волшебник милый, меня, питомца чистых муз», — может означать, что художник не один раз портретировал поэта. Сама Т. А. Алексеева при этом полагает, что речь идет о живописном портрете Пушкина, находящемся в одном частном собрании в Ленинграде и написанном, по-видимому, тем же Кипренским до его знаменитого изображения 1827 года.
Но есть и другая точка зрения. Она связана с известным рисованным портретом Пушкина-подростка, гравированным Е. И. Гейтманом и изданным в 1822 году в качестве приложения к «Кавказскому пленнику». Это был первый опубликованный портрет поэта, с тех пор получивший необычайную популярность. Изображенный на гравюре мальчик-поэт с курчавой «африканской» головой, с выразительным и живым взглядом схвачен художником в очень естественной и непринужденной позе. Опираясь щекой на согнутую в локте руку, он весь ушел в себя, весь поглощен работой мысли, полетом своей пламенной фантазии. Так понять и предугадать, что обещает русской литературе шаловливый подросток, делавший только первые шаги на поприще отечественной словесности, мог лишь очень большой мастер.
А публикаторы портрета забыли сообщить читателям имя художника. В примечании к поэме скупо сообщалось: «Издатели присовокупляют портрет автора, в молодости с него рисованный. Они думают, что приятно сохранить юные черты поэта, которого первые произведения ознаменованы даром необыкновенном».
И все. Читателям предоставлялась возможность только гадать, кто же создал оригинал подписанной Гейтманом гравюры, увековечившей образ юного Пушкина.
Эти гадания продолжаются вот уже второе столетие. Сначала говорили со слов Н. И. Павлищева, зятя поэта, что рисунок был сделан лицейским воспитателем и учителем рисования С. Г. Чириковым. Потом его автором называли самого гравера Е. И. Гейтмана.
Поиски истины были затруднены тем, что «Художественная газета», издаваемая приятелем Карла Брюллова Нестором Кукольником, в апреле 1837 года переиздала гравюру со следующим пояснением, которое до сих пор приводит в недоумение исследователей: «Портрет сей нарисован наизусть без натуры К. Б. и обличает руку художника, в нежной молодости уже обратившего на себя внимание всех тоговременных любителей. Гравирован Е. Гейтманом, который один на гравюре подписал свое имя».
Монограмма «КБ» в те времена могла означать лишь имя Карла Брюллова, который только что вернулся из Италии и был в зените славы. Поэтому никто не обратил внимания на нелепость заявления Кукольника, что портрет, передающий неповторимую индивидуальность юного поэта и его темперамент, сделан «наизусть без натуры». Тогда всем казалось, что Брюллов все мог. Тем более что до отъезда за границу в 1822 году художник действительно выполнил ряд превосходных акварельных портретов, предвещавших будущие триумфы его кисти, и за давностью времени вряд ли помнил, делал ли он набросок с лицеиста Пушкина, и потому не счел своей обязанностью подтвердить или опровергнуть слова Кукольника. Сам же поэт к тому времени уже лежал в земле.
В результате ничем не обоснованная версия Кукольника об авторстве портрета, гравированного Гейтманом, довлеет над специалистами по иконографии Пушкина вплоть до наших дней, заставляя их искать мотивы, позволившие «Художественной газете» заявить о причастности Карла Брюллова к рисунку. Дань этому отдал даже такой крупный ученый, как академик И. Э. Грабарь, который полагал, что портрет рисовал С. Г. Чириков, а «Брюллов, учившийся в Академии вместе с Гейтманом, заменил, вероятно, прозаический фрак поэтической сорочкой с эффектно накинутым плащом, и получился, ни дать ни взять — юный Байрон».
А вот что писал в 1941 году другой крупнейший специалист по рисунку старых русских мастеров профессор А. Сидоров: «Гейтман — посредственный гравер; но автор портрета Пушкина-подростка, без сомнения, был незаурядным мастером. Кто же он?.. Оригиналом гравюры Гейтмана, без сомнения, был рисунок карандашом. Гравюра эта передает все росчерки уверенного штрихования „итальянским карандашом“ и отличает в художнике опытного специалиста по рисунку. Им ни в коем случае не был… С. Г. Чириков, гувернер и учитель рисования лицея, где учился Пушкин… Опубликованные достоверные рисунки Чирикова никоим образом не походят по стилю и качеству на гравюру Гейтмана. Сторонниками авторства Брюллова поэтому было высказано предположение, что Брюллов „переработал“, прорисовал рисунок Чирикова, прежде чем он поступил к граверу. Но гравюра представляется созданной с рисунка, выполненного быстро, уверенно, целостно… Молодость Пушкина совпадает с молодостью родившегося в один год с ним Брюллова. У последнего есть великолепные портретные акварели, выполненные около 1820 года. Все же, если бы не указания Кукольника на то, что автором портрета, гравированного Гейтманом, является „К. Б.“, любой историк русского искусства счел бы, что этим автором является Кипренский… Если бы не было свидетельства Кукольника о мастере „К. Б.“, то мы бы на основании только стилистического анализа всех приемов и „почерка“ рисовальщика склонны были бы утверждать, что автором рисунка Пушкина, гравированного Гейтманом, был Кипренский, самый популярный тогда автор рисованных портретов».
И наконец, совсем недавно к вопросу об авторстве юношеского портрета Пушкина обратилась известный специалист по иконографии русских людей пушкинского времени, старший научный сотрудник Государственной Третьяковской галереи Л. И. Певзнер. Она развила аргументацию А. А. Сидорова в пользу авторства Кипренского, указав на тесную связь художника с лицейским окружением Пушкина, как о том говорит ряд его карандашных портретов, и даже привела малоизвестный рисунок «любимца моды легкокрылой» с дремлющего мальчика, изображенного почти в той же самой позе, что и поэт, но только с закрытыми глазами.
Однако и Л. И. Певзнер считает Брюллова причастным к созданию портрета юного поэта. Она выдвигает гипотезу о том, что последний «открыл» глаза мальчику, который был не кем иным, как юным Пушкиным. Но между мальчиком, на наброске Кипренского, с виду простым крестьянским подростком, и вдохновенным образом поэта нет ничего общего, кроме позы. А она-то лишний раз свидетельствует нам, что подлинным автором гравированного Гейтманом портрета был именно Кипренский, в силу чего домыслы Кукольника о принадлежности его будущему автору «Последнего дня Помпеи» следует считать чистейшей мистификацией, не имеющей под собой никакой почвы. Достоверных сведений о встречах Карла Брюллова до отъезда в Италию с Пушкиным нет, а вообразить, что какой-либо художник, будь то даже «великий Карл», был способен «наизусть без натуры» создать портрет, поражающий именно своей непосредственностью, мог только Нестор Кукольник с его весьма поверхностными представлениями о художественном творчестве. Карьера этого реакционного беллетриста и журналиста, закончившего свои дни в Таганроге, где он сменил перо на более доходный промысел угольного фабриканта, сама по себе очень красноречиво характеризует эту личность. Крушение на литературном поприще, впрочем, не отбило у Нестора Кукольника привычки в частной переписке порассуждать об искусстве, чем он, в частности, воспользовался в одном из своих поздних писем, чтобы заявить, что совершенно не в состоянии понять и оценить творчество великого Александра Иванова…
Но, как бы то ни было, в 1827 году во время сеансов между портретистом и портретируемым установились — или продолжились, родившись задолго до этого, — теплые, откровенные, дружеские отношения. Они нашли отражение в глубокой симпатии, помимо вполне естественного и закономерного чувства благодарности, которым проникнуто стихотворное послание Пушкина к Кипренскому.
Любимец моды легкокрылой, Хоть не британец, не француз, Ты вновь создал, волшебник милый, Меня, питомца чистых муз, — И я смеюся над могилой, Ушед навек от смертных уз. Себя как в зеркале я вижу, Но это зеркало мне льстит: Оно гласит, что не унижу Пристрастья важных аонид. Так Риму, Дрездену, Парижу Известен впредь мой будет вид.Портрет создавался в то время, когда художник начинал хлопоты, связанные с новым путешествием в Рим. На это же время падает очередная попытка уехать в «чужие края» и самого Пушкина, о чем он сообщал 18 мая 1827 года из Москвы своему брату Льву, когда ему наконец после многолетнего запрета было разрешено вернуться в столицу: «Из Петербурга поеду или в чужие края, т. е. в Европу, или восвояси, т. е. во Псков, но вероятнее в Грузию…» К моменту встречи с Кипренским Пушкин уже знал о беспочвенности своих надежд уехать в Европу, и ему оставалось только радоваться тому, что собиравшийся в новое заграничное путешествие художник намеревался взять с собой его портрет для показа на зарубежных выставках:
Так Риму, Дрездену, Парижу Известен впредь мой будет вид.В других лирических стихах Пушкина этого времени также, вероятно, нашли отзвук восторженные рассказы о «родине искусств» и художниках Возрождения, которые он слышал из уст Кипренского. Вспомним стихотворение «Кто знает край, где небо блещет», вдохновленное, по-видимому, долго жившей в Италии красавицей М. А. Мусиной-Пушкиной, которое датируется концом 1827-го — началом 1828 года.
Кто знает край, где небо блещет Неизъяснимой синевой, Где море теплою волной Вокруг развалин тихо плещет; Где вечный лавр и кипарис На воле гордо разрослись; Где пел Торквато величавый; Где и теперь во мгле ночной Адриатической волной Повторены его октавы; Где Рафаэль живописал; Где в наши дни резец Кановы Послушный мрамор оживлял, И Байрон, мученик суровый, Страдал, любил и проклинал?Образы и краски, с помощью которых поэт воспевает свою героиню, кажутся навеянными беседами с Кипренским с его увлечением Рафаэлем («Ах, Рафаэль, Рафаэль! Между живописцами Альфа и Омега»), столь ярко отразившимся, в частности, в портрете Е. А. Телешевой 1828 года (достаточно сравнить его колористический строй с такими работами великого итальянского мастера, как «Дама с единорогом» из римской галереи Боргезе и портретом Маддалены Дони из флорентийского музея Пигги), с его связями с современным художественным миром Италии (Канова), даже с легендой о происхождении фамилии живописца от имени греческой богини любви Киприды (Пушкин сравнивает свою героиню с Венерой Медицейской, называя ее «флорентийскою Кипридой»):
На рай полуденной природы, На блеск небес, на ясны воды, На чудеса немых искусств В стесненье вдохновенных чувств Людмила светлый взор возводит, Дивясь и радуясь душой, И ничего перед собой Себя прекрасней не находит. Стоит ли с важностью очей Пред флорентийскою Кипридой, Их две… и мрамор перед ней Страдает, кажется, обидой. Мечты возвышенной полна, В молчанье смотрит ли она На образ нежный Форнарины Или Мадонны молодой, Она задумчивой красой Очаровательней картины…Кипренскому, по-видимому, удалось заразить Пушкина своими увлечениями, рассказать об Италии и ее художниках, так, что они открылись поэту новыми, неведомыми гранями, засверкали новыми, невиданными красками. Характерно, что до встречи с Кипренским имя Рафаэля, которого здесь поэт называет «вдохновенным» и «харитою венчанным», встречается у Пушкина совсем в ином поэтическом контексте. В вариантах к 3-й главе «Евгения Онегина», написанной в 1824 году, Пушкин говорил:
В чертах у Ольги мысли нет Как в Рафаелевой мадонне…Любопытно и то, что стихотворение Пушкина «Из Alfieri», представляющее собой перевод начального монолога Изабеллы из трагедии Альфьери «Филипп», также было создано около того времени, когда поэт виделся с Кипренским. То есть с человеком, который во Флоренции встречался с Бутурлиным и Елизаветой Михайловной Хитрово, близкими друзьями графини д’Альбани, кои, по-видимому, ввели самого художника в салон подруги вольнолюбивого итальянского поэта…
Пушкин хорошо знал язык и культуру Италии. Итальянские мотивы мы часто встречаем в его творчестве. Но в числе причин, вызвавших их появление в его лирике 1827 года, наверное, были оживленные беседы с Кипренским, который еще в юности поразил Пушкина умением поэтически рассказать об этой стране. Можно не сомневаться, что беседы с гением русской поэзии вновь зажгли дар красноречия в художнике, собиравшемся вновь отправиться в Италию…
Выдающийся портретист, завоевавший признание в Европе, однако, должен был удовлетворяться частными заказами, а грандиозная патриотическая идея — создание портретной галереи героев Отечественной войны 1812 года, начало которой Кипренский положил своими карандашными шедеврами 1810-х годов, — была передана заезжему иностранцу англичанину Джорджу Доу, присмотренному Александром I во время Аахенского конгресса…
Реакционная критика, прекрасно осведомленная об опале Кипренского при дворе и в Академии, очень сдержанно отзывалась о его работах, зато до небес превозносила Джорджа Доу, который с неимоверной скоростью производил портреты для Галереи 1812 года и заодно выполнял многочисленные «партикулярные» заказы русских вельмож. За десять лет работы в России Доу написал около четырехсот портретов, нещадно эксплуатируя при этом русских подмастерьев и нажив колоссальное состояние. В 1828 году Николай I «повелеть изволил живописца англичанина Дове назвать первым портретным живописцем его императорского величества».
Это была еще одна пощечина отечественному искусству. Ведь патриотически настроенные критики прямо писали тогда, что, в противовес Кипренскому, «господин Дов» был всего лишь «эффектный живописец и отличный декоратор. Но для портретного живописца этого еще мало».
Портреты Доу, за немногими исключениями, были сделаны по одному шаблону, отличались величественными позами изображенных и броским колоритом, но были очень неглубоки по содержанию, передаче характеров, психологической разработке. У него начисто отсутствовали как раз те черты, которые составляли особенность дарования Кипренского и всей русской национальной живописной школы: умение проникнуть в глубины душевной жизни человека. Но что было до этого таким «ценителям», каким выступал, например, Фаддей Булгарин. Он, естественно, взахлеб расхваливал Доу и заявлял: «Мы почитаем г-на Дова одним из первых живописцев нашего времени». Кипренского же Булгарин удостаивал таких снисходительных суждений: «Нельзя не восхищаться трудами О. А. Кипренского, нельзя не порадоваться, что мы имеем художника такой силы, нельзя не погрустить, что он занимается одними портретами… О. А. Кипренский, доставив наслаждение любителям художеств, заставил их желать, чтобы он произвел что-нибудь историческое, достойное своей кисти». Великого русского портретиста вновь толкали на несвойственные его дарованию и художественному темпераменту занятия исторической живописью…
Добиться признания на родине оказалось труднее, чем в Европе. Кипренского не покидает мысль об отъезде в Италию, о фактической эмиграции из страны, пославшей на виселицу и на каторгу лучших своих сыновей. Расправа с декабристами затронула Кипренского лично, ибо удар обрушился на многие близкие ему семьи, с которыми он был связан десятилетиями дружбы, представителей которых портретировал, которых искренно любил и уважал: Муравьевых, Коновницыных, Тургеневых и многих других. Видимо, после поражения декабристов он опасался и за себя, как о том говорят его альбомы, в которые наряду с рисунками художник имел обыкновение заносить и свои мысли. Некоторые страницы с записями обрезаны автором…
Об Италии, обетованной земле художеств, о своей свободной и беспечной жизни, о друзьях и приятелях из числа живших там российских и иностранных мастеров Орест, как мы помним, начал тосковать еще по дороге во Францию. В России, где художника ждал такой суровый холод отчуждения, эта тоска не могла не усилиться, что чувствуется почти в каждом письме Гальбергу. Это проявлялось и в жажде новостей из Рима о жизни и трудах земляков, в стремлении помочь им словом и делом, в советах не спешить с возвращением в Петербург, ибо «честь отечеству делать можно везде». В Петербурге Кипренский продолжал чувствовать себя частью римской русской художественной колонии, хотя и старшим, но сотоварищем пенсионеров, разделявшим с ними их радости и горе, но в то же время считавшим своим долгом по праву старшинства наставлять их уму-разуму и в чисто житейских делах, и в профессиональной области. Сильвестру Щедрину еще из Флоренции, как мы помним, он настойчиво советует съездить в Терни и написать тамошний водопад, а из Петербурга рекомендует при передаче «отдаленностей» выбирать «освещение с некоторым туманцем». Архитектору Константину Тону подсказывает внимательно изучить наследие Палладио и Балтазара ди Перуцци, который «также хороший теска архитекторам декорационным и недекорационным». О Карле Брюллове, хоть он его и «в глаза не видал» (потому что тот с братом Александром, архитектором, приехал в Рим уже после отъезда Кипренского из Италии), пишет, что «весьма доволен его картиной „Эдипа“». Орест, как видно из этого, познакомился с творчеством молодого живописца по его академической композиции «Эдип и Антигона», остававшейся в Петербурге, и сразу же оценил талант автора.
Но самое большое расположение и желание помочь Кипренский выказывал к Гальбергу. Едва прибыв в Петербург, он сразу постарался устроить заказ для скульптора, о таланте которого давал повсюду самые лестные рекомендации, и сумел заинтересовать творчеством Самуила Ивановича князя Ивана Алексеевича Гагарина. Князь, которого Кипренский портретировал еще в Твери, сохранил к художнику прежние добрые чувства, ценил его талант и полагался на его вкус, собирая коллекцию картин и статуй. Достославный меценат дал Кипренскому убедить себя, что ему никак нельзя обойтись без работы одаренного российского скульптора, обретающегося в Риме. Орест тут же с восторгом сообщил об этом Самуилу Ивановичу. Князь, писал он Гальбергу, «уважая ваш талант, желает иметь работы вашей статую в рост человеческий или поменьше немного, из мрамора. Просит вас выбрать приятный сюжет по собственному вашему вкусу…» По поводу сюжета завязалась длительная переписка. В конце концов решено было, что Гальберг вырубит из мрамора фигуру юноши, пораженного звуками чудной мелодии, которую донесли до него зефиры. В виде зефиров Екатерина Семеновна пожелала, чтобы были изображены ее и Ивана Алексеевича дети: Надинька и Саша. Орест обязывался прислать рисуночные портреты с обеих девочек, которых он, часто бывая в доме князя, хорошо знал: «Надинька, моя фаворитка, и я люблю ее без памяти, а меньшой Саше не более двух лет…»
Орест был страстным поклонником таланта Екатерины Семеновны Семеновой, называл ее «единственной в свете трагической актрисой», которая к тому времени уже собиралась оставить сцену. После многолетней связи с Иваном Алексеевичем она обвенчалась с ним и уехала в Москву, где князь получил большое наследство. Благодаря стараниям Ореста князь был очень щедр в расчетах с Гальбергом. Одновременно Кипренский пытался обратить внимание на талантливого ваятеля и других русских меценатов: графа Румянцева-младшего, Кушелева-Безбородко и даже самого царя.
В ответ от любезного Самойлы Ивановича он хотел лишь одного — чтобы тот разыскал его милую Мариуччу, ибо, писал Орест, «у меня никого ближе ее нет на земле».
Через какого-то Камуэнца Гальберг сумел собрать кое-какие сведения о девочке. Ее поведением довольны, но видеться, общаться, переписываться с нею не было позволено. Это известие донельзя обрадовало и огорчило Ореста. «Разве не позволено ближайшему из ее родни видеть ее? — спрашивал он у Самуила Ивановича. — Вить она не монашенька. Кто же к ней ближе меня? Виновника, так сказать, ее успехов и счастья ее».
Орест умолял скульптора встретиться с настоятельницей заведения, в котором оказалась девочка, и объявить ей, что он, Кипренский, непременно приедет «в Рим в течение двух или трех лет» и возьмет под свое покровительство малютку. Настоятельницу он просил уверить, что у него «в предмете счастие Марьючи», а самой Мариучче передать, что он никогда не оставит ее и «чтобы она на Бога и на меня всю надежду полагала».
Повидать Мариуччу другу Ореста, однако, не удалось и не удалось даже узнать ее адрес. Но Кипренский не отчаивался. Он сообщал Гальбергу имена людей, которые принимали участие в судьбе девочки, и которые, будучи его друзьями, не должны были отказаться от содействия в хлопотах художника о своей воспитаннице. Это был и какой-то доктор, лечивший Кипренского и по делу Мариуччи обращавшийся к государственному секретарю Ватикана кардиналу Консальви, и упоминавшийся уже священник, одно время живший в России, и другие римляне.
Сам Орест тоже не сидел сложа руки. Когда на коронацию Николая I в Россию прибыл представитель Ватикана монсеньор Бернетти, он тотчас отыскал его и добился благословения своих намерений в отношении подраставшей девочки.
Вот что Орест сообщал Гальбергу о своей встрече с римским прелатом и важном разговоре с ним о Мариучче:
«Возвратимся опять к нашему делу, а дело не шутка. Бывший губернатором в Риме monsignor Bernetti, как вам небезъизвестно, был послан к нашему двору с поздравлением на восшествие на престол Николая Павловича, ныне пожалован он кардиналом, прекрасный человек! Я прибегнул к нему, сделавши визит, говорил о моей Maria Falcucci, просил его совету, и как мне поступить в моем намерении. Именно: di sposarla, venendo a Roma[9]. Можно, ему и кардинал Гонсальви говорил об ней. Сия тайна между нами останется до своего времени. Спросил он, кто у меня хороший приятель в Риме, кому бы его эминенца[10] мог отнестись в сем деле. Я вас сказал, и он потребовал записочку для памяти, а ровно и о вашем жительстве. Прощаясь с ним, написал я Promemoria[11]. Вы можете… осведомиться. Вам покажут, как он мне сам сказал, и старую знакомку нашу, да вы сего и потребовать можете. Я выбрал самую лучшую дорогу. А там что Бог велит…
Теперь вы знаете мое intenzione[12]. Храните тайну сию. А мне скоро случай будет с вами увидеться, и у меня из мыслей никогда не выходит Италия».
Завершал Орест свое письмо опять словами о Мариучче, укрытой за монастырскими стенами и ничего не подозревавшей о том, как ее судьба волнует русского художника, бывшего ее воспитателя: «Я очень любопытен знать, думает ли наша героиня, что об ней так хлопочут. Она, чай, думает, что ее совсем позабыли русские».
Некоторое время спустя в другом письме Гальбергу Орест вновь писал о своей встрече с монсеньором Бернетти. «Ему, — продолжал художник, — подана записка, он примет вас и доставит случай увидеть персону, которая меня столь интересует. Пожалуста, Самуил Иванович, потрудитесь сие мне сделать, т. е. посмотреть, и что вы увидите и как вы увидите, так мне и отвечайте. Ради Бога, исполните комиссию сию».
Кардинал Бернетти, однако, не захотел помочь Гальбергу исполнить «комиссию» Кипренского. Как ни старался Самуил Иванович, девочку он так и не разыскал.
В письме к родным от 2 октября 1827 года он писал: «Скажите Оресту Адамовичу, что с две недели тому назад, как я получил от г. Кривцова письмо его, и вскоре, очень вскоре, опять буду к нему писать. Скажите, что по получении сего письма я снова был несколько раз у кардинала Бернетти и попрежнему ничего не узнал: до него я не мог добиться, ибо он болен подагрой; но после пяти моих приходов он выслал мне сказать, что сколько он ни спрашивал по всем консерваториям[13], нигде не мог ничего ни узнать, ни отыскать. Хочу еще попытать, не удастся ли мне услужить почтенному моему Оресту Адамовичу лучше кардинала».
Добрейшему Гальбергу, видно, было не судьба услужить Оресту Адамовичу. Кипренскому оставалось полагаться только на себя в попытках разрешить тайну дорогой Мариуччи. Теперь ведь исполнение его заветного желания о новом путешествии в Италию было совсем не за горами. С мыслями об этом Орест работал не покладая рук, ибо ныне благодетеля у него не было, чтобы оплатить расходы по путешествию в дальние края. В предвидении скорой встречи с милой «Марьючей» работалось ему вдохновенно и легко. «Лето я провел пресчастливо! — писал Орест Гальбергу осенью 1826 года. — Жил на даче, в новой деревне, у Шишмарева, в саду была новая деревянная ателье, и я работал в ней не на шутку. А лето было, как и старики не запомнят, — настоящее, итальянское».
И в другом письме тому же Гальбергу в апреле 1828 года он с удовлетворением рассказывал: «…Я пишу, писал и написал много портретов грудных, поколенных и в рост. Надеюсь, что из всех оных портретов ни один не будет брошен на чердак, как это обыкновенно случается с портретами предков».
Судьба способствовала осуществлению замыслов Кипренского. В 1826 году умер в Италии, так и не собравшись вернуться на родину, Федор Матвеев. А год спустя за ним последовал в мир иной главный недоброжелатель Кипренского, престарелый А. Я. Италинский. Пост русского посланника в Риме занял Г. И. Гагарин.
Кипренский не скрывал восторга по поводу назначения своего друга. «Как я рад, — писал он, — что князь Г. И. Гагарин наконец занял приличное ему место, а Италинской в Тестачио подле Матвеева, конечно, похоронен (художник ошибался, думая, что его враги похоронены на римском кладбище для иностранцев Тестаччо; на самом деле и Матвеев, и Италинский были погребены в Ливорно, где была православная церковь с погостом при ней. — И. Б. и Ю. Г.). Давно б он спохватился! лучше бы было».
Орест знал, сколь благожелательны были отзывы Г. И. Гагарина об успехах работавших в Риме отечественных художников. В письме от 6(18) января 1828 года русский посланник в Риме делился своими впечатлениями об этом с А. Н. Олениным в таких словах: «Теперь позвольте донести Вам два слова о наших художниках. Брюллов — гений необыкновенный, который на все подается. Его портреты, его сочинения, его отделка — все превосходно. Копия „Афинской школы“ будет… в своем роде явление. Нельзя ничего вообразить себе совершеннее. Он снова оживил Рафаэля, и никто лучше его не мог сего исполнить. Гальберг почитается здесь скульптором первого достоинства, жаль, что он не имеет занятий, соразмерных его дарованиям… Щедрин в Неаполе. Я его почитаю лучшим пейзажистом в Италии. Никто так верно и бесподобно не выражает натуры, особливо морские виды. У меня есть его большая картина, представляющая Амальфи и весь залив, нельзя на нее довольно налюбоваться, и она убивает все прочие картины, возле ее висящие… Он прекрасно фигуры пишет и замысловатым расположением народных сцен придает новое достоинство своей работе».
О необыкновенном таланте Карла Брюллова много толков было и в Петербурге, куда пришла его первая «итальянская» работа «Итальянское утро».
В «Утре» молодой художник впервые отказался от надуманных академических сюжетов и обратился к жизни, изобразив умывающуюся у крана молодую итальянку. Обнажив грудь, молодая женщина с типично простонародной римской прической и складом лица совершает утренний туалет под лучами сияющего летнего солнца. «Картина сия, — писал журнал „Отечественные записки“, отражая удивление не привыкших к такого рода живописи русских зрителей, — заключает в себе истинное волшебство в живописи: девушка, встрепенувшаяся от сладкого сна, бежит к фонтану освежиться водою. Она подставила обе ручки под желобок и с нетерпением ждет, как они наполнятся водою, которая, журча, падает на них тонкою струею. На сию последнюю устремлено все ее внимание… Меж тем лучи восходящего солнца проливаются, как чрез янтарь, сквозь прелестное ушко ее. Это совершенное очарование!»
До Петербурга доходила молва также и о необыкновенных успехах Карла Брюллова в портретном искусстве, о чрезвычайной гибкости его кисти, с одинаковым блеском проявляющей себя во всех областях живописного мастерства. Сам Карл в своих письмах сообщал, что его буквально осаждают заказами русские путешественники, приезжавшие в Италию.
Кипренский был убежден, что он тоже будет по-прежнему в моде среди заказчиков, что и на чужбине ему обеспечен верный кусок хлеба. Орест верил, что вновь слагались все условия, чтобы попытать счастья на общеевропейском художественном поприще.
Неаполитанские страницы
…Для власти, для ливреи
Не гнуть ни совести, ни помыслов,
ни шеи;
По прихоти своей скитаться здесь
и там,
Дивясь божественным природы
красотам
И пред созданьями искусств
и вдохновенья
Трепеща радостно в восторгах
умиленья…
А. С. ПушкинКипренский покинул Петербург в конце июня 1828 года. При нем был, как сообщало «Прибавление к Санкт-Петербургским ведомостям», «живописец его сиятельства графа Шереметева Матвей Постников». Это ввело в заблуждение Сильвестра Щедрина, решившего, что Орест Адамович «очень разбогател и вояжирует с человеком», когда он получил просьбу подыскать для него квартиру в Неаполе.
На самом деле Постников, видимо, путешествовал на счет графа Д. Н. Шереметева, хотя живописцем он так и не стал и жил в доме Кипренского в Италии на положении слуги.
Как на этот раз Орест Адамович добирался в Италию, мы не знаем. Не знаем, останавливался ли он по дороге у своих женевских друзей Дювалей или ехал каким-то другим путем, минуя Швейцарию. С Дювалями, во всяком случае, он в это время возобновил связи, которые потом не прерывал до самой смерти, встречался с ними в Италии, вручал им «комиссии», когда они ездили в Россию.
Путь у него опять, как и в первую поездку в Италию, занял несколько месяцев, и в Рим он прибыл зимой, в середине января 1829 года, когда там уже не было любезного Самуила Ивановича. Тот покинул «вечный город» 13 октября 1828 года, направляясь по вызову царя в Петербург, где был определен к «кабинету его императорского величества» и получил вместе с Орловским высочайшее повеление работать над памятниками Кутузову и Барклаю-де-Толли.
По прибытии в Рим Орест Адамович тотчас принимается за розыски Мариуччи, находит адрес монастырского заведения, где она воспитывалась, и встречается с девушкой.
Надо думать, что Кипренский тут же изложил ей свои пропозиции насчет брака и что Мариучча сразу ответила согласием, хотя ее суженый был намного старше ее.
Но вместо того, чтобы, не откладывая дела в долгий ящик, сыграть свадьбу и зажить счастливой жизнью с молодой красавицей женой, он вновь оставляет Мариуччу за стенами монастырского заведения и на долгие годы отправляется в Неаполь. Причиной тому могли быть только материальные затруднения художника, не позволявшие ему пока что обзаводиться семьей. Но Кипренский ничуть не унывал. Он думал, что его кисть опять привлечет к нему внимание богатых заказчиков и ему улыбнется счастье. В письме Гальбергу из Неаполя от 8 июня 1829 года он писал:
«Давно мы не беседовали с вами, и как жалею я, что мы разъехались. В Риме я прожил два месяца и все дела мои хорошо сладил. Виделся с кардиналом Бернетти. Он в самом деле не знал и не мог найти, куды была помещена М(ария), и он чрезвычайно обрадовался, когда я принес ему известие точное, где она находится. Было у меня свидание в одном доме и проч(ее), и проч(ее), и проч(ее)».
И далее — о заказах:
«В Неаполе меня полюбили. Работы имею, и все желают, чтобы я короля и королеву им написал, даже представили они меня королю. Авось либо наши дела пойдут хорошо».
От Самуила Ивановича Оресту теперь никаких услуг не требовалось, но он никогда не забывал старых друзей, проявивших к нему доброту и сочувствие, и даже из Неаполя пытался ободрить скульптора, павшего было духом от неразберихи русской жизни и написавшего Сильвестру Щедрину полное отчаяния письмо, в котором были такие строки: «Мой совет — не ездите сюда: здесь ни в чем толку нет. Я уже два месяца живу, а еще не знаю ни того, что со мною будет, ни чего от меня хотят. Также ни за какое дело приняться не могу, а время, Бог знает, как проходит. Впрочем, не могу жалеть, что сюда приехал, потому что приехал поневоле». Об Академии Гальберг отзывался точь-в-точь также немилостиво, как в свое время Кипренский: «Итак, не распространяясь, скажу только, что ныне там — гадость: все между собой в ссоре, все друг другу завидуют, все друг на друга ябедничают, шпионят, etc. etc.[14], так что сердце мое вовсе отлегло от Академии, и я ни за что не хотел бы принадлежать ей».
Хорошо понимая, как трудно было отвыкшему от российских нравов скульптору входить в петербургскую жизнь, Кипренский пытался в письме к нему и поделиться своими полезными знакомствами и помочь получить заказы. «Как вам Питер показался после Рима, где вы оримлянились, как и я? — спрашивал он у Гальберга. — Подымаются ли у вас руки на работу и вспоминаете ли вы отечество искусств?.. Да, пожалуста, сходите к Афанасию Федоровичу Шишмареву, от меня попросите его, чтобы вам он показал свой портрет в русской рубашке. Он вас познакомит и покажет портрет в рост родственника своего Карла Ивановича Албрехта, Авдулиной и проч(их). Да скажите ему, чтобы он посоветовал графу Д. Н. Шереметеву свой бюст вам заказать из мрамору от моего имени. Да вот еще лучше, доставьте при сем прилагаемое письмо самому графу. Афанасий Федорович, да и Глинка, вам расскажут, как трудно добиться до графа. Вооружитесь, однако, терпением, и будет ладно, ибо граф прекраснейший и предобрейший человек. У него посмотрите мои некоторые работишки и напишите мне, как вы их находите, и вы увидите, что я не терял времени в Питере».
Не убавилось доброжелательности к людям у Ореста, несмотря на все его злоключения, не ожесточилось его сердце, не зачерствела душа. Письмо его к Д. Н. Шереметеву тоже сохранилось. Его одного достаточно, чтобы опровергнуть все позднейшие домыслы о мнимом оскудении душевных качеств Кипренского, и потому стоит привести его здесь полностью. Вот текст этого письма:
«Милостивый государь, граф Дмитрий Николаевич!
К Вам не иначе письмы начинают писать, как со слова прошу.
Итак, прошу Вас от всего сердца. Подателю сего письма — необыкновенному таланту, превосходящему самого Канова в изваянии из мрамору портретов, заставить его сделать Ваш бюст из мрамора. Вы ничем столько не обяжете Ваших друзей и приятелей, а равно и любителей искусства.
Это Самуил Иванович Гальберг, о котором я с почтением несколько Вам раз говаривал. Со временем, может быть, Вы вздумаете украсить комнату бюстом матери и отца Вашего. Гальберг сделает вещи классические. Познакомте Гальберга с Петром Михайловичем Донауровым. Его знакомство и приятно и полезно. Только он слишком тих. Расшевелите его. Это один из таких людей, который делает России честь и славу, а сам он о себе думает, что он крошка на земле.
Государь его вызвал из Рима, да я не знаю, выиграет ли он в Питере.
В Риме он был весьма уважаем и римлянами, и нашими путешественниками. Он сделал прекрасную статую графа Остермана, лежащего на плаще, облокотившись на барабан.
Рекомендую Вашему сиятельству г. Гальберга как необыкновенного таланта, просвещенного человека, моего друга, скромнейшего из людей. Таковых людей целый свет ищет. Откройте для него двери в Вашем доме».
Одновременно с Кипренским Петербург покинула и сестра его старинной знакомой по Италии Елизаветы Михайловны Хитрово — Дарья Михайловна Опочинина с дочерьми Александрой и Марией. Д. М. Опочинина тоже отправлялась в Италию, где находился ее муж шталмейстер двора Федор Петрович Опочинин, который сопровождал путешествовавшую по Европе великую княгиню Елену Павловну.
В ноябре 1828 года они оказались в Неаполе, куда потом пожаловал и Кипренский, поселившийся в одном доме с Сильвестром Щедриным по набережной Санта Лучия, 31. Чем было вызвано решение Кипренского уехать в Неаполь вместо того, чтобы задержаться в Риме и воспользоваться там расположением своего старого друга Г. И. Гагарина, догадаться нетрудно.
Художник спешил в Неаполь, надеясь на получение заказов прежде всего от великой княгини, продолжавшей покровительствовать искусствам, и членов ее свиты, как это случилось с Щедриным, которому Елена Павловна заказала пять картин и приобрела у него один готовый пейзаж, да еще заставила сделать два рисунка в ее «альбум».
Благосклонна ли была судьба и к Кипренскому, точных известий не имеется. Можно предполагать только, что находящиеся в собрании Русского музея карандашные портреты С. А. Голенищевой-Кутузовой и двух неизвестных девушек явно славянского типа, выполненные в 1829 году в Неаполе и подписанные автором (Kiprensky. 1829. Napoli), так же, как и некоторые другие, утраченные ныне работы, датированные этим же годом, были сделаны с представительниц целой толпы русских аристократок, съехавшихся в Неаполь по случаю визита великой княгини.
Решение поселиться в Неаполе по возвращении в Италию скорее всего у Ореста созрело еще в Петербурге. Ему хорошо было известно, как бойко расходились среди русских и иностранных любителей в Неаполе картины Сильвестра Щедрина. Достаточно он был наслышан и об успехах там Александра Брюллова. Даром что архитектор, тот с увлечением занялся в Неаполе акварельной живописью, писал виды Неаполя и его прославленных окрестностей, делал портреты, изображая путешествующих русских барынь на фоне знаменитых неаполитанских памятников, что чрезвычайно ими ценилось.
Слава об умелом русском портретисте дошла до неаполитанского монарха, который пожелал, чтобы он запечатлел и его самого, и всех многочисленных членов его семьи. Услугой этой, впрочем, Александр Брюллов был обязан Елизавете Михайловне Хитрово. Дочь Кутузова, когда жила в Неаполе, продолжала использовать свои высокие связи для покровительства русским художникам. «Брюллов-архитектор» не оставался в долгу перед своей доброй покровительницей, написав замечательный портрет ее дочерей Екатерины и Долли, тоже, конечно, на фоне Неаполитанского залива, проявив много теплоты, сердечности и проницательности при трактовке их образов.
От Федора Брюллова Орест знал об успехах Александра, можно сказать, из первых уст, ибо тот с удовольствием читал неаполитанские письма брата петербургским знакомым, причем особенно любил повторять рассказ о королевской милости, которой Александр был удостоен благодаря хлопотам Елизаветы Михайловны. «Одна русская, госпожа Хитрово, — писал родителям архитектор, — быв у королевы, случайным образом разговорилась о моих портретах; ее величество пожелала их видеть, и мне предложили сделать портреты королевской фамилии… Я их уже кончил, все были чрезвычайно довольны; до сих пор я сделал только три: короля, королевы и принцессы, старшей их дочери, цельные фигуры на бристольской бумаге; мне заплатили довольно хорошо, а королева подарила мне еще часы и просила еще налитографировать эти портреты. По возвращении их из Милана буду делать и других принцессенят (их около десяти); сверх того, имею столько партикулярной работы, что должен отказываться или заставлять дожидаться».
Конкурентов в Неаполе в отличие от Рима среди русских портретистов к тому времени не было. Александр Брюллов, побывав после Италии в Англии, в 1827 году вернулся в Россию. А его брат Карл постоянно жил в Риме и в Неаполе появлялся только наездами. Сильвестр Щедрин, ландшафтный живописец, не был соперником, пробуя силы в жанре, он лишь искал способ оживить пейзажи, фигуры бродяг и капуцинов интересовали его не сами по себе, а как часть неаполитанской природы…
Орест был уверен, что в Неаполе, где русская кисть сумела уже так блистательно зарекомендовать себя, он, первый русский портретист, никак уж не ударит в грязь лицом…
Встретившись с Кипренским, Сильвестр Щедрин нашел, что внешне тот изменился, но в душе остался все тем же легко увлекающимся и бурно реагирующим на все человеком, что и прежде: «Он очень переменился фигурой, но не переменился в выражениях, очень, очень прекрасно и очень, очень прескверно, — иронизировал пейзажист над манерой выражаться старого приятеля. — Беседа его мне была приятна, он мне рассказывал кучу петербургских новостей…»
В свою очередь, Щедрин старался ввести Ореста в столь отличную от Рима неаполитанскую жизнь. «Фигурой» он тоже изрядно переменился, похудел, был желт лицом. Его мучила какая-то непонятная болезнь, которую неаполитанские эскулапы определяли каждый по-своему, и каждый по-своему предписывал прямо противоположные способы лечения.
Однако добродушный и насмешливый нрав, несмотря на хвори, Сильвестр сохранил. Он преуморительно рассказывал, как в прошлом году, когда в Неаполь пришел русский бриг «Ахиллес», матросы, называвшие всех иностранцев немцами, о нем капитану докладывали так:
— Пришел немец, что по-русски говорит.
Сами матросы, не зная ни единого слова по-итальянски, между тем охотно вступали в беседы с неаполитанцами и, к великому изумлению художника, по-видимому, легко находили общий язык. Когда он спросил одного моряка, понимает ли он неаполитанцев, тот с обидой ответил:
— Как же, сударь, конечно, разумею. Ведь я — живой человек!
Соскучившись по России, русским людям и русской кухне, Щедрин охотно бывал на корабле, где его с распростертыми объятиями встретили офицеры, поразившие бережливого художника бесшабашной привычкой сорить деньгами. Моряки подарили ему массу ненужных вещей, и в их числе ящик мальтийских сигар и турецкий пистолет, взятый в каком-то деле на турецком судне. Пистолет, не умевший обращаться с оружием пейзажист запрятал поглубже в стол, а сигарами угощал своих гостей, добавляя, что и сам любит побаловаться дымком, но только на натуре, от скуки, когда долго приходится быть одному.
Кипренский смеялся вместе с Щедриным над открытием, сделанным пейзажистом на бриге, где тот впервые за десять лет итальянской жизни смог вволю полакомиться черным хлебом и щами, от которых он ничуть не отвык в отличие от кваса, показавшегося ему совсем невкусным по сравнению с сухим итальянским вином…
Сильвестр рассказал Кипренскому, что русский посол в Неаполе граф Густав Оттонович Штакельберг, который по-прежнему возглавляет миссию после кратковременного появления в этой должности «Убри Убривича» в начале 20-х годов, хоть и несколько чопорен, как всякий истинный лифляндец (что помнил и Орест), но к художникам проявляет расположение, приглашает к себе на обеды вместе со знатными путешественниками и путешественницами. Щедрин говорил, что сам он, слава Богу, большую часть года проводит в окрестностях Неаполя и потому избавлен от необходимости часто бывать у посла в стеснительном великосветском обществе, ибо на натуре так одичал, что и шагу не умеет сделать на виду у столь важных особ. А когда бывает в Неаполе, ссылается на болезни и недосуг, но граф Штакельберг все равно вытаскивает его на свои рауты.
Сильвестру легко было манкировать посольским обществом. От заказов у него не было отбоя, и на посольские приемы он не хотел ходить более всего потому, что там его одолевали новыми просьбами о картинах персоны, которым трудно было отказать, не повредив себе. А для Ореста подобные встречи — прямо манна небесная. Где еще приобретешь столько полезных знакомств? Сильвестр, впрочем, не так уж чурался, как выяснилось в дальнейших разговорах, великосветских связей, ибо почти все его заказчики были знатные русские господа и дамы. Правда, его известность уже вышла за пределы круга отечественных любителей художеств. За его картинами теперь гонялись знатоки из итальянских и других европейских государств. И среди них были даже банкиры Ротшильды. А Неаполитанская Академия художеств, долгое время не желавшая признавать, что в России вообще есть свои живописцы, пожаловала Щедрина званием почетного профессора. Диплом принесли Сильвестру через неделю после того, как в Неаполь приехал Кипренский. Орест по своему обычаю искренне порадовался этому событию как успеху российских художеств, которые и на неаполитанской земле не ударили лицом в грязь. Сильвестр хоть и не любил академических титулов, на сей раз тоже не скрывал, что доволен признанием чужеземной Академии.
— Ведь я оного не спрашивал, — говорил он, держа в руке диплом. — Даже и в голову не приходило. Главное тут, Орест Адамович, в том, что из числа почетных профессоров за смертью ординарного профессора избирают ему замену, будь он неаполитанец или иностранец. И посему русский художник может в один прекрасный день стать экзаменатором неаполитанских живописцев, учить их уму-разуму. Вот какие настали времена, но, видит Бог, я этого отличия не желал и от учеников бегаю, как черт от ладана.
Орест слушал Щедрина и думал, как все-таки они не похожи друг на друга. Ученик — не ученик, а он, Кипренский, всегда готов помочь молодому таланту, даже если совсем недосуг и самого осаждают невзгоды. Как не помочь, ежели все художники — братья: русские, итальянцы, поляки…
Да и так уж равнодушен к ученикам Сильвестр, ежели столько возится с этим молодым неаполитанцем? Как бишь зовут его? Чуднáя такая фамилия? Да, Джиганте, Джачинто Джиганте. Надо же так судьбе посмеяться над юношей: ростом с наперсток, а фамилию носит Джиганте: гигант, великан. Школы вовсе нет, но талант виден сразу. Оресту очень понравился этюд Джачинто, который он показывал Щедрину: не худо, совсем не худо!
Надобно и с другими неаполитанскими питторами познакомиться. Особливо из этой самой «Школы Позиллипо». Это их так нарекли ученые мужи из Неаполитанской Академии. Экие снобы! «Школа Позиллипо» ухо режет в Неаполе также, как если бы в Петербурге объявилась «Школа Охты». Направление, которое окрестили именем квартала, где ютится неаполитанская голытьба, дескать, может быть живописной школой только в насмешку! А Сильвестр толкует, что питторы «Школы Позиллипо» одни только и говорят здесь свое, новое слово в ландшафтной живописи. Они открыли красоту в неброских видах Мерджеллины и Позиллипо с кишащим на набережных неаполитанским бедняцким людом. Целые поколения пейзажистов проходили мимо этих сюжетов, думая чего-то достигнуть, без конца повторяя Клавдия Лоррена и Сальватора Розу. Щедрин без гонора уверял, что интерес к этим видам разбудил и он своими картинами. Недаром многие неаполитанские питторы не стесняются повторять его мотивы.
Орест вновь перечитал написанный по-итальянски диплом Сильвестра: «Королевский институт изящных искусств. Неаполь, 24 марта 1829 года. Господин профессор! Его величество королевским указом от 7-го числа текущего месяца марта 1829 года удостоил возвести вас в звание почетного профессора Королевского института изящных искусств по предложению штатных профессоров Королевского института. Пользуюсь случаем, чтобы засвидетельствовать вам полное мое удовлетворение по поводу вхождения в число профессоров института столь достойного и одаренного художника».
Диплом был подписан директором Королевского института изящных искусств, профессором живописи кавалером Антонио Никколини.
— Да не минет и нас милость сия! — мысленно пожелал Орест себе благого начала в славном граде Неаполисе, где судьба была так благосклонна к его соотечественнику. — Да не ударят здесь лицом в грязь и русские исторические и портретные живописцы! А будет угодно судьбе, можно испытать силы и в пейзаже — не боги горшки обжигают. Авось и Оресту, сыну Адама, улыбнется фортуна в Неаполе…
Иностранцев в Неаполе оказалось превеликое множество. Русские вояжеры приехали сюда вслед за великой княгиней, французов, англичан и немцев из Рима выгнала отмена там карнавальных увеселений и объявление траура по случаю кончины папы Льва XII. С набережной Санта Лучия, где, не считаясь с расходами, в одном доме с Щедриным проживал Орест Адамович, открывался распрекрасный вид на Неаполитанский залив и Везувий, а под окнами развертывалась яркая жизнь неаполитанцев, которая так прельщала Сильвестра, запечатлевшего ее в десятках своих картин. Много их — и оконченных, и в виде этюдов — стояло у него в студии. Последние картины почти все изображали Неаполь при ночном освещении: набережные, Анжуйский замок, Замок Яйца, гроты, катакомбы. Гроты и катакомбы освещались красноватым пламенем костров, пейзажи — бледным серебряным светом луны и багровыми всполохами извергающегося Везувия, а в затемненных местах — и пламенем костров, вокруг которых стояли в своих живописных облачениях неаполитанцы. Временами выходило пестровато, а временами — чудо как хорошо! Нет, недаром провел Сильвестр в Италии десять лет жизни! И потрудился здесь он на славу! Удобно жить рядом с таким земляком: и Неаполь знает, и с нравами и обычаями неаполитанцев знаком, и заказчиков к себе, как магнит, притягивает, а истинные любители не пройдут мимо и его соседа.
Многие, очень многие важные персоны из свиты великой княгини вслед за Еленой Павловной захотели приобрести картины Сильвестра, но всех он удовлетворить уже не мог, ибо законченные работы маслом разошлись, а наработать новых в скором времени не надеялся по причине недуга. Но графине Юлии Павловне Самойловой отказать не мог. Уступил ей вид Вико Экуэнсе, приморского поселка близ Сорренто, который Сильвестр ценил за живописное местоположение и за минеральную воду, коей лечил свои хвори.
Да и как откажешь графине: божественно хороша, богата, щедра. В художествах вкус имеет верный и тонкий, с художниками ласкова и обходительна. Едва Щедрин заикнулся графине, собиравшейся из Неаполя отправиться в Петербург, о письме брату, она без всякой чопорности согласилась взять на себя комиссию.
Осчастливила ли Юлия Павловна своим вниманием и Кипренского, мы не знаем. Скорее всего — нет. И времени, чтобы позировать, у нее совсем не было, потому что она уехала из Неаполя вместе с великой княгиней 24 марта, а Кипренский появился там только за неделю с небольшим до этого. И предпочтения ее в это время были целиком обращены к другому русскому портретисту, с которым, кстати, она и прикатила в Неаполь и который уже работал над целой серией ее изображений: Карлу Брюллову. Пылкая графиня переживала пору бурного увлечения «Бришкой драгоценным» и ни от кого этого не скрывала…
Она, впрочем, и прежде не умела и не хотела скрывать свои увлечения, за что уже поплатилась крахом супружеского союза с графом Н. А. Самойловым, злой молвой света на ее счет и неудовольствиями по поводу ее образа жизни самого государя.
…Как ни мало пребывала Юлия Павловна в Неаполе и как ни очарована была кистью своего возлюбленного, она нашла время посетить студию Ореста, милостиво отнеслась к привезенным им из Петербурга старым работам, в особенности портретам старого Адама Швальбе и гусара Давыдова, пожелала ему успехов в Неаполе и пригласила навестить ее в Милане, где после поездки в Петербург намеревалась обосноваться на жительство. В Милане в ее распоряжении были роскошные дворцы и виллы графа Литты, второго мужа ее бабки, со времен Екатерины II находившегося на русской службе и достигшего в Петербурге самых высоких чинов и отличий Российской империи, а вместе с тем ставшего и обладателем колоссального состояния, которое прибавилось к его итальянским владениям. Граф происходил от средневековых правителей Милана герцогов Висконти, от которых в числе прочего унаследовал великолепную художественную коллекцию. Юлия Павловна была прямой наследницей Литты, ибо у него от брака с бабкой детей не было, и граф, трогательно любивший внучку жены, со временем удочерил ее и завещал ей все свои богатства как в России, так и в Италии.
Над какими сюжетами Кипренский в это время работал, что он создал, помимо упоминавшихся выше карандашных портретов, известно немногое. Но и из этих отрывочных сведений встает картина чрезвычайно интенсивной деятельности художника, который пишет и рисует портреты, продолжает опыты в жанровой живописи, делает пейзажи с видами Неаполитанского залива и Везувия, создает историческую аллегорию «Тибуртинская сивилла, предсказавшая явление Мессии Августу», обращается к политической злобе дня в «Читателях газет», откликнувшись на революционные события в Польше. Кипренский спешит продемонстрировать универсальность своего таланта, убедить, что он не отстал, находясь в Петербурге, ни от младших соотечественников Сильвестра Щедрина и Карла Брюллова, завоевавших на итальянской земле прочную славу, ни от французских собратьев по кисти, воспевающих кипение революционных страстей.
Но историческая аллегория, взявшая у Кипренского много времени и сил, желанного успеха и удовлетворения не принесла, встретив непонимание даже у благожелательно настроенных к нему русских любителей художеств…
Иными были результаты, когда Кипренский, оставаясь верным признанию, обращался к лирическим камерным карандашным и живописным портретам, в которых поднимался до прежних высот, либо возвращался к жанру, либо выступал в новой для себя области пейзажной живописи. Правда, некоторые его портретные образы, созданные в неаполитанские годы, по мнению современных исследователей, тоже страдают несвойственным его прежней манере прозаизмом.
Да, такие работы, как, например, портрет итальянского доктора Мазарони, написанный Кипренским в 1829 году, самодовольного краснощекого толстяка — действительно откровенно прозаичен по своему образному решению. Однако считать это признаком некоего упадка творческих сил художника никак нельзя уже потому, что с точки зрения технической полотно это написано с подлинно виртуозным блеском. Кипренский здесь не искал в модели душевных глубин, потому что их, видимо, и не было у этого самовлюбленного, посредственного человека. Орест изобразил доктора таким, каким он был и каким его видел художник, который, обгоняя свое время, на этом полотне создал глубоко реалистический портретный образ, подкупающий именно правдой жизни.
Но другие его портретные работы очаровывают прежним поэтическим восприятием личности человека, проникновенным лиризмом, горячим чувством сопричастности с моделью. Среди них, пожалуй, больше всего ему удаются портретно-жанровые картины с неаполитанских подростков, которые становятся героями целой серии его живописных полотен: «Неаполитанские мальчики», «Мальчик-ладзарони», «Девочка с виноградом», «Девушка с колосьями».
Почему такой интерес именно к подросткам? Не потому ли, что Кипренский еще на заре своей художественной карьеры в образах мальчика А. Челищева, Никиты Муравьева, крестьянских отроков проявил редкий талант в раскрытии души юного существа, вступающего в жизнь. Так почему же вновь не испытать силы как раз в такой области, в какой он не видел себе равных ни среди русских, ни среди иностранных мастеров? Тем паче, что серию эту открыли «Неаполитанские мальчики», написанные по заказу неаполитанского короля Франческо I в 1829 году — вскоре после приезда художника в Неаполь. Это было окрыляющее начало, на которое он и рассчитывал. И Кипренский торопится развить успех, создавая все новые жанровые портреты-картины, смело вступая при этом в соперничество с Карлом Брюлловым, который так блистательно дебютировал в Италии как раз своим «Утром».
А незадолго до отъезда Ореста Адамовича в Италию в Петербурге было получено новое жанровое произведение Карла Брюллова «Полдень», которое он написал в пару к «Утру».
И на этот раз моделью для Брюллова тоже служила римлянка из простолюдинок — полная, круглолицая особа, которую он изобразил за сбором винограда. Стоя на лестнице, в левой руке она держит корзинку с виноградом, а правой рукой собирается сорвать очередную кисть, да залюбовалась игрой света в налитых янтарем ягодах. За этим занятием и застал ее художник. «Для вернейшего расположения теней и света я работаю сию картину под настоящим виноградником в саду», — рассказывал Брюллов. Щедрое итальянское солнце сквозит в зеленой листве, горит золотом в плодах винограда, вспыхивает ярким пламенем на пурпуре накидки, перекинутой через левую руку сборщицы фруктов, в румянце ее щек, в изгибе алых губ, пронизывает ее пышный бюст, который оголила сползшая с плеча белая блуза. «Итальянское утро» символизировала юная девушка, «Итальянский полдень» — зрелая, цветущая женщина, под стать зрелым и сочным плодам, взлелеянным итальянским солнцем. Буйство света и красок, типично итальянский, южный склад лица изображенной на картине женщины по Брюллову были достаточны, чтобы обозначить место действия, не прибегая к каким-либо другим атрибутам в виде пейзажного мотива либо национального костюма. Брюллов полагал, что Италию на его картине можно легко узнать по одной лишь силе и яркости красок и характерным чертам его героини, у которой он нарочно подчеркнул и пышность фигуры, и неправильности крупного и широкого лица, потому что именно такие женщины чаще всего встречались на улицах итальянских городов и сел, а не красавицы, с которых писали мадонн Филиппо Липпи, Боттичелли и Рафаэль.
Но вот как раз это и не понравилось петербургским знатокам из Общества поощрения художников, пенсионером которого Карл Брюллов был направлен в Италию. Снисходительно сообщив, что «господа члены отдают полную справедливость сочинению сей фигуры и выполнению тела при трудном вами избранном освещении», знатоки Общества выражали неодобрение по поводу того, что брюлловская «модель была более приятных, нежели изящных соразмерностей» и внушали живописцу, что «целью художества вообще должно быть изображение натуры в изящнейшем виде». В Петербурге по-прежнему считали, что внимания живописцев достойны только те живые люди, которые по своему сложению сродни статуям Фидия и Праксителя…
Орест, наверное, знал, за что критиковали брюлловский «Полдень», и учитывал это при работе над «Девочкой с виноградом». Как и Брюллов, он решил написать итальянку с корзиной, наполненной виноградными гроздьями. Но Брюллов избрал в качестве модели зрелую женщину, а Кипренский — девочку-подростка, Брюллов изобразил свою модель в сложном движении, а у Кипренского она, позируя, спокойно стоит, держа обеими руками корзину с плодами. Брюллов никак не обозначил конкретного места действия, а у Кипренского зритель тотчас узнает за плечами девочки голубой простор Неаполитанского залива с изломанным силуэтом острова Капри справа и выступом Соррентийского мыса слева. Костюм на брюлловской сборщице винограда тоже ничего не говорит о ее национальной принадлежности, он едва обозначен и служит художнику лишь средством проявить колористическое мастерство, а у Кипренского все аксессуары одежды и украшения, тщательно прописанные, не только способ придать цветовое богатство картине, но вновь, с некоторой даже навязчивостью, вместе с пейзажным фоном подчеркивают, что перед нами именно юная итальянка, написанная в окружении родной природы, в пору сбора даров итальянской земли. У Брюллова, наконец, все построено на игре краток и света, фигура женщины — не более, чем красочное пятно, интересующее зрителя только тем, как справился художник с передачей сложных рефлексов на обнаженных частях ее тела, но вовсе не сама по себе, ибо это весьма обобщенный и условный тип итальянки с ее чувственным, полуоткрытым ртом, долженствующим олицетворять знойные краски и страсти «Итальянского полдня». Но то, что у Брюллова — главное, у Кипренского носит второстепенный, вспомогательный характер. И хотя Орест с виртуозным мастерством выписал и кисти винограда в корзине, и все аксессуары костюма, и пейзажный фон с высоким итальянским небом, зрителя тотчас приковывает к себе лицо девочки с огромными глазами, робким, трогательно доверчивым и открытым взглядом.
С годами Орест ничуть не утратил свежести восприятия юности, способности опоэтизировать ее горячую надежду на счастье, жажду любви и добра, готовность ответить на это безоглядной преданностью и признанием.
Не встреча ли с милой Мариуччей вернула Кипренскому этот удивительный и счастливый дар?..
Русских в Неаполе теперь совсем было немного: посол Г. О. Штакельберг да несколько сотрудников русской дипломатической миссии. Случались и путешественники из России.
У посла часто бывали две неразлучные приятельницы — княжна Голицына Елена Михайловна и графиня Воронцова Екатерина Артемьевна, сестра Анны Артемьевны Бутурлиной, жены библиофила. Екатерина Артемьевна была фрейлиной великой княгини Анны Федоровны, которая после развода с Константином Павловичем жила в Женеве, где графиня Воронцова, странствовавшая неизменно с Е. М. Голицыной, часто ее навещала. Путешественницы интересовались русским искусством, их портреты в Неаполе писал Александр Брюллов, особое внимание они проявляли к больному Сильвестру Щедрину.
Своим человеком в доме посла была и княгиня Софья Григорьевна Волконская, жена князя Петра Михайловича Волконского, министра двора, тоже неутомимая вояжерка, разъезжавшая по Италии с собственным живописцем по фамилии Ясинский, который, по словам Щедрина, был очень добрым малым, но как художник решительно никому не был известен. Это, впрочем, не мешало Софье Григорьевне ценить искусство настоящих художников. К Щедрину она проявляла такое участие, что, несмотря на свою вошедшую в пословицу скаредность, готова была даже ссудить крупной суммой для поездки на лечение в Карлсбад.
На лето 1829 года в Неаполь пожаловала и невестка Софьи Григорьевны Зинаида Александровна Волконская, покровительница искусств, заслужившая от Пушкина в России титул «царицы муз и красоты». К радости всех русских художников она незадолго до этого вернулась в Италию и вновь обосновалась в Риме. Из душного Неаполя она тотчас отправилась на остров Искью, где сняла дачу. Ее точно тень повсюду сопровождал, забросив холсты, Федор Бруни, безнадежно влюбленный в княгиню, которая в свои 40 лет была полна очарования. Сильвестр Щедрин, в июне тоже уехавший на Искью пользоваться тамошними минеральными водами, навещал княгиню и видел ее воздыхателя, про которого с обычной своей насмешливостью замечал, что «он также все влюбляется, но только его любовь дальше глаз не касается, то есть очень великопостная».
Здоровьем Сильвестр был совсем плох. Еще в марте его обуревали новые замыслы, ибо только для одной великой княгини он должен был написать пять новых картин, а в апреле у него снова разлилась желчь, он стал желтый, как лимон, и совсем лишился возможности работать. Впервые за все итальянские годы с наступлением весны Щедрин не выехал на натуру: врачи строго запретили ему работать, предписали спокойные моционы и лечение на водах в Поццуоли или на Искье, «дабы, объяснял пейзажист, истребить совершенно корень этой болезни». Сильвестр выбрал Искью, где собралось порядочное русское общество. Помимо княгини Зинаиды Александровны там были и вечные странницы Е. М. Голицына и Е. А. Воронцова, которые тотчас взяли под свое покровительство больного. На Искье Щедрин пробыл с середины июня до середины августа. Воды ему не помогли. Доктора объясняли это тем, что требуется более сильное средство, чтобы «рассеять» его, вроде дальнего путешествия. А тут как раз Екатерина Артемьевна со своей подругой собиралась в очередной вояж в Швейцарию и предложила разделить с ними путешествие, благо в карете было свободное место.
Сильвестр сначала было отказался, вспомня, сколько у него незавершенных работ, заказанных важными персонами и частью уже оплаченных. «Но доктора, — писал он, — в один голос приговорили к этому вояжу, уверив, что таковое путешествие принесет мне более пользы, нежели все минеральные бани на свете, и что лучше потерять время в путешествии, нежели как опять сидеть больным на одном месте, и все будет равно, картины должны остаться неоконченными». А идея путешествия тем более была заманчива, что добродетельные Е. А. Воронцова и Е. М. Голицына расходы полностью брали на свой счет и маршрут вояжа избрали такой, что он проходил по местам, которые большей частью Щедрин не видел: Сиена, Пиза, Ливорно, Генуя, Турин, Женева; а на обратном пути: Лозанна, Милан, Болонья, Флоренция, Рим.
Из поездки Сильвестр вернулся только через полгода с совершенно расстроенным здоровьем. Он был так слаб, что доктор первое время боялся давать ему лекарства, опасаясь вызвать осложнения. Но постепенно Неаполь, который он так любил, сделал свое дело, и пейзажист стал поправляться.
Ровно через месяц после приезда, 5 апреля, Щедрин уехал в Вико Экуэнсе лечиться на водах. К титулованным эскулапам и их рецептам он совсем потерял доверие. Да и как было не потерять, если они все еще не могли прийти к согласию насчет причин его болезни и способов излечения от оной. Если один доктор утверждал, что это — подагра и старался оттянуть ее в ноги, то другой уверял, что он страдает от желчных камней, а третий во всем винил простуду.
Больше Кипренскому не суждено было увидеть Щедрина, с которым он прожил в Неаполе всего четыре месяца: три — весной прошлого 1829 года и один — нынешнего. Болезнь Сильвестра лишила Кипренского общения с единственным русским собратом по кисти, постоянно жившим в Неаполе. С ним приятно было отвести душу в сердечной беседе, полезно отдать на беспристрастный суд новую работу, без стеснения обратиться за кредитом в случае нужды.
В Вико Экуэнсе Щедрин лечился местными минеральными водами, и они ему больше помогли, чем все предписания неаполитанских эскулапов. Посольство все же настояло, чтобы он приехал на консилиум местных светил, которые опять перессорились между собой. Сильвестр с большим юмором рассказывал в письмах о ходе консилиума. Его лечащий врач синьор Канджано, открывая консилиум, дал подробное описание болезни и высказал мнение, что больного может поправить только усиленное питание, преимущественно мясные блюда. Другой местный медицинский авторитет доктор Пастильони выразил категорическое несогласие с этим, запретил все мясное и рекомендовал только рыбные блюда. Задетый за живое Канджано тут же отверг рыбную диету. Пастильони настаивал на пользе зелени, а Канджано опять не соглашался с этим и предостерегал против фруктов. Впрочем, что касалось запретов, то оба эскулапа скоро нашли общий язык. Пастильони запретил все напитки, особенно вино. Канджано добавил к этому и кофе. Пастильони напрочь исключил любовные утехи, а Канджано — и какую бы то ни было работу. Словом, иронизировал Сильвестр, они пришли к совершенному согласию в том, что больному нельзя ни пить, ни есть, а только в праздности разъезжать верхом на осле, поелику по этому пункту у них не было никаких разногласий. Путешествие в Карлсбад, на чем опять настаивала княгиня Софья Григорьевна Волконская, они тоже исключили, ибо, по их мнению, больной не в состоянии был перенести столь дальний путь.
Но пользование водами оба ученых лекаря не запретили, и Сильвестр сбежал снова в Вико, не успев по кратковременности визита в Неаполь повидаться с Орестом Адамовичем.
В Вико Щедрин, разуверившись в докторах, совершил роковую ошибку: обратился к шарлатанам. В короткий срок они так его измочалили, что, когда он приехал в Сорренто, где его знал и стар и млад, старухи при виде Сильвестра плакали. Доконал его какой-то новый, открытый им в соседнем Амальфи доморощенный эскулап, который, чтобы «искоренить болезнь», задавал ему в таких лошадиных дозах лекарства и вместе с тем горячие ванны, что Щедрин угас буквально на глазах. На руках пребывавшего в беспамятстве пейзажиста донесли в соррентийскую гостиницу «Тассо», в которой он жил и которую столько раз писал на своих картинах. Соборовал умирающего русский священник, который рассказывал, что перед смертью Щедрин пришел в себя, сказал: «Все кончено» — и испустил дух. Случилось это в девять часов утра ноября 8-го дня года 1830-го. Было Сильвестру от роду всего 39 лет.
Вместе с членами русской миссии Орест принял участие в печальной церемонии погребения славного собрата по кисти, которого в Сорренто за долгие годы художнических скитаний все считали за своего, и потому, несмотря на православное исповедание, похоронили в католической церкви Сан Винченцо, стоявшей в расщелине скалы на берегу моря. Простой люд Сорренто, надолго запомнивший приветливый нрав и доброту чужестранца, по своему обычаю тут же обратил имя его в легенду и даже причислил к лику святых.
Кипренский сообщил близким Щедрина в Петербург о его смерти, взял на себя хлопоты по отправке в Россию картин покойного и учету его должников, среди которых первым записал себя. Другого такого кредитора, который всегда мог бы выручить в трудную минуту, у Кипренского теперь не было.
Со смертью Сильвестра положение Кипренского в Неаполе осложнилось во всем. С местными художниками отношения оставались весьма прохладными. В Риме его друзьями были итальянские и чужеземные мастера: Камуччини, Пинелли, Торвальдсен, Тенерани, Овербек, которым он в каждом письме из Петербурга как своим близким приятелям слал поклоны. Такой короткой дружбы ни с кем из неаполитанских метров у него не сложилось. Правда, местные питторы и любители художеств совсем не знали Кипренского-живописца.
Орест Адамович поэтому возлагал большие надежды на осеннюю неаполитанскую экспозицию 1830 года, никак не подозревая, что она принесет ему лишь новые огорчения. Кипренский представил на выставку две свои старые работы, с которыми у него были связаны дорогие воспоминания и которыми он был доволен как художник: портрет Адама Швальбе и «Девочку в маковом венке», а также присоединил к ним только что оконченный «Пейзаж с видом Санта Лучии». Но устроители выставки, найдя первые две работы великолепными, отказывались верить, что они принадлежат кисти современного художника.
Что было делать? Рассеять заблуждение неаполитанских «знатоков» (а среди них был не кто иной, как президент Неаполитанской Академии художеств Антонио Никколини) могло бы авторитетное мнение Сильвестра Щедрина, но он был в Сорренто при смерти. А чтобы получить из Петербурга сертификат, удостоверяющий, что Кипренский действительно был автором представленных картин, требовались недели. В конце концов все вроде бы завершилось благополучно. В письме брату Сильвестра Аполлону Щедрину в Петербург Орест Адамович рассказывал: «Здесь, в октябре месяце, была экспозиция. Я выставлял тоже, и когда принес в студии портрет отца моего и портрет девочки одной, писанный мною в Риме, то здешняя академия, рассматривая сии картины, со мною сыграла следующую штуку: г. президент академии, кавалер Николини, объявляет мне от имени академии замечание, опытностию и знанием профессоров исследованное, якобы сии две картины не суть работы художника нынешнего века. Будто бы я выдаю сии картины за свои; но в самом деле одна писана Рубенсом (портрет отца), а девочка совсем другим манером и другим автором древним писана, что картины сии бесподобные… и что в Неаполе не позволят они себя столь наглым образом обманывать иностранцу…
Кончить надобно тем, что когда я принес другие сверх тех работы мои, писанные в Неаполе, и все в различных манерах, то они удостоверились, что в России художники не обманщики».
Однако, несмотря на такой счастливый финал, глубоко уязвленный неаполитанскими знатоками Кипренский в письме к Аполлону Щедрину все же просил того выхлопотать от Академии «свидетельство, что сии картины писаны» действительно им.
Участие в выставке не сделало популярным имя Кипренского в Неаполе, он по-прежнему перебивался случайными портретными заказами русских путешественников, а картины, в которые он вкладывал столько труда, чтобы идти в ногу с веком, вроде «Тибуртинской сивиллы», продолжали оставаться в его мастерской. Желанной независимости от властей предержащих, о чем так мечталось в Петербурге, обрести на чужбине не удавалось. Путешествие на этот раз не принесло ни славы, ни денег. Ведь уже через год после переезда в Неаполь он вынужден был стать должником Сильвестра Щедрина, а вскоре после смерти пейзажиста у него с деньгами стало так плохо, что от отчаяния пришлось пойти на крайнюю меру и обратиться к царю.
8 февраля 1831 года он пишет А. X. Бенкендорфу письмо, в котором пытается обратить в свою пользу то, что случилось с ним на неаполитанской выставке, где не хотели поверить, что он автор портретов Швальбе и Мариуччи:
«Представьте себе, Ваше превосходительство, мое удивление… Я принес последние картины, которые я здесь написал, одна изображает двух мальчиков, приятно сгруппированных, писанная для покойного короля Francesco I до отъезда его в Гишпанию; другая картина изображает вдохновенную Сибиллу Тибуртину, освещенную лампадою, а в отверстие окна виден храм Весты и Тивольский водопад при лунном сиянии. Сия картина весьма превосходит первых… Весь город о сем происшествии говорил, и сам (ныне) покойный король, который всегда был ко мне милостив, быв о сем уведомлен, будучи болен, велел себя носить по студии, чтоб посмотреть выставленные вещи.
Король, болезнью удрученный, удостоил взять меня за руку, весьма милостиво благодарил за выставленные работы, кои великое его величеству принесли удовольствие».
После такого предисловия Кипренский приступал к главному. Я, писал он, тружусь «для славы России, а от крупиц, падающих из России, нет мне ни самомалейшей крохи. Очень многие младшие меня, продолжал он, откровенно говоря, не дойдут при старости до той степени в искусстве живописи, каков я был еще в первой молодости, и уже украшены знаками отличия, имеют патронами то св(ятого) Владимира, а иной с(вят)ую Анну».
«Я очень рад, когда вижу покровительство и никогда не завидую», — заверял Кипренский и просил всесильного царедворца только об одном — передать прилагаемое к письму обращение, адресованное Николаю I.
Горько и тяжело читать строки этого обращения, продиктованные отчаянием бедствовавшего художника, где жалобы на несправедливость и интриги врагов перемежаются с неумелой лестью, чтобы вымолить у царя денежное вспомоществование под залог лучших его творений: портретов Адама Швальбе и Давыдова, «Девочки в маковом венке», «Анакреоновой гробницы» (переименованной Кипренским, чтобы не эпатировать ханжу-царя, в «Гробницу Теокрита»), «Цыганки, гадающей у свечи», «Вида Везувия», «Тибуртинской сивиллы», а также работы старого итальянского мастера «Образ спасителя», которую Кипренский относил к кисти Тициана.
Кипренский заявлял, что служил «всегда с честию отечеству Богом мне данным талантом». «Я поехал в Италию, — писал он о своем первом вояже, — единственную имея цель принесть в Россию плоды более зрелые таланта моего, я успел в (этом) желании; но зато, возвратившись оттуда, был завистию… покрыт некою тению. С презрением, не замечая зависти, твердою ногою я всегда шел вперед, зная, что время или рано, или поздно всегда открывает истину».
Предлагая коллекцию собственных картин, Кипренский подчеркивал, что она тем более любопытна для истории художеств, что «в оном собрании много виден ход успехов в течение двадцати семи лет на поприще жизни им произведенных для пользы художеств и для славы отечества своего».
«В вознаграждение, — заключал художник, — прошу Вашего императорского величества милостивого одолжения мне двадцати тысяч рублей на пять лет без процентов. Ибо я, — добавлял он, — имею в виду произвесть в нынешнем году новые творения и с оными явиться в С. Петербург».
Упоминание о возвращении в Петербург появилось в письме отнюдь не случайно. Кипренский знал, как высокие петербургские сановники из свиты великой княгини в бытность ее в Италии неодобрительно отнеслись к затянувшемуся пребыванию в «чужих краях» Сильвестра Щедрина, с каким осуждением встретили они слухи о том, что Брюллов будто бы совсем не собирается возвращаться в Россию.
Но ни эта дипломатическая оговорка, ни скромность суммы, запрошенной художником за свои картины, которые действительно обозначали собой важный этап в развитии отечественного искусства (Брюллову в это время за один портрет платили по десять тысяч рублей), не помогли благоприятному ходу дела, хотя вольнолюбивый художник в конце своего письма совсем уж ронял себя, величая Николая I «освободителем России от внутренних, зараженных химерическою болезнию врагов, и внешних дерзновенных неприятелей…»
По получении письма Кипренского царь соизволил лишь распорядиться о том, чтобы было проверено, правда ли, что в Неаполе имел место рассказанный художником эпизод с его картинами и действительно ли предлагаемая коллекция покрывает запрошенную сумму в двадцать тысяч рублей. За подписью министра двора князя П. М. Волконского в Италию ушел соответствующий запрос русским посланникам в Риме и Неаполе в сопровождении выдержек из писем Кипренского царю и Бенкендорфу.
Друг Кипренского князь Григорий Иванович Гагарин, незадолго до этого побывавший в Неаполе и посетивший там мастерскую художника, тут же прислал проникнутый самым благожелательным духом ответ. Касаясь оценок предложенных работ, он заявлял, что «портрет отца художника написан с редким талантом, и это, несомненно, лучшая вещь коллекции. Неаполитанские художники сочли это произведение за работу старой фламандской школы, что само по себе — великая похвала ему».
Столь же высоко оценивал Григорий Иванович и портрет «полковника Давыдова», и «Девочку в маковом венке». Он честно высказал свое мнение об «Анакреоновой гробнице», тактично опустив имя Анакреона: «„Танец у могилы“, произведение, работу над которым я наблюдал в Риме лет тринадцать тому назад, стоило художнику подготовительных набросков и стараний бесконечных; и я нахожу, тем не менее, что результат не соответствовал ожиданиям, потому что Кипренский перестарался и впал в преувеличенность колорита, что повредило его работе, в которой люди искусства не могут не признать множества заслуг».
То же самое согласно Гагарину можно было сказать и о «Цыганке, гадающей у свечи».
Нашел Григорий Иванович добрые слова и в отношении «Сивиллы»: «„Тибуртинская сивилла“ — это картина с большим смыслом, которая получилась бы лучше, если бы при передаче ночного освещения художник не слишком впал в красные тона; но все же в ней видно старание, прилежание и стремление преодолеть трудности искусства, которые заслуживают похвалы и которые доказывают, что Кипренский здесь приложил все усилия, чтобы создать превосходную вещь…»
По поводу работы мастера старой венецианской школы Гагарин писал, что это вполне может быть Тициан и что во всяком случае речь идет о хорошей картине, «приобретение которой будет полезным делом».
Заключал свое письмо Григорий Иванович призывом пойти навстречу бедствующему художнику: «Я от всего сердца желаю, князь, чтобы данный беспристрастный обзор был на пользу г-ну Кипренскому, который оказался в необходимости просить о помощи. Он заслуживает, смею думать, монаршего благоволения. Это, во всяком случае, один из наших лучших художников, и невзгоды, которые он в настоящее время переживает, вызваны не зависящими от его воли обстоятельствами».
Совсем в другом духе был составлен ответ графа Штакельберга. Он тоже высоко отозвался о портрете А. Швальбе, «шедевре художника», который «действительно был принят всеми неаполитанскими знатоками за работу Рембрандта, что само по себе означает похвалу картине», но уже об изображении Давыдова Штакельберг говорил, что оно «не дойдет до старика Кипренского», а о «Могиле Теокрита» и «Цыганке» вообще упоминал как о «малозначащих вещах». В заключение Штакельберг писал: «Я не думаю, что их (картин) стоимость соответствует запрошенной сумме, но г-н Кипренский, если он захочет вернуться к своей старой русской живописной манере в том, что касается портретного искусства, найдет в своем таланте, чем обеспечить себя на жизнь».
Граф при этом добавлял, что о «нынешней манере» Кипренского можно судить по портрету мадам Рибопьер, который сделан не так давно художником и который везет с собой отправляющаяся в Петербург эта госпожа. Что при этом имел в виду Штакельберг, для которого искусство, в общем, было чуждой областью, отгадать довольно трудно, потому что портрет мадам Рибопьер кисти Кипренского не сохранился…
После таких взаимоисключающих рекомендаций послов Кипренский не получил из Петербурга никакого ответа на свое прошение. Тогда он решается вновь обеспокоить сиятельные сферы и пишет письмо министру двора П. М. Волконскому, чтобы напомнить о своей петиции. При этом Кипренский доводит число предлагаемых царю картин до девяти: «Ревность моя и талант Вам не безызвестен, известно и то, что я имел счастие повергнуть к стопам его императорского величества посильные труды мои, состоящие из восьми картин, в числе коих Тициан; я еще к оным присовокупляю в пару к девочке с цветком голову седого старика, ибо трудно бы было подыскать под пару к сей картине по причине круглой ее формы».
Орест Адамович убеждает министра двора, что, предлагая картины государю, он движим прежде всего патриотическими побуждениями: «Одна любовь, и она единая, любовь к славе России, меня укрепляет и поддерживает в сих подвигах». Но одновременно умоляет вельможу снизойти к его бедственному положению и сделаться его благодетелем и ходатаем перед царем: «…Позвольте по-русски русскому князю попросту сказать: возьмитесь, право, возьмитесь, Ваше сиятельство, быть моим покровителем. Мы не ударим себя лицом в грязь ни пред царем, ни пред Россиею, ни пред потомством, которое Вам же скажет спасибо».
И далее опять следовали жалобы на несправедливости, которые претерпел художник в прежнее царствование, и неумелый и потому неумеренный фимиам трону.
Завершал письмо Кипренский словами, что надеется на «Первого Николая», «как на самого Бога», и что непрестанно творит молитву: «Господи, да не допусти и не даждь замедлить князю Петру Михайловичу вострубить мне милости царские».
Орест не знал, что милости царские не дано «вострубить», что казенно-бюрократическая отписка графа Штакельберга, в которой сквозит неприязнь высокопоставленного чиновника к опальному художнику, предрешила его судьбу. Унизительные строки, выдавливаемые им из себя ценою огромных нравственных мук, не дали и уже не могли дать никаких результатов. Свое письмо к князю П. М. Волконскому Кипренский пометил 16 ноября 1831 года. Уехал художник из Неаполя в апреле следующего года, получив перед этим известие о том, что, как он сообщал позднее, «все лучшие творения мои были отвергнуты господином министром двора князем П. М. Волконским».
Граф Штакельберг, как видно, не сказал художнику, что это — решение царя, а не князя П. М. Волконского. В архивах сохранилось никем из исследователей до сих пор не использовавшееся письмо П. М. Волконского Штакельбергу от 16(28) января 1832 года, в котором мы читаем: «В письме, кое Вы изволили направить мне истекшего 26 ноября (8 декабря)… Ваше превосходительство напоминает о займе, запрошенном г-ном Кипренским, что уже было предметом предыдущей переписки между нами. Я должен по этому поводу сообщить Вам только, что поелику я имел честь ознакомить с данным прошением императора, равно как и с соображениями, которыми Ваше превосходительство снабдило меня относительно коллекции картин, предложенных г-ном Кипренским, его императорское величество счел уместным отложить свое решение (по этому делу)».
При дворе Кипренский все еще оставался в опале…
Затеяв переписку с Петербургом, когда нужда, видимо, взяла его буквально за горло, Орест Адамович, однако, не сломился духом, не опустил в бессилии руки, а продолжал работать с невиданным напряжением. Именно в 1831 году им написаны и «Читатели газет», и «Мальчик-ладзарони», и «Девочка с виноградом», и новый «Вид Везувия», и, наверное, какие-то не дошедшие до нас произведения. Сохранившиеся картины очень убедительно говорят о том, что жизненные невзгоды ничуть не привели к утрате художником творческого потенциала.
«Вид Везувия» 1831 года дошел до нас в отличие от «Вида Везувия» 1830 года, написанного с руинами и человеческими фигурами на набережной Санта Лучия — того самого, что он предлагал Николаю I и что сейчас утрачен. Можно было ожидать, что Кипренский пойдет здесь по стопам Сильвестра Щедрина, зная, какой популярностью пользовались его пейзажи, в которых природа и человек представали в гармоническом единстве и как бы в оцепенении от сознания своей божественной красоты. Но Орест видел неаполитанскую природу своими глазами, воспринимал ее в соответствии со своим темпераментом, со своей живописной манерой. Курящийся Везувий у него изображен не в блеске полуденного солнца, не в отражении застывшего в штиле и сверкающего солнечными бликами теплого моря, а в разгар ненастья, с тяжелыми серыми тучами, застлавшими небо, с сугробами снега на вершине вулкана, с бурно волнующимся морем, бросающим некое утлое суденышко, точно игрушку, со серо-зеленым холодным волнам. В пейзажной живописи Орест Адамович не только сумел стать вровень с Сильвестром Щедриным, но и обогнать его, смело изобразив море в непогоду такими новыми, свежими и звучными красками, какие заиграют на картинах местных маринистов из «Школы Позиллипо» только спустя два десятилетия…
Но доходов живописные произведения Кипренского не приносили никаких, ибо он их писал в отличие от Карла Брюллова не по заказу богатых меценатов, а по велению ума и сердца и лишь по их завершении искал покупателей, причем, как мы видели, очень часто без всякого успеха. Платили ему только за портреты, но их-то приходилось делать меньше всего, и то большей частью в карандаше, что оплачивалось совсем не щедро.
И все же в неаполитанские годы Кипренский знал не одни только горести. Знал он там и радости, приносимые творческими достижениями, которые не могли долго игнорировать заправилы местной художественной жизни.
В Архиве внешней политики России в Москве среди старых бумаг русского посольства в Риме сохранились затерявшиеся дипломы Кипренского об окончании Петербургской Академии художеств, об избрании его академиком в 1812 году и еще один документ на итальянском языке, адресованный художнику Неаполитанской Академией художеств. В нем говорится: «Академия художеств на своем заседании от 8 августа 1831 года предложила удостоить звания своего почетного члена по классу рисунка художника Ореста Кипренского. Поелику его величество король одобрил это предложение рескриптом от 26 сентября того же года, Академия направила своему новому члену настоящее письмо, которое имеет печать и подписи, проставленные согласно уставу Королевского общества. Неаполь, 3 марта 1831 года».
Последнюю дату писец указал неправильно, повторив, как в двух предыдущих случаях, 1831 год, тогда как диплом, наверное, был выписан позже — 3 марта 1832 года. На дипломе стоят три подписи: президента Королевского общества, президента Академии художеств и секретаря.
Президентом Академии и в это время по-прежнему оставался тот же самый кавалер Антонио Никколини, который принял в свое время картину Кипренского за работу Рубенса. Наверное, поэтому Неаполитанская Академия удостоила Кипренского признанием не за живопись, а за рисунки.
Решение Неаполитанской Академии не могло не принести удовлетворения Кипренскому. Но это была чисто моральная победа, которая никаких материальных выгод не давала. Денег по-прежнему у Ореста не было. На дорожные расходы при отъезде в Рим Кипренскому пришлось одолжить две тысячи рублей у «чопорного» графа Штакельберга. Об этом тоже становится впервые известно из старых бумаг русских миссий в Италии, хранящихся в Архиве внешней политики России.
В дни веселого римского праздника
Но не хочу, о други, умирать;
Я жить хочу, чтоб мыслить
и страдать;
И ведаю, мне будут наслажденья
Меж горестей, забот
и треволненья:
Порой опять гармонией упьюсь,
Над вымыслом слезами обольюсь,
И может быть — на мой закат
печальный
Блеснет любовь улыбкою
прощальной.
А. С. ПушкинКипренский возвращался в Рим, так и не скопив денег на свадьбу с Мариуччей, которая терпеливо ждала его, оставаясь узницей постылого монастырского приюта, где отцветала ее молодость. Девушке шел 21-й год, для южанки она была уже зрелой девицей, а Орест Адамович все не мог предложить ей свою руку и сердце, потому что терпел нужду еще более сильную, чем по приезде в Италию. А годы летели, незаметно подобрался пятидесятилетний рубеж жизни, когда другие спокойно пожинают плоды своих трудов и тешатся в лучах славы. Славы у него было вдосталь, но она не согревала его жизнь, не дарила новыми триумфами, не приносила достатка, лишь озаряя холодным, мертвым светом, как луна в ясную петербургскую ночь…
Александр Сергеевич назвал его «любимцем моды легкокрылой». Да, так и было в России, так было и в Италии в первый вояж, пока его не покрыла черная тень хулы, наброшенная старым лекарем Италинским. И теперь неудачи крадутся за ним прямо по пятам.
Даже неаполитанские знатоки попервоначалу не приняли его, хоть потом и должны были признать его талант рисовальщика. Рисовальщика, но не живописца: не хватило у метров этой полуденной земли характера, чтобы сознаться, как они оплошали, столкнувшись с поразительной гибкостью кисти русского художника. А каков будет прием со стороны нового поколения римских живописцев и знатоков? А главное — со стороны русских любителей? Поймут ли они, что Орест Адамович изменил манеру, желая не отстать от времени и быть с веком наравне, но оставаясь таким же чутким, глубоким и искренним выразителем дум и чаяний своего народа даже тогда, когда он работал над образами людей чужой страны? Искренним и перед лицом творений, и перед Богом, и перед людьми, ибо ни в искусстве, ни в жизни он никогда не покривил душою, не подчинил движения кисти погоне за золотым тельцом. Иной художник, едва о нем только заговорят, тут же норовит обратить в выгоду известность, составить себе партию побогаче, а там и искусство побоку, коли в половины удалось заполучить наследницу купца-миллионщика. Орест же, сын Адамов весь жар души обратил на несчастного ребенка, спас девочку от верной гибели, но его благородный поступок был расценен как выходка сумасброда, отчего он никому, кроме Гальберга, не признавался в окончательных намерениях относительно Мариуччи. Не признавался потому, что боялся не встретить понимания. Как же, вместо того, чтобы искать себе жену с богатым приданым, Кипренский, бедствуя от безденежья, весь был поглощен мыслью о вызволении из монастырского заведения девушки-нищенки с единственной целью составить ее счастье! Многие ли были способны оценить по достоинству такой акт беспримерного благородства и самоотверженности?..
Колония русских художников в Риме постоянно росла и обновлялась. Из старых знакомых и приятелей там не стало Петра Васильевича Басина, который после одиннадцатилетнего пребывания в Италии отправился в Петербург, но оставались еще Габерцеттель и Филиппсон. Было много новичков, из коих Орест Адамович наметанным глазом сразу отметил Александра Иванова — мастера умного и доброго сердцем.
Влюбчивый Федор Бруни излечивался от безответной любви к княгине Зинаиде Александровне и начинал пылать новой страстью — на этот раз к красивой римлянке Анджелике Серни. Выбор пал на предмет трудный, ибо Анджелика была не только красивой, но и богатой: ее отец, француз по происхождению, был одним из первых домовладельцев в Риме и содержателем дорогой гостиницы. Мать Анджелики, истая римлянка, совершенно была убеждена в том, что художники, какой бы нации они ни принадлежали, народ непутевый, бедный, с отчаянными идеями и правилами жизни. Разве может кто-нибудь из них стать подходящей партией для Анджелики, в особенности этот питтор из холодной России, где, говорят, и искусства-то никакого нет?..
Не видать бы Федору Антоновичу прекрасной Анджелики своей женой никогда, если бы не помог злой рок. Непреклонная синьора Серни занемогла и вскорости скончалась, унеся в могилу запрет на брак дочери с русским питтором. А отец Анджелики, как подлинный француз, настроенный более демократично, узнав к тому же, что претендент на руку его дочери — художник, уже ставший кавалером российского ордена (это Бруни и Брюллова имел в виду Кипренский, когда писал, что многие молодые его коллеги «уже украшены знаками отличия, имеют патронами то святого Владимира, а иной святую Анну») тотчас порешил дело в благоприятном для русского художника духе…
Всеобщим кумиром среди русских пенсионеров был Карл Брюллов, перед талантом которого, острым умом, умением поставить себя в любом обществе преклонялась не только молодежь, но и люди много старше его. Петр Басин, когда еще жил в Риме, как-то сетовал в одном письме: «Наш „Signor Brullo“ опять уехал в Неаполь с графиней Самойловой, и застольные наши споры потеряли весь свой жар, а о доказательствах и слова нет, посудите, как мы осиротели…»
Брюллов оставался по-прежнему во власти чар несравненной Юлии Павловны. Его студия была уставлена портретами Самойловой. Особенно хороша была графиня на большом полотне, где Брюллов изобразил ее вместе с воспитанницей и служанкой-арапкой входящей в гостиную своего дома: стремительную, порывистую, ослепительно красивую, покоряющую благоуханной молодостью и страстностью натуры. Орест знал: так удачно можно сотворить портрет женщины, которой не только бесконечно восхищаешься, но которую горячо, без ума любишь…
Однако на устах всего Рима была не эта картина, а грандиозная историческая композиция, над которой Карл Брюллов работал с утра до ночи, так что, по словам натурщицы Маникуччи, его, обессилевшего, часто выносили из студии на руках: «Последний день Помпеи». Картина еще была в подмалевке, а молодой Александр Иванов уже говорил, что она удивляет Рим, а следовательно, всю Европу.
Вообще в Риме все прямо помешались на Брюллове, превратили в какого-то оракула, у которого ловили каждое слово, рассказывали легенды о необыкновенной быстроте, с какой он оканчивал свои произведения. Говорили, что большой парадный портрет князя П. П. Лопухина он написал в пять дней, а превосходное изображение Александра Николаевича Львова — всего за три часа, да с таким мастерством и тщанием, что другой бы не справился с подобной работой и за несколько недель. Ведь речь шла не об акварели или карандашном рисунке, а о работе маслом…
Вот и сейчас, уже после приезда Кипренского, Брюллов, истощивший себя «Помпеей», был увезен графиней Самойловой в Милан и там «ради рассеяния» в невероятно короткие сроки написал новую большую картину. На ней предстали воспитанницы Юлии Павловны Амачилия и Джованна. Джованна — в виде амазонки, осаживающей на полном скаку коня у входа в роскошный дворец, из которого выбежала сияющая радостью ее маленькая названая сестра, встречая всадницу. Брюллов опять показал, что, работая для Самойловой, он обретает как бы второе дыхание, позволяющее ему преодолевать любые трудности и создавать подлинные шедевры. Предовольная новым произведением любимого художника, Юлия Павловна тут же послала картину на Миланскую художественную выставку 1832 года, где полотно имело шумный успех. И хотя некоторые чересчур придирчивые знатоки находили недостатки в передаче анатомии лошади и позы всадницы, их голоса тонули в шквале похвал, объявивших Брюллова «великим художником» и «гениальным живописцем».
Весьма недурна была и историческая картина, и недаром она уже удивляла Рим. Подобных произведений русская кисть доселе не производила. И расположение фигур, и колорит, и красота людей, объятых ужасом, но сохраняющих изящество и грацию античных статуй даже перед лицом смерти, — все исполнено было таланта поистине замечательного и смелости поистине дерзновенной. И главное — чуткости редчайшей к веяниям своего времени, отмеченного великими потрясениями и потому столь стремящегося к постижению потрясений эпох минувших…
Орест, может быть, был первым, кто уловил эти веяния, определил нынешнее направление умов и дал им пищу в образе Тибуртинской сивиллы, прорицательницы, возвестившей человечеству приход христианства, провозгласившего великую идею равенства людей перед Богом. А теперь люди жаждали равенства друг перед другом, народы поднимались на битву за торжество идеалов свободы, равенства и братства, человечество стояло перед новым великим потрясением, о коем и должен напоминать сотворенный Кипренским образ пророчицы…
Но его никто не понял. Не понял или, может быть, не захотел понять даже проницательный Григорий Иванович Гагарин, который в картине увидел только просчеты с освещением. Что же помешало Оресту донести до зрителя великую мысль о мире, стоявшем на пороге новой эры? Что скрыло от зрителя смысл картины, которую, по его словам, он писал «с энтузиазмом и непонятным каким-то вдохновением»?
Сумрачен колорит картины, тревожно ожидание, охватившее природу, напряженно работает мысль прорицательницы, которая с помощью божественного провидения узрела грядущее человечества…
Какое будет оно, это грядущее? Эрой безоблачного счастья народов, которые объединятся в дружную семью под сению скрижалей со словами: «Свобода, равенство и братство», или же пробуждение народов кончится такой же кровавой междоусобицей, какой был век Наполеона?..
Кипренский этого не знал, этого никто не знал и не мог знать, и потому картина не давала, да и не должна была давать ответ на вопрос, мучивший людей при виде всполохов новой революционной грозы. То был призыв к размышлению, то были раздумия художника о судьбах народов перед лицом новых революционных катаклизмов…
Поняли ли в России это полотно с его глубинным содержанием, с его философским подтекстом? Если судить по реакции Нестора Кукольника, который хотя и увидел «магический свет, падающий на южное лицо сивиллы», но объявил картину Кипренского жанровой сценой, — не поняли. А Николай Александрович Рамазанов вспоминал, что, когда картина была показана в России, — «в домах, при встречах на улицах, в кондитерских, везде только и было разговоров о выставке: и купец, и артельщик, попивая чаек в заведении, рассуждали о „Тибуртинской сибилле“ Кипренского».
Значит, хоть поздно, хоть и не все, но — поняли…
Об этом Кипренскому, однако, уже не суждено было узнать. А пока, глядя, как быстро и успешно подвигается работа Брюллова, он думал о том, что судьба воистину отвела ему странную долю — открывать новые направления в отечественном искусстве, которые потом приносили славу и дивиденды другим, а ему только забвение и непонимание.
Разве не он, Орест Кипренский, открыл новую страницу в истории русского портретного искусства, выявляя в человеке не сановника, не вельможу, не сильфиду, наконец, если речь идет о женщине, а друга, брата, участливую подругу? Да, это сделал он, который ныне остался в тени молодого соотечественника, привнесшего в его манеру эффектные живописные приемы и покорившего этим почитателей художеств и в России, и в Италии…
Разве не он, Орест Кипренский, положил в русском искусстве начало жанру, создал типические образы современников из народа еще в портретных рисунках с русских крестьян в начале 1800-х годов? Не он продолжил эти опыты в Италии, написав в 1817 году «Садовника» и в 1819 году — «Мариуччу»? Но его работы проходят незамеченными, а русская печать продолжает взахлеб восторгаться жанровыми картинками Карла Брюллова…
Разве не он, Орест Кипренский, сейчас первым написал картину, отразившую тревожную атмосферу надвигающихся социальных потрясений в мире? Но никто не собирается отдавать ему пальму первенства за столь уместное истолкование тревог и надежд своего времени, и все взоры обращены на брюлловскую «Помпею», которая, слов нет, будет хороша, однако же не несет в себе всеохватывающей мысли, ибо взрывы вулканов народных страстей в ней олицетворяют только одни страдания, одну вселенскую катастрофу…
Кипренскому более по душе была мысль Александра Иванова, задумавшего на гигантском холсте тоже историческую картину «Явление Христа народу», которую, однако, пронизывала надежда, вера в искупление человечества, что присутствовала наряду с тревогой и в его «Тибуртинской сивилле». Вот почему Орест Адамович следил за работой молодого живописца с одобрением и участием, охотно высказывал ему свои замечания. Иванов был очень внимателен к советам старшего, глубоко чтимого им мастера. «Замечания Кипренского на мои работы, — читаем мы в его записной книжке, — Иоанну Крестителю дать крест в правую руку, закрыв пояс свиснувшим мехом. Группе мальчиков, сидящих на земле подле Иоанна, гораздо лучше, нежели в… эскизе это место… Иисус кажется привидением. Ему бы голову обратить к небу, горы снять сверху, Марии Магдалине голову поворотить якобы к зрителю и не в чистый профиль. Ее рисовать белокурою, тону убавить и голову вообще сделать лучше. Иисусу ногу отодвинуть вправо, а то фигура падает…»
Сам Кипренский хотел было снова попытать счастья на поприще исторической живописи, задумал аллегорию, связанную с Петром I, сообщил даже об этом Алексею Николаевичу Оленину, но скоро оставил затею и отвернулся вовсе от исторической живописи, увы, уже навсегда. Элементы аллегории, впрочем, он продолжал использовать, не доверяя теперь проницательности отечественных знатоков и прибегая к авторским ремаркам, иногда, может быть, даже излишним, чтобы сделать более доходчивым смысл своих творений. Взять хотя бы тех же «Читателей газет». Собственно, это групповой портрет, которым Кипренский, как видно, под влиянием Брюллова, особенно стал увлекаться после возвращения в Италию.
На картине, на фоне темной стены, изображены четверо молодых мужчин, одетых в домашние халаты. Один из них, держа в правой руке собачку (опять тициановский мотив), читает своим товарищам с задумчивыми, грустными лицами газету. На открытой части листа можно прочесть на французском языке «La Gazette de…». Обозначена и тема сообщения, которое интересует читателей, — «Pologne», то есть «Польша». На стене, над головами читателей, крупными печатными буквами и цифрами указано время происходящего: «1831 год». В проеме окна место действия обозначено видом Неаполитанского залива с Везувием, вершина которого обложена облаками. Лица читателей — явно славянского склада.
1831 год — год подавления польского восстания. Везувий, обложенный облаками, для современников Кипренского — ясный, не вызывающий кривотолков аллегорический образ восстания. Славянские лица изображенных тоже дают зрителю возможность не сбиться с правильного понимания идеи картины. Но Кипренский не довольствуется этим и четко прорисовывает кистью название газетной статьи, которая так поглотила внимание читателей, — «Польша».
Мало этого, в письме председателю Общества поощрения художников графу Василию Валентиновичу Мусину-Пушкину-Брюсу от 13 (25) февраля 1833 года Кипренский вновь разъясняет, что полотно его «изображает политическое чтение в 1831-м году. Я сцену взял с натуры. Русские путешественники в Неаполе читают La Gazette de France статью о Польше, как то усмотрите в картине». Дошли в Россию сведения и о том, что «русские путешественники» вовсе не русские, а поляки, и не просто поляки, а польские патриоты-революционеры, среди которых, как предполагается уже давно, изображен Адам Мицкевич…
Как это согласуется со словами Кипренского, обращенными за два года до этого к Николаю I, о царе — освободителе «России от внутренних, зараженных химерическою болезнию врагов, и внешних дерзновенных неприятелей»?
Что это, бравада или попытка «безрассудного Ореста» взять реванш за унизительные пассажи своего письма к царю, которые не сменили гнев Николая I на милость и не помогли снять с него «некую тень», наброшенную злопыхателями Италинским и Убри после первой поездки в Италию? Взять реванш и бросить вызов высокопоставленным чиновникам и самому царю, с оскорбительным пренебрежением отнесшимся к его прошению? Надежды на то, что они пересмотрят свое решение, Кипренский, видимо, теперь уже не питал. «Читателей газет» он, естественно, царю не предлагал. Эта картина, как и ряд других работ, была предназначена графу Дмитрию Николаевичу Шереметеву, и потому Орест, не заботясь о последствиях, всячески подчеркивал ее крамольное содержание. Подчеркивал не в частной переписке, а в сношениях с официальными лицами, каким был тот же граф В. В. Мусин-Пушкин-Брюс. Кипренский, впрочем, писал ему по вполне определенному поводу — потому, что хотел, чтобы «Читатели» были показаны русской публике. «Имея случай послать в Петербург несколько картин, писанных мною в Неаполе, — сообщал он графу, — прошу всепокорнейше как президента Общества покровителей художеств позволить приказать выставить оные работы в зале экспозиции, когда оные будут туда представлены; ибо мне весьма лестно себя напомнить почтеннейшей российской публике, благоволившей всегда к слабым моим произведениям».
Так что же это: просто безрассудство — написать картину, навеянную польскими событиями, всячески подчеркивать это и в довершение всего настаивать на ее показе «почтеннейшей российской публике», а стало быть, и царю, по чьей воле только что была подавлена польская революция? Или же дело было в другом — в стремлении даже ценой новой опалы показать, что в России есть люди, которые питают сочувствие к польским повстанцам и не боятся открыто выражать свои взгляды, как это сделал автор «Читателей газет»?..
Первым откликом европейского романтического искусства на революционные события 1830-х годов была картина Эжена Делакруа «Свобода на баррикадах», где рядом с вдохновенным символическим образом Свободы художник развернул на фоне реального Парижа вполне реальный эпизод восстания. Это была первая политическая композиция в европейском искусстве, обозначившая собою тот момент, когда романтизм перестает обращаться к античным образам и аллегориям при трактовке событий современной общественно-политической жизни.
Делакруа написал в 1830 году свою картину во славу революции в стране победившей революции и потому без всякого опасения смог выставить ее уже в парижском Салоне 1831 года. А русский художник Орест Адамович Кипренский, первым из отечественных живописцев воплотивший политическое событие своего дня в образах современников, играл с огнем, желая явить перед очами российского самодержца произведение, написанное во славу потопленной им в крови польской революции.
Назревал скандал. Ведь дипломатические миссии России за границей Петербург забрасывал распоряжениями о розыске польских «смутьянов», подлежащих суду. Орест Адамович наверняка знал об этом…
Но скандала не произошло. Картина Кипренского в Петербурге не только не встретила порицаний, а имела успех и даже, как были убеждены петербургские чиновники от искусства, понравилась царю.
Об этом соблаговолил лично сообщить Кипренскому в ноябре 1833 года сам А. Н. Оленин (черновик письма сохранился в архиве Академии художеств, оно цитировалось в нашей литературе, но ошибочно приписывалось В. И. Григоровичу, тогда как на беловом экземпляре, который хранится в Архиве внешней политики России, стоит собственноручная подпись президента Академии), который извещал художника: «Картины, писанные Вами в Италии и изображающие: девушку с плодами, мальчика Лозарони, разбирающего афишку, ворожею, путешественников, читающих Gazette de France, и вид Везувия с моря, украшали выставку Императорской Академии художеств в нынешнем году.
Несмотря на то, что выставка сия была блестяща, многочисленна и изобиловала многими отличными произведениями русских и иностранных художников, картины ваши, и в особенности путешественники, восхищали зрителей, стечение коих было необыкновенно.
Вам, без сомнения, приятно узнать о сем, но еще приятнее и одобрительнее для вашего прекрасного и созревшего в полном смысле таланта, должно быть то, что государь император весьма любовался вашими произведениями, спрашивал, кому они принадлежат, и, узнав, что только один вид Везувия не имеет назначения, изволил взять его для себя.
Получив вслед за сим от г. министра императорского двора две тысячи рублей, пожалованные Вам государем за сию картину, я поспешаю доставить при сем на означенную сумму вексель, о получении коего прошу меня уведомить».
Остается загадкой, действительно ли Николай I не понял мятежного содержания «Читателей газеты» или же он сделал хорошую мину при плохой игре, похвалив художника и приобретя у него другую его работу. В результате такого жеста царь дал понять, что никакого дерзкого политического подтекста в картине Кипренского он не усмотрел, что это просто жанровое произведение, достоинства которого лежат в области чисто живописных достижений автора. Недаром ведь Алексей Николаевич называл картину «Путешественниками» и не пожелал заметить, что они читают статью о Польше…
Но Кипренский не должен был заблуждаться насчет истинного отношения к нему царя, и потому Оленин заключал свое письмо более чем прохладной концовкой:
«Государь император, между прочим, изволил спрашивать, не известно ли, скоро ли Вы возвратитесь в отечество? Разумеется, что на сей вопрос, не зная вашего расположения, я не мог дать решительного ответа. При сем считаю нужным вам сообщить, что по силе нового постановления Академии, всемилостивейше дарованного ей в 19 день декабря 1830 года, Вы, как отличный и известный своими трудами художник, переименованы в свое время в звание профессора исторической и портретной живописи, и с сим вместе состоите противу звания советника двумя чинами выше и именно в 7 классе, который, как Вам небезызвестно, дает дворянство Российской империи».
Итак, художнику сам царь настойчиво рекомендовал возвращение в Россию и чуть не в качестве аванса на дорожные расходы жаловал две тысячи рублей — сумму, оскорбительно низкую для картины маслом, созданной одним из крупнейших русских мастеров. Склонить художника к возвращению в Петербург должно было и запоздалое уведомление Оленина о том, что вместо упраздненного в 1830 году звания советника Академии Кипренскому присвоено профессорское звание. Оно обещало Оресту Адамовичу безбедное существование в Петербурге.
Кипренский в полной мере оценил серьезность этих рекомендаций и с тех пор почти в каждом письме Оленину и другим официальным лицам непременно упоминал о своем желании, по окончании очередных работ, «с восторгом возвратиться в любезное отечество». Но с возвращением он тем не менее совсем не торопился, хорошо понимая, что его ждет на родине, где к прежним «прегрешениям» теперь добавилось новое — сочувствие польским «смутьянам».
То, что Кипренский, равно как и другие передовые русские люди, близко принимал к сердцу польскую трагедию, было в порядке вещей. Он вообще относился к полякам с симпатией и еще в 1822 году, рекомендуя в письме Гальбергу одного польского живописца, писал: «Русские с поляками за руки держатся». Польские симпатии Ореста Адамовича могли только окрепнуть во второй итальянский период его жизни, когда в Италию вновь приехала Зинаида Александровна Волконская, которая была так дружна с Адамом Мицкевичем. Волконская в России помогла опальному поэту получить заграничный паспорт и эмигрировать. Мицкевич относился к княгине с восторженным поклонением, переписывался с нею, навещал ее в Италии. Благодаря Зинаиде Александровне Кипренский мог познакомиться в Италии и лично с Адамом Мицкевичем и другими польскими деятелями, раз он их портретировал в «Читателях газет». Впрочем, если художник встречался с Мицкевичем в Италии, то он согласно некоторым предположениям лишь возобновил там старое знакомство, ибо один из его карандашных портретов петербургского периода в наше время определяется как изображение великого польского поэта…
Сама Зинаида Александровна не скрывала сочувствия польскому делу и неприязни к новому русскому императору, чьи репрессии после поражения восстания декабристов обрушились на ее близких и, по сути дела, вынудили ее самую покинуть Россию.
В Риме благодаря только одному присутствию там Зинаиды Александровны было уютнее и теплее, чем в Неаполе. А вот с послами Оресту Адамовичу положительно не везло. В первое римское житье его невзлюбил Италинский. В Неаполе к нему с настороженной недоверчивостью относился «чопорный» граф Штакельберг. А после возвращения в Рим Орест Адамович уже не застал там неизменного друга и благожелателя Григория Ивановича Гагарина, перемещенного на пост российского посланника в Мюнхен. Вместо него в Рим приехал граф Н. Д. Гурьев, совершенно чуждый нужд и забот отечественных «артистов», живших на берегах Тибра.
Но с другими русскими дипломатами, как и в Неаполе, у Ореста Адамовича отношения были самыми добрыми. Среди них оказались сыновья Александра Михайловича Голицына, Федор и Михаил, служившие в русских миссиях в Риме и Флоренции. Оба они, подобно отцу, глубоко почитали талант Кипренского. Оба были людьми незаурядными, которым судьба уготовила сыграть далеко не рядовую роль в истории. Михаил Александрович (1804–1860) проявил себя на дипломатическом поприще, дослужился до чина тайного советника, был русским послом в Испании. Он продолжил меценатские увлечения своего отца, был крупным библиофилом и коллекционером произведений искусства, которые пополнили родовое голицынское художественное собрание и послужили основой замечательного публичного музея и библиотеки, открытых уже сыном Михаила Александровича Сергеем. Музей украшали наряду с работами отечественных художников творения Перуджино, Тициана, Рембрандта, Рубенса, Ван-Дейка, Веронезе, Караваджо, Каналетто и других великих мастеров.
Впоследствии они все влились в собрание Эрмитажа, умножив славу отечественных музеев, которые благодаря таким людям, как М. А. Голицын, сосредоточили в своих стенах величайшие шедевры искусства всех стран и народов…
По другому пути пошел Федор Александрович (1805–1848). Начав службу в дипломатическом ведомстве, он вскоре пресытился чиновничьей деятельностью и обратился совсем к другим материям, которые круто изменили его жизнь, ибо он, сообщает нам весьма осуждающим тоном Федор Иордан, прославился как «католик, иезуит и волонтер папских войск».
Суждение Иордана однозначно. Он писал мемуары в духе своего времени и потому, верно, считал долгом заклеймить перебежчика в лоно римской церкви. С тех пор этот осуждающий тон в отношении Ф. А. Голицына, как ни странно, сохраняется даже в работах советских авторов.
Хорошо или плохо было то, что русский князь Федор Александрович Голицын стал в тридцатых-сороковых годах прошлого века «католиком, иезуитом и волонтером папских войск»?
Чтобы ответить на этот вопрос, нам надо вспомнить, как вспыхнула и развивалась в Италии революция 1848 года. Началом ее послужило, как известно, избрание в 1846 году римским папой либерально настроенного кардинала Мастаи Ферретти, принявшего на святом престоле имя Пия IX. Через месяц после своего избрания Пий IX, стремясь предотвратить революционный пожар в Риме, 16 июля 1846 года опубликовал эдикт об амнистии. Это была самая неотложная мера, которую диктовала ситуация, ибо в Папском государстве в то время насчитывалось 13 тысяч политических заключенных и еще 19 тысяч человек были политическими изгнанниками. Поэтому акт об амнистии вызвал настоящий взрыв народного ликования. В честь нового папы в Риме и других городах, подвластных «святому престолу», состоялись многотысячные манифестации, во время которых выдвигались требования других либеральных реформ. Волна народных выступлений, прославляющих папу-реформатора, прокатилась по всей Италии, вызвав всеобщий патриотический подъем. Повсюду звучали призывы последовать примеру Пия IX. Массовое движение в Риме в июле 1846 года возвестило о начале революционной бури, которая вскоре захватила всю Италию. Отмечая парадоксальность сложившейся ситуации, Энгельс в те дни писал: «В Италии мы являемся свидетелями удивительного зрелища: человек, занимающий самое реакционное положение во всей Европе, представитель окаменевшей идеологии средневековья — римский папа — стал во главе либерального движения»[15].
Вместе с папой под давлением народа либеральные реформы стали проводить и правители других итальянских государств. А между тем народное движение ширилось и росло со скоростью снежной лавины, захватывая все новые массы людей во всех концах Апеннинского полуострова и обретая характер подлинной революции. Первым восстал Палермо, из Сицилии пламя революции тут же перекинулось на континентальную Италию, 29 января 1848 г. неаполитанский король Фердинанд II «даровал» своим подданным конституцию. Вслед за Королевством Обеих Сицилий конституционное правление провозгласил Пьемонт, а затем Тоскана. За ними последовало и Папское государство, обнародовавшее 14 марта «Основной статут светского управления». На очередь дня вплотную вставали задачи освобождения от гнета австрийцев Ломбардо-Венецианской области и герцогств Пармы и Модены. К 23 марта восставшие жители Милана и Венеции изгнали из своих городов австрийских поработителей. Повсюду раздавались требования объявить войну Австрии, наращивавшей силы на равнинах Ломбардии. Пьемонт, Тоскана, Неаполитанское королевство направили войска против австрийцев. То же самое вынужден был сделать и Пий IX, который переместил к реке По корпус регулярной папской армии, дав при этом указание не переправляться через реку. Но выступившие одновременно с регулярными войсками отряды волонтеров рвались в бой. Они ослушались указаний папы, перешли По и вступили в схватки с австрийцами, после чего Пию IX пришлось согласиться на включение в военные действия и регулярных частей. Среди римских волонтеров, добровольно шедших на смерть ради завоевания свободы в независимости Италии, был русский князь Федор Александрович Голицын. Событие, что и говорить, совсем не ординарное для тех времен, когда Россия Николая I олицетворяла собой главную угрозу контрреволюционного возмездия и внесла потом решающий вклад в разгром европейской революции. Неординарным был и этот человек, бросивший вызов царю уже самим фактом открытого принятия католичества, вступления в иезуитский орден и отказа возвратиться в Россию вопреки давлению Петербурга, за что в 1845 году он был лишен всех прав и состояния и заочно осужден на каторжные работы. Беспримерным был и сам факт его участия в итальянском освободительном движении, стоивший ему жизни и вызывавший даже много лет спустя священный ужас у благонамеренно мыслившего старого гравера, который писал: «Будучи слаб умом, но очень богат, князь пожертвовал большую часть своего богатства, чтобы освободить Италию от ига австрийцев; но ему, как иностранцу, было более чем смешно и нелепо вмешиваться в это дело. Итальянцы были рады увидеть в рядах своего войска русского князя. Эта весть разглашалась повсюду. Князь Голицын обещался мало того что служить, но нести наравне с другими всю тягость военной службы. Он даже отправился пешком с войском, но, сделав несколько верст, захворал и ему пришлось доехать в своем экипаже до Болонии хворым, после чего он вскоре скончался и похоронен в Болонской чертозе. Над прахом его воздвигнут один из лучших памятников этой знаменитой усыпальни».
Угадал ли Кипренский, написавший портреты обоих братьев, что образ мыслей и характер Федора Александровича определят столь необычную судьбу этому представителю знаменитого, богатого и близкого к трону русского аристократического рода? Да, угадал, как можно судить по дошедшему до нас его портрету кисти Ореста Адамовича. Мы видим на нем 28-летнего мужчину (портрет написан в 1833 году) с бледным, мужественным, озаренным мыслью лицом и горящим взором, выдающим страстную, гордую, неукротимую натуру политического деятеля и служителя идеи, а вовсе не безвольного мистика или католического фанатика, каким его представляет Федор Иордан. Возвышенный, мятежный строй мыслей и чувств, воодушевляющих этого человека, подчеркивает насыщенный, напряженно звучащий цвет алой портьеры за спиной, бурно волнующееся море, клубящиеся серо-синие облака, затянувшие небо…
Портрет Михаила Александровича кисти Кипренского не сохранился, и мы не знаем, как художник сумел раскрыть характер брата, которому суждено было пройти по жизни другим путем, нежели Федору Александровичу. Другим, но не совсем, ибо и Михаил Александрович тоже был католиком, что тщательно скрывал, иначе не достигнуть бы ему такого высокого положения. Скрывал до самой кончины, и только смерть открыла это, позволив наконец Михаилу Александровичу соединиться с братом, ибо его прах также покоится на кладбище Болонской обители…
Не знаем мы и других портретных работ Кипренского последних лет, что обедняет наши представления о творчестве художника, который и на закате жизни, как о том свидетельствуют сохранившиеся произведения, по-прежнему был захвачен неустанными исканиями. Эти произведения не похожи друг на друга ни по мысли, ни по композиции, ни по цветовому решению, но все открывают какие-то новые грани его таланта. С этой точки зрения одна из самых интересных работ не только в творчестве Кипренского, но и во всей русской портретной живописи XIX века — портрет Бертеля Торвальдсена. Здесь у Ореста Адамовича исчез композиционный фон, почти непременный на других его портретах второго итальянского периода. Лицо славного ваятеля как бы вырвано пучком света из тьмы, поглотившей вместе с фоном и всю фигуру, за исключением правой руки, сжимающей молоток. Образ портретируемого вроде бы обретает плоть и кровь прямо на глазах зрителя, выступая из хаоса тьмы. Кажется, что скульптор, напряженно всматривающийся в тьму, схвачен в момент творческого озарения и своими зоркими, полными вдохновения очами видит черты чудного изваяния в стоящей перед ним бесформенной каменной массе…
Кипренский и тут предстал великим мастером, вновь проявил неистощимость своей фантазии, вознамерившись увековечить черты одного из самых выдающихся европейских собратьев по художественному ремеслу, с которым к тому же его связывали чувства глубокой и искренней приязни.
Не сидел, что и говорить, сложа руки, Орест Адамович в 1833 году, который, увы, стал годом не его триумфа, а другого художника — Карла Брюллова. «Последний день Помпеи», как только Брюллов положил на холсте последние мазки, был принят как шедевр не только русского, но всего европейского искусства. Двери брюлловской студии не закрывались с утра до поздней ночи. Каждый хотел взглянуть на произведение живописца, которого все называли великим: итальянские и иностранные художники, живущие в Риме, русская знать, заезжие знаменитости из других стран, простой римский люд, обладающий врожденным чувством прекрасного.
Поток похвал еще более усилился, когда стараниями графини Ю. П. Самойловой картина Брюллова была показана на Миланской художественной выставке, где она опять собрала самые лестные отзывы.
Автор проспекта выставки писал о «Помпее»: «Всякое сравнение в стиле сего живописного произведения с произведениями художников времен прошедших было бы неуместно. Каждому веку свойствен стиль… собственный, а стиль г. Брюллова есть плод гения, одаренного такими чувствованиями, какие немногим только в наше время достались в удел… Брюллов наравне с некоторым малым числом современных художников понял великую истину, что настало уже время сбросить с себя иго так называемого стиля академического, что пора уже изучать изящные, исполненные огня образцы художников XVI столетия и, напитавшись достаточно всем, что… в состоянии потрясти душу, — писать так, как внушают воображение и сердце».
В описании полотна русского художника, изданном в Милане Франческо Амброзоли, говорилось: «Перед картиной сей всегда собираются многочисленнейшие толпы любопытных, и в единодушном голосе удивления нередко слышатся сравнения с знаменитейшими из наших художников. И действительно, в иной части картины видна грандиозность Микеланджело, в другой — грация Гвида, иногда художник напоминает Рафаэля, иногда кажется, что в нем… ожил Тициан. И при всем разнообразии этом все предметы расположены так прилично и соединены с такой уверенностью в искусстве, с такой свежестью и столь далеко от всякого рабского подражания, что каждый невольно принужден сказать: вот художник, который совершенно владеет своим искусством!»
Даже в лучшие времена о Кипренском таких слов никто никогда не произносил. Но считал ли теперь Орест Адамович, что его песенка спета, что время обогнало его, что наступила пора триумфов нового поколения русских художников, а ему надо уйти в тень? Нет, он так не считал и трудом своим стремился доказать, что ему еще надлежит сказать новое слово в искусстве, поразить мир новыми художественными открытиями, увидеть день, когда ему вновь улыбнется фортуна.
Кипренскому последнее время и впрямь не везло. Уж как важно было побыстрее окончить замышленный им в 1833 году большой групповой парадный портрет сестер М. А. Потоцкой и С. А. Шуваловой с эфиопянкой, но работа над этим полотном бесконечно затягивалась совсем не по его вине. А он хотел здесь вновь помериться силами с удачливым Брюлловым, обогатить русское портретное искусство новыми приемами, до которых не додумался еще изобретательный Карл. Орест Адамович, конечно, при этом не пренебрегал ни добрыми традициями, ни модными увлечениями, ни особенностями собственной манеры. Сестер он решил изобразить на террасе на фоне тяжелых алых занавесей с кистями и открывающимся за ними простором Неаполитанского залива. В центре картины — девочка-эфиопянка. Слева от нее Кипренский поместил во весь рост С. А. Шувалову, которая поет, аккомпанируя на мандолине и слегка склонившись к своим слушательницам. Справа от служанки сидит М. А. Потоцкая, по мысли художника, завороженная, как и чернокожая девочка, музыкой и пением, которые должны были, помимо силуэта и цвета, обеспечить внутреннее, эмоциональное единство групповому портрету. Роскошные одеяния сестер и экзотическое платье эфиопянки, их украшения, узоры драпировок, корзина с плодами, краски залива — все было задумано так, чтобы в полном блеске проявилось живописное мастерство автора картины.
Но когда работа над полотном уже сильно продвинулась, обнаружилось, что у М. А. Потоцкой появились признаки тяжелого душевного недуга, который позднее сведет ее в могилу. Она без конца пропускала сеансы, затянув на несколько лет окончание картины, главной идее которой ее болезнь нанесла непоправимый удар, сделала неосуществимым замысел об эмоциональном единстве изображенных, ибо застывшая фигура графини с окаменевшим лицом говорит о чем угодно, но только не о восхищении музыкой и пением. Как Орест Адамович ни бился, завершить картину согласно своим замыслам он так и не смог…
По-прежнему Кипренскому не удавалось вырваться из жестоких тисков безденежья. Братья Голицыны за свои портреты, конечно, заплатили, но Торвальдсена Кипренский писал бесплатно, из дружеских побуждений. Портрет сестер оставался незаконченным и тоже не приносил никаких доходов. Была надежда на щедрые заказы со стороны русских, путешествовавших по Италии, среди коих оказался В. А. Жуковский. Василий Андреевич, конечно, не забыл старого приятеля, посетил его студию, посмотрел и старые и новые его произведения, но работы художникам прославленный поэт не задал, ибо был в Риме всего несколько дней. Граф Дмитрий Николаевич Шереметев принял «Читателей газет» и «Ворожею», как назвали в России «Цыганку, гадающую у свечи», но платить за картины не торопился. Кипренский не раз напоминал забывчивому графу о долге и даже в конце концов разразился стихами:
Уж времячко катит к лету, А у меня денег нету, Хоть бы за Французскую газету Мне бы прислал он в Рим монету. И вот уж столько лет, А ответу нет.В поисках заказов он колесит по всей Италии, обратные адреса его писем помечены Миланом, Болоньей, Флоренцией. В Милан он отправился, вероятно, в надежде получить заказ от Юлии Павловны Самойловой, но удалась или нет эта затея, никаких сведений до нас не дошло. Во всяком случае в письме к Оленину из Милана от 11 октября 1834 года он об этом не говорит ни слова. «Честь имею уведомить, — пишет художник президенту Академии художеств, — что я весною, по окончании портретов графини С. А. Шуваловой и сестры ее… Потоцкой, кои написаны в целый рост на одной картине, с восторгом возвращусь в любезнейшее Отечество… А теперь нахожусь я в Милане, куды приехал на пять дней. Работы же мои все будут докончены в Риме».
Не ясно, что делал и с кем встречался Орест Адамович и в Болонье. Зато цель его приездов во Флоренцию известна. Здесь в русской миссии служил Михаил Александрович Голицын, который, покровительствуя художнику, организовал ему заказы на портреты от своих коллег, русских дипломатов, и от некоторых флорентийцев. Об этих заказах сам Кипренский писал в другом своем письме из Милана, где он говорил, в частности: «Весною, по окончании некоторых работ, начатых во Флоренции, явлюсь с восторгом в Отечество, и дам отчет моими произведениями, что я в Италии времени не потерял».
По крайней мере о части этих флорентийских работ современникам было известно. Это — портрет г-жи Пуччи и так называемый «Паж», написанный, как говорит предание, с «молодого флорентийца благородной фамилии».
Участие встретил Кипренский во Флоренции и у главы русской дипломатической миссии Н. А. Кокошкина, который вошел в положение художника и решил попытаться еще раз заинтересовать царя его произведениями. Об этом Орест Адамович тут же сообщил в письме от 10 апреля 1834 года графу В. В. Мусину-Пушкину-Брюсу, в котором писал: «Честь имею уведомить Ваше сиятельство, что я желал было поднести великому князю Тосканскому три лучшие картины из моих произведений: 1) Сибиллу Тибуртину при свете лампады, 2) портрет знаменитого ваятеля Торвальдсена и под пару к нему 3) картину-портрет отца моего, который, как Вам небезызвестно, столь много прославился в Италии. Здесь весьма охотно ожидали сего поднесения. Признаюсь, я с горестью приступал к оному делу, имея, однако ж, полное право действовать таковым образом после того, как все лучшие творения мои были отвергнуты господином министром двора князем П. М. Волконским.
Здешний поверенный в делах г-н Кокошкин отклонил меня от сего поднесения вышеписанных трех картин великому князю Тосканскому, изъясняясь так, что он как русской, да и всякий бы русской, будучи на его месте, долгом бы себе почел сделать все возможное и желать, дабы таковые вещи оставались в России, а не в чужом месте, и что он напишет его сиятельству графу Ниссельроде, дабы предложить оные произведения нашему государю императору».
Внимание Н. А. Кокошкина очень поддержало дух Ореста Адамовича. «Вы себе представить можете, — писал он графу Василию Валентиновичу, — что сие противоположение господина поверенного в делах столь много поощрило и, так сказать, воскресило меня».
Кипренский просит Мусина-Пушкина-Брюса, чтобы общество похлопотало о беспошлинном провозе и сохранении рам, ибо «получивши картины в рамах, можно будет в рамах их немедленно выставить, где следует». Орест Адамович придавал чрезвычайно большое значение этому обстоятельству. Рамы он выбирал с величайшей тщательностью, чтобы они отвечали характеру живописного произведения: «Портрет Торвальдсена вставлен в богатейшую, на старинный манер золотую раму, которая весьма приличный делает вид картине; а потому весьма было бы жаль лишить картину оной рамы; потом портрет отца моего в простой черной раме, которую я вывез из Петербурга с оным портретом вместе; а третья большая рама Сибиллы, с полуциркулем вверху, золотая же».
На этот раз «жертва» была действительно принята, хотя и не целиком. Царь соизволил отобрать для себя один только портрет А. К. Швальбе, а «Сибиллу» и портрет Торвальдсена возвратил в Общество поощрения художников, и они снова стали беспризорными. В письме в Общество от 13 (25) января 1835 года Кипренский, говоря, что «не лишне было бы на некоторое время выставить обе вышеписанные картины… на суд почтеннейшей публики», подчеркивал, что крайне заинтересован в скорейшей продаже этих двух вещей, «так как, разъяснял он, деньги мне теперь надобны и для моих домашних дел, и для возвратного путешествия моего в отечество».
Новое заверение о сборах к возвращению в отечество было ответом на полученный всеми русскими послами за рубежом в мае 1834 года циркуляр. В нем предписывалось осуществить меры, «которые его императорскому величеству благоугодно было повелеть принять к отвращению произвольного водворения российских подданных в чужих краях».
Княгиня Зинаида Александровна Волконская, «водворившаяся» с сестрой Марией Александровной Власовой в Италии еще в 1829 году, не захотела последовать предписанию царя и возвратиться в Россию, ссылаясь на «расстроенное здоровье». Ее решение было встречено в Петербурге весьма неодобрительно. Графу Гурьеву по этому поводу сообщалось: «Проживающая в Риме супруга эгермейстера князя Никиты Волконского княгиня Зинаида Волконская обратилась к г. министру внутренних дел с просьбой об исходотайствовании ей вместе с сестрою г-жой Власовой дозволения продлить пребывание за границей на неограниченное время по причине расстроенного здоровья. Государь по докладу г. тайного советника Блудова о сей просьбе княгини Волконской изволил (дать) высочайшее соизволение на удовлетворение оной, но не иначе, как на основании законов». Закон этот был издан Николаем I в 1835 году, по нему русские подданные, оставшиеся за границей, лишались в России имений и прочего имущества. Муж Волконской князь Никита Григорьевич, который по отъезде жены продолжал жить в Петербурге и в Риме бывал только наездами, поэтому тут же оформил передачу их владений сыну Александру, поступившему после окончания Московского университета на дипломатическую службу.
У Ореста Адамовича имений в России не было, средства на жизнь он мог добыть только своим трудом и талантом. Спрос на его работы, увы, теперь был не велик, иностранцев среди заказчиков почти не встречалось, его картины покупали и позировали для портретов в основном русские меценаты. Ослушаться царя, навлечь новую опалу невозвращением в отечество значило пойти на риск лишиться и этих немногих покровителей. А ехать в Россию было еще большим риском. Кто знает, как его снова встретят на любезной родине, где так немилостиво обошлись с ним после первого путешествия в Италию? А как быть с Мариуччей, с ее католическим вероисповеданием?..
Царь вроде как бы заманивал его в Петербург, покупая раз в два года по одной картине и платя за них столько, сколько едва-едва бы хватило на дальнюю дорогу. За пейзаж назначил две тысячи, за портрет отца Кипренский просил пять тысяч, а получил всего три с половиной тысячи рублей. Невысоко ценил его величество русские таланты!
А в это время Орас Верне, приехавший в Россию в погоне за легким заработком, загребал за свои плац-парадные «баталии» по четыреста тысяч рублей…
Русских художников глубоко возмущала такая неумеренная щедрость в отношении иностранцев и полное пренебрежение к нуждам отечественных живописцев. Особенно неистовствовал прямодушный и честный Александр Иванов, писавший в сентябре 1835 года в письме к отцу: «Я бы руки обрубил всякому иностранцу-художнику, приехавшему пожирать наше золото, а русские, напротив, наперерыв рассыпаются перед ними, доставлял им всевозможные к тому способы, и, еще позорнее, предпочитая своим. Наш почтеннейший Кипренский, увенчанный лаврами Европы, едва живет в Риме».
А тут в довершение всех бед, из-за того, что в поисках заказов Оресту Адамовичу пришлось мотаться по всей Италии, долгожданный вексель от царя на три с половиной тысячи рублей за портрет Адама Швальбе ввиду отсутствия получателя вернулся в Петербург.
По-прежнему молчал Дмитрий Николаевич Шереметев. Художник решил тогда попенять графу за неаккуратность с платежами через Александра Петровича Куницына. В письме к последнему от 17 (29) января 1835 года Кипренский, плохо справляясь с обидой на забывчивого Дмитрия Николаевича, просил разъяснить графу, что если он «имеет во власти своей более ста тысяч рук, кои трудятся для его содержания», то у него, Кипренского, «только две руки и одна собственная голова работают для содержания самого себя». А потому, выговаривал Орест графу, ему давно бы надлежало заплатить за картины «без стихов моих и без прозы», ибо картины эти стоили художнику шести с лишним месяцев неустанного труда…
Впрочем, Орест Адамович не мог позволить себе ссору с вельможей и тут же советуется с Куницыным насчет того, нельзя ли «Тибуртинскую сивиллу» и портрет Торвальдсена, присовокупив к ним «Спасителя», тоже предложить графу Шереметеву, ибо они «составили бы богатый кабинет в хорошем доме».
Только в начале 1836 года пожалованная царем скромная сумма попала, наконец, «по принадлежности». Пришли также деньги и от Дмитрия Николаевича Шереметева за «Читателей газет» и «Ворожею» — 5940 рублей.
Денежные дела Ореста Адамовича постепенно поправлялись, он начал расплачиваться с долгами. Графу Штакельбергу, впрочем, он вернул долг еще весной 1834 года. Из этого видно, что одолжиться у надменного аристократа, не питавшего симпатий к художнику, Кипренского заставила только крайняя нужда, и он, как только появилась возможность, поторопился расквитаться со своим заимодавцем. «Не весьма спешил я возвратить мой долг, — писал Кипренский графу, — прошу мне в этом извинить, ибо сие произошло не от нерадения, но от того, что я чаял сам быть скоро в Неаполе и тогда желал лично возблагодарить Ваше сиятельство за одолжение, за которое не умею довольно возблагодарить Вас, ибо я вполне чувствую оного цену».
Вернувшись зимой 1834 года в Рим, Орест Адамович неожиданно встретил там старого приятеля еще по Москве Петра Андреевича Вяземского, нагрянувшего в Италию со всей семьей. Поэт приехал, надеясь на то, что благодатный итальянский климат поправит здоровье его восемнадцатилетней дочери Прасковьи, которую в семье звали Полиной, Пашенькой, угасавшей от чахотки. Петербургские друзья Петра Андреевича горячо сочувствовали его горю. Пушкин знал о тяжелой болезни дочери Вяземского, трепетал за ее судьбу. 26 июля 1834 года он писал жене: «Княгиня (Вяземская) едет в чужие края, дочь ее больна не на шутку; боятся чахотки. Дай Бог, чтоб юг ей помог. Сегодня видел во сне, что она умерла, и проснулся в ужасе». 3 августа Пушкин вновь возвращается в письме к Наталье Николаевне к этой же теме: «Вяземские здесь. Бедная Полина очень слаба и бледна. Отца жалко смотреть. Так он убит. Они все едут за границу. Дай Бог, чтоб климат ей помог».
Итальянский климат, однако, не помогал: Пашенька была обречена. Вяземские приехали в Рим в конце ноября 1834 года, а через три с небольшим месяца их дочери не стало. Федор Бруни успел сделать с нее акварельный портрет. С него смотрит грустная, больная, вся ушедшая в себя девушка, весь вид которой говорит, что она — не жилец на свете. Бруни тогда же выполнил и групповой портрет дочерей Вяземских, изобразив вместе с Пашенькой ее младшую сестру Надежду и старшую Марию. Из них одна Мария дожила до 36 лет. Наденька, как и сестра, тоже сгорела от чахотки, прожив только восемнадцать лет. П. А. Вяземский похоронил семерых из восьми своих детей, что омрачило всю его жизнь…
Откликнулся на горе поэта и Кипренский, который сделал его карандашный портрет — потрясающий по искренности графический шедевр художника.
На портрете справа от изображения Кипренский написал: «Орест К. 1835. Roma». Ниже он добавил: «В знак памяти». И, видимо, в самый последний момент поставил в левом нижнем углу листа число — «17 марта».
Почему-то никто не обращал внимания на эту дату, а она носит отнюдь не случайный характер, давая очень верный ключ к раскрытию созданного Орестом Адамовичем образа.
Художник рисовал Вяземского через пять дней после смерти Пашеньки. Поэт тяжело переживал обрушившийся на него в Риме удар. «Для меня все путешествие мое, — писал он своему старому другу А. И. Тургеневу, — как страшный сон, который лег на душу мою, или, лучше сказать, вся прочая жизнь была сон, …она, как свинцовая действительность, обложила душу отныне и до воскресения мертвых».
Это последний известный нам карандашный портрет Кипренского. В своем рисунке он сумел с поразительной чуткостью передать тяжелое душевное состояние, в котором тогда находился поэт, угнетенный горем, подавленный, с потухшим, отсутствующим взором…
Некоторая сухость рисунка, на что обычно обращают внимание, когда говорят об этом портрете, ничуть не мешает художнику проявить здесь себя таким же тонким и глубоким психологом, каким мы его знаем по лучшим графическим работам периода расцвета его таланта.
Кипренский с успехом участвовал в римской осенней выставке 1835 года, о чем с удовлетворением сообщал в Петербург его неизменный почитатель Александр Иванов: «Теперь здесь все говорят о выставке Кипренского. Говорить вам о похвалах неуместно, ибо и вы, и все русские, знаете достоинства сего художника…»
Еще более лестными были отзывы о картинах Ореста Адамовича (о чем ему, правда, уже не довелось узнать) на римской выставке 1836 года, проникшие на страницы и русской печати. Петербургская «Художественная газета» писала: «На выставке художественных произведений, бывшей в Риме в этом году, кто соперничествовал? Иностранцы. Лучшие произведения считались: Голова пажа, Кипренского, Иисус с Магдалиной, картина Иванова… пейзажи Лебедева… Это русские».
Нет, не собирался Орест Адамович складывать своего оружия, не думал падать духом от временных неудач. Он по-прежнему был полон новых замыслов, по-прежнему неистощим был его интерес к творчеству собратьев по кисти, русских и иностранцев. Даже сдержанный Иордан не мог не отметить в своих мемуарах обаяния личности своего талантливого соотечественника: «Я восхищался Кипренским, славным художником, с предоброю душою… Все, что ни делалось или писалось в Риме, где бы студия какого-либо художника ни находилась, где было на что взглянуть… и в какое бы время года ни случилось (это), наш Кипренский там, и всегда относился благосклонно…»
Едва поправив денежные дела, Кипренский, верный своему слову, начинает хлопоты об обручении с Мариуччей. Ему в это время исполнилось 54 года, Мариучче — 25. Но не возраст жениха, стоявшего на пороге старости, был препятствием для заключения брака, а разница религиозных верований будущих супругов. Чтобы снять это препятствие, Орест Адамович становится католиком. Вопреки насаждавшемуся Николаем I взгляду на такой поступок, как в высшей степени антипатриотический, Кипренский не усматривал в перемене религии ничего предосудительного. Ведь католиками стали в Италии многие близкие и уважаемые им люди: Бутурлины, супруга Григория Ивановича Гагарина, ее сестра госпожа Свечина, княгиня Зинаида Александровна Волконская, ее муж Никита Григорьевич и сестра Мария Александровна, братья Михаил и Федор Голицыны… Одни из них открыто исповедовали новую религию, столь своеобразным образом подчеркивая несогласие с николаевским курсом казарменного единообразия, другие — и их было большинство — до поры до времени сохраняли обращение в лоно римской церкви как величайшую тайну. Кипренский принадлежал к последним. Он, естественно, никак не афишировал ни свое католичество, ни даже свою женитьбу и настолько преуспел в этом, что о том и другом даже его коллеги, русские художники, узнали только после его смерти. Более того, именно в те дни, когда Кипренский переменил религию и обвенчался с Мариуччей, он сумел уверить всех, что совсем собрался возвратиться на родину. В числе других в это поверил и Александр Иванов, который взял на себя хлопоты об организации прощального обеда, подобного тому, коим русские художники почтили отправившегося в Петербург Федора Бруни. Иванов обратился к находившемуся тогда в Риме одному русскому писателю с просьбой написать по этому случаю приветственное слово в честь Ореста Адамовича. «Мы отправляем отсюда Кипренского, — объяснял Иванов, — или готовим ему дать прощальный обед, и хотели бы, чтобы он был более ознаменован, чем тот, что дали мы Бруни. На сей конец мы собираем теперь деньги на серебряный стакан, кругом коего будут вырезаны имена тех, кои желают сего; он будет стоить около десяти скуд; мы его внезапно, при первой бутылке шампанского, ему представим, как знак нашей признательности и уважения. Но этого мало. К бюсту Бруни были приставлены стихи на итальянском языке, которые в кратких словах много выражали. А истинно русскому Кипренскому, полвека употребившему, чтобы поставить имя русское в ряду классических живописцев, никто и ни слова не хочет сказать! Стыдясь такового поступка, я прибегаю к вам: сочините что-нибудь в прозе. Вы знаете Кипренского, как первого из русских художников, сделавшегося известным Европе; знаете, что он причиною, что нынешние пенсионеры получают вместо шестисот рублей — три тысячи; знаете, может быть, и другие его заслуги, и потому можете составить речь, сказать которую, если не будет охотников, то, может быть, и я подымусь».
До прощального обеда дело, как видно, не дошло, но под разговоры о близящемся отъезде Кипренскому удалось втайне от всех своих соотечественников проделать все необходимое, чтобы сочетаться законным браком с Мариуччей.
Женившись, Кипренский нанял хорошую квартиру в доме на Пинчо, где когда-то жил Клод Лоррен и откуда открывался чудный вид на «вечный город», и поселился там со своей молодой женой.
Был ли счастлив Орест Адамович в эти оставшиеся месяцы жизни, отведенные ему судьбой? Могла ли понять его, разделить с ним его заботы и увлечения, проявить снисходительность к его беспечному образу жизни и привычкам вольного живописца, никогда не имевшего своего дома и вечно странствовавшего по миру, супруга, воспитанная в строгих монастырских правилах приютского дома? Сглаживало ли разницу в возрасте чувство глубокой благодарности, которое должна была испытывать Мариучча к Оресту Адамовичу, спасшему ее в детстве от нищеты, а теперь избавившему от заточения в приюте, где иначе ей, может быть, пришлось бы влачить свои дни до самой смерти? Была ли между супругами какая-нибудь духовная общность, если помнить о том, что муж принадлежал к сливкам европейской культуры, а жена освоила лишь начатки грамоты в монастырской школе, предназначенной для выходцев из римского плебса? Ведь Кипренский знал милого ребенка Мариуччу, а теперь, спустя 15 лет, перед ним была взрослая женщина со сложившимся характером и взглядами на жизнь, которые, наверное, ни в чем не совпадали со взглядами ее благодетеля…
Современники дают на все эти вопросы самые противоречивые ответы. Федор Иордан, в частности, уверяет, что брак с католичкой новоявленного русского католика не принес ему счастья, что облагодетельствованная Орестом Адамовичем римлянка отплатила ему за это самой черной неблагодарностью, не любила и не жалела своего пожилого мужа, который будто бы под конец совсем свихнулся от этого и топил горе в вине: «Проработав день, он отправляется, бывало, обедать и старается отыскать хорошее вино, которое он требует по половине фульсты, и к концу вечера, когда он едва может говорить от вина, перед ним стоит целая батарея этих полуфульст… Раз возвращаюсь я поздно из театра, желая что-нибудь закусить, вхожу в трактир. Все столы пусты, прислуга, облокотившись на свои руки, спит. Иду к нашему русскому столу, стоит лампочка, и в полутьме вижу Кипренского с целою полубатареей полуфульст; в руках он держит приподнятый стакан красного вина перед лампочкою, восхищается его цветом. Говорил он едва внятно, и язык от вина ослаб… Молодая жена его, не желая видеть мужа в сем безобразном виде, часто не впускала его на ночь, и он ночевал под портиком своего дома. И тут, должно быть, он простудился, и мы, наконец, узнали о его опасной болезни — воспалении в легких, которая через несколько дней свела его в гроб».
Ни один другой современник, однако, не подтверждает этих слов Иордана о чрезмерном «пристрастии» Кипренского к спиртному и о том, что обожаемая им Мариучча после свадьбы стала злой фурией. Русские художники, живя подолгу в Италии, привыкали к легкому сухому вину, без которого в жарком итальянском климате кусок в горло не идет, начинали понимать в нем толк, ценить букет, цвет. Тонким знатоком и ценителем итальянских вин был Сильвестр Щедрин, который часто рассуждает в своих письмах Гальбергу на эту тему, но Иордан переписки между ними не знал, иначе бы он и этих своих коллег объявил неисправимыми алкоголиками. Впрочем, Иордан сам же опровергает себя, когда после рассказов об обильных винных возлияниях Кипренского сообщает нам: «Всего удивительнее, что этот же человек, первый из художников, завтракает на другой день веселый, шутит с прислугою…» И в другом месте: «Утром он один из первых в кофейной; модель у него имелась почти ежедневно».
Все это не вяжется с поведением хронического алкоголика, каковым Кипренский не казался ни одному его современнику, включая тех художников, которые много больше, чем Иордан, общались с ним и в первый, и во второй приезд в Италию.
Вызывают большое недоверие и слова Иордана о «недоброте» Мариуччи, которые противоречат другим свидетельствам на этот счет. Вот что писал по этому поводу Иванов в письме отцу — настоящем крике души художника и патриота, глубоко потрясенного смертью замечательного русского живописца, ускоренной несправедливостями и преследованиями: «Знаменитый Кипренский скончался. Стыд и срам, что забросили этого художника. Он первый вынес имя русское в известность в Европе, а русские его во всю жизнь считали за сумасшедшего, старались искать в его поступках только одну безнравственность, прибавляя к ней, кому что хотелось. Кипренский не был никогда ничем отличен, ничем никогда жалован от двора, и все это потому только, что он был слишком благороден и горд, чтобы искать этого. Он умер, оставя супругу беременною, только с десятью тысячью рублями. Скажу вам еще одну подробность об нем, которая пусть останется между нами. Кипренский, перед отправлением своим в Петербург, любил чрезвычайно одиннадцатилетнюю девочку, по имени Марию, и, видя необходимость ехать в Россию, постарался ее вручить в монастырь на воспитание. Любовь — великое дело (я это однако ж знаю по рассказам, я сам не был влюблен никогда). Кипренский оставил все свои выгоды в России, и едет, чтобы быть близко к своему любимому предмету. Он дарит взрослую Марию двумя тысячами рублями. Бедная девица отдаривает его прекрасным бельем разного рода. Тронутый сим, наш великодушный художник решает в своем сердце приобрести ее руку и поклясться у алтаря в вечной и неизменной привязанности. Но тут он нашел крайнее затруднение: настоятели монастыря выдают замуж воспитанниц своих только за римских католиков. Затворы монастырские, препятствия ехать в Марсель или Ливорно… Кипренский переменяет веру, и они тотчас обвенчаны. После трех месяцев, живя в доме Клавдия из Лореня, он сильно простудился и скончался. Мы, русские пенсионеры, повещенные придти на похороны, видим их по-католически устроенными, и тут только узнали о всех сих подробностях, которые я вам сейчас и докладываю».
Та же версия встречается и в письме анонимного автора в Академию художеств (им был, по-видимому, давний приятель Ореста Адамовича пейзажист Филиппсон, «списывавший», как мы помним, для него виды Рима еще в первый приезд в Италию):
«Художник, которым столь справедливо мы, русские, гордились, г. Кипренский скончался здесь 5 (17) прошедшего октября. Прошло не более 3 месяцев, как он женился на молодой девице, итальянке, которой втайне благотворил с самого ее детства и которая одному ему обязана своим воспитанием. Он занемог жестокою горячкой, от которой усердием доктора и неусыпными попечениями супруги начал было оправляться и стал уже выходить, посетил и меня в то время, как простудился снова, и горячка возвратилась. Знаменитый художник не вставал более. В последнее время он начал было писать картину „Ангел хранитель для детей“, где в лице ангела изобразил жену свою, которую любил до обожания. Даль в картине представляет часть Рима, видную из окна его квартиры, с церковью св. Петра и Ватиканом. Я имел удовольствие работать для него вид этот…»
О том, что Мариучча отвечала полной взаимностью любившему ее «до обожания» Кипренскому, писал в Россию и архитектор Н. Е. Ефимов, римский пенсионер Академии художеств, которому выпало на долю сделать скромный памятник на могиле художника.
На похороны пришли все члены русской художественной колонии в Риме. «Зайдя к нему на квартиру, — рассказывает Иордан, — жаль было видеть стоявший на полу простой гроб, с теплящеюся лампадкою в головах. Старичок священник сидел в стороне. Прискорбно было видеть это сиротство славного художника на чужбине».
Был октябрь месяц, пишет далее гравер. В Риме, по традиции, это — месяц забав, когда нарядные и разукрашенные цветами люди с бубнами в руках разъезжают по улицам, распевая песни. «…В такой веселый октябрьский день собрались на квартиру покойного свои и некоторые чужие отдать достойному труженику последний долг. Явились могильщики, взяли гроб, снесли вниз, положили на носилки, покрыли черным покровом, взвалили себе на плечи, и целая ватага капуцин, по два в ряд, затянули вслух свои молитвы. Мы же, с поникшими головами, следовали за гробом до церкви С. Андреа делле Фратте, где и поставили в память покойного Кипренского на стене мраморную доску с некоторым рисунком, в виде дверей. Рисунок был сочинен Н. Е. Ефимовым».
Первым ревнителем этого благого дела был Александр Иванов, эта ходячая совесть русской художественной колонии в Риме. «Чувствуя все величие таланта Кипренского по художествам, — писал он отцу, — и почитая высоко его добродетели, мы, художники, во время нашего собрания в день тезоименитства государя императора сложились поставить монумент в церкви, где был отпет и оплакан нами великий предтеча художников русских, сделавшийся известным всему просвещенному свету».
В Риме, на улице Грегориана, близ площади Испании, сохранился «дом Клавдия», как в «вечном городе» именовали Клода Лоррена, в котором провел последние дни жизни и умер Орест Кипренский. В трехстах шагах от него стоит церковь Сант’Андреа делле Фратте, в строительстве которой участвовал великий Борромини, где похоронили Кипренского.
Дошла до наших дней и скромная мраморная стела в четвертой капелле справа церкви Сант’Андреа делле Фратте — дань русских художников своему великому собрату по кисти.
На стеле, изображающей портал, по бокам которого помещены опущенные вниз факелы, высечена надпись по-латыни:
HONORI ЕТ MEMORIAE
ORESTIS KIPRENSKOI
INTER PICTORES ROSSIACOS CLARISSIMI
IN IMPERIALI BONARUM ARTIUM
ACADEMIA QUAE PETROPOLI EST
MAGISTRI ET A CONSILIIS
ACADEMIAE NEAPOLITANAE SODALIS
QUOTQUOT ROMAE SUNT RUSSIACI
PICTORES ARCHITECTI ET SCALPTOR
TANTUM GENIUS SUAE LUMEN
TOTQUE VIRTU FES ANIMI
SIBIANTE TEMPUS PRAEREPTAS DEFLENTES
SUA IMPENSA FECERUNT
DESIDERATUS EST ANNO AETATIS XXXXVIIII
X KAL OCTOBR AN CHR MDCCCXXXVI
Внизу доски слева указано имя автора памятника — N. IEFIMOFF.
В переводе на русский язык эпитафия гласит:
«В честь и в память Ореста Кипренского, самого знаменитого среди русских художников, профессора и советника Императорской Петербургской Академии художеств и члена Неаполитанской академии, поставили на свои средства живущие в Риме русские художники, архитекторы и скульпторы, оплакивая безвременно угасший светоч своего народа и столь добродетельную душу. Скончался 49 лет от роду 10 октября 1836 года от рождества Христова».
Составители эпитафии допустили некоторые ошибки в латыни, не указали, что Кипренский наряду с Неаполем был отмечен признанием также во Флоренции и Женеве и неправильно назвали дату смерти и возраст покойного, ибо никто из русских друзей художника, вероятно, не знал точного года его рождения.
Спустя полтора века
Я счастлив был: я наслаждался
мирно
Своим трудом, успехом, славой;
также
Трудами и успехами друзей,
Товарищей моих в искусстве
дивном.
А. С. ПушкинВдове Кипренского Петербургом была назначена небольшая пенсия — 60 червонных в год. Кроме того, Академия художеств приобрела у нее три работы покойного мужа — портреты Торвальдсена, Давыдова и императрицы Елизаветы Алексеевны, заплатив за них 6228 рублей. 5 тысяч рублей Анна-Мария Кипренская получила от графинь Потоцкой и Шуваловой за их портреты. Эти суммы добавились к тем 10 тысячам рублей, которые художник, умирая, оставил жене. Нищета семье Кипренского не грозила.
Через шесть месяцев после кончины Ореста Адамовича Анна-Мария родила дочь, которую нарекли Клотильдой. Русские художники навещали семью своего покойного товарища, пока Анна-Мария не вышла повторно замуж и не исчезла из виду. Последними у нее побывали Федор Иордан и гравер Николай Уткин в 1844 году, восемь лет спустя после смерти Кипренского. С того времени всякая связь соотечественников с его вдовой и дочерью оборвалась навсегда.
Часть вещей Кипренского была переслана из Рима в Академию художеств, часть, естественно, осталась у вдовы, часть рассеялась среди русских художников, живших в Италии. Сын историографа Андрей Николаевич Карамзин, путешествовавший по Европе в 1837 году, рассказывает в письмах, что в Риме он среди прочего копировал «скицци» Кипренского, которые брал у архитектора Н. Е. Ефимова…
Когда еще в конце 1950-х годов, живя в Риме, мы обнаружили, что в церкви Сант’Андреа делле Фратте сохранился скромный монумент Н. Е. Ефимова на могиле Кипренского, у нас уже тогда появилась мысль о том, чтобы попытаться разыскать и оставшиеся в Италии работы художника, а также собрать сведения о судьбе его семьи.
Материалы о жизни и творчестве Ореста Адамовича мы искали и в Риме, и во Флоренции, и в Неаполе, но, как и следовало ожидать, больше всего информации биографического характера обнаружилось в римских архивных хранилищах. Прежде всего речь идет об архиве Римского викариата, где хранятся церковные книги с записями о крещении, конфирмации, вступлении в брак, кончине жителей Рима, начиная с XVI века. Записи велись по приходам. По приходам же на Пасху проводилась и перепись прихожан. Поскольку жена и дочь Кипренского были католичками, а в течение последних трех месяцев жизни, хотя и чисто формально, католиком считался и он сам, в церковных книгах обязательно должны были в той или иной связи упоминаться их имена.
В архиве с помощью служителя, который даже не спросил, кто мы, и дал заполнить крайне лаконичный листок посетителя лишь к концу рабочего дня, мы довольно быстро нашли дело о женитьбе Кипренского и Анны-Марии Фалькуччи. Оно было вшито в огромный фолиант с разными брачными документами за 1836 год.
Благодаря этому мы теперь располагаем новыми совершенно достоверными данными о последних месяцах жизни художника. Именно из этих бумаг мы узнаем, что в судьбе Кипренского принимал участие сам папа Григорий XVI, устанавливаем точную дату перемены Орестом Адамовичем религии, получаем массу сведений о Мариучче.
Католичество Орест Адамович принял 29 июня 1836 года. Об этом свидетельствует подшитый к делу документ, удостоверяющий согласно принятой форме, что он вступил в лоно римской церкви по своей доброй воле, «осознав все заблуждения и ошибки греко-схизматической секты». Это, впрочем, слова не Кипренского, а отпечатанного типографским способом на латинском языке бланка, в который от руки вписаны лишь конкретные данные, касающиеся вновь обращенного: его имя и фамилия, имя отца, место рождения, возраст. Как явствует из справки, Орест Адамович объявил, что ему только 46 лет, то есть преуменьшил свой возраст на целых восемь лет. Но тут он обманывал не свою будущую жену, а римских прелатов, дабы они не чинили препятствий к браку с двадцатипятилетней католичкой, которая, наверное, была согласна с тем, что истинный возраст ее жениха объявлять было совсем не обязательно.
Во всяком случае, в своем обращении к папе, к которому приложена справка о принятии Кипренским католичества, Анна-Мария Фалькуччи тоже была весьма неточна, излагая биографические сведения о будущем муже. Она сообщала его святейшеству, что «кавалер Кипренский, сын покойного Адама, родом из Копорья, что близ Петербурга, греко-схизматического вероисповедания» 29 числа текущего месяца июня «точно просветленный свыше» признал ошибки означенной религии и стал католиком, «как о том свидетельствует прилагаемый акт». Поелику же он ныне «желает вступить в законный брак с честной католичкой», то сталкивается с неодолимыми препятствиями по причине отдаленности своей родины, а равным образом еще потому, что хочет избежать ненужной огласки дела. Этим, писала далее Анна-Мария, и продиктована просьба кавалера Кипренского о милости со стороны святого отца: освободить его от обязанности предоставлять свидетельство о крещении, а отсутствие предыдущих брачных уз и иных причин, могущих воспрепятствовать браку, позволить подтвердить письменным заявлением, ибо «он уже более 18 лет как не был на своей Родине и в Петербурге, потому что, ведомый гением живописи, которая является его профессией, он странствовал по свету, жил то в Германии, то во Франции, то в Риме, то в Неаполе, а теперь вот уже более года снова живет в Риме». О том, что художник с 1823 по 1828 год пребывал в России, невеста Кипренского сочла нужным от папы скрыть…
Много хлопот было у Мариуччи и со сборами своих документов, требовавшихся для венчания. Тут ей опять пришлось утруждать своим прошением святого отца. Для вступления в брак нужны были свидетельства о крещении и о конфирмации. Конфирмацию она принимала в Риме 6 октября 1822 года, и потому без особого труда получила справку, удостоверяющую это, на которой стоит дата 1 июля 1836 года. Но свидетельство о крещении у нее было в копии, скрепленной лишь подписью и печатью приходского священника. А требовался документ из канцелярии епископства…
И вот здесь неожиданно выясняется, что Анна-Мария не была римлянкой. Из копии свидетельства о крещении мы узнаем, что родилась она в 1811 году в области Марке, километрах в двухстах от Рима, в глухой горной деревушке Тризунго. Отца ее звали Джузеппе Фалькуччи, мать — Анджелой. Крестили Анну-Марию в соседнем селении Арквата в приходской церкви святого Петра. В своем прошении, обращенном к папе, невеста Кипренского писала, что она, «Анна-Мария Фалькуччи, из Приюта для неприкаянных, где находится с девятилетнего возраста и где в 1822 году приняла конфирмацию», живет с раннего детства в Риме, в своей родной Арквате никого не знает и потому не имеет никакой возможности выправить в канцелярии местного епископа документ о крещении, в силу чего умоляет его святейшество считать действительным свидетельство о крещении, выданное приходским священником Аркваты.
Так становится известным из этого и других документов название заведения, в котором долгие годы пребывала Анна-Мария и которое никак не могли разыскать друзья Кипренского: Приюта для неприкаянных, находившегося не где-то в глухомани, а близ центра Рима, на улице Фориачи, что рядом с собором святого Петра. Не могли разыскать по той простой причине, что в списке воспитанниц Приюта для неприкаянных, как мы обнаружили, листая церковноприходские книги, фамилия Анны-Марии Фалькуччи появляется только в 1828 году. До этого фигурирует некая «Мария Фалькетти из Рима», возраст которой в точности совпадает с возрастом воспитанницы Кипренского. Фамилию девочки римские прелаты, таким образом, намеренно искажали, чтобы на ее следы не напала непутевая мать. К 1828 году матери, как видно, уже не было на свете, и потому отпала необходимость держать в тайне монастырский адрес ее дочери…
В приюте было около пятидесяти «воспитанниц» самого разного возраста: от 9–10 до 60 с лишним лет. Против некоторых фамилий стоят крестики, что означает, что они умерли, находясь в приюте, от старости или болезней; против некоторых других стоит буква «p», что означает «partita», то есть «выбывшая». «Выбывшей» значится в переписи за 1836 год и Анна-Мария Фалькуччи. Легко представить, как она была счастлива, что благодетель сдержал слово и избавил ее от угрозы весь свой век провести за монастырскими стенами…
Но вернемся к документам о свадьбе Кипренского.
Анне-Марии и Оресту Адамовичу пришлось написать еще одно обращение в церковные инстанции — с просьбой не предавать огласке их венчание, освободив их от обязанности давать об этом объявление «по причинам уже известным» соответствующим духовным лицам.
Потянулись долгие дни ожидания папской милости. Она последовала только через две недели и была во всем благоприятной просителям. 13 июля были оформлены последние документы: два свидетельства о том, что Анна-Мария не принимала монашеского обета и была безбрачна, и декларация Кипренского о том же в отношении самого себя. Одно свидетельство Анне-Марии подписала настоятельница Приюта для неприкаянных Франческа де Росси, другое — некий Джироламо Марукки, видимо, муж Маддалены Марукки, которая фигурирует в качестве крестной матери Мариуччи на документе о конфирмации. Самой Маддалены Марукки к тому времени, наверное, уже не было в живых.
После этой находки, казалось, без всякого труда можно было докопаться до Клотильды Кипренской и разыскать потомков великого русского художника. Но в «Книге крещений» прихода Сант’Андреа делле Фратте, к которому была приписана виа Грегориана, где проживал Орест Адамович после женитьбы, записей за 1837 год с упоминанием фамилии Кипренского или Фалькуччи, мы не нашли. Анна-Мария Кипренская крестила дочь в каком-то другом приходе и, стало быть, к тому времени уже покинула богатую квартиру, снятую на Пинчо ее покойным мужем. Мы просмотрели «Книги крещений» и всех остальных римских приходов: ни в одной из них записей о Клотильде Кипренской нет, хотя вдова художника первые годы после смерти мужа жила в Риме. А раз так, то, как нам разъяснил монсеньор Габриэле Кроньяле, заведующий читальным залом архива, оказавший нам большую помощь в наших разысканиях, книга с нужной нам записью, по-видимому, была утеряна при реорганизации приходов, к чему римская курия прибегает довольно часто…
Оставалась еще надежда найти следы Клотильды Кипренской в книге конфирмаций. Ведь если даты крещений и смертей регистрировались только в приходах, то для записей о конфирмации существовала общая для всего Рима книга. В ней мы сразу нашли фамилию Анны-Марии Фалькуччи, конфирмованной в 1822 году в приходе святой Доротеи, к которому был приписан Приют для неприкаянных, но сколько ни листали страницы за годы, когда к святым таинствам должна была в возрасте 11–12 лет приобщаться Клотильда, никаких упоминаний об этом не обнаружили. Либо Клотильда не дожила до возраста конфирмации, либо вдова Кипренского, выйдя повторно замуж, уехала из Рима, и его дочь совершала этот обряд в каком-то другом городе. Из-за этого дальнейшие поиски предельно усложняются…
Фамилию Кипренского мы, однако, встретили еще в одном церковном документе. Речь идет о «Книге усопших» церкви Сант’Андреа делле Фратте, где под датой 24 октября 1836 года мы прочли печальные строки записи на латыни о кончине «почтенного господина Ореста Кипренского, советника Петербургской Академии художеств, сына покойного Адама, супруга Анны-Марии Фалькуччи». В книге приходского храма, в котором похоронен художник, ошибки быть не могло. Общепринятая у нас дата смерти Ореста Адамовича 5/17 октября 1836 года теперь должна быть пересмотрена и исправлена на 12/24 октября…
Таковы новые достоверные факты о жизни и смерти Кипренского, которые открывают нам документы архива Римского викариата, — факты, частично рассеивающие туман легенд и возвращающие нам подлинный облик замечательного русского живописца.
Немало приятных неожиданностей ожидало нас и при поиске оставшихся в Италии произведений художника. Первую находку нам посчастливилось сделать в неаполитанском музее «Палаццо реале», в котором экспонируются картины бывшего королевского собрания.
Из-за отсутствия персонала многие залы этого музея часто бывают закрыты. Картину Кипренского мы узнали сразу же, когда попали в незнакомый нам зал, ибо речь шла именно о той его работе, которую он называл в письме Бенкендорфу как портрет «двух мальчиков», «приятно сгруппированных, писанных для покойного короля Francesco I до его отъезда в Гишпанию», то есть в годы жизни художника в Неаполе во второй его приезд в Италию. На полотне действительно были изображены два подростка в характерных неаполитанских костюмах, написанных на фоне замшелой скалы, за которой открывается вид на море и окутанный облаками Везувий. Кипренский узнавался в этой картине прежде всего потому, что один из мальчиков своей позой и обликом напоминал «Молодого садовника» Ореста Адамовича, что находится в Ленинграде в Русском музее. Однако на этикетке под картиной, носившей название «Два молодых рыбака, написанные в полурост», фамилия Кипренского была искажена до неузнаваемости.
Мы обратились в дирекцию музея за сведениями об истории этой работы. Недоразумение рассеялось сразу же после того, как картину сняли со стены. На обратной стороне холста кистью почерком Кипренского было четко выведено: «Oreste Kiprensky pinx. 1829. Napoli» («Писал Орест Кипренский. 1829. Неаполь»).
По композиции эта картина почти идентична «Читателям газет». Там также слева две трети фона занимает темный выступ стены, а одна треть фона, справа, отведена виду на Неаполитанский залив с кораблями и на Везувий. Здесь эти детали фона лишь поменялись местами: выступ скалы помещен справа, а вид на залив — слева.
В «Неаполитанских мальчиках», первом жанровом полотне, написанном после возвращения в Италию, Кипренский поставил перед собой сложную задачу: показать два противоположных начала в характере юности — мечту и действие, рефлексию и энергию, воплощенные в двух разных по темпераменту и душевному складу юношах. Задумчивом, темноволосом мечтателе, который грезит о чем-то, положив голову на скрещенные руки, и написанном в энергичном повороте светловолосом подростке в красном колпаке, который одной рукой прижимает к себе раковину, другой касается плеча товарища и этим как бы берет его под свою защиту. Взгляд его, обращенный на зрителя, полон настороженности и вызова.
Эти начала юношеской натуры символизируются цветами на выступе скалы, о которую облокотился мечтатель, и, конечно же, огнедышащим Везувием за спиной юноши со взглядом Давида. Несмотря на эти условности, холст очень привлекателен. Он подкупает умением художника понять и отобразить душевный строй юности, свежестью и сочностью колорита, верно найденными для характеристики образов цветовыми сочетаниями, великолепной живописью. Очень выразителен красный цвет колпака на юноше справа, этого яркого красочного пятна на темном фоне скалы, драматизирующего композицию. Восхитителен тонкий артистизм, отличающий всю картину, который лишний раз свидетельствует о сохранившемся большом творческом потенциале художника. Об этом же говорит великолепно и по-новому написанный пейзаж. Художник здесь на деле впервые претворил свои идеи о принципах передачи сырого туманного воздуха, в который он погрузил морское побережье с серым конусом Везувия.
При первом же взгляде на «Мальчиков» сразу убеждаешься, что Кипренский уже в этой картине соревнуется со своими земляками Сильвестром Щедриным и Карлом Брюлловым, показав в одной композиции, что он в состоянии помериться силами и с блестящим видописцем и с мастером итальянского жанра, но идет при этом своим путем, ничуть не скатываясь на подражательство, копирование чужих живописных достижений и открытий.
Эта находка показала нам, что время не смело следы, оставленные Орестом Адамовичем в художественной жизни Италии, что надо продолжить поиски его произведений в этой стране, где по-прежнему живут потомки многих его знакомых: Дмитрия Петровича Бутурлина, Зинаиды Александровны Волконской, Дарьи Федоровны Фикельмон, Юлии Павловны Самойловой, Демидовых.
Прямых наследников у бездетной графини Самойловой не было, но мы знали, что ее бумаги сохранились у потомков племянников ее приемного деда Джулио Литты, живущих близ Милана. У них же, по некоторым сведениям, был и архив Джулио Литты, с которым, между прочим, переписывался А. С. Пушкин, в качестве камер-юнкера ставший «подчиненным» процветавшего при русском дворе знатного миланского аристократа. Поэт, чрезвычайно тяготившийся непрошеным придворным званием, должен был давать Литте объяснения по поводу частого манкирования обязанностями камер-юнкера — отсутствия на церковных службах, приемах, торжествах и балах. В письме Наталье Николаевне от 17 апреля 1834 года Пушкин писал: «Третьего дня возвратился я из Царского Села в пять часов вечера, нашел на своем столе два билета на бал 29-го апреля и приглашение явиться на другой день к Литте; я догадался, что он собирается мыть мне голову за то, что я не был у обедни… Я извинился письменно». О таком же инциденте поэт сообщал жене и 28 июня того же года: «Мой ангел, сейчас послал я к графу Литта извинение в том, что не могу быть на Петергофском празднике по причине болезни… Я крепко думаю об отставке».
У нас этих писем-извинений Пушкина не обнаружено. Вполне возможно, что они попали в Италию вместе с другими бумагами Юлия Помпеевича, как величали его в России. Юлия Павловна должна была сохранить записки поэта, ибо собирала собственноручные рукописи великих людей, своих современников (в Музее театра Ла Скала находятся принадлежавшие ей автографы композиторов Россини и Доницетти), как должна была сохранить и письма Карла Брюллова, с которым переписывалась до самой кончины последнего, и, конечно, работы своего любимого художника. Из брюлловских картин, принадлежавших Самойловой, знаменитая «Всадница», где изображены ее воспитанницы Джованна и Амачилия, находится сейчас в Третьяковской галерее, портрет Юлии Павловны с Джованной и служанкой-эфиопкой — в одном частном собрании в США, портрет с маскарадной маской — в Русском музее, местонахождение остальных вещей неизвестно. А их, по свидетельству В. В. Стасова, бывавшего в миланском доме Самойловой, у графини хранилось намного больше: другие ее портреты акварелью и маслом, жанровые сцены, альбомные рисунки. Неужели ни одна из этих брюлловских работ не сохранилась у потомков графа Литты, а вместе с ними неужели не уцелели и произведения других русских художников, общавшихся с Юлией Павловной и писавших для нее картины, в частности, Сильвестра Щедрина и, возможно, Ореста Кипренского?
Можно понять наше волнение, когда мы связались по телефону с потомками Литты и без всякого труда получили согласие на посещение их дома. Живут они в принадлежавшей когда-то Самойловой старинной вилле, окруженной громадным парком. Когда мы подъехали туда, то обнаружили, что угол именно этого здания Брюллов изобразил на картине «Всадница», которую он писал, как видно, на вилле Юлии Павловны.
Хозяева охотно показали ее покои, обставленные вычурной мебелью в «готическом стиле», которую привезла из России Самойлова (работы известных петербургских мебельщиков братьев Гамбсов). На стене в гостиной висит портрет маслом графа Юлия Помпеевича Литты кисти художника Лампи Старшего. Там же в углу стоит мраморный бюст самой Юлии Павловны работы неизвестного скульптора, правда, довольно посредственный. Других изображений графини, по словам хозяев виллы, у них нет. Огорчительным был ответ и на нашу просьбу ознакомить нас с архивом Ю. П. Литты и Ю. П. Самойловой: он пока не может быть открыт для исследователей…
Столь же безрезультатными оказались наши попытки отыскать работы Кипренского в демидовской коллекции в Италии.
Демидовы, уральские заводчики-миллионеры, начиная с Николая Никитича (1773–1828), которого, как сообщал Стендаль, из Рима выжили суровые порядки папской столицы, в течение многих поколений жили во Флоренции, заводили там фабрики, строили школы, больницы, основывали благотворительные учреждения, музеи, участвовали в финансировании работ по реставрации памятников флорентийского зодчества и в других меценатских начинаниях. Ими, в частности, были внесены крупные суммы на украшение фасадов собора Санта Мария дель Фьоре и базилики Санта Кроче, усыпальницы великих людей Италии, где покоится прах Микеланджело, Макиавелли, Россини, Альфьери, Фосколо. В знак признания заслуг Демидовых в завершении собора Санта Мария дель Фьоре городские власти Флоренции постановили поместить на фасаде изображение их герба.
Во Флоренции на набережной реки Арно есть площадь Демидовых, на которой возвышается выполненный скульптором Лоренцо Бартолини большой мраморный памятник Николаю Никитичу Демидову.
Демидовы, как известно, большие суммы жертвовали на развитие просвещения в России, покровительствовали русским художникам, собрали замечательную коллекцию европейского искусства. Их портреты писал Федор Рокотов, бюсты высекал Федот Шубин, по заказу Анатолия Николаевича Демидова, сына Николая Никитича, Карл Брюллов написал «Последний день Помпеи».
В пятидесятых годах нашего века в роскошной вилле Пратолино, построенной близ Флоренции еще великим герцогом Тосканским Франческо I Медичи, медленно угасала последняя представительница знаменитой русской железоделательной династии Мария Павловна Демидова, по мужу — Абамелек-Лазарева. По своей кончине в 1956 году виллу Пратолино вместе с колоссальной коллекцией художественных произведений и антиквариата она завещала своему племяннику Павлу, отпрыску югославской королевской семьи Карагеоргиевичей, женатому на одной из дочерей последнего итальянского короля Умберто II.
Принцу Павлу Карагеоргиевичу жизнь среди демидовских реликвий, к которым он, как нам рассказывали, относился с величайшим пренебрежением, быстро наскучила. В 1969 году он продал виллу Пратолино со всеми угодьями и всем ее убранством с молотка, а сам, собрав с аукциона баснословную сумму, укатил из Италии. Флорентийцы до сих пор вспоминают демидовский аукцион, неслыханный по богатству представленных на продажу предметов антиквариата и произведений искусства, способных украсить любой столичный музей…
Но произведений русского искусства на аукционе во Флоренции было мало: два бюста Шубина, позднее приобретенные Третьяковской галереей и вернувшиеся на родину, портрет П. Г. Демидова кисти Федора Рокотова, ушедший в одно частное собрание в США, «Вид Нижнего Тагила» кисти Петра Верещагина да несколько графических работ русской школы.
Работ Кипренского среди них не было.
Однако с недавнего времени на зарубежных аукционах русского искусства встречаются вещи, в том числе кисти известных русских живописцев, которые, вне всякого сомнения, происходят из демидовской коллекции Это значит, что Карагеоргиевич в 1969 году распродал далеко не все демидовское собрание и много ценных «малогабаритных» картин и рисунков увез с собою, а его наследники (он умер несколько лет тому назад) сейчас начинают постепенно расставаться с этими демидовскими семейными реликвиями. Не исключено, что рано или поздно таким образом объявятся и неизвестные произведения Кипренского, который общался с Демидовыми во Флоренции и мог портретировать их карандашом или кистью…
Более результативными были поиски в коллекциях итальянских потомков Бутурлиных, которые породнились чуть ли не со всей итальянской знатью и носят теперь фамилии и маркизов Киджи, в огромном римском палаццо которых сейчас располагается Совет министров Италии; и графского рода Конестабиле, известного у нас по «Мадонне Конестабиле» кисти Рафаэля, находящейся сейчас в Ленинградском Эрмитаже, а прежде принадлежавшей семье Конестабиле; и знаменитого венецианского рода Мочениго, из которого происходят целых семь прославленных дожей Светлейшей республики. Потомками Дмитрия Петровича оказались и люди, которых мы знали до этого, не подозревая об их русском происхождении, в частности, директор Этрусского музея Ватикана профессор Ронкалли, племянник «красного папы» Иоанна XXIII, возглавлявшего святой престол с 1958 по 1963 год.
Некогда весьма солидная коллекция Дмитрия Петровича и Анны Артемьевны Бутурлиных, которых в молодости портретировали Левицкий и Рокотов, а в Италия — русские пенсионеры-художники, теперь рассеялась по десяткам владельцев. Тем не менее нам удалось разыскать очень ценные составные части этой коллекции: акварельные портреты сына библиофила Михаила и дочери Елены, выполненные Карлом Брюлловым, портреты и пейзажи кисти Александра Брюллова, а также знаменитый альбом карикатур работы крепостного художника Ивана Бешенцева с дружескими шаржами на родителей и дядю А. С. Пушкина и множество других людей.
Правда, пейзажей Сильвестра Щедрина, которые, как известно из его переписки, он писал по заказу библиофила, нам обнаружить не довелось, но зато мы нашли неизвестную работу Ореста Кипренского, хотя сведений о том, что он работал для Бутурлиных, мы нигде не встречали. Это был отличный карандашный портрет Петра Дмитриевича Бутурлина, старшего сына библиофила. Рисунок с изображением Петра Дмитриевича не подписан, но о том, что его автором является Кипренский, говорит и семейное предание, и типичная для художника манера датирования своих рисунков (под портретом написано по-итальянски «Natalie 1818», то есть «Рождество 1818 года»), и факт его тесного общения с этим семейством, и, главное, неповторимый рисовальный почерк мастера. Наконец, авторство Кинренского подтверждает и дата: в 1817–1818 годах П. Д. Бутурлин, бывавший в Италии наездами, жил во Флоренции, где, видимо, и позировал художнику. Согласно копии послужного списка П. Д. Бутурлина, которая хранится у его потомков, он возвратился из «чужих краев» 24 октября 1818 года и, следовательно, православное рождество, которое приходилось на 6 января по новому стилю, встречал со своей семьей во Флоренции.
Портрет П. Д. Бутурлина продолжает серию героев войны 1812 года, участником которой он был еще юношей. Стилистически рисунок примыкает к таким работам Кипренского, как сделанные по его приезде в Италию портреты аббатов Сартори и Скарпеллини, когда графическая манера художника начала претерпевать изменения, усложняться, отходить от интимности в трактовке характера человека. Исчезает некая атмосфера сопричастности, объединяющая портретиста и портретируемого, художник смотрит на свою модель как бы со стороны, проводит невидимую грань между своим мироощущением и мироощущением изображаемого человека.
Однако в портрете П. Д. Бутурлина едва только намечаются эти тенденции, получившие развитие в творчестве художника позднее. По непринужденности, простоте и свободе исполнения он примыкает к лучшим образцам графического мастерства художника. С полным блеском проявилось здесь умение Кипренского проникнуть во внутренний мир человека, раскрыть его характер.
П. Д. Бутурлин обладал добрым и ровным нравом, был любимцем семьи и товарищей, душой общества. Но его не волновали политические проблемы, и он остался в стороне от своих однополчан, которые вернулись из европейских походов с червем сомнений в душе и вскоре стали создавать в стране тайные общества. Таким и изобразил Кипренский этого симпатичного, но пустого человека, в чертах которого, помимо поверхностного обаяния, ясно проступает печать заурядности, что, собственно, подтвердилось впоследствии всей жизнью П. Д. Бутурлина. Он служил недолго и посвятил себя семье, полностью, видимо, подпав под влияние властной и энергичной супруги Авроры Осиповны. Эта фанатичная католичка и своего мужа под конец жизни превратила в ревностного служителя римской церкви; вместе они, не дрогнув сердцем, упекли в монастырь двух юных дочерей…
Надеялись мы найти работы Кипренского и у потомков Е. М. Хитрово по линии ее младшей дочери Дарьи Федоровны Фикельмон, которая вместе с мужем последние годы жизни провела в Венеции. Собственно, одна такая работа уже была найдена другими: замечательный карандашный портрет пожилой полной дамы, находящийся ныне в Государственном музее А. С. Пушкина в Москве, не так давно был определен как безусловное изображение Е. М. Хитрово. Спор среди специалистов вызывала лишь датировка рисунка: одни считали, что он сделан Кипренским в Италии в 1816–1818 годах, другие — в России в 1827–1828 годах.
Стремление увидеть в запечатленной карандашом Кипренского даме Е. М. Хитрово понять нетрудно. С тех пор, как в 1925 году в Ленинграде было обнаружено 26 неизвестных писем А. С. Пушкина к этой женщине, показавших богатство и содержательность их духовного общения, интерес к Е. М. Хитрово и ее дочерям — «любезному Трио» — необычайно возрос. Но еще публикаторы этих писем столкнулись с большими трудностями при поисках портретов дочери и внучек Кутузова. Портрет Е. М. Хитрово удалось найти — литографию с акварели художника В. И. Гау и фото с ее бюста работы неизвестного скульптора, а изображения дочерей тогда обнаружены не были. Лишь в последние десятилетия был найден довольно слабый портрет Дарьи Федоровны работы английского художника Т. Уинса. Достоверных же изображений ее сестры Екатерины Федоровны вообще обнаружено не было. Недаром Н. А. Раевский, написавший целую книгу о «любезном Трио», первое ее издание назвал «Когда заговорят портреты», имея в виду чрезвычайную бедность иконографии своих героинь. И хотя последующие издания книги он выпускал под новым названием «Портреты заговорили», о новых изображениях потомков М. И. Кутузова, друзьях Пушкина, там как раз ничего не говорилось, потому что они по-прежнему никому не были известны.
Узнав, что в Венеции живет в своем родовом палаццо правнук Д. Ф. Фикельмон князь Альфонс Клари-и-Альдринген, мы сразу стали добиваться встречи с ним. На это по разным причинам ушел почти целый год, но в конце концов в 1977 году князь принял нас и познакомил с сохранившимися у него и у его родственников портретами предков. При этом он сообщил, что основная часть его родовой галереи находится в Чехословакии, где она раньше украшала стены дворца Клари в Теплице, а теперь пребывает в каком-то неизвестном музее. С помощью чехословацких специалистов через некоторое время были найдены и эти портреты, которые, оказалось, находились в запаснике дворца-музея в Вельтрусах.
Так был открыт в Италии и Чехословакии настоящий иконографический клад — десятки портретов друзей Пушкина, в том числе работы и наших, отечественных художников. У князя Альфонса сохранилось превосходное акварельное изображение Е. М. Хитрово кисти П. Ф. Соколова, а у его родственников, тоже в Венеции, отличный групповой портрет дочерей Екатерины и Дарьи, написанных А. П. Брюлловым в 1825 году на фоне Неаполитанского залива. В Чехословакии кисти отечественных живописцев принадлежат миниатюрный портрет первого мужа Елизаветы Михайловны Ф. И. Тизенгаузена (его автор П. Э. Рокштуль) и акварельное изображение Аделаиды Штакельберг, двоюродной сестры Екатерины и Дарьи, тоже знакомой Пушкина, выполненное А. П. Брюлловым.
Как работу русского мастера чехословацкие специалисты определили и живописный портрет Е. М. Хитрово, восседающей на тахте в роскошном туалете с горностаевой опушкой. Русского потому, что на картине в окне комнаты виден силуэт здания, очень похожего на московский дом Пашкова.
Кто же написал эту великосветскую даму в платье с горностаевой опушкой? Высказывалось мнение, что Кипренский, который в момент предполагаемого создания картины (1810-е годы) как раз находился в Италии и общался с семьей Хитрово. В самом деле, до первой поездки в Италию Кипренский не писал моделей в полный рост, у него преобладали погрудные, поясные и — реже — поколенные изображения. Но, возвратившись в Петербург, в двадцатые годы он выполнил портреты Д. Н. Шереметева и К. И. Альбрехта, изобразив их в полный рост. В Италии Кипренский вновь стал увлекаться аксессуарами одежды (портрет Е. С. Авдулиной, например), чему он отдал дань еще в московский период своего творчества (В. А. Перовский в испанском костюме), ввел архитектурный пейзаж в фон, чтобы конкретизировать место действия (вид Рима с куполом св. Петра на портрете А. М. Голицына), живопись его приняла, как уже говорилось, гладкий, эмалеподобный вид, скрывавший движение кисти. Все эти признаки портретной манеры первого итальянского и послеитальянского Кипренского присущи и изображению Е. М. Хитрово в платье с горностаевой опушкой. Есть аналогии в композиции этой работы и портрета А. М. Голицына с помещенным на них справа от фигуры архитектурным стаффажем.
Кипренский при этом, конечно, не мог портретировать Елизавету Михайловну Хитрово в Москве, где она была в 1823 году. Дом Пашкова, впрочем — это ясно, написан не с натуры, а перенесен с известной картины Ж. Делабарта, гравюра с которой имела больше распространение в России и вполне могла украшать покои русского посланника в Тоскане. Так что, если Елизавета Михайловна, находясь в Италии, пожелала, чтобы портретист изобразил ее не на фоне купола флорентийского собора Санта Мария дель Фьоре, а архитектуры первопрестольной русской столицы, то в принципе сделать это не составляло большого труда.
Очень заманчиво думать, что живописный портрет Е. М. Хитрово может быть уменьшенной копией с неизвестной нам работы Ореста Адамовича…
И все же картина кажется чересчур перегруженной аксессуарами (написанными с подлинно виртуозным мастерством, но отвлекающими внимание от лица портретируемой), чтобы принадлежать кисти Кипренского. Трудно допустить также, что Кипренский, хорошо знавший Елизавету Михайловну и, наверное, относившийся к ней с симпатией, не захотел раскрыть сердечность ее натуры и ограничил свою задачу созданием образа благородной светской дамы с привлекательной внешностью и мечтательным выражением лица. Ведь дочь М. И. Кутузова совсем не относилась к тем незнакомым «вояжирующим русачкам», которых приходилось Кипренскому писать в Италии ради заработка, в силу чего он, как это произошло с портретом Е. С. Авдулиной, не имел ни возможности, ни желания проникнуть в их внутренний мир…
Итак, портрет дамы в платье с горностаевой опушкой еще одна загадка Кипренского, как остается загадкой и судьба других графических и живописных работ, которые он наверняка делал с потомков М. И. Кутузова. Но к ним, во всяком случае, не относится рисунок Кипренского с полной дамы средних лет из Государственного музея А. С. Пушкина в Москве, которая считалась Е. М. Хитрово. Сравнение внешности изображенной на рисунке Ореста Адамовича женщины с чертами Елизаветы Михайловны на акварели П. Ф. Соколова, обнаруженной нами у князя Клари, показывает, что между ними нет ничего общего.
Первой традиционную атрибуцию рисунка О. Кипренского отвергла доктор искусствоведения Т. В. Алексеева. Выступая с докладом в апреле 1982 года в Ленинграде на научной конференции, посвященной 200-летию со дня рождения О. Кипренского, Т. В. Алексеева выдвинула новую гипотезу по поводу рисунка, принимавшегося за портрет Е. М. Хитрово. Она определила его как изображение актрисы Екатерины Семеновны Семеновой, доброй приятельницы художника, жены его доброжелателя и покровителя князя И. А. Гагарина, с которыми он тесно общался в 1823–1828 годах в Петербурге…
То, что до сего времени не найдено достоверных произведений Кипренского, сделанных для Е. М. Хитрово и ее дочерей, совсем не значит, однако, что таких работ не было вообще. Письменные источники свидетельствуют нам, что Ш.-Л. Фикельмона и его дочь Элизалекс писал Карл Брюллов, но следов этих портретов до сих пор так и не удается обнаружить. О том, что П. Ф. Соколов портретировал Е. М. Хитрово, напротив, не было известно в литературе, но ознакомление с частью сохранившейся в Италии художественной коллекции Фикельмонов обогатило творческую биографию этого художника, как и расширило и уточнило наше представление о наследии П. Э. Рокштуля. Что же касается Александра Брюллова, то находка в Венеции подтвердила, что художники, прибегавшие к покровительству семьи Хитрово, запечатлели облик потомков Кутузова в своих произведениях. Только всех этих произведений, увы, еще не удалось разыскать. Нам пока стала известна небольшая часть портретной галереи Е. М. Хитрово и ее дочерей, может быть, лишь одна ее десятая доля, а то и того меньше. Сохранившиеся акварели интерьеров домов, в которых жили Фикельмоны в Неаполе, Петербурге, Венеции, показывают, что их украшали десятки, если не сотни живописных полотен, акварелей и рисунков. Из них до нас дошли только единичные вещи. А между тем на акварелях интерьеров ясно просматриваются неизвестные нам портреты Елизаветы Михайловны, ее дочерей Долли и Екатерины, маленькой Элизалекс, Ш.-Л. Фикельмона. Среди портретов — масса графических работ, в том числе таких, в которых легко угадывается рисовальная манера Кипренского и которые предстоит еще открыть либо в частных коллекциях потомков Фикельмонов, рассеявшихся сейчас по всему свету, либо в запасниках музеев и картинных галерей.
Остается рассказать о судьбе художественной коллекции З. А. Волконской, у которой были работы Кипренского. Княгиня умерла в Риме в 1862 году. Ее сын Александр Никитич Волконский, видный русский дипломат и писатель, труды которого, между прочим, так же, как и труды его матери, высоко ценил В. Г. Белинский, относя их к числу беллетристических произведений русской литературы «дельного содержания», все состояние как в России, так и в Италии по своей смерти в 1878 году оставил приемной дочери Надежде Васильевне, вышедшей замуж за итальянского маркиза В. Кампанари. В 1922 году по смерти Н. В. Кампанари-Волконской римская вилла Зинаиды Александровны была продана итальянскому государству. Ее наследство вместе с архивом и художественной коллекцией З. А. Волконской перешло к мужу и четырем детям, у которых по сходной цене многие вещи купил тогда же римский антиквар российского происхождения барон В. Леммерман. Спустя много лет Леммерман очень выгодно сбыл бумаги З. А. Волконской библиотеке Гарвардского университета в США, а картины продолжал держать у себя, украсив ими свою гостиную.
После смерти Леммермана, в 1975 году, его коллекция была распродана на аукционе, включая и работы русской живописной школы. Часть их приобрел римский антиквар Саво Раскович, и они до сего времени находятся в его руках (произведения Федора Рокотова и Владимира Боровиковского, а также неизвестных отечественных живописцев).
Но купленные С. Расковичем картины были лишь каплей в море среди многих тысяч вещей, оставленных Леммерманом и распроданных на римском аукционе. Большинство произведений искусства, однако, как утверждают каталоги аукциона, принадлежали кисти иностранных мастеров. Атрибуции эти делались наспех, людьми малокомпетентными в области русского изобразительного искусства, которые, встречаясь с неподписанными вещами, называли наобум какого-нибудь западноевропейского автора со сходной манерой. Трудно сказать, сколько из них происходило из коллекции З. А. Волконской, сколько Леммерман получил из других рук, но произведений отечественных мастеров там были сотни, если не тысячи: пейзажи, композиции на исторические и мифологические сюжеты, портреты маслом по холсту, металлу, картону, акварели, рисунки, миниатюры на слоновой кости, старинные гравюры и литографии. Вещей было так много, что устроители аукциона не считали нужным перечислять их все и просто писали: «Группа портретов неизвестных русских персонажей», «30, 40, 50 листов с видами Москвы и Петербурга» и т. д.
Что это были за «неизвестные», легко представить, зная окружение З. А. Волконской и ее родственные связи. Судя по редким указаниям в каталогах, речь шла о портретах самой княгини, ее мужа Никиты Григорьевича, ее родного сына Александра Никитича и приемного — Владимира Павея, декабриста С. Г. Волконского, его жены Марии Николаевны, отца Марии Николаевны, прославленного героя Отечественной войны 1812 года генерала Н. Н. Раевского, других дочерей генерала — друзей Пушкина…
Портреты (за исключением нескольких) не воспроизводились в печати, историко-культурная и художественная ценность этих произведений, рассеявшихся по частным собраниям и посему теперь канувших практически в небытие, поистине беспредельна. А вместе с портретами в неизвестные руки ушли также картины, которые, судя по их сюжетам (в каталогах аукциона были обнародованы лишь единичные вещи), были выполнены Федором Матвеевым, Сильвестром Щедриным, Михаилом Лебедевым и другими выдающимися русскими живописцами.
Римский аукцион был настоящим бедствием, лишившим нашу страну бесценных художественных сокровищ. Леммерман до самой смерти питал жгучую неприязнь к своей бывшей родине и в завещании распорядился, что бы его колоссальное собрание было пущено с молотка, а на вырученные деньги образован фонд его имени. Вслед за архивом он сознательно обрек на распыление и гибель художественную коллекцию З. А. Волконской, спасителем которых когда-то изображал себя…
В коллекцию входили и работы Кипренского. С римского аукциона сокровищ Леммермана ушел в руки неизвестного швейцарского собирателя портрет маслом приемного сына З. А. Волконской Владимира Павея. Эта работа была на выставке русского искусства в Лондоне в 1935 году.
Павей был подкидышем. Его подобрали на мостовой (отсюда происходит и его фамилия — от французского le pavé, то есть мостовая) в Лондоне, где находившаяся в 1815 году княгиня усыновила мальчика, ровесника ее сына Александра, родившегося в 1811 году. С тех пор Владимир рос и воспитывался с Александром в доме З. А. Волконской, вместе с нею странствовал по свету, бывал в России, где его именовали «великобританским подданным из дворян».
Родной и приемный сыновья княгини жили вместе вплоть до 1832 года, когда Александр уехал на родину для продолжения образования. Но и после этого Владимир оставался в доме княгини, был ее поверенным в делах и с этой целью не однажды выезжал в Россию, где занимался приведением в порядок имений Волконских.
Позднее приемный сын З. А. Волконской был известен в Риме как кавалер Павей и служил в папской гвардии.
Сведения, которыми мы располагаем об этом человеке, довольно скудны. Тем больший интерес представляет свидетельство о нем Н. В. Гоголя, которого, оказывается, связывали дружеские чувства не только с княгиней, но и с ее приемным сыном. Вот что сообщал Гоголь своему земляку А. С. Данилевскому, который тогда находился в Париже, 16 мая 1838 года: «Письмо тебе это вручит мой добрый приятель m-r Pave, который, верно, тебе понравится. Он знает даже и по-русски (ибо воспитывался вместе с сыном кн. Зин(аиды) Волконской), но говорить на нашем языке затрудняется, и потому, чтобы лучше расшевелить его и заставить говорить, говори по-французски или на нашем втором родном языке, т. е. по-италиански».
Судя по возрасту Владимира Павея на портрете, он позировал художнику незадолго до отъезда Александра Волконского в Россию, когда юноше было уже лет двадцать с лишним. Сын княгини родился в 1811 году. Портрет Павея, следовательно, мог быть выполнен Кипренским в 1832–1836 годах, после возвращения из Неаполя в Рим.
Возможно, что перед расставанием сверстников княгиня заказала Кипренскому парные портреты с обоих сыновей — и родного, и приемного, но второго полотна пока разыскать не удалось. Он мог быть в числе тех изображений Александра Волконского, которые под видом анонимов распродавались на аукционе Леммермана. В итальянских музеях нам приходилось видеть несколько рисованных, гравированных и литографированных портретов Александра Никитича, но он позировал для них уже в зрелом возрасте, да и по манере они никак не могут быть отнесены Кипренскому.
Портрет Владимира Павея — замечательная работа, которая лишний раз убедительно говорит о том, что и во второй свой итальянский период жизни Кипренский, несмотря на очевидные метания и поиски нового содержания и новых живописных форм, умел находить достаточно нерастраченных сил, чтобы создавать настоящие портретные шедевры. В этой работе, как обычно у Кипренского, преобладают приглушенные тона, но излюбленный художником оливково-розовый фон более высветлен, чем обычно, хотя в целом в картине господствует традиционная для художника коричнево-розовая гамма красок. Эти спокойные красочные сочетания художник использует для того, чтобы вновь вернуться к воссозданию образа ясной и гармоничной личности, прославившей его кисть в эпоху расцвета таланта. Владимир Павей, молодой человек с красивыми, правильными чертами лица, послужил художнику моделью для передачи самого духа юности с ее обостренным чувством собственного достоинства и романтическим восприятием жизни. Воспитанник З. А. Волконской в глазах художника был восприемником тех просвещенных и передовых для своего времени идей, которые воодушевляли княгиню и которым следовал сам Кипренский, что и вдохновило его на создание одной из самых лучших своих последних работ, проникнутой оптимизмом, жизнеутверждающей силой, обаянием гармонической целостности человеческой личности.
Кистью и карандашом Кипренского, видимо, выполнены и другие работы, рассеявшиеся после распродажи коллекции Леммермана теперь по всему свету. Альбомов З. А. Волконской, в которых, по имевшимся сведениям, встречалось много зарисовок русских художников, включая Кипренского, на римском аукционе, однако, не было. Это значило, что они, как видно, вошли в состав оказавшегося в Гарварде архива З. А. Волконской.
Через американских историков-русистов мы получили из Гарварда полное описание архива, из которого следует, что туда ушли принадлежавшие З. А. Волконской автографы Пушкина, Гоголя, Мицкевича, М. И. Глинки, И. С. Тургенева, а также сотни других реликвий русской и мировой культуры: альбомные записи стихов, посвященных З. А. Волконской, и адресованные ей и ее близким письма В. А. Жуковского, П. А. Вяземского, Е. А. Баратынского, И. И. Козлова, В. Ф. Одоевского, И. В. Киреевского, И. П. Мятлева, Д. В. Давыдова, С. П. Шевырева, К. К. Яниш (Павловой)… И наряду с ними — автографические записи и письма де Сталь, Виктора Гюго, Буальдье, Паэра, Камуччини, Тончи, Жозефа де Местра, Ксавье де Местра, Риччи, Меттерниха, Матильды Бонапарт… Среди изобразительных материалов — один подписанный рисунок Федора Матвеева, два подписанных рисунка и десять акварелей Федора Бруни, множество рисунков и акварелей самой З. А. Волконской и неизвестных художников как русской, так и иностранных школ.
В альбоме № 3 — 47 рисунков. Три из них принадлежат З. А. Волконской, три других — иностранным мастерам, один подписан Федором Матвеевым, остальные — работы неизвестных художников, из которых 8, как предполагается, сделаны карандашом Кипренского. В альбоме № 4 — 23 рисунка, из которых согласно описи два подписаны Бруни.
Американские историки-русисты прислали нам и фотографии рисунков, которые содержатся в третьем и четвертом альбомах. Фотографии подтвердили, что в альбомах есть графические работы, подписанные Федором Матвеевым и Бруни. Ряд неподписанных рисунков сделан в характерной для Бруни манере и тоже не оставляет сомнений в том, что они принадлежат этому же художнику.
Сложнее обстоит дело с атрибуцией рисунков, приписываемых О. А. Кипренскому. Речь идет о портретных зарисовках мягким итальянским карандашом, выполненных очень уверенно, легко и свободно, хорошо передающих особенности внешности портретируемых и склад их натуры. В них действительно чувствуется рисовальный почерк Ореста Адамовича, угадываются его технические приемы и способ трактовки образов. Но ни на одном из рисунков нет ни подписи, ни других помет автора, которые нередко встречаются на портретных набросках Кипренского (даты, места исполнения произведения и т. п.), в силу чего эти работы можно только предположительно отнести «любимцу моды легкокрылой»…
Чтобы рассказать еще об одной работе Кипренского, оставшейся за рубежом, нам вновь придется вернуться в Италию и посетить один старинный палаццо, который согласно семейному преданию был построен по рисунку Рафаэля. Ко временам Рафаэля относятся и некоторые фамильные портреты, украшающие покои палаццо. Но там есть и более позднее небольшое живописное полотно в скромной темной деревянной раме с изображением молодой, очень красивой дамы, одетой по моде тридцатых годов прошлого века. На медной этикетке, прикрепленной к раме, указано, что портрет написан Орестом Кипренским. Имя изображенной — Паолина Пуччи, урожденная Ненчини (1810–1882). Портрет этот ранее никогда не публиковался.
Однако черты красавицы были знакомы любителям отечественного искусства по работе другого русского художника — акварели Карла Брюллова, сделанной в Риме в 1832 году, показывавшейся на Таврической выставке русского портрета в Петербурге в 1905 году и опубликованной в декабрьском номере журнала «Старые годы» за 1912 год. Под портретом Карла Брюллова, правда, указано совсем другое имя изображенной — Прасковья Егоровна Хитрово. Но Хитрово — это по второму браку, по первому она была маркизой Пуччи, а в девичестве Ненчини. Карл Брюллов написал с П. Е. Хитрово и живописный портрет, который тоже экспонировался на Таврической выставке, но потом, как и акварельное изображение красавицы, исчез из обращения, и его нынешнее местонахождение неизвестно.
Портрет же кисти Кипренского упоминался на страницах «Художественной газеты» за 1840 год, но никогда не обнародывался и не показывался в России на выставках, из чего можно было заключить, что он находится в Италии. Разыскания затруднялись разнобоем в указании фамилии изображенной, ибо в нашей литературе, говоря о даме, запечатленной на акварели Карла Брюллова в 1832 году, ее называли Прасковьей Егоровной Хитрово; модель живописного портрета Кипренского называли просто «г-жой Пуччи», а девичью фамилию «г-жи Пуччи» исказили, именуя ее Ленчини вместо Ненчини…
Потребовалось немало лет, чтобы распутать этот клубок и в конце концов выяснить, что Паолина Ненчини, она же маркиза Пуччи, она же Прасковья Егоровна Хитрово имеет потомков в Италии, которые бережно сохраняют перешедшие к ним реликвии русской культуры и среди них — разыскиваемый нами портрет кисти Кипренского. Но еще немалое число лет понадобилось для того, чтобы добиться у хозяев старинного палаццо позволения посмотреть эти реликвии и сфотографировать их. Произошло это только весной 1985 года, когда мы приезжали в Италию для участия в одном из международных конгрессов историков…
Сначала несколько слов о Паолине Ненчини. Она рано вышла замуж за маркиза Пуччи, но брак по вине мужа остался недействительным. Паолина встретила в Италии молодого русского дипломата Захара Алексеевича Хитрово, который служил в русском посольстве во Флоренции, и страстно в него влюбилась. Захар Алексеевич ответил ей горячей взаимностью, но свой союз молодые люди оформить не могли, потому что Паолина была связана брачными отношениями с маркизом Пуччи, хотя и жила с ним, как тогда выражались, в разъезде. В 1835 году маркиза Пуччи родила от Захара Алексеевича сына, которого нарекли в честь деда по отцу Алексеем. Метрическое свидетельство о рождении ребенка было оформлено в Венеции. Отцом записали З. А. Хитрово, имя матери не указывалось.
Маркиз Пуччи, муж Паолины, умер в 1838 году, и только после этого мать Алексея Хитрово стала официальной женой его отца. Свадьбу сыграли уже в России, где Паолина приняла православие и стала Прасковьей Егоровной и где у супругов родился второй сын, которого тоже назвали Алексеем. Первого Алексея, появившегося на свет до оформления брачных отношений его родителей, отец Захара Алексеевича принял очень холодно, и ребенка пришлось отправить снова в Италию к бабушке, матери Паолины, которая воспитала мальчика и завещала ему свое состояние. Братья всю жизнь были очень дружны и любили друг друга. Алексея-старшего близкие именовали Алексисом, Алексея-младшего — Алешей.
Захар Алексеевич Хитрово, сделавший впоследствии большую карьеру, ставший обер-церемониймейстером двора, и по отцу и по матери происходил от известных в русской истории меценатов и собирателей. Его предком по отцу был «ближний боярин» Богдан Матвеевич Хитрово, стоявший при царе Алексее Михайловиче во главе Оружейной палаты и покровительствовавший, в частности, Симону Ушакову. Дедом по матери был уже упоминавшийся здесь историк и археограф, президент Академии художеств А. И. Мусин-Пушкин, который открыл и опубликовал «Слово о полку Игореве». В семье была прекрасная коллекция отечественной живописи, в которую, помимо работ Карла Брюллова, входили произведения Симона Ушакова, В. Л. Боровиковского, П. Ф. Соколова, а также ценное собрание английского портретного искусства (Рейнолдс, Гейнсборо, Лоренс и другие), античных гемм и т. д. Младший сын Прасковьи Егоровны и Захара Алексеевича Алеша, умерший в Италии в 1912 году, завещал находившуюся в России часть семейной коллекции Эрмитажу, где она и пребывает в настоящее время.
Захар Алексеевич со своей итальянской женой, таким образом, с честью продолжил фамильные традиции, поддерживая дружбу с русскими художниками, жившими в Италии, делая им заказы. Акварельный портрет тогда еще Паолины Пуччи, написанный будущим автором «Последнего дня Помпеи», носит такую курьезную подпись: «Ленивый Брюллов. Roma. MDCCCXXXII». Одновременно Брюлловым было выполнено и акварельное изображение Захара Алексеевича Хитрово, тоже нынче исчезнувшее. Оба они опубликованы в вышеприведенном номере журнала «Старые годы» в отличие от портрета маслом Паолины Пуччи Брюллова, ни разу не воспроизводившегося в печати.
Черно-белые репродукции, конечно, не могут передать очарования работ, выполненных в красках таким великолепным колористом, каким был Брюллов, и тем не менее даже по этим отпечаткам видно, что художник написал Паолину и Захара Алексеевича без вдохновения, довольно вялой, равнодушной кистью. Он хорошо сумел передать красивые, правильные черты, горделивую стать двадцатилетней патрицианки, но нисколько не отразил на лице ее страстной натуры, силы характера, позволивших этой молодой женщине бросить смелый вызов ханжеской церковной морали, соединить свою жизнь с любимым человеком, родить от него ребенка, формально оставаясь женой другого. Решиться на все это по тем временам могла только действительно очень незаурядная женщина. Столь же невыразителен образ самого Захара Алексеевича, который выглядит неким бесцветным чиновником, а не способным на глубокое чувство, благородным человеком, каким он проявил себя, влюбившись в прекрасную Паолину и добившись, что она стала его женой. У Карла Брюллова, отличного портретиста, как у всякого другого художника, есть и неудачные изображения людей, которых он не имел возможности или желания хорошо узнать. В 1832 году художник заканчивал «Последний день Помпеи», а тут как раз и появился в Риме Захар Алексеевич со своей красавицей возлюбленной, которую непременно хотел заставить портретировать Карла Брюллова и, возможно, пенял ему за леность, в чем тот шутливо расписался, когда выполнил наконец заказ. Выполнил достаточно формально, что с Брюлловым хотя и редко, но случалось…
По-другому подошел к портрету прекрасной итальянской маркизы Кипренский. Художник, видимо, писал ее, когда она была уже матерью ребенка З. А. Хитрово и ее положение в обществе стало еще более двусмысленным. Кипренский не мог не знать этого, не мог не понимать, прожив в Италии более тринадцати лет, как трудно было этой молодой женщине в окружении правоверных католиков.
Развода в тогдашней Италии не существовало, добиться аннулирования брака с маркизом Пуччи как недействительного было крайне затруднительно. Будущее молодой матери было самым неопределенным…
Кипренскому предстояло написать красавицу аристократку с ее блистательной внешностью и не погрешить при этом при передаче ее сложного внутреннего состояния, очень тонко и тактично поведать кистью о ее душевных муках. И Кипренский с виртуозным мастерством справился с этой задачей. Он изобразил Паолину в три четверти оборота, чтобы подчеркнуть очень красивую линию ее декольтированных плеч и тонкой лебединой шеи. Молодая итальянская патрицианка одета в темное платье, украшенное золотым шитьем. В ушах у нее большие жемчужные серьги. Отливающие блеском черные волосы, разделенные пробором, красиво собраны в пучок на затылке. Они оттеняют матовую бледность лица, которое украшают огромные карие глаза. Паолина Пуччи, пожалуй, одна из самых очаровательных женщин, которых довелось портретировать Кипренскому. И в то же время это один из самых обаятельных женских образов, созданных его кистью. Гордая осанка, изящество позы, преисполненный чувства собственного достоинства взгляд, все эти непременные атрибуты портрета светской красавицы не заслоняют души изображенной молодой женщины, которая не в силах скрыть своего смятенного состояния.
Кипренский сумел проявить себя и в этой, по-видимому последней, живописной портретной работе таким же тонким и проницательным художником, каким мы его знаем по лучшим портретам доитальянского периода.
Поразительный дар проникать в самые затаенные уголки души изображаемого человека Кипренский сохранил до конца своих дней, как говорит об этом и живописное изображение Паолины Пуччи и такой потрясающий по искренности графический шедевр, как карандашный портрет П. А. Вяземского, сделанный художником незадолго до смерти.
Портрет П. А. Вяземского и другие работы Кипренского, выполненные в последние годы жизни, в том числе те из них, которые остались за рубежом и до сего времени были неизвестны, убедительно опровергают бытовавшую одно время точку зрения о неуклонном вырождении его таланта после первой поездки в Италию. Эта точка зрения, идущая еще от реакционной критики первой трети прошлого века, была эксгумирована почти через сто лет Н. Врангелем, который с непростительной развязностью, вошедшей с тех пор в отношении Кипренского в некую моду и время от времени дающей о себе знать и в наши дни, изрекал в 1908 году на страницах журнала «Старые годы» вот такие слова по адресу выдающегося русского живописца: «Постоянная смена вкусов и идеалов положила печать на дарование Кипренского. Он, один из самых одаренных от природы русских мастеров, последние годы жизни превратился в полное ничтожество… Но сделавшись бездушным эклектиком, он вообразил себя гением… Последняя поездка в Италию окончательно его погубила… Бледный, больной, измученный и грустный, смотрит он на последнем своем автопортрете. (Н. Врангель имеет в виду полотно, которое в наше время ни работой Кипренского, ни тем более его автопортретом не признается. — И. Б. и Ю. Г.) Красивый талант его умер ранее его тела. В сердце и в глазах было когда-то что-то светлое, яркое, как трава весною. И было желание искать новое счастье, открыть новый мир. Он видел героев, которых, может быть, не было, знал природу, которой не видел, любил женщин, которых не знал. Он был красивый поэт в красках и опошлившийся мещанин в действительности…»
Нет, вопреки клеветническим измышлениям Н. Врангеля, Кипренский действительно открыл в русском искусстве новый мир, мир изумительного по эмоциональному богатству и своеобразию лирического портрета, увидел и воспел мужественных защитников Отечества в войну 1812 года, будущих революционеров-декабристов, великих представителей отечественной культуры, создал удивительно одухотворенные и обаятельные женские образы.
Конечно, со временем Кипренский стал по-иному воспринимать мир и людей, у него становятся редкими те гармонически ясные образы, которые особенно пленяют нас в его творчестве 1810-х годов. Но объясняется это не оскудением таланта художника, а изменением духовной атмосферы, наступлением эпохи разочарования, охватившего часть русского общества после победы над Наполеоном, когда все более стали обнаруживаться реакционные тенденции в политике Александра I. Кипренский отразил эти перемены в настроениях современников, он ставил и решал теперь иные задачи в своих новых портретных работах, в том числе в Италии. Среди последних мало изображений, которые можно сравнить с отличающимися душевной полнотой и ясностью героями его карандаша и кисти в 1810-х годах. Но они есть, как есть и среди персонажей портретов, созданных Кипренским в лучшие годы жизни, образы отнюдь не гармонического строя, если взять хотя бы карандашный портрет А. Н. Оленина 1813 года, предстающего перед нами с притворно добродушной маской на лице и бегающими плутоватыми маленькими глазками. А вот дочь Оленина, Анету, Кипренский даже пятнадцать лет спустя, то есть почти одновременно с А. С. Пушкиным и под явным влиянием влюбленного в нее поэта, воспел с огромным вдохновением, создав изумительно искренний и пленительный образ. И художник заставляет своим дивным искусством поверить, что, может быть, именно этой девушке, не блещущей красотой, но полной душевного очарования, поэт говорил, расставаясь навсегда с мечтой соединить их жизни:
Я вас любил: любовь еще, быть может, В душе моей угасла не совсем; Но пусть она вас больше не тревожит; Я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил безмолвно, безнадежно, То робостью, то ревностью томим; Я вас любил так искренно, так нежно, Как дай вам Бог любимой быть другим.Спектр образов Кипренского, умудренного жизненным опытом, закаленного судьбой, стал с годами намного богаче. Рядом с оптимистическими по духу образами Анеты Олениной и Владимира Павея — разочарованный жизнью А. Р. Томилов (1828 год) и убитый горем П. А. Вяземский. После преуспевающего в жизни и лоснящегося от удовлетворения самим собой итальянского доктора Мазарони он пишет с блеском портрет красавицы Паолины Пуччи с ее сложной судьбой. Одновременно с застигнутым в момент творческого озарения Б. Торвальдсеном он переносит на холст образы простых итальянцев и итальянок…
Лучшие произведения художника, созданные в последние годы жизни, как и в эпоху его славы, учат нас постижению прекрасного, возвеличивают благородные начала в человеке, воспевают гармонию жизни, прославляют русскую кисть далеко за пределами нашего отечества. Эти творения, как и все его наследие, исполнены в наших глазах особого обаяния, ибо он — автор лучшего портрета А. С. Пушкина и образов людей пушкинской поры, отчего имя Кипренского навсегда связано с именем великого русского поэта и олицетворяет пушкинскую пору — золотой век русской культуры.
Рим — Москва, 1958–1989Иллюстрации
Флоренция. Панорама города.
Флоренция. Старый мост, через который проходит Галерея автопортретов художников.
Автопортрет. 1820. Холст, масло. Флоренция. Галерея Уффици.
Деревенский дворик. Лист из альбома 1807 года. Бумага, итальянский карандаш. Ленинград. Русский музей.
Пейзаж с рекою в лунную ночь. 1810-е годы. Бумага, итальянский карандаш, белила. Москва. Третьяковская галерея.
Наброски голов крестьянского мальчика и неизвестного. Лист из альбома 1807 года. Бумага, итальянский карандаш, мел. Ленинград. Русский музей.
Набросок головы крестьянской девушки. Лист из альбома 1807 года. Бумага, итальянский карандаш. Ленинград. Русский музей.
Портрет Петрушки-меланхолика. 1814. Бумага, итальянский карандаш. Ленинград. Русский музей.
Портрет мальчика Андрюшки. 1814. Бумага, итальянский карандаш. Ленинград. Русский музей.
Портрет мальчика Моськи. 1814. Бумага, итальянский карандаш. Ленинград. Русский музей.
Петербургская Академия художеств. Начало XIX века. Гравюра Мартена. Москва. Музей изобразительных искусств.
Гектор и Андромаха. 1803. Бумага, итальянский карандаш, мел. Москва. Третьяковская галерея.
Диплом О. А. Кипренского об окончании Академии художеств. Москва. Архив внешней политики России.
Портрет А. В. Щербатовой. 1808. Холст, масло. Ленинград. Русский музей.
Портрет П. П. Щербатова. 1808. Холст, масло. Ленинград. Русский музей.
Портрет А. Р. Томилова. 1808. Холст, масло. Ленинград. Русский музей.
Портрет А. И. Корсакова. 1808. Холст, масло. Ленинград. Русский музей.
Портрет И. В. Кусова. 1808. Холст, масло. Ленинград. Русский музей.
Портрет А. И. Кусова. 1809. Дерево, масло. Ленинград. Русский музей.
Мать с ребенком (Прейс?). 1809. Бумага, итальянский карандаш, мел. Москва. Третьяковская галерея.
Портрет Е. П. Ростопчиной. 1809. Холст, масло. Москва. Третьяковская галерея.
Портрет Ф. В. Ростопчина. 1809. Холст, масло. Москва. Третьяковская галерея.
Портрет Вл. Д. Давыдова. 1809. Бумага, итальянский карандаш, мел. Фрагмент. Москва. Государственный музей А. С. Пушкина.
Диплом об избрании О. А. Кипренского академиком Петербургской Академии художеств. Москва. Архив внешней политики России.
Портрет В. Д. Давыдова. 1809. Бумага, итальянский карандаш, мел. Москва. Третьяковская галерея.
Слепой музыкант. 1809. Бумага, итальянский карандаш. Русский музей.
Юпитер и Меркурий у Филемона и Бавкиды. 1802. Холст, масло. Рига. Художественный музей Латвийской ССР.
Портрет А. К. Швальбе. 1804. Дерево, масло. Ленинград. Русский музей.
Дмитрий Донской на Куликовом поле. 1805. Холст, масло. Ленинград. Русский музей.
Портрет неизвестного с кистями за ухом. Холст, масло. Москва. Третьяковская галерея.
Портрет неизвестного в розовом шейном платке. Холст, масло. Ленинград. Русский музей.
Портрет А. А. Челищева. Около 1809. Дерево, масло. Москва. Третьяковская галерея.
Портрет В. А. Перовского в испанском костюме XVII века. 1809. Холст, масло. Ленинград. Русский музей.
Портрет Ев. В. Давыдова. 1809. Холст, масло. Ленинград. Русский музей.
Калмычка Баяуста. 1812–1813. Бумага, итальянский карандаш, пастель, акварель. Москва. Третьяковская галерея.
Портрет А. П. Бакунина. 1813. Бумага, итальянский карандаш, пастель. Москва. Третьяковская галерея.
Портрет В. А. Жуковского. 1816. Холст, масло. Москва. Третьяковская галерея.
Портрет С. С. Уварова. 1815–1816. Холст, масло. Фрагмент. Москва. Третьяковская галерея.
Портрет Н. В. Кочубей. 1813. Бумага, итальянский карандаш, акварель. Ленинград. Русский музей.
Портрет А. М. Голицына. Около 1819. Холст, масло. Москва. Третьяковская галерея.
Девочка в маковом венке (Мариучча). Холст, масло. Москва. Третьяковская галерея.
Автопортрет. 1820. Холст, масло. Флоренция, Галерея Уффици.
Портрет Е. С. Авдулиной. 1822. Холст, масло. Ленинград. Русский музей.
Портрет А. С. Пушкина 1827. Холст, масло. Москва. Третьяковская галерея.
Автопортрет. 1828. Холст, масло. Москва. Третьяковская галерея.
Неаполитанские мальчики. 1829. Холст, масло. Неаполь. Палаццо реале.
Портрет Владимира Павея. 1832–1833(?). Холст, масло. Швейцария. Частное собрание.
Тибуртинская сивилла. 1830. Холст, масло. Москва. Третьяковская галерея.
Читатели газет. 1831. Холст, масло. Москва. Третьяковская галерея.
Вид Везувия с моря. 1831. Холст, масло. Музей Петродворца.
Портрет М. А. Потоцкой, сестры ее С. А. Шуваловой и девочки-эфиопянки. 1833–1836. Холст, масло. Киев. Музей русского искусства.
Портрет М. П. Ланского. 1813. Бумага, итальянский карандаш. Ленинград. Русский музей.
Портрет А. Р. Томилова в форме военного ополченца. 1813. Бумага, итальянский карандаш. Ленинград. Русский музей.
Портрет Е. И. Чаплица. 1813. Бумага, итальянский карандаш. Москва. Третьяковская галерея.
Портрет неизвестного офицера. (П. Я. Чаадаев?). Около 1813. Бумага, итальянский карандаш, сангина. Местонахождение неизвестно.
Портрет Н. М. Муравьева. 1813. Бумага, итальянский карандаш, черная пастель. Москва. Литературный музей.
Портрет Н. М. Муравьева. 1815. Бумага, итальянский карандаш. Москва. Исторический музей.
Портрет неизвестного. 1813. Бумага, итальянский карандаш. Ленинград. Русский музей.
Портрет П. А. Оленина. 1813. Бумага на картоне, итальянский карандаш, пастель. Москва. Третьяковская галерея.
Портрет неизвестного. 1813. Бумага, итальянский карандаш. Сумы. Художественный музей.
Портрет К. Н. Батюшкова. 1815. Бумага, итальянский карандаш. Москва. Литературный музей.
Портрет В. А. Томиловой. 1813. Бумага, итальянский карандаш, сангина, пастель. Москва. Третьяковская галерея.
Портрет Вилло. 1813. Бумага, итальянский карандаш, пастель. Москва. Третьяковская галерея.
Портрет Н. И. Уткина. Около 1814. Бумага, итальянский карандаш. Ленинград. Русский музей.
Портрет М. А. Кикиной. 1816. Бумага, итальянский карандаш, сангина, тушь. Москва. Третьяковская галерея.
Портрет А. С. Пушкина-лицеиста. 1813(?). Гравюра Е. Гейтмана с рисунка Кипренского (?).
Портрет А. Н. Оленина. 1813. Бумага, итальянский карандаш. Ленинград. Русский музей.
Портрет Ж.-Ф. Дюваля. 1816. Бумага, итальянский карандаш. Женева. Частное собрание.
Портрет П.-Э. Дюмона. 1816. Холст, масло. Женева. Публичная библиотека.
Портрет аббата Сартори. 1818. Бумага, итальянский карандаш. Ленинград. Русский музей.
Портрет аббата Скарпеллини. 1819–1821. Бумага, итальянский карандаш. Ленинград. Русский музей.
Портрет С. С. Щербатовой. 1819. Бумага, итальянский карандаш, сангина. Москва. Третьяковская галерея.
Портрет Ф.-Ц. Лагарпа. 1819. Бумага, итальянский карандаш. Ленинград. Русский музей.
Портрет кавалера Де Анджелиса. Литография с рисунка Кипренского. Москва. Музей изобразительных искусств.
Портрет Е. П. Ростопчиной. 1822. Литография с рисунка Кипренского. Москва. Музей изобразительных искусств.
Портрет И.-Ф. Гёте. 1823. Литография Г. Греведона с рисунка Кипренского. Москва. Музей изобразительных искусств.
Портрет Д. Н. Шереметева. 1824. Холст, масло. Москва. Исторический музей.
Портрет Н. П. Трубецкого. 1826. Холст, масло. Москва. Третьяковская галерея.
Портрет О. А. Рюминой. 1826. Холст, масло. Ленинград. Русский музей.
Портрет А. Р. Томилова. 1828. Картон, масло. Ленинград. Русский музей.
Портрет А. А. Олениной. 1828. Бумага, итальянский карандаш. Москва. Третьяковская галерея.
Портрет Ф. А. Голицына. 1833. Холст, масло. Саратов. Художественный музей.
Портрет Бертеля Торвальдсена. 1833. Холст, масло. Ленинград. Русский музей.
Диплом об избрании О. А. Кипренского почетным академиком Неаполитанской Академии художеств. Москва. Архив внешней политики России.
Портрет П. А. Вяземского. 1835. Бумага, графический карандаш. Ленинград. Всесоюзный музей А. С. Пушкина.
Портрет П. Д. Бутурлина. 1818. Бумага, итальянский карандаш. Флоренция. Частное собрание.
Памятная стела на могиле О. А. Кипренского в римской церкви Сант’Андреа делле Фратте.
Девочка с плодами. 1831. Холст. Масло. Кишинев. Художественный музей Молдавской ССР.
Портрет Паолины Пуччи, во втором браке Прасковьи Егоровны Хитрово. Холст, масло. Флоренция. Частное собрание.
Портретные наброски, сделанные в альбоме З. А. Волконской, как предполагается, рукою О. А. Кипренского. США. Рукописный отдел Библиотеки Гарвардского университета. Ранее собрание В. Леммермана в Риме.
Запись в «Книге усопших» римской церкви Сант’Андреа делле Фратте о смерти О. А. Кипренского. Рим. Архив викариата.
Основные даты жизни и творчества О. А. Кипренского
1782, 13 марта — родился на мызе Нежинской, близ Копорья.
1788 — принят в Воспитательное училище Петербургской Академии художеств.
1797 — зачислен воспитанником Петербургской Академии художеств.
1803 — оканчивает Академию художеств. Оставлен в Академии еще на три года для выполнения программы на соискание Большой золотой медали.
1804 — показывает на выставке в Академии художеств портрет А. К. Швальбе.
1805 — за программную композицию «Дмитрий Донской на Куликовом поле» получает Большую золотую медаль.
1806 — пишет образа для Казанского собора.
1807 — делает копии с картин Ван Дейка и Корреджо.
1809–1812 — живет и работает в Москве и Твери.
1809 — пишет портрет гусара Давыдова.
1812 — возвращается в Петербург, получает звание академика за портретные работы.
1812–1816 — создает блестящую сюиту графических портретов: участников Отечественной войны 1812 года (Н. М. Муравьева, А. Р. Томилова в форме ополченца, Е. И. Чаплица, П. А. Оленина, А. П. и М. П. Ланских и других), представителей интеллигенции (гравера Н. И. Уткина, художника А. Г. Варнека, поэта К. Н. Батюшкова, баснописца И. А. Крылова), обаятельных современниц (В. А. Томиловой, мадам Вилло, Н. В. Кочубей, М. А. Кикиной), подростков (калмычки Баяусты, Петрушки-меланхолика, мальчиков Моськи и Андрюшки).
1814 — участвует в академической выставке, представив живописные и карандашные портреты. В обозрении выставки «Прогулка в Академию художеств», опубликованном в журнале «Сын отечества», К. Н. Батюшков называет Кипренского «любимым живописцем нашей публики».
1815 — назначен советником Академии художеств.
1815–1816 — пишет живописные портреты С. С. Уварова и В. А. Жуковского.
1816 — уезжает за границу. По пути в Италию останавливается в Женеве, где выполняет серию живописных и карандашных портретов, за которые его в 1817 году избирают членом Женевского общества любителей искусств.
1817 — журнал «Сын отечества» публикует письмо из Рима Кипренского президенту Академии художеств А. Н. Оленину, ставшее событием культурной жизни России. Шесть лет спустя после его опубликования о письме Кипренского вспоминал находившийся в южной ссылке А. С. Пушкин.
1816–1822 — живет и работает в Италии, где пользуется дружбой и уважением крупнейших итальянских и других европейских мастеров: В. Камуччини, Б. Пинелли, Б. Торвальдсена. Создает ряд живописных и графических портретов (полковника Альбрехта, А. Я. Италинского, Ф.-Ц. Лагарпа, А. М. Голицына, Е. С. Авдулиной), картины «Плачущий ангел», «Молодой садовник», «Девочка в маковом венке» («Мариучча»), «Цыганка с веткой мирта в руке», композицию «Анакреонова гробница».
1819, весна — с успехом участвует в римской выставке, устроенной по случаю приезда австрийского императора.
1819 — галерея Уффици заказывает автопортрет для Вазарианского коридора.
1820 — пишет автопортрет для Уффици.
1822 — уезжает во Францию, где показывает в Салоне «Анакреонову гробницу» и другие работы.
1823 — возвращается на родину, по дороге посещает в Мариенбаде Гёте, делает с него два карандашных портрета.
1823–1828 — живет в Петербурге, много занимается портретной живописью.
1827 — пишет портрет А. С. Пушкина.
1828 — уезжает в Италию.
1829–1832 — живет и работает в Неаполе.
1829 — по заказу неаполитанского короля пишет картину «Неаполитанские мальчики».
1830, октябрь — участвует в неаполитанской художественной выставке, где его работы принимают за картины старых фламандских мастеров.
1831 — избирается членом Неаполитанской Академии художеств по классу рисунка.
1831 — пишет картину «Читатели газет в Неаполе». Через А. X. Бенкендорфа обращается к Николаю I с просьбой о ссуде под залог ряда картин.
1831 — назначен профессором второй степени Петербургской Академии художеств.
1832–1836 — живет и работает в Риме, выезжая в другие города Италии для выполнения заказов.
1833, сентябрь — участвует в выставке картин итальянских и иностранных художников во Флоренции, где показывает «Плачущего ангела», «Тибуртинскую сивиллу», портрет Б. Торвальдсена и другие новые свои работы, выполненные в Неаполе и Риме.
1836, 17(29) июня — принимает католичество.
1836, июль — тайно венчается по католическому обряду с Анной-Марией Фалькуччи.
1836, 12(24) октября — умирает от воспаления легких. Как католика его погребают в церкви Сант’Адреа делле Фратте, в Риме, где на средства русских художников устанавливается памятная стела.
Архивные материалы
В книге использованы архивные материалы, которые хранятся в нижеследующих советских и зарубежных собраниях:
Отдел рукописей Государственной библиотеки имени В. И. Ленина (Москва).
Отдел рукописей Государственной публичной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина (Ленинград).
Отдел письменных источников Государственного Исторического музея (Москва).
Архив внешней политики России (Москва).
Центральный государственный архив древних актов (Москва).
Центральный государственный исторический архив (Ленинград).
Отдел рукописей Государственного Русского музея (Ленинград).
Отдел рукописей Государственной Третьяковской галереи (Москва).
Исторический архив Римского викариата (Италия).
Государственный архив города Рима (Италия).
Секретный ватиканский архив (Рим).
Архив миланского театра Ла Скала (Италия).
Отдел рукописей Библиотеки Гарвардского университета (США).
Государственный архив города Дечина (Чехословакия).
Архив Флорентийской Академии изящных искусств (Италия).
Архив Римской Академии изящных искусств Сан Лука (Италия).
Краткая библиография
Карамзин Н. М. Письма русского путешественника. Ч. 1–6). М., 1797–1801.
Батюшков К. Н. Прогулка в Академию художеств. — «Сын отечества», 1814, № 49–51.
Глинка Ф. Н. Письма русского офицера. М., 1815–16.
Кипренский О. Письмо из Рима от 10 июня 1817 года. — «Сын отечества», 1817, 50.
Биография Кипренского и воспоминания о нем С. И. Гальберга. — «Художественная газета», 1840, № 13.
Толбин В. О. А. Кипренский. — «Сын отечества», 1856, № 35.
Рамазанов Н. Материалы для истории художеств в России. М., 1863.
Петров П. Н. Сборник материалов для истории Императорской С.-Петербургской Академии художеств за сто лет ее существования. Ч. 1–3. Спб., 1864–1866.
Волконская З. А. Сочинения. Париж и Карлсруэ, 1865.
Иванов А. А. Его жизнь и переписка, 1806–1858 гг. Издал М. П. Боткин. Спб., 1880.
Гальберг С. И. Скульптор С. И. Гальберг в его заграничных письмах и записках (1818–1828). Спб., 1884.
Иордан Ф. И. Записки. — «Русская старина», 1891.
Вигель Ф. Ф. Записки. М., 1891–1892.
Вяземский П. А. Полное собрание сочинений. Т. 1–12. Спб., 1878–1896.
Давыдов Д. В. Сочинения. Т. I–III. Спб., 1893.
Кипренский О. А. — «Русский биографический словарь», т. 8. Спб., 1897.
Бутурлин М. Д. Записки. — «Русский архив», 1897–1898.
Белозерская Н. Княгиня Зинаида Александровна Волконская. — «Исторический вестник», 1897, № 3–4.
Остафьевский архив князей Вяземских. Т. I–V, Спб., 1899–1913.
Врангель Н. Романтизм в живописи Александровской эпохи и Отечественной войны. — «Старые годы», 1908, июль — сентябрь.
Врангель Н. Н. Орест Адамович Кипренский в частных собраниях. Спб., 1911.
Врангель Н. Выставка произведений О. А. Кипренского. — «Старые годы», 1911, ноябрь.
Головкин Федор. Двор и царствование Павла I. Портреты, воспоминания и анекдоты. М., 1912.
Архив братьев Тургеневых. Вып. 6. Пг., 1921.
Кондаков С. Н. Список русских художников к юбилейному справочнику Императорской Академии художеств. Петроград.
Гаррис М. А. Зинаида Волконская и ее время. М., 1916.
Литературные салоны и кружки. Первая половина XIX века. Редакция, вступительная статья и примечания Н. Л. Бродского. М.—Л., 1930.
Дурылин С. Н. Русские писатели у Гёте в Веймаре. — «Литературное наследство», т. 4–6. М., 1932.
Щедрин Сильвестр. Письма из Италии. Вступительная статья, редакция и примечания Абрама Эфроса. М.—Л., 1932.
Яцевич А. Пушкинский Петербург. Л., 1935.
Эттингер П. Кипренский и Гёте. — «Советское искусство». 1938, 16 августа.
Орест Адамович Кипренский (1782–1836), Каталог выставки в ГТГ. М., 1938.
Недошивин Г. У портретов Кипренского. — «Искусство», 1938, № 6.
Машковцев Н. Вопросы творческой биографии Кипренского. — «Искусство», 1938, № 6.
Сидоров А. Проблемы иконографии Пушкина. — В кн.: Пушкин. М., 1941.
Зименко В. Портретное искусство О. А. Кипренского. Кандидатская диссертация, 1946.
Ацаркина Э. Н. Орест Кипренский. М., 1948.
Пушкин А. С. Полное собрание сочинений. Т. I–XVI. М., 1937–1949.
Гоголь Н. В. Полное собрание сочинений. Т. I–XIV. М., 1938–1952.
Алпатов М. В. Историческое место Кипренского в развитии портрета XIX в. — «Ежегодник Института истории искусств АН СССР». М., 1952.
Алпатов М. Александр Андреевич Иванов. Жизнь и творчество. Т. I–II. М., 1956.
Вавра В. и др. Новая атрибуция произведения О. А. Кипренского. — «Искусство», 1954, № 6.
Сидоров А. А. Рисунок старых русских мастеров. М., 1956.
Манин В. С. Из истории основания и деятельности Академии художеств в XVIII веке. Рукопись. М., 1957.
Зильберштейн И. Новонайденное письмо М. И. Глинки к З. А. Волконской. — В кн.: Памяти Глинки. М., 1958.
Берти Джузеппе. Россия и итальянские государства в период Рисорджименто. М., 1959.
Зименко В. К вопросу о портрете Давыдова работы О. А. Кипренского. — «Искусство», 1959, № 4.
Сурис Б. Новый факт в пользу традиционного названия портрета О. Кипренского. — «Искусство», 1960, № 11.
К. П. Брюллов в письмах, документах и воспоминаниях современников. Составитель книги и автор предисловия проф. Н. Г. Машковцев. М., 1961.
Ацаркина Э. Карл Павлович Брюллов. М., 1963.
Алексеева Т. В. О. А. Кипренский. — В кн.: История русского искусства. Т. 8, кн. 1. М., 1963.
Чижикова Е. И. Орест Кипренский. Л., 1965.
Trofimoff André. La princesse Zénaïde Wolkonsky. De la Russie imperiale à la Rome des Papes. Rome, 1966.
Ракова М. М. О. А. Кипренский-портретист. — В кн.: Очерки по истории русского портрета первой половины XIX в. М., 1966.
Сурис Б. Кипренский-портретист. Л., 1967.
Поспелов Г. Г. Русский портретный рисунок начала XIX века. М., 1967.
Зильберштейн И. С. Парижские находки. Новонайденный Кипренский. — «Огонек», 1967, № 13.
Kauchtschischwili Nina. Il diario di Dar’ja Fëdorovna Ficquelmont. Milano, 1968.
Смирнов Г. В. Еще о портрете Давыдова работы О. А. Кипренского. — «Сообщения Государственного Русского музея». IX. Л., 1968.
Зименко В. Мастер портрета. — «Искусство», 1970, № 8.
Павлова Е. Прекрасная и добрая. — «Художник», 1972, № 4.
Глинка В. Кто изображен на четырех рисунках Кипренского. — «Сообщения Государственного Эрмитажа». XXXVII. Л., 1973.
Певзнер Л. Кто же автор оригинала? — «Художник», 1968, № 12.
Турчин В. С. Орест Кипренский. М., 1975.
Bociarov I., Glusciakova J. Kiprenskij in Italia. — «Sputnik», 1976, № 10.
Алексеева Т. В. Исследования и находки. М., 1976.
Кислякова И. Орест Кипренский. Эпоха и герои. М., 1977.
Раевский Н. Избранное. Минск, 1978.
Щедрин Сильвестр. Письма. Составитель и автор вступительной статьи Э. Н. Ацаркина. М., 1978.
Порудоминский В. И. Брюллов. М., 1979.
Бочаров И., Глушакова Ю. Русский клуб у фонтана Треви. М., 1979.
Валицкая А. П. Орест Кипренский в Петербурге. Л., 1981.
Бочаров И., Глушакова Ю. Орест Кипренский в Италии. — «Искусство», 1982, № 3.
Risaliti Renato. Russia е Toscana nel Risorgimento. Pistoia, 1982.
Сарабьянов Д. В. О. А. Кипренский. Л., 1982.
Бочаров И., Глушакова Ю. Венецианская Пушкиниана. М., 1982.
Турчин В. С. Орест Кипренский. М., 1982.
Михайлова Н. И. «Парнасский мой отец». М., 1983.
Зименко В. Портрет гусара Давыдова. — «Искусство», 1984, № 6.
Бочаров И., Глушакова Ю. Карл Брюллов. Итальянские находки. М., 1984.
Кунин В. В. Библиофилы и библиоманы. М., 1984.
А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 1–2. М., 1985.
Друзья Пушкина. Переписка, воспоминания, дневники. Составление, библиографические очерки и примечания В. В. Куница. Т. I–II. М., 1984.
Серебряков Г. Денис Давыдов. М., 1985.
Кулешов В. Жизнь и творчество А. С. Пушкина. М., 1987.
Петрова Е. Н. Поздние письма О. А. Кипренского. — «Советское искусствознание». Вып. 19. М., 1985.
Бочаров И., Глушакова Ю. Русский мемориал в Риме. — В кн.: История. Научно-популярные очерки. М., 1985.
Бочаров И., Глушакова Ю. Орест Кипренский. Из итальянских разысканий. М., 1986.
Михайлова К. В. Орест Адамович Кипренский, 1782–1836. Л., 1986.
Бочаров И., Глушакова Ю. Когда б имел я сто очей… — «Памятники Отечества», 1986, № 2; 1987, № 1.
Бочаров И., Глушакова Ю. Там, где родился образ птицы-тройки. — В кн.: Встречи с историей. М., 1987.
Зименко В. М. Орест Адамович Кипренский, 1782–1836. М., 1988.
Бочаров И., Глушакова Ю. Бутурлины — друзья Пушкиных. М., 1988.
Бочаров И., Глушакова Ю. Новое об Оресте Кипренском. — «За рубежом», 1989, № 40.
Содержание
Художник-загадка … 5
На мызе Нежинской, близ Копорья … 20
Академические годы … 29
Призвание … 58
Москва и Тверь … 84
Любимый живописец русской публики … 116
По пути на «родину искусств» … 153
Рим, виа Сант’Исидоро, напротив Капуцинского монастыря … 170
Признание Европы … 188
«Бойтесь невской воды…» … 230
Неаполитанские страницы … 272
В дни веселого римского праздника … 299
Спустя полтора века … 330
Основные даты жизни и творчества О. А. Кипренского … 358
Архивные материалы … 361
Краткая библиография … 362
Примечания
1
Водка (итал.).
(обратно)2
Поношенная одежда (итал.).
(обратно)3
Спокойной ночи (итал.).
(обратно)4
Какая скотина (итал.).
(обратно)5
Чужестранцы (итал.).
(обратно)6
Речь, видимо, идет о формовщике итальянского скульптора Антонио Кановы.
(обратно)7
Князь Боргезе (итал.).
(обратно)8
Здесь: слуга, официант (итал.).
(обратно)9
Жениться на ней, приехав в Рим (итал.).
(обратно)10
Его преосвященство (итал.).
(обратно)11
Памятка (итал.).
(обратно)12
Намерение (итал.).
(обратно)13
Имеются в виду монастырские приюты.
(обратно)14
И т. д. и т. д. (лат.).
(обратно)15
Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 4, с. 463.
(обратно)



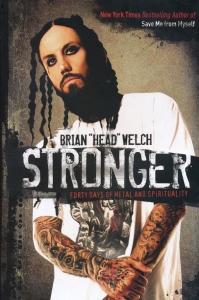


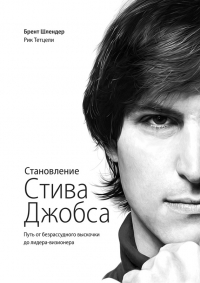
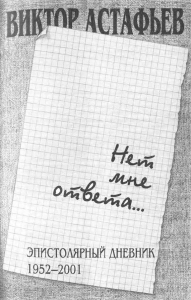
Комментарии к книге «Кипренский», Иван Николаевич Бочаров
Всего 0 комментариев