Edited by
Michele Filgate
WHAT MY MOTHER AND I DON’T TALK ABOUT:
15 WRITERS BREAK THE SILENCE
Simon & Schuster New York London Toronto Sydney New Delhi
Автор-составитель
Мишель Филгейт
О ЧЕМ МЫ МОЛЧИМ С МОЕЙ МАТЕРЬЮ
16 ОЧЕНЬ ЛИЧНЫХ ИСТОРИЙ, КОТОРЫЕ ЗНАКОМЫ МНОГИМ
При участии Кристины Гептинг
МОСКВА «МАНН, ИВАНОВ И ФЕРБЕР» 2020
Информация от издательства
Издано с разрешения SIMON & SCHUSTER, Inc.
На русском языке публикуется впервые
Филгейт, Мишель
О чем мы молчим с моей матерью. 16 очень личных историй, которые знакомы многим / авт.-сост. М. Филгейт ; пер. с англ. О. Терентьевой, М. Флейшман, Е. Петровой. — М. : Манн, Иванов и Фербер, 2020.
ISBN 978-5-00146-526-3
В этой книге вы найдете 16 личных историй, которые пережили авторы в отношениях со своими матерями. Здесь обсуждаются темы, которые не принято обсуждать, поднимаются вопросы, на которые сложно найти ответы, — и все же этот разговор должен состояться. Разнообразие тем и стилей от известных, талантливых авторов делает сборник многогранным и глубоким. Оригинальное издание дополнено эссе молодого русского прозаика Кристины Гептинг.
Все права защищены.
Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.
Copyright © 2019 by Michele Filgate
All rights reserved. All rights reserved, including the right to reproduce this book or portions thereof in any form whatsoever.
© К. Гептинг, 2020
© Перевод на русский язык, издание на русском языке, оформление. ООО «Манн, Иванов и Фербер», 2020
Содержание
Вступление О чем мы молчим с моей матерью (Мишель Филгейт) Страж и хранитель моей матери (Кэти Ханауэр) Тесмофории (Мелисса Фебос) Ксанаду (Александр Чи) Переулок Минетта-Лейн, 16 (Дилан Лэндис) Пятнадцать (Бернис Макфадден) Не осталось ничего недосказанного (Джулианна Бэгготт) Все та же старая история о моей маме (Линн Стеджер Стронг) Как же все это по-американски (Киезе Лаймон) На материнском языке (Кармен Мария Мачадо) Ты слушаешь? (Андре Асиман) Брат, не одолжишь ли мелочи? (Сари Боттон) Ее плоть — моя плоть (Найоми Мунавира) Все о моей матери (Брэндон Тейлор) И на холме настиг меня страх… (Лесли Джемисон) Иногда молчание — знак заботы (Кристина Гептинг) Благодарности Об авторахПотому что очень горько так никогда и не рассказать, что чувствуешь.
Вирджиния Вулф. Волны
Я уверена, что матери отравляют нас. Мы их идеализируем, относимся к ним как к данности. Мы их ненавидим, и обвиняем, и превозносим больше, чем кого-либо в нашей жизни. Мы смотрим на все сквозь призму их любви, уверяем себя в их нежности и в том, что так задумано природой. Мы можем красть, лгать, уходить от них — но они все равно будут любить нас.
Меган Мейхью Бергман. Птицы меньшего рая
Вступление
Когда я готовлю говядину по-бургундски по рецепту Айны Гартен1, моя мама будто стоит рядом. Помешивая ароматный бульон, я мысленно возвращаюсь в детство, на родительскую кухню. Мама проводила там почти все свободное время. К празднику она пекла маковое печенье с малиновым джемом или «поцелуйчики» из арахисовой пасты, а я помогала ей месить тесто.
Стоя у плиты, я ощущаю мамино присутствие. Я всегда думаю о ней на кухне — в ее родной стихии. Добавить говяжий бульон и свежий тимьян… немудреные действия вселяют в меня уверенность. Если точно соблюдать рецепт, потом пальчики оближешь. Но ближе к ночи, несмотря на плотный ужин, у меня от голода будет ныть желудок.
Мы с мамой редко разговариваем. Готовить по рецепту мне ничего не стоит. Другое дело — общаться с мамой и тем более писать о ней.
Мне понадобилось двенадцать лет, чтобы закончить эссе, из которого родилась идея этого альманаха. Я начала писать «О чем мы молчим с моей матерью» еще будучи студенткой Нью-Гемпширского университета, под впечатлением от сборника Джо Энн Бирд «Мальчики моей юности». Тогда я поняла, что такое эссе о себе: предъявление прав на свою историю. В то время еще свежи были воспоминания об издевательствах отчима, я злилась на него. Дома при нем я испытывала постоянный страх и мне хотелось исчезнуть, что я в итоге и сделала.
Чего я тогда не осознавала, так это того, что пишу не про отчима. В жизни все сложнее, и порой трудно смотреть правде в лицо. На то, чтобы осмыслить и сформулировать все, что я хотела выразить, ушли годы. Желание (и потребность) писать пробудили разрушенные отношения с матерью.
Мое эссе опубликовали в Longreads в октябре 2017 года, рядом со статьей про Харви Вайнштейна. Движение #MeToo как раз набирало обороты. Казалось бы, идеальный момент. Но в день публикации я до рассвета проснулась от ужаса, что все узнают обо мне такие личные вещи, и больше не сомкнула глаз. Я гостила у друзей в Сосалито и вышла на улицу, прихватив ноутбук. Солнце еще не показалось, воздух был тяжелым от дыма лесных пожаров. На клавиатуре оседал пепел. Как будто горел весь мир. Казалось, я сжигаю собственную жизнь. Жить с болью, причиненной матерью, — это одно. А обессмертить ее в словах — совсем другое.
Сокровенные признания порождают в душе болезненное одиночество. Хотя я не была одинока. У каждого человека есть мать, пусть даже недолго. Отношения между матерью и ребенком не всегда идеальные. При этом в обществе подразумевается, что праздники все проводят в семейной идиллии. Перед каждым Днем матери я морально готовлюсь к лавине постов о сильных, любящих женщинах, воспитавших замечательных отпрысков. Я рада за них, но все-таки мне немного больно. И не только мне — многим в этот день напоминают о том, чего они лишены. Одни оплакивают преждевременную кончину матери, а другие никогда не знали ее. А кто-то думает, что, хотя его мать жива, она ничего не сумела дать своему ребенку.
Идеал матери — это защитница: она заботится о детях, делает для них все необходимое и поддерживает их, а не подавляет. Однако мало кто скажет, что у него идеальная мать. Что бы она ни делала, совершенство, скорее всего, недостижимо. «Возможно, мы все в такой момент чувствуем перед собой огромную зияющую пропасть, когда наша мать совершенно не соотносится с тем, что, на наш взгляд, должно подразумевать понятие матери, и со всем тем, что это, по идее, должно бы нам давать», — пишет Линн Стеджер Стронг в этой книге.
Такое несоответствие — это нормальный и необходимый опыт познания жизни, но иногда оно оставляет неизгладимый след. Наш общий инстинкт — избежать боли любой ценой. Мы закапываем ее глубоко в себя, пока не перестанем чувствовать и не забудем о ее существовании. Мы делаем так, чтобы выжить. Но это не единственный способ.
Если выговориться, станет легче. Это по-взрослому. Признавшись в том, о чем вы по какой бы то ни было причине долго молчали, вы улучшите отношения с окружающими, а главное — с собой. И вместе это делать проще, чем в одиночку оказаться в лучах прожекторов.
По-разному сложились отношения с матерями у писателей, объединенных этой книгой: одни с ними не общаются, а другие, наоборот, очень близки. Как выразилась Лесли Джемисон, «рассказ о ее любви ко мне или о моей любви к ней звучал бы как одна большая тавтология: именно мама всегда определяла мое представление о том, что такое любовь». Лесли прочитала неопубликованный роман бывшего мужа матери, чтобы узнать, какой она была до ее рождения. Кэти Ханауэр в своем увлекательном произведении рассказывает, как ей наконец удалось поговорить с мамой без участия властного (но всеми любимого) отца. Дилан Лэндис размышляет, насколько близкими были отношения между его матерью и художником Хейвудом Биллом Риверзом. Андре Асиман описывает жизнь с глухой от рождения матерью. Мелисса Фебос рассматривает отношения с матерью-психотерапевтом через призму мифологии. А Джулианна Бэгготт делится тем, каково это, когда мама рассказывает тебе абсолютно все. Сари Боттон пишет, как ее мать превратилась в своего рода «классового врага», когда разбогатела, и в чем отношения между ними усложнились.
Некоторые эссе пронизаны болью. Брэндон Тейлор с непостижимой нежностью пишет о матери, морально и физически его унижавшей. Найоми Мунавира рассказывает об иммиграции, психических болезнях и домашнем насилии. Кармен Мария Мачадо анализирует свое двойственное отношение к родительству, связанное с холодностью матери. Александр Чи задается вопросом, зачем он хотел оградить мать от информации о пережитом им в детстве сексуальном насилии. Киезе Лаймон объясняет матери, почему он посвятил ей свои мемуары: «Теперь, осуществив свой замысел, я понимаю: проблема нашей страны не в том, что нам не удается спокойно сосуществовать с людьми, партиями или политиками, с которыми у нас есть разногласия. Проблема в том, что мы ужасны в своей, как нам кажется, искренней любви к людям, родным местам и политикам, к которым мы как будто питаем склонность. Я написал для тебя “Тяжеловеса”, потому что хотел, чтобы мы оба научились друг друга любить». Бернис Макфадден рассказывает, как живуча клевета: ее помнят десятилетиями.
Надеюсь, моя книга станет путеводной звездой для всех, кто не смел открыть правду о себе или своей матери. Чем чаще мы сталкиваемся с тем, чего не можем, не хотим или не знаем, тем лучше понимаем друг друга.
Я скучаю по маме, которую знала до ее встречи с отчимом, и даже немножко по той, которая вышла за него замуж. Иногда я представляю себе, что дам ей прочитать эту книгу. Вручу за обедом, приготовленным в ее честь. И скажу: вот почему мы никогда не говорили по душам. Вот что я думаю. Я все написала. Это тебе.
О чем мы молчим с моей матерью
Мишель Филгейт
Лакуна: незаполненное пространство или интервал, промежуток
Наши матери — наш первый дом, и поэтому мы всегда стараемся вернуться к ним. Чтобы вспомнить, каково это — иметь место, которое некогда было нашим. В которое мы идеально вписывались.
Мою маму сложно узнать поближе. Точнее, я ее знаю и в то же время совершенно не знаю. Так и вижу ее длинные каштановые с проседью волосы, которые она отказывается обрезать, в руке — стакан водки со льдом. Но если я попытаюсь вызвать в памяти ее лицо, я тут же вспоминаю ее смех, деланый смех, которым она словно пытается доказать что-то, вспоминаю ее натужную жизнерадостность.
Несколько раз в неделю она публикует на своей страничке в Facebook соблазнительные фото еды. Такос со свининой и маринованным красным луком, полоски вяленой говядины только что из коптильни, стейки, которые она подает с овощами на пару. Всё это блюда моего детства; иногда вычурные, иногда простые, но сытные. Но все они вызывают у меня в памяти образ отчима: красноту его лица, красную кровь на тарелке. Он использует кухонное полотенце, чтобы отереть пот со щек; его рабочие сапоги покрыты древесными опилками. Его слова ранят меня; они словно зубцы вилки, застрявшие в наполовину сдувшемся воздушном шарике.
— Ты — единственная причина всех проблем в моем браке, — говорит он. — Ты, чертова сука. Я тебя прихлопну.
И я боюсь, что так он и сделает, когда я буду лежать в постели, навалится на меня всем телом, вдавливая меня в матрас, пока тот не разверзнется и не поглотит меня.
Теперь мама бережет свои кулинарные умения для мужа. Она сервирует ему ужин в их доме на ферме или в городской квартире. Теперь моя мама больше не готовит для меня.
* * *
Моя комната — типичная комната подростка. Она обклеена журнальными разворотами Teen Beat2 и выцветшими портретами Леонардо Ди Каприо и Джейкоба Дилана, сделанными на струйном принтере. Клочки собачьей шерсти взмывают в воздух, стоит легкому ветерку подуть в открытое окно. И неважно, как часто мать пылесосит, эта шерсть повсюду и ее становится все больше.
На моем письменном столе разбросаны учебники, едва начатые письма, ручки без колпачков, высохшие фломастеры и огрызки карандашей. Я пишу, сидя на деревянном полу, спиной упираясь в жесткие ручки комода красного цвета. Мне неудобно, но что-то в этой позе, заставляющей меня находиться в постоянном напряжении, дает мне ощущение покоя.
Мои стихи ужасны, но в минуту подросткового тщеславия они кажутся мне гениальными. Стихи о разбитом сердце, о том, что меня никто не понимает, стихи о том, что меня вдохновляет. Я их распечатываю на бумаге с изображением пляжа и заходящего солнца и называю свой сборник «Летний снег».
Пока я пишу, отчим сидит за своим письменным столом прямо возле входа в мою комнату. Он работает за ноутбуком, но всякий раз, когда раздается скрип его кресла или он начинает двигаться, мой желудок сжимается от ужаса, который поднимается выше, к самому горлу. Я держу дверь в комнату закрытой, но это не важно, потому что мне все равно запрещено запираться.
Вскоре после того, как отчим женился на матери, он сделал для меня простую шкатулку для украшений, теперь она стоит на моем комоде. Дерево гладкое на ощупь, блестящее. На поверхности нет ни одной вмятины или бороздки. В этой шкатулке я храню поломанные ожерелья и безвкусные браслеты. Те вещи, о существовании которых я хочу забыть.
Подобно этим безделушкам в шкатулке, в своей комнате я тоже могу притворяться, что существую или не-существую; я могу быть собой и не-собой. Я исчезаю, погружаясь, как в черные дыры, в мир книг. А когда мне не удается сфокусироваться, я часами лежу на двухъярусной кровати, надеясь, что мне позвонит мой бойфренд и спасет меня от моих мыслей. Спасет меня от мужа моей матери. Но телефон не звонит. И эта тишина угнетает. У меня окончательно портится настроение. Я внутренне сжимаюсь, укладывая грусть поверх беспокойства, а его — поверх своих грез.
* * *
— Назови две вещи, которые заставляют вращаться земной шарик. — Отчим задает мне свой излюбленный вопрос. Мы с ним в его слесарной мастерской в подвале, на нем рабочие сапоги, старые джинсы и потертая футболка. От него несет виски.
Я знаю ответ. Знаю, но не хочу ничего говорить. Он пристально смотрит на меня в ожидании, я вижу морщины вокруг его полуприкрытых глаз, он дышит мне в лицо перегаром.
— Секс и деньги, — бросаю я. Слова словно горячие уголья у меня во рту, тяжелые, постыдные.
— Верно, — отвечает он. — Если ты будешь со мной особенно, особенно мила, я, возможно, устрою тебя в ту школу, в которую тебе так хочется.
Он знает, что я мечтаю обучаться актерскому мастерству в SUNY Purchase3. Когда я на сцене, я совершенно преображаюсь, оказываюсь в какой-то другой, не своей жизни. Я становлюсь кем-то, у кого проблем еще больше, но все их можно разрешить к концу вечера.
Мне хочется выбраться из подвала. Но я не могу просто так оставить отчима. Мне не разрешено так просто уходить.
Свет лампочки, не прикрытой абажуром, превращает меня в персонажа фильма нуар. Воздух здесь, в подвале, холоднее, тяжелее. Помню, как-то раз в прошлом году отчим припарковал свой грузовик на берегу океана и положил мне руку на внутреннюю поверхность бедра, проверяя, как далеко можно зайти. Я попросила, чтобы он отвез меня домой. Он не отреагировал, заставив томиться полчаса в тягостном ожидании. Когда я рассказала о случившемся матери, она не поверила.
И вот он возвышается надо мной, его руки змеятся у меня за спиной. Снова вспоминаются зубцы вилки, но на этот раз они протыкают шарик и воздух выходит полностью. Отчим мягко шепчет мне на ухо:
— Пусть это останется между нами. Матери ни слова. Поняла меня?
Но я не понимаю. Он щиплет меня за задницу. Обнимает меня так, как отчимы не должны обнимать своих падчериц. Его руки словно черви, а мое тело — грязь.
Мне удается вырваться, и я убегаю наверх. Мама на кухне. Она все время на кухне.
— Твой муж лапал меня за задницу, — выпаливаю я.
Она медленно кладет деревянную ложку, которой мешает еду, и идет вниз. Ложка вся перемазана красным соусом для спагетти.
Позже она заходит ко мне в комнату, где я лежу, свернувшись клубочком.
— Не переживай, — говорит она. — Он просто пошутил.
* * *
Как-то раз — дело было несколько лет назад — я выхожу из школьного автобуса. Дорога от остановки до моего дома всегда вызывает у меня напряжение. Если я вижу красный, цвета спелого помидора, пикап, принадлежащий моему отчиму, это означает, что он дома и мне придется быть там с ним вдвоем.
Но сегодня грузовика нет. Я одна. Какая роскошь! На столе в кухне стоит кофейный торт, который испекла мама. При виде крошек коричневого сахара у меня текут слюнки. Я набрасываюсь на него — каких-то пара секунд, и половины божественного десерта как не бывало.
И тут мой язык начинает пощипывать — первый признак анафилактического шока. Я к этому уже привыкла и знаю, что нужно делать: взять жидкий бенадрил и позволить искусственному вишневому сиропу покрыть язык, который раздувается, как рыба, блокируя мне дыхательные пути. Я начинаю задыхаться.
Но у нас дома есть только таблетки. А они рассасываются гораздо дольше. Я их проглатываю, и меня тут же выворачивает. Я могу делать лишь крошечные сиплые вдохи. Бегу к бежевому телефону на стене и набираю 911. Скорая приезжает через несколько минут, но мне они кажутся длиннее тех тринадцати лет, что я живу на этой земле. Я смотрю в зеркало на свое залитое слезами лицо, пытаюсь перестать реветь, потому что дышать мне от этого только сложнее. Но слезы катятся сами собой.
В карете скорой помощи по дороге в больницу мне дают игрушечного медвежонка. Я прижимаю его к себе, словно новорожденного.
Мама хмурится, но в то же время испытывает облегчение.
— Торт был посыпан колотым грецким орехом. Я испекла его для коллеги, — говорит мама. Она смотрит на медвежонка, которого я обнимаю. — Я забыла оставить тебе записку.
* * *
Я провела достаточно времени в католических соборах, чтобы знать, что значит закрывать на что-то глаза. Моя семья в этом преуспела, хотя, может, и нет. Иногда наши тщательно скрываемые секреты высовываются наружу. И тогда очень легко о них споткнуться.
Тишина в церкви не всегда умиротворяет. Она подчеркивает даже самый незначительный звук — приглушенный кашель или скрипящее колено, — эхом разносящийся по храму Божьему. Здесь нельзя оставаться полностью самим собой. Приходится вылущивать себя, как стручок.
В школе же все ровно наоборот. Я как раз слишком предоставлена сама себе, потому что эта чрезмерность — мой способ заявить, что я все еще здесь. Та я, которая настоящая, а не та я, которой он хочет меня видеть.
Меня может стошнить от чего угодно. Я по несколько раз в неделю выбегаю из кабинета биологии, и учительница идет за мной в женский туалет и протягивает мне салфетки, которые скребут по моим щекам, как наждачная бумага. Я отсиживаюсь в кабинете медсестры, когда мне невмоготу быть в окружении людей.
* * *
Вот как звучит тишина, когда он теряет терпение. После того как я, в приступе смелости, кричу ему в ответ: «Ты НЕ МОЙ отец!»
Она звучит как яйцо, которое разбивают о краешек фарфоровой миски. Она звучит как кожура апельсина, которую отрывают от фрукта. Она звучит как приглушенный чих в тишине церкви.
* * *
Хорошие девочки ведут себя тихо.
Плохие же вынуждены стоять, преклонив колена, на рисовых зернах, и жесткие зернышки впиваются им в колени. Во всяком случае, так мне рассказывает бывшая коллега, которая ходила в католическую школу для девочек в Бруклине. Монахини предпочитали именно такой вид телесного наказания.
Хорошие девочки не срывают занятий.
Плохих же вызывают к директрисе так часто, что она завела для них специальную коробку с бумажными платками. Плохие девочки разговаривают с полицейским, патрулирующим школу. Они крутят платок в руках до тех пор, пока тот не начинает крошиться, как кекс.
Хорошие девочки смотрят полицейскому прямо в глаза. Они провожают взглядом секундную стрелку часов, висящих на стене. А потом говорят: «Все нормально. Не нужно разговаривать с моим отчимом и мамой. Это все только осложнит».
* * *
Тишина — это то, что заполняет пространство между мамой и мной. Все то, что мы не сказали друг другу, потому что это слишком болезненные вещи, чтобы говорить о них вслух.
Что я хочу сказать: «Мне нужно, чтобы ты мне верила. Мне нужно, чтобы ты меня выслушала. Мне нужна ты».
Что я говорю: ничего.
Ничего, пока я не скажу всего. Но проговорить все, что случилось, недостаточно.
Она по-прежнему замужем за ним. И пропасть между нами становится только больше.
* * *
Моя мать видит призраков. И всегда видела. Мы в Мартас-Винъярд4, и я торчу дома с младшим братом; де-факто я работаю его нянькой, пока взрослые уехали в город поесть жареных моллюсков и чего-нибудь выпить. Сегодня непривычно прохладный августовский вечер, и воздух такой неподвижный, как будто он задержал дыхание. Я сижу рядом с братом на кровати, пытаясь уложить его спать. И вдруг я слышу какой-то звук, в комнате кто-то есть, и этот кто-то дышит мне в ухо. Окна при этом закрыты. Здесь никого нет. Я вскрикиваю и отпрыгиваю от кровати.
Когда мама заходит в комнату, я ей тут же все рассказываю.
— У тебя всегда было хорошо развито воображение, Миш, — говорит она весело, своим смехом смывая мой страх, как волна, набегающая на берег, уносит щербатые ракушки в море.
Но через несколько дней после того, как мы уехали с острова, она доверительно сообщает мне:
— Однажды ночью я проснулась от того, что кто-то сидел у меня на груди. Я не хотела тебе рассказывать, пока мы были там. Не хотела тебя пугать.
В тот вечер я сижу на полу в своей комнате, устроившись в своем писательском уголке, красные ручки комода упираются мне в спину, я думаю о маминых призраках, о ее лице, о доме. Доме, где с утра до вечера работает телевизор, а на столе всегда ждет еда. Где семейный ужин всегда идет коту под хвост, если я сажусь вместе со всеми за столом, и поэтому отчим требует, чтобы я ела отдельно. Где бросаются вазами — разбиваясь, они с таким грохотом падают на деревянный пол, что это звучит как музыка, мягкая и в то же время резкая. Я думаю о доме, где ружья моего отчима выставлены на всеобщее обозрение за стеклом, а его пистолет спрятан под грудой рубашек в шкафу. Доме, вокруг которого я ползаю на корточках между сосен, подбирая собачье дерьмо. Где есть бассейн, хотя мы с мамой умеем плавать только по-собачьи. Где отчим делает мне шкатулку своими руками, а мать учит хранить все мои секреты при себе.
* * *
Теперь я сама покупаю себе бенадрил и всегда ношу его с собой. В последнее время мы с матерью общаемся преимущественно через наш семейный групповой чат, в котором помимо нас двоих есть еще моя старшая сестра: она делится фотографиями моей племянницы и племянника. Джоуи сидит в своем детском автомобиле Cozy Coupe и улыбается в камеру, не выпуская руль из рук.
И вот однажды я все же делаю попытку достучаться до мамы.
— В эти выходные я еду к бабушке. Может, ты сможешь приехать ко мне, пока я здесь?
Она не отвечает.
Я пишу ей сообщение, а не звоню, потому что она может находиться сейчас с ним в одном помещении. Предпочитаю делать вид, что его не существует вовсе. И у меня получается. Как тогда с моими сломанными побрякушками в старой шкатулке — я просто закрываюсь от реальности крышкой.
Я жду от нее ответа; может, какого-то объяснения, почему она не может выбраться на встречу со мной. Когда бабушка забирает меня со станции, я втайне надеюсь, что мама с ней в машине — устроила мне приятный сюрприз.
Я проверяю сообщения на телефоне и размышляю о коллажах, которые когда-то собирала, вырезая их из старых номеров National Geographics, Family Circles и каталогов Sears: реклама томатного супа Campbell соседствовала с леопардом и половиной какого-нибудь заголовка типа «Десять Советов Для». Даже когда я была ребенком, меня успокаивали незаконченные, нелепые коллажи. Они давали мне ощущение, что в этой жизни возможно все. Нужно только начать.
Ее машина так и не появилась. И ответ на мое сообщение так и не пришел.
Ферма моей матери, находящаяся в двух часах езды от моего родного города, была построена солдатом, воевавшим за независимость США. Конечно же, в этом доме живут призраки. Несколько лет назад мама разместила на Facebook фотографию заднего двора, утопающего в зелени: на ней видны небольшие шары, похожие на внеземные объекты.
«Я люблю тебя дальше Солнца, Луны и звезд», — говорила она мне, когда я была маленькой. Но я хочу, чтобы она любила меня здесь. Сейчас. На Земле.
Страж и хранитель моей матери
Кэти Ханауэр
В некотором роде это история любви. Один взгляд на любовь. И в горе, и в радости.Но сначала пролог.
Мои родители познакомились в 1953 году на вечеринке в городке Саут-Ориндж, Нью-Джерси, в доме у некой Мерли Энн Бек. Моя мама, ученица старших классов, была не очень хорошо с ней знакома, а отец не знал вовсе. Короче говоря, оба моих родителя оказались в числе приглашенных. Слушая имена из этого списка, моя мама отреагировала на имя отца, Лонни Ханауэра; все дело было в этих приятно звучащих «н». Она расспросила о нем и узнала, что хоть он и был всего на семнадцать месяцев старше (ей было шестнадцать с половиной, ему — восемнадцать), он уже учился на втором курсе в Корнелльском университете5 на медицинском факультете. Он ее заинтриговал, и, хотя она была тихой, усидчивой «хорошей девочкой», помогавшей учителю раскладывать тесты перед началом урока, а отцу — трудиться в его галантерейной лавке, она нашла его на вечеринке. Они пообщались, потанцевали; она сочла его утонченным и веселым. Тем же вечером она заявила матери, что встретила мужчину, за которого выйдет замуж.
Так оно и случилось три года и восемь месяцев спустя, в загородном клубе его семьи — у бассейна с безукоризненно голубой водой, недалеко от гольф-поля, соперничающего с такими же полями, принадлежащими соседним клубам WASP6. Ему был двадцать один с половиной год. Ей только что исполнилось двадцать.
Все это было шестьдесят один год назад. С тех пор у них родилось четверо детей и шестеро внуков. Я — самая старшая и, похоже, единственная, кто постоянно ищет ответы на вопросы, особенно о маме.
* * *
Примерно десять лет назад, когда мне было около сорока, а мои родители только-только разменяли восьмой десяток, у мамы появилась собственная электронная почта. Может показаться, что это пустяки, но в случае с ней произошло нечто грандиозное. До этого, когда все пользовались AOL7 и получали уведомления типа «Вам письмо!», у моих родителей был один ящик на двоих. Аналогично обстояли дела и со многими их друзьями — парами, у которых лет до шестидесяти не было интернета и которые, вероятно, думали (во всяком случае, поначалу), — что иметь один электронный ящик на двоих — это то же самое, что делить обычный почтовый ящик или стационарный телефон.
Когда кто-то писал электронное письмо моей маме — будь то ее дочери, лучшая подруга или братья, — мой отец не только читал его, но зачастую и отвечал сам. Иногда мама тоже отвечала, но бывало, и нет. Ей казалось, что так и должно быть.
В отличие от своих сверстников они и по телефону разговаривали так же. Когда кто-то звонил на домашний телефон, трубку поднимал отец. Стоило звонящему произнести: «Привет», как он тут же кричал: «Бетти! Возьми телефон!» Раздавался щелчок, и мама тоже оказывалась на связи. Я давно смирилась с тем, что, если я просила подозвать ее к телефону, отец всегда отвечал: «Она слушает. Что ты хотела?» Если же я объясняла, что мне нужно поговорить с мамой о чем-то личном, он отвечал: «У твоей матери нет от меня секретов». Я умоляла, взывала к его разуму, выходила из себя — неважно; он стоял на своем. Иногда он отвечал за нее. Если я спрашивала: «Как твои дела, мам?» — интересуясь ее самочувствием после болезни, он мог сказать: «Мама в порядке. Температура спала, она только что съела пару тостов». Если же я потом говорила: «Вообще-то я спрашивала маму, как она себя чувствует. Мам, как ты?» она добавляла что-нибудь незначительное, но голос был бодрый: «Мне намного лучше» или «Все хорошо».
Если же я спрашивала ее о чем-то интимном, о чем дочь может спросить свою мать, — например, как она впервые поняла, что беременна, какой подарок купить молодоженам на свадьбу, как делать ее знаменитый черничный торт, — отец часто отвечал за нее, даже если не знал ответа. «Она кладет туда консервированные персики. Правильно, Бетти?» Или: «Глупо дарить им деньги; лучше купи что-нибудь, чтобы они вспоминали тебя всякий раз, когда будут этим пользоваться».
Если же ему действительно было нечего сказать — например, о книге, которую читает мама, — он мог включить по телевизору бейсбольный матч и начать его громко комментировать: «Черт тебя дери, Мартинес! Да поймай ты уже этот чертов мяч!»
Иногда он рассказывал, чем они с мамой были заняты последние несколько дней, — ходили в ресторан, были в кино, — а потом делился своими впечатлениями об увиденном. «Ты уже видела X?» — спрашивал он и, если я говорила, что нет, отвечал: «Как по мне, на троечку» (максимальная оценка по его шкале — четыре балла). Потом он обязательно добавлял, как прекрасна была молодая девушка, исполнявшая главную роль, и затем, в конце, выдавал, чем дело кончилось. Если же я высказывала свое недовольство, он говорил: «Ну знаешь, Гамлет тоже в конце умирает». Подобное поведение во время телефонных разговоров, равно как и его манера отвечать на почту, — а также мамина выдержка, когда она не издает ни звука, — были для меня абсолютной загадкой.
Неужели она не считала все это вмешательством в свое личное пространство или не понимала, насколько это раздражает? А если понимала, то почему ни разу не возразила?
Были, конечно, и другие возмутительные случаи. Например, управляя автомобилем, в котором находятся пассажиры, он мог нестись так, словно скрывается от полиции в игре Grand Theft Auto8: пролетая лежачих полицейских, игнорируя знак «Стоп», клаксоня изо всех сил, если кто-то возникал у него на пути. Или вот еще была история, когда он устроил сцену во время экскурсии в национальный парк. Он заявил, что было слишком много остановок для наблюдения за птицами и слишком мало пеших прогулок, — в результате его отвезли обратно в офис по туризму, а маме пришлось ехать с ним, пока все остальные ждали.
Бывало, он кричал на маму, если она кормила собаку, когда собирался он. Или если мама, будучи человеком крайне бережливым, доедала остатки вчерашнего обеда, ставя перед ним на стол горячий ужин, который только что приготовила (он не любил, когда она лишала себя чего-то). Иногда, особенно по телефону, он вел себя настолько невозможно — доходило до смешного, как будто он пародировал самого себя, — что я не могла сдержать смех. Я говорила: «Спасибо, что рассказал, как мама себя чувствует / что она думает / как она делает свой черничный торт».
И тогда он начинал смеяться, а за ним и мама, тем смехом, каким она всегда смеется, когда кто-то подшучивает над ней, — так мы выражаем привязанность в нашей семье. Отец будет смеяться, когда прочтет эти строки, — а он их обязательно прочтет, так как читает все, что я пишу, великодушно, с гордостью. Способность выдерживать с достоинством критику — или, скорее, насмешки окружающих — одно из тех его качеств, которыми я восхищаюсь. Ему никогда не бывает стыдно. «А что такого? — недоумевает он. — Я хороший водитель, а тот гид был просто придурком. Да и матери твоей не стоит вечно подъедать остатки».
* * *
Я десятилетиями боролась с тем, как отец вел себя сначала по отношению ко мне, а позже и по отношению к нам обеим: с его вспышками гнева, непостоянством, нарциссизмом, неугасающей потребностью все контролировать и подавлять окружающих, — но также я пыталась достучаться и до мамы, чтобы побыть с ней наедине или поговорить так, чтобы он не мешал. Я хотела не просто понять ее и разобраться в ее с ним отношениях; мне, признаюсь, хотелось заполучить хотя бы часть ее в свое распоряжение, ведь как-никак она была моей мамой! Моей миниатюрной, нежной, восьмидесятиоднолетней седовласой мамой, которая занималась садом, готовила, гуляла с собакой, у которой в саду повсюду стояли таблички «Добро пожаловать», а каждый сантиметр площади на холодильнике занимали фотографии ее внуков; моей мамой, которая читает и всегда критикует все, что выходит из-под моего пера; которая никогда не забывает ни про один день рождения или годовщину и всегда отправляет открытку с фотографией именинника, которую когда-то сделала сама; моей мамой, которая посвятила всю свою жизнь обучению детей с особенностями развития, и это помимо воспитания собственных четырех детей; мамой, которая никогда не забывает расспросить о том, как ты. Кто же не захочет получить хотя бы частицу такой мамы?
Когда я была ребенком (около девятнадцати месяцев от роду), мне приходилось делить ее с младшей сестрой и отцом; к тому моменту, как родилась еще одна моя сестра, а затем и брат, мама уже была постоянно окружена детьми, собаками, без конца хлопотала по хозяйству, закупала продукты, водила машину, готовила макароны с сыром, пекла вафли и целые горы брауни, шила нам костюмы на Хеллоуин или макси-юбки в бело-розовую клетку. У нее не было времени отдыхать, «обедать», кофейничать, курить сигареты и пить коктейли во второй половине дня. Она носилась по дому, пытаясь удовлетворить потребности то одного, то другого, пока не возвращался отец, и тогда она уже занималась им.
В течение долгого времени после того, как я выросла, у меня было не больше возможности побыть с мамой, чем когда я была ребенком, а может, даже и меньше. По окончании колледжа я переехала на Манхэттен, и, когда приезжала навестить родителей в Нью-Джерси — иногда вечером после работы, иногда на выходных раз в пару месяцев, — отец всегда либо уже был дома, либо ехал домой. Иногда у нас с мамой было несколько минут перед его возвращением, но стоило ей услышать скрип гаражной двери, когда в гараж въезжал его белый «Мерседес», из салона которого доносились либо звуки оперы, передаваемой по радио, либо новости, как мама тут же вставала, чтобы идти его встречать. После ужина мы с ней прибирались на кухне, пока он читал или смотрел телевизор, сидя в любимом кресле. Но через какое-то время он приходил к нам, чтобы почитать ей статью, или звал ее в комнату посмотреть что-нибудь по телевизору. Он, казалось, просто не умел обходиться без нее — а может, не хотел оставлять ее наедине со мной, энергичной, самостоятельной, зарабатывающей себе на жизнь феминисткой, говорящей вещи, которые, как ему казалось, нарушали заведенный порядок в его собственном доме.
Была ли мама против, когда он выбирал фильм для пятничного просмотра или субботнюю программу и требовал, чтобы она смотрела вместе с ним? Как женщина, в любого рода отношениях (не говоря уже о браке) постоянно нуждающаяся в некой автономности, я не могла себе представить, каково это — быть настолько кому-то нужной (на ум приходит песенка из «Оливера»: «Пока я нужна ему, / Я знаю, где должна находиться»9).
Постоянное притязание на ее внимание вызывало у меня ужасную досаду. Я все время думала: «А как же я?» Хотя иногда я ловила себя на мысли: «А что, если она не хочет проводить со мной время?» Как-никак я тоже бываю навязчивой, болтливой, упрямой, как отец, — хотя, будучи рассудительной и хорошо знающей себя женщиной и матерью, я все-таки не совсем такая, как он. Я люблю задавать вопросы, мне нравится докапываться до сути. Ты довольна своей жизнью? Если бы ты могла изменить что-то одно, что бы это было? Моя самая младшая сестра, которая не отличается моей болтливостью и дотошностью, тоже иногда пыталась понять, чего же мама хочет. Было ли дело в нас? В ней самой? В нем? Мама была для нас загадкой.
* * *
К тому моменту, как у мамы появилась личная электронная почта, я уже давно переписывалась с родителями, сочтя это лучшим способом общения с отцом. Мне было уже тридцать, когда общение по электронной почте стало популярно, у меня было двое маленьких детей, мне надо было зарабатывать, и я писала родителям, как только у меня выдавалась свободная минутка и возможность собраться с мыслями. Письма избавляли меня от угнетающих телефонных разговоров с отцом, переводя наше общение в другую плоскость: я могла читать то, что он думает, и его ответы мне часто нравились — он умный, умеет быть забавным и разбирается во всем: новостях, политике, развлечениях. Стоит ему узнать, что ты чем-то интересуешься, он тут же найдет и вышлет тебе статьи на эту тему. Правда, по той же схеме он действует и в том случае, если что-то тебя задевает. «Эта стерва, Девушка с матрасом10, просто хотела привлечь внимание к собственной персоне. Если бы это было не так, она бы не стала…» Удалить! И маме не обязательно знать об этой нашей переписке.
Отца страшно злило, что я перестала звонить и начала писать электронные письма, — это лишило его возможности распинаться во всеуслышание, он потерял аудиторию в нашем с мамой лице. Он возмущался в течение нескольких лет, но — спасибо каждому психиатру, у которого я когда-либо наблюдалась, — меня это все уже не трогало. Когда у мамы появилась собственная почта, он тоже пытался возражать, как только это обнаружил (а обнаружил не сразу), но она неожиданно твердо настояла на своем… И это, кажется, переломило ситуацию в ее пользу.
Хотя отцовская суть мне открылась давно, мама порой по-прежнему ставила меня в тупик.
Кем она была помимо энергичной зеленоглазой учительницы, дружелюбной соседки, чей рост едва доходил до полутора метров, а вес с натяжкой составлял сорок один килограмм (она питалась одним только черным кофе и тонкими бутербродами с сыром, съедала на завтрак ложку йогурта, которую гордо украшали два грецких ореха, не больше). Какой была эта женщина, которая каждый вечер покорно ложилась в постель с отцом, а несколько часов спустя украдкой перебиралась в комнату моего покойного брата и читала там роман за романом? О чем она мечтала — или, может, у нее не было никаких заветных желаний, которым бы нашлось место в этой комфортной, практичной, устроенной жизни? Дети и внуки, которые ее любили, славный пес, взятый из приюта, чистые, опрятные дом и сад, место в совете школы, для которой она очень много сделала. Брак, в котором она состояла уже больше шестидесяти лет; деньги, которых было достаточно, чтобы стареть красиво. Думала ли она о моем брате, которого они усыновили, когда ему было полтора месяца от роду, потому что хотели (отец?) четвертого ребенка, и непременно мальчика? Он умер в возрасте тридцати лет, находясь в состоянии алкогольного опьянения и под действием наркотиков. Он прожил очень непростую жизнь. Сожалела ли мама о чем-нибудь? Что бы она изменила, будь у нее такая возможность?
Теперь я могла бы спросить ее об этом, а еще вот о чем: почему она никогда не протестовала против плохого поведения отца — по отношению к ней, к ее детям, к окружающим? Или, может, ей казалось, что нет никакой проблемы: это я слишком близко все принимала к сердцу? (Я даже знаю, как бы на это ответил отец.) Помню, как он залепил мне оплеуху, потому что я ненароком произнесла слово, которое, как оказалось, было нехорошим (я была в четвертом классе); или как он немного переборщил, ударив мою сестру, молодую девушку, и та — надо же — кубарем покатилась вниз по лестнице («Она не сильно пострадала! На лестнице лежал ковер!»); или как он поднял меня на смех из-за моей оценки за устный вступительный экзамен (он и сейчас иногда меня высмеивает, несмотря на то, что я уже давно успешный беллетрист, редактор, писатель)… Мне нужно было все это игнорировать и просто продолжать жить дальше, как это делала мама?
У него были свои, нигде не прописанные, правила вознаграждения для девочек, которые получали хорошие отметки, не напивались в хлам и даже помогали ему в его врачебном кабинете (он бы не допустил, если бы я работала где-то еще): я могла ходить в кино с друзьями или моим бойфрендом, но только на фильмы, которые, по его мнению, были достаточно интеллектуальны. Поэтому, если мои пятнадцатилетние друзья хотели посмотреть, например, «Хеллоуин» или «Челюсти-2», я должна была уговорить их пойти на «Охотника на оленей»11 — или не ходить в кино вообще.
Но ведь мама тоже была моим родителем и тоже несла за меня ответственность; была ли она согласна с его методами воспитания? Конечно, он меня не бил, не морил голодом, но все же какого черта она ни разу не сказала ему и слова поперек? Подростком я слишком злилась, чтобы говорить об этом спокойно. Но когда я, заливаясь слезами, кричала: «Почему ты не остановишь его?» — она не хотела, не могла — в общем, не отвечала мне ни слова, несмотря на все мои мольбы. Была ли она на его стороне? Или, может, боялась? Став взрослой и — наконец! — получив физическую возможность побыть с ней, я смогла узнать ответы на свои вопросы.
* * *
Однако даже теперь мне не удалось узнать о ней больше, чем я уже знала, — по крайней мере, не сразу. Иногда она попросту не отвечала, когда я спрашивала ее об отце; иногда давала скупые ответы по электронной почте, короткими предложениями, ничего особенно и не рассказывая, — так мне, во всяком случае, казалось. «Я не могу его контролировать», — отвечала она, когда я спрашивала, почему она позволила ему закатить скандал в День благодарения из-за того, что кто-то взял с тарелки последнюю креветку, хотя на кухне было еще. «Мои слова ничего не решали», — объясняла она. Или: «Если я прошу его прекратить, он только выходит из себя». Все это было и остается правдой, но можно ли игнорировать такое поведение собственного мужа? Его внуки замирали с открытым ртом, а потом начинали шептаться и хихикать (справедливости ради, они считали его забавным).
Почему она ни разу не заступилась? Не поставила ультиматум? Хотя я и сама представить не могу, как бы это выглядело.
Одно могу сказать точно: моя переписка с мамой позволила мне общаться с ней в новом ключе — и это было здорово.
Теперь, если я задавала вопрос о воспитании детей или просила какой-нибудь кулинарный рецепт, она иногда отвечала сама. Она могла рассказать мне о новом ребенке, с которым занималась частным образом, или о посещении музея со своей старинной подругой; она начала самостоятельно выезжать в Нью-Йорк последние десять лет. Она делилась историями о своей семье. Мы говорили о книгах, и никто на второй линии не спрашивал, куда, черт побери, подевался нож для разрезания писем. Маме нравятся почти все романы, если только там никто «особенно» не курит, не пьет, не ругается и не изменяет супругу.
Она начала отслеживать, что публикуется у моих друзей-писателей, и приглашать некоторых из них (так же, как она однажды пригласила меня) на заседания своего книжного клуба, которые она устраивает с подругами. «Мы обожаем твою маму!» — говорили они мне обычно, приезжая к ней домой на салат с яйцом и кофе. На столе — ваза со свежесрезанными гортензиями из сада. Мой отец им тоже нравился, дружелюбный, сыплющий шутками. Он встречал их на автобусной остановке, щедро одаривая своим обаянием и подкупая галантными манерами, к которым прибегал, когда ему это было нужно. Он тоже много читает — и тоже не только одних мужчин-писателей. Среди его любимых книг «Гордость и предубеждение» и «Миддлмарч»12. Обе он оценил в четыре балла.
Но, несмотря на новый виток в развитии наших отношений, мама по-прежнему не хотела заниматься самокопанием или анализировать поведение отца — по отношению к себе, ко мне, к окружающему миру. Во всяком случае, делала она это не так часто или довольно поверхностно. Иногда она смеялась или мягко подшучивала надо мной из-за моих расспросов («О, Кэти, я не знаю!»). И поскольку я поняла, что это ее выбор — не говорить на эти темы (а может, мне просто так и не удалось ее разговорить), — в конце концов я отступила — чуть-чуть. Когда я навещала своих родителей, я старалась не вмешиваться в их отношения, хотя порой это было непросто.
«Прекрати кричать на нее!» — взрывалась я, когда ему сносило крышу, как в случае с той злосчастной креветкой или в другой раз из-за орешков Costco13, к которым кто-то имел неосторожность потянуться, — и он иногда прислушивался ко мне; теперь на этом корабле Женской Солидарности помимо трех взрослых дочерей были еще и четыре взрослые внучки, а также двое кротких внуков, воспитанных матерями-феминистками, вставшими на сторону сестер и кузин. Мы взяли числом. Иногда мне было его даже жалко; еще один белый мужчина, которого #отMeToo’лили14 за его же собственным обеденным столом. В конце концов, если бы не он, ни одной из нас не сидело бы здесь — в этой комнате, за этим столом, да где бы то ни было.
Ведь в целом у нас все замечательно — замечательно! — и не в последнюю очередь благодаря ему. У нас была хорошая жизнь, мы не были друг другу чужими людьми, собирались все вместе пару раз в году — обеспеченная семья, насчитывающая тринадцать или четырнадцать человек… Неплохо после пятидесяти пяти лет. Мое детство, проведенное бок о бок с отцом, было непростым, но я выросла, следуя всем его заветам, и по-прежнему люблю проводить с ним время. Я делаю это не потому, что так я оказываюсь поближе к маме, а потому, что иногда нам хорошо вместе, и я знаю: он тоже этому рад. Отчасти я делаю это и потому, что с годами он не молодеет, а еще — потому, что, как всегда, он очень щедр: дает медицинские советы, водит моих детей по ресторанам, берет с собой на отдых, а теперь уже помогает внукам, оплачивая колледж (конечно, при условии, что они пойдут в те учебные заведения, которые он одобрит: Корнелльский университет был бы идеален, потому что он сам там учился, а вот Университет Брауна15 уже нет, потому что он чересчур «претенциозный»). Он всегда поддерживал все хорошее, что было в моей жизни, — в особенности мою работу, — но ровно так же камня на камне не оставлял от того, что считал неправильным.
Когда-то у моих родителей были темные волосы, потом появилась проседь, а теперь они и вовсе седые. Во время круиза в Хельсинки, Венецию или Джуно16 они раздают листовки с рекламой моей последней книги или хвастаются колонкой, написанной моим мужем для газеты. Я никогда не воспринимала это как нечто само собой разумеющееся.
Уже на следующий день отец мог поставить кого-то в скрытую копию в нашей переписке (хотя я умоляла его этого не делать), отпустить жесткий комментарий в адрес какой-нибудь привлекательной молодой девушки или заявить, что она некрасива… И все начиналось по новой. А моя мама — моя мама, о которой я, собственно, и пишу это эссе (вы видите, что происходит, да?), — моя мама хранила молчание, словно тоже осуждая меня. Осуждала ли она на самом деле? Если да, отлично! Но я хотела это услышать от нее самой.
Чтобы написать это эссе, я решила все выяснить, раз и навсегда. Сейчас моим родителям восемьдесят два и восемьдесят один; они оба здоровы, но ведь никогда не знаешь, сколько еще есть времени, чтобы наконец узнать ответы на вопросы, не дававшие покоя всю жизнь. Я отправила маме электронное письмо, объяснив, что пишу о том, о чем мы с ней никогда не решались поговорить, и спросила, не могла бы она обсудить со мной это. Она согласилась. Мы договорились о времени, когда отец будет в клинике, где он до сих пор по утрам принимает больных несколько раз в неделю. И взяли в руки телефонные трубки.
Мне кажется, мама изменилась за последние двадцать лет, особенно за последнее десятилетие. После упорных трудов в течение первых семидесяти лет ее жизни — воспитания детей, выполнения обязанностей жены, преподавания, ведения бухгалтерии в клинике отца — у нее наконец появилось время, чтобы притормозить и заняться своими делами. Начать посещать женские клубы, книжные клубы, стать членом школьного совета… И это в восемьдесят один год! Она не из тех, кто сидит без дела. Мне даже показалось, что она и сама ждет нашего разговора; по крайней мере, она была не против.
Обменявшись несколькими незначительными фразами, мы перешли сразу к делу.
— Когда вы с папой познакомились, у него был такой же характер, как сейчас? И если нет, то когда ты заметила перемены?
— Он был другим, — ответила она. — И чем сложнее была его жизнь, тем более критичным, более придирчивым он становился. Когда что-то получалось не так, как он хотел, он злился. — Она замолчала. — Но нет, его характер изменился много позже, думаю так, да. Отчасти в этом кроется секрет долголетия нашего брака, Кэти, — я легко забываю обиды. Иногда я страшно злюсь на него, а потом просто забываю. Я никогда не анализировала — да и сейчас этим не занимаюсь — брак или отношения так, как это свойственно вашему поколению. Мы жили в более наивное время — пожалуй, так.
Весьма справедливое замечание, хотя многие выдающиеся мыслители, начиная с Глории Стайнем и Бетти Фридан и заканчивая Жермен Грир и великолепной Вивиан Горник (как раз возраста моей мамы), — представители именно того времени. Лишь у одной из четырех этих женщин были дети — а я убеждена, этот факт в то время многое определял: ваш взгляд на мир, ваши приоритеты, силу, которой вы обладали (если вообще обладали), чтобы оставаться независимой и потому смело говорить, что думаешь.
— А ты согласна, что он тебя сторожил? — спросила я. — Что он закрывал тебя собой от других? От меня, твоих друзей, других членов семьи?
— Совершенно точно. Да он и теперь это делает, сторожит меня — например, от учителей в школе. Наш директор всегда предлагает что-нибудь после занятий, например, пойти вместе в бар или куда-нибудь поужинать. Мне никогда не хотелось в этом участвовать. — В этот момент я невольно отметила про себя, как она переключилась с того, что хотел он, на то, чего хотелось ей, хотя внешне они хотели одного и того же. — В первую очередь, у меня было четверо детей и масса других обязанностей — все эти годы я вела его бухгалтерию, поэтому после ужина я всегда бежала наверх, чтобы записать то, что он мне сказал, или позвонить в страховую компанию по делам пациента.
Она вспоминает, что ее нью-йоркская подруга, которая была разведена, постоянно ей предлагала: «Приходи ночевать ко мне!» И тут же добавляет: «Но я никогда себе такого не позволяла».
Я:
— Почему?
— Ну, думаю, он считал, что я принадлежу только ему. Ты все правильно говоришь. Он был — и остается — человеком требовательным. Он всегда давал мне почувствовать, что моя первейшая обязанность — это он. Наверное, я даже ему в этом потакала в какой-то степени. Я всегда оставляла ему обед на столе, сама ходила в магазин; ему не нужно было ни с чем разбираться, потому что всем занималась я. Он никогда не снял бы квартиру в Нью-Йорке и не бросал меня на столько ночей одну, как это делает Дэн.
Она имеет в виду моего мужа и ту небольшую квартирку, которую мы купили сообща в Нью-Йорке несколько лет назад, когда Дэну нужно было часто ездить туда по работе. Иногда я езжу с ним — у меня там работа, друзья, коллеги, — но бывает и так, что я остаюсь дома в Массачусетсе, с нашими собаками. Мы сами выбрали себе такой образ жизни, и нам обоим это нравится. Почти тридцать лет я сама была лишь женой и матерью — и вот, наконец, получила долгожданное время для себя, сумев сохранить при этом любящую семью. Но мамино восприятие происходящего кажется мне забавным: это Дэн снимает квартиру и проводит время вдали от меня — как будто это было только его решение. Но лучше я не буду даже пытаться объяснить ей наше видение ситуации.
— А что насчет случаев, — продолжаю я, — когда он кричит на нас или не дает тебе слова сказать по телефону? Что ты скажешь об этом?
— Да, что касается телефона, это и правда нехорошо с его стороны, — признаёт она. — Но он искренне полагает, что должен участвовать во всем, что касается меня и детей. Я не согласна с этим, у нас ведь три дочери, я ваша мама, и мне кажется, у меня есть право разговаривать с вами, чтобы он ничего не слышал, но — тут даже пытаться не стоит, его не переубедишь. Если я упомяну при нем какую-нибудь мелочь, о которой ты мне писала, он спросит: «А ты откуда знаешь?» А потом добавит: «Почему ты пишешь Кэти втайне от меня?» Он не любит, когда от него что-нибудь скрывают.
Я соглашаюсь; тоже мне новости. Но мама сказала, что «даже пытаться не стоит» противостоять ему, чтобы иметь возможность пообщаться с собственными дочерями или кем-либо еще; что ей важнее он, а не общение с нами, и точка. Конечно, это было очевидно. Но мне стало легче, когда я услышала это от нее самой, официально.
— А когда он решает, куда вам поехать в отпуск или какой фильм посмотреть? — продолжаю я. — Ты испытываешь облегчение где-то в глубине души? Может, тебе проще, потому что не приходится принимать никаких решений самой?
— Мне проще с ним вообще не спорить, — отвечает она. — Он сложный человек, и, конечно, трудно всегда уступать ему, но проще уступить, чем спорить. Для меня по большому счету все это не так уж и важно.
Я размышляю о ее семье, в частности об отце: маленьком человеке, приятном, дружелюбном мужчине с круглым лицом и светлыми волосами. Он был очень близок с моей мамой, ее двумя братьями и всеми своими внуками. Помню, как, оставаясь ночевать у него, мы с сестрой будили его в пять или шесть утра, чтобы он посмотрел с нами мультики, — дома нам запрещали это делать. И он нам никогда не отказывал. В отличие от бабушки с дедушкой со стороны отца, мамины родители, Мэк и Сильвия, никогда не сердились на нас или на кого бы то ни было. Я такого не видела.
Однажды, когда меня укусил комар, Мэк сказал, что нужно постараться не чесать это место, просто принять это как данность, — ведь чесаться все равно будет. Меня эта мысль просто ошеломила. Он учился на юриста, но, когда умер его отец, не стал открывать свою практику. Вместо этого они с братьями взяли на себя семейную галантерейную лавку, которая обеспечивала все три их семьи в течение долгого времени.
— Ты помнишь свою первую ссору с ним? — спрашиваю я маму.
— Нет.
— А помнишь, когда он в ярости заставил тебя забрать меня со школьных соревнований на глазах у всех, потому что меня не было дома, когда он вернулся к ужину? Тебя это вообще беспокоило?
— Я этого не помню, но уверена, что расстроилась тогда.
Пытаюсь представить себе, как, разговаривая по телефону, мама ходит кругами, протирает кухонный стол, поправляет гигантскую кипу газет и журналов, которые хранит мой отец и не разрешает выбрасывать.
— Конечно, это он диктовал правила, принимал решения, следил за дисциплиной и обеспечивал нас, — говорит мама. — Я просто взяла на себя все то, что должна была, и не задавала вопросов. Мне казалось, у меня нет выбора.
— Может, — делаю предположение я, — в каком-то смысле тебе действительно было проще, потому что нашей дисциплиной занимался он?
— Ну, мне казалось, уж он-то точно знает, как оно должно быть. Я полагалась на него. Я не всегда была согласна с его методами — мне часто казалось, что он слишком строг с вами, его голос был чересчур сердитым. И я говорила ему об этом, но он только отвечал: «О, да я совсем не сердился на них за это». А я говорила: «Но кажется, что ты сердишься, и именно таким тебя люди и воспринимают, вот в чем проблема». — Она замолкает на мгновенье. — Но знаешь, Кэти, он всегда искренне интересовался вашими спортивными достижениями.
И это правда. Когда я была маленькой, отец любил перебрасываться баскетбольным мячом со мной, а позже и с моим братом. Он всегда играл со мной в теннис, сколько бы раз я ни просила, а просила я часто. Он научил меня не сдаваться.
— А еще он невероятно мил с… — Она называет имя одной их общей подруги, чей муж недавно умер. — В прошлые выходные он заехал за ней, и мы втроем отправились ужинать, а потом он отвез ее домой, ей очень это понравилось. Он с большим теплом относится к старым друзьям.
И снова, справедливости ради, так и есть.
— А помнишь ту историю, когда он поругался с гидом в национальном парке?
— Я тогда ужасно разозлилась, — говорит она. — Я чувствовала себя словно в капкане, я была унижена и зла на него. Я поговорила с ним, но он видел это абсолютно по-другому — и до сих пор считает, что все сделал правильно. До сих пор. Одна моя подруга недавно ездила в тот парк, и он ей рассказывал о нашей поездке. Он признал, что вел себя гадко, но, по его мнению, гид заслужила это, так как не предоставила тех услуг, за которые он заплатил, и это давало ему право жаловаться. Он сказал ей [гиду]: «Да пошла ты». Как по мне, это не лучший способ расположить к себе попутчиков. — Пауза. — Но, если честно, я не очень-то хорошо помню все эти мелочи. Если только специально сидеть вспоминать. А еще я уверена, что здоровое отрицание некоторых вещей и помогает мне оставаться в браке.
Я киваю. Я уже заметила, что во многих, если не во всех, браках, которые существуют долгие годы, уживаются прагматизм и немного (здорового?) отрицания.
— А тот день, когда П. [моя дочь] ушла из колледжа после первого курса, — продолжаю я. — Помнишь, как он отреагировал? Могу напомнить.
Наплевав на мнение профессиональных психологов, которые единогласно решили, что ей нужно повременить, прежде чем возвращаться к учебе, он написал гневное, обличающее письмо и ей, и мне, назвав ее избалованной девчонкой и требуя, чтобы она продолжила обучение. «Долго ты еще будешь позволять ей манипулировать тобой?» — кричал он на меня. «Ты когда-нибудь позволишь брату иметь хоть толику родительского внимания?» — кричал он на мою дочь. Как будто П. взяла академический отпуск специально, чтобы стать королевой в нашем доме, — так же, как он был в своем.
— Мне кажется, он хочет, чтобы ты лучше следила за дисциплиной у детей, — отвечает мне мама. — Как он следил за вашей. Он не поддержал тебя, когда твоя дочь решила бросить колледж, но он очень доволен результатом.
Еще бы он не был доволен. Моя дочь пошла работать и в течение года пыталась разобраться со своими проблемами, а потом вернулась к учебе. Недавно окончила колледж с отличием — на год позже остальных, — получив похвальные грамоты, сохранив друзей, приобретя опыт работы, которого бы у нее не было, если бы она не ушла в академический отпуск. Отец присутствовал на церемонии вручения дипломов, он светился от гордости. И снова все вышло так, как ему хотелось.
— А ты? — спрашиваю я маму. — Что ты тогда чувствовала?
— Я волновалась за нее. Ты посчитала, что ей необходимо взять отпуск, и я подумала, что тебе виднее — П. ведь твоя дочь. Мне казалось, ты лучше знаешь, что нужно делать, а нам остается только поддержать твое решение. Уверена, что так я ему тогда и сказала.
А я вот помню, как мама промолчала, хотя кто же знает, что она ему сказала, оставшись с ним наедине?
Я спрашиваю ее о моей самой младшей сестре, Эми, успешном руководителе собственного аналитического центра, где работает тринадцать человек, с которой мой отец тоже постоянно выясняет отношения — мне даже кажется, чаще, чем со мной.
— Он очень гордится Эми и тем, что она делает, — отвечает мама. — Он считает ее очень умной.
У меня вырывается смешок. Умнее меня, конечно же, потому что она получила более высокий балл на экзаменах и таки поступила в Корнелльский университет.
— А еще он считает, что она хорошая жена и мать. По-моему, ему стыдно, когда у него выходят размолвки с Эми, — она замолкает на мгновенье. — Да со всеми! Но ему сложно признать свою вину.
Это правда. Мой отец почти никогда не просит прощения. Единственный случай на моей памяти, когда он сделал это, касался его сына. Отец переживал, что «позволил» моему двадцатилетнему брату переехать в Сан-Диего и окончить школу: именно там и произошел тот несчастный случай. «Если бы только брат был ближе к дому, вероятно, — корил себя отец, — он смог бы его уберечь».
Да, хорошо. Допустим, я не могу себе представить, каково это — потерять ребенка, я вообще не понимаю, как с этим можно жить. Отец имеет право воспринимать случившееся так, как хочет. Но пока я размышляю об этом, мама говорит:
— Сдается мне, Кэти, ты решила перетряхнуть все истории, связанные с отцом. Как по мне, какие-то вещи нужно просто отпустить. Ты, например, постоянно ищешь повода для спора с ним. Да, Эми иногда злится и переходит на повышенные тона, но ведь она, бывает, и спрашивает его мнения о политике и других вещах, — мне кажется, у них очень крепкая связь. Но ты с ним постоянно на ножах.
И ведь не поспоришь, она права — в каком-то смысле даже полезно такое услышать. Но я их первый ребенок и потому больше своих сестер испытала на себе все проявления его нарциссизма и авторитарности. Поэтому вряд ли он дождется от меня каких-либо поблажек.
— Когда он заходит на Facebook под твоим именем, — спрашиваю я, — тебя это вообще беспокоит?
У отца нет своего аккаунта, поэтому он использует мамин. Он активно комментирует то, что пишут ее друзья (среди которых и я), — иногда пытаясь шутить, иногда отвечая довольно резко, не заботясь о том, что это увидят мои друзья и читатели (многих из которых я не знаю лично).
— Но он не подписывается моим именем, — объясняет мама. — Он всегда использует свои инициалы.
Ему все равно, что там висит ее фотография и указано ее имя, или что он иногда забывает свои инициалы, или что лишь немногие из тех, кто видит его комментарии, понимают: Л. Б. Х., а не Б. Ф. Х. в конце поста — его, а не ее инициалы. Однажды я сказала маме: если она не будет контролировать отца, мне придется удалить ее из друзей. Это напугало ее ровно на неделю.
Наконец я спрашиваю:
— А ты его когда-нибудь боялась? Вы когда-нибудь ругались так, что ты была даже готова уйти от него?
— Думаю, такое бывало пару раз, — говорит она, как будто и правда не очень хорошо помнит. — Я очень не люблю, когда он начинает кричать. Но я бы никогда не ушла. У нас ведь одна, общая жизнь. Что бы там ни случалось, мы в итоге всегда находили общий язык. — Пауза. — Да он и не кричит больше.
Смеюсь. Говорят же, что любовь слепа. По-моему, она еще и глуха. Мой отец каким был, таким и остался, — я наблюдаю за ним все эти пятьдесят пять лет. И мама тоже. Я благодарю свою славную, милую маму за то, что она уделила мне время и была так откровенна, и кладу трубку.
* * *
Вот мы и подошли к концу моей истории — эпилогу, если хотите. В 1953 году моя мама встретила мужчину своей мечты, а в 1957-м они поженились. В белом платье с глубоким круглым декольте, двадцатилетняя девушка c зелеными глазами поклялась любить этого мужчину «в горе и в радости, в болезни и в здравии» — пока смерть не разлучит их. Будучи дочерью приятного, любящего отца, верившего, что все превратности судьбы нужно встречать смиренно и с улыбкой на лице, она заключила соглашение длиною в жизнь с человеком, который будет обеспечивать ее и принимать все решения, а она — беспрекословно слушаться его. И этот договор она выполнила.
В свою очередь она получила мужа, который хранит ей верность, постоянно кричит и вопит, выходит из себя, то и дело унижая ее, отчитывая и шлепая детей, но который всю жизнь обеспечивает ее и этих самых детей, обогатил ее жизнь культурно и так же беззаветно полагается на нее, как и она на него. Был ли он жесток по своей натуре или ему просто не хватало душевного такта и сочувствия? А так уж ли это важно? Это всего-навсего слова. Как сказал Эли Визель, чувство, противоположное любви, не ненависть, а безразличие, — уж что-что, а безразличным моего отца точно назвать нельзя. Он всегда был рядом. Постоянно. Порой до смешного близко. И вот после шестидесяти лет, проведенных вместе, в течение которых они вырастили четверых детей и шестерых внуков, сменили множество собак и повидали кучу разных стран, моя мама по-прежнему с ним. Рядом, но чуть позади него. «Какой бы длинной ни выпала нам жизнь, / Я буду любить его, правильно это или нет»17.
Загадка моей мамы разгадана: оказывается, и не было никакой загадки — все дело лишь в моем желании окутать ее жизнь тайной, чтобы она не показалась самой обычной. Как и ее отец когда-то, моя мама спокойно пережидает все превратности судьбы, ничего особенно не анализируя; занимается своими делами, закрывает глаза на какие-то вещи, помогает тем, кому это действительно необходимо, и не позволяет отравлять себе жизнь. В отличие от меня, ей не нужны были — да и сейчас не нужны — ответы на вопросы, которые задает жизнь; она постелила себе постель, когда ей было шестнадцать, и сейчас, шестьдесят пять лет спустя, она по-прежнему спит в ней, пригожая и довольная. Она именно та, за кого себя выдает, и именно такая, какой хочет быть. В большинстве случаев ей нужно ровно столько, сколько у нее уже есть, в других же случаях она смиренно ждет, пока невзгоды пройдут стороной.
Открывая банку червей, отец сказал мне: «Она счастлива. Не заставляй ее сомневаться в этом».
И он прав. Поэтому я больше не беспокою маму своими расспросами. В конце концов, ее история — это ее история: история любви со счастливым, как ей кажется, концом.
А моя история — о любви, да, но также и о прощении, — это моя история.
Тесмофории
Мелисса Фебос
Катодос
Казалось, что от тротуаров на улицах Рима поднимается пар. Стоял июль 2015-го, было душно, и в воздухе висел запах сигарет и выхлопных газов. Я провела на ногах уже двадцать четыре часа, три из которых ждала в аэропорту, когда освободится машина, чтобы взять ее напрокат. В город я въехала под рев клаксонов и грохот мопедов, проносившихся со свистом мимо обгоняемых ими машин. Припарковалась в каком-то сомнительном месте и немного поплутала по переполненным людьми улочкам, пока наконец не нашла свое съемное жилье. Оказавшись в крошечной квартирке, я задернула шторы и забралась в чужую, незнакомую постель, застеленную жесткими белыми простынями. Я разместила на Facebook фотографию своей довольной — Италия! — хоть и уставшей мордашки и мгновенно провалилась в сон.
Через три часа я проснулась от звяканья телефона. Пришло три эсэмэски от мамы. За несколько месяцев до этого она освободила время в рабочем расписании, предупредив пациентов о своем отсутствии и перенеся сеансы психотерапии на другие даты, и купила билет до Неаполя. Через четыре дня я должна буду забрать ее из аэропорта. А уже отсюда мы отправимся вместе в крошечную рыбацкую деревушку на побережье Сорренто, где когда-то родилась ее бабушка и где у меня были уже забронированы другие апартаменты.
Ты в Италии?!
У меня билет только на следующий месяц!
Мелли???
Сквозь затуманенное джетлагом сознание меня как стрелой пронзает страшная догадка. Молясь, чтобы я все же не допустила этой жуткой ошибки, я отчаянно прокручиваю нашу переписку в почте, вглядываясь в даты. Так оно и есть. Когда мы обсуждали нашу поездку, я напечатала неправильный месяц. Через несколько недель мы прислали друг другу подтверждение купленных билетов, и, естественно, ни одна из нас ничего не проверила. От волнения у меня закружилась голова.
Моя паника оказалась сильнее разочарования от того, что наши каникулы, которых мы с таким нетерпением ждали, были испорчены. Она была сильнее, чем сожаление, которое я ощутила, представив себе мамину панику, когда она пыталась дозвониться до меня, пока я спала, или ее неизбежное разочарование. Моя паника была сильнее страха, что мама разозлится на меня. А кто бы не разозлился на ее месте? Но мама никогда не злилась долго.
Представьте себе конструкцию, хрупкую и такую же замысловатую, как пчелиные соты, — конструкцию, которую легко разрушить одним неловким движением, по глупости. Нет, лучше представьте себе подобную конструкцию, которая выдержала уже не один удар, причем некоторые были особенно сильны. Ужас, который я испытала, был вызван не мыслями. Он шел изнутри, это была какая-то телесная логика, какой-то животный страх, который до этого тщательно отслеживал и собирал в копилку все мои ошибки. Согласно этой логике, чье-то сердце можно разбить лишь определенное количество раз, после чего оно окончательно затвердеет.
В первый год мы были только вдвоем. Моя мама, которая сама росла очень одиноким ребенком, хотела дочку. И родилась я. Это была первая история, которая, как я поняла, будет моей. Мое имя, Мелисса, означает «медовая пчела» — так звали жриц Деметры. Мелисса происходит от meli, что означает «мед», как Мелиндия или Мелинойя, — все это псевдонимы Персефоны. Всем нам известна эта история: Аид, бог подземного царства, влюбляется в Персефону и крадет ее. Ее мать Деметра, богиня плодородия, сходит с ума от горя. Пока она неустанно ищет свою дочь, земля не плодоносит, ростки не всходят на засеянных полях. Послушав увещевания Деметры и голодающих людей, Зевс приказывает Аиду вернуть Персефону. Тот повинуется, но уговаривает Персефону съесть три зернышка граната18, и это означает, что ей придется возвращаться к Аиду и проводить с ним три месяца в году, то есть зиму.
Я не знаю, каково это, когда твое тело дает жизнь другому человеку. Может, я никогда этого и не узнаю. Хотя я помню, каково это — быть дочерью дочери. Сначала между нашими телами не было дистанции, а потом она появилась. Мама кормила меня грудью, пока мне не исполнилось два года; к тому моменту я уже говорила целыми предложениями. Когда я подросла, она кормила меня бананами и кефиром, иногда мне до сих пор хочется этого резкого вкуса. Она пела мне песни, и я засыпала на ее груди, покрытой веснушками. Она мне читала книжки, готовила еду и повсюду брала меня с собой.
Она очень сильно любила меня — это был настоящий подарок. Я чувствовала себя в полной безопасности. Дети с самого начала запрограммированы получать такую любовь, но не все родители запрограммированы ее давать. У нее это было. Но не у моего первого отца, поэтому она и ушла от него. Поначалу мы жили с ее мамой, а потом в доме, в котором было множество женщин, решивших жить без мужчин. Но однажды на пляже мы нашли нашего капитана дальнего плавания, бренчащего на гитаре, моего настоящего отца. С того самого дня, как они познакомились, он никогда не общался ни с одной из нас отдельно от другой. Сегодня же, когда мы с ним видимся, буквально первое, что он мне всегда говорит: «Погоди! Ты только что была так похожа на маму!»
Они оба обожают вспоминать то время, когда я была ребенком. Пухленьким, счастливым ребенком, который все время болтал. «Ты была такой хорошенькой, — умиляются они. — Но за тобой был нужен глаз да глаз: ты могла уйти с первым встречным».
Когда он уходил в море, мы снова оставались вдвоем. А когда родился мой брат, именно мне она поверяла все свои печали, рассказывая, как ей тяжело от того, что он ушел. Ее слезы, холодком отпечатываясь на моих щеках, пахли, как морские брызги. И точно так же, как родители обожали меня, я души не чаяла в своем брате, нашем малыше.
После того как мои родители разошлись, они попытались свить некое подобие гнезда: дети оставались в одном месте, а мама с папой сменяли друг друга, то приезжая, то уезжая. В первый раз, когда мой отец вернулся из плавания, а мама перебралась в комнатенку, которую снимала на другом конце города, я скучала по ней так сильно, что заболела. У меня было такое ощущение, что меня оторвали от нее «с мясом», моя «отдельность» от нее превратилась в дистиллят — тоска по маме стала болезненным наваждением. Все мои игрушки потеряли для меня свою привлекательность. Меня не могла отвлечь ни одна история. Но чтобы хоть немного пожалеть отца, чье сердце тоже было разбито, я старалась скрывать свое отчаяние. Я втайне звонила маме и шептала в трубку: «Забери меня к себе». Ведь до этого мы никогда не разлучались. До этого я даже не понимала, что она и была моим домом.
Мой день рождения выпадает на четвертый месяц древнегреческого календаря, месяц, когда была похищена Персефона, месяц, когда отчаяние Деметры достигло такого апогея, что земля перестала плодоносить. Именно в это время все женщины, живущие в Афинах, устраивали Тесмофории — трехдневный фестиваль плодородия, на который не допускались мужчины. Они совершали погребение жертв — часто это были забитые свиньи — и выкапывали то, что было закопано в прошлом году, помещали останки на алтарь и делали подношения богиням, а затем рассеивали все это вместе с новыми семенами в полях.
Когда в тринадцать лет у меня началась менструация, мама решила устроить вечеринку в мою честь. «Совсем небольшую, соберемся женским кругом», — сказала она. Но было слишком поздно. Меня переполняло нечто большее, чем наступление половой зрелости, гормональный всплеск, окончание детства или оргазм, до которого я себя доводила, мастурбируя каждую ночь. Эти перемены меня не пугали. Мама научила меня относиться к ним с уважением. Однако были вещи, к которым она меня не подготовила, не могла подготовить. Последствия этого были невероятны. Поэтому я бы лучше умерла, чем согласилась праздновать с ней такие вещи.
Иногда бывает очень больно, когда тебя так сильно любят. Порой это даже невыносимо. Поэтому мне пришлось отказаться от мамы и ее любви.
У психологов найдется множество объяснений на этот счет. И у философов. Я много читала об отделении, обособлении и индивидуализации. Это самая естественная форма разрыва, говорят они, и это всегда больно. Особенно в случае матери и дочери. По мнению специалистов, чем ближе мать с дочерью, тем сложнее дочери отделиться. Что-то, конечно, в этом есть, хотя я и не ищу никакого разрешения, подробнейшего объяснения или подтверждения того, что наш разрыв прошел как надо. Во всяком случае, мне нужно не только это. Мне нужно понять еще кое-что. А для этого мне нужно рассказать нашу историю.
Представим себе: у меня есть любимый человек. Мы провели вместе двенадцать лет, полных нерушимой, полновесной близости. Это нежные отношения, в которых весь груз ответственности и заботы лежит полностью на мне одной. При этом у меня есть и другие обязанности. Я провожу параллель с Деметрой. Именно она отвечает за плодородие земли, кормит людей, следит за круговоротом жизни и смерти. А спустя двенадцать лет мой любимый человек отказывается от меня. Нет, он не уходит. Он не перестает зависеть от меня — я по-прежнему должна одевать и кормить его, сопровождать в течение дня, следить за здоровьем и время от времени утешать. Но он все чаще и чаще отказывается принимать мою нежность. Он практически изгоняет меня из своего внутреннего мира. Он в бешенстве. Видно, что ему больно, возможно даже, он чувствует опасность. Я делаю шаг в его направлении, а он отступает на шаг назад.
Аналогия, конечно, очень приблизительная. Я прибегла к ней, потому что существует много историй, которые придают смысл романтическим отношениям, сексуальным отношениям, браку, но нет таких, которые бы адекватно и в полной мере отражали ту боль, которую ощутила моя мама от нашего разрыва. Единственное, что мне приходит в голову, — это такие вот истории и те виды любви, что я познала. Ведь стиль отношений, которые складываются в более зрелом возрасте, уходит корнями в те, первые отношения. Я много раз испытывала шок, потому что любимый человек был мне больше не доступен; и не важно, кто от кого уходил. В любом случае это ощущается как преступление против природы. Продолжать жить в присутствии этого человека было бы настоящей пыткой. Должно быть, так же это воспринимала и мама. Должно быть, так же себя почувствовала и Деметра, когда увидела, как Персефону увозят от нее в черной колеснице и как земля разверзлась, чтобы поглотить ее.
Нестейа
Ту субботу я провела в библиотеке с Трейси. Во всяком случае, так я сказала маме. Когда я села в тот вечер в свою машину, солнце уже наполовину закатилось за горизонт. Весеннее послеполуденное тепло сменилось прохладой, ветерок, дувший из ближайшей гавани, приносил мягкий перезвон буев с колоколом. Я скользнула на пассажирское сиденье, пристегнула ремень и помахала Трейси. Она развернулась, чтобы идти домой. Мы с мамой смотрели, как она удаляется и как ветер треплет низ ее футболки. Она шла с такой прямой спиной! Она и правда была похожа на робота походкой, как ранее заметил Джош, нащупывая рукой мои трусики и горячо дыша мне в шею.
Мама пристально посмотрела на меня.
— От тебя пахнет сексом, Мелисса, — сказала мама. В ее голосе не было ни недовольства, ни удивления, ни жестокости. Только усталость. В нем слышалась просьба. Пожалуйста, как бы говорил он, не ври мне. Я ведь все равно все знаю. Давай разделим это знание.
Выдать шок от чувства унижения и смущения за шок возмущения было несложно. Я ведь уже делала так раньше, и мы обе это знали.
— Я никогда не занималась сексом, — сказала я, веря в это.
Мама включила первую передачу и свернула к выезду с парковки.
— Секс — это не просто совокупление, — сказала она. Домой мы ехали молча.
Я не помню, состоялся ли у нас в тот вечер разговор о доверии. У нас их было уже столько, мама постоянно пыталась вернуть былое понимание, перебросить хоть какое-то подобие мостика между нами.
«Если доверие пошатнулось, — объясняла мама, — то его нужно восстановить». Но святость нашего доверия утратила для меня свой смысл, пошатнувшееся доверие стало означать только потерю мною определенных свобод. И это не сработало. Конечно, мама не хотела лишать меня моей свободы; она хотела, чтобы я вернулась к ней. И я, скорее всего, это понимала. Но если ей не нравилась та дистанция, которую создавало между нами мое вранье, то еще меньше ей понравилось мое молчание, приступы дурного настроения и хлопанье дверями. Конечно, победа осталась за мной. У каждой из нас было то, в чем нуждалась другая, но только я была настроена твердо и непреклонно.
Сколько раз у нее была возможность назвать меня лгуньей, сколько раз она догадывалась, что я лгу? Но я была неумолима в своем отказе признавать то, что было прекрасно известно нам обеим. Я оставалась ночевать у подруг, и их старшие братья зажимали меня в кладовках или обнаруживали среди ночи на кухне со стаканом воды. Вместе с маминым другом, который торговал наркотиками, я ездила на встречи с клиентами. Я тайком проводила мальчиков к нам в дом или встречалась с ними за кинотеатром. Взрослые мужики тискали меня на своих задних дворах и в подвалах, на палубах и в дверных проемах, и она ничего не могла с этим поделать.
Сюжет «Похищение Прозерпины»19 в своем творчестве эксплуатировали многие художники на протяжении многих столетий. В большинстве случаев Персефона извивается в мускулистых руках Аида, пытаясь высвободить свое мягкое тело из его сильных объятий. В знаменитой барочной скульптуре Джованни Бернини пальцы Аида впиваются в ее бедра, белый мрамор неотличим от человеческой плоти. Одной рукой она отталкивает его лицо — движение, которое напоминает поведение жертвы во время изнасилования20. В некоторых художественных изображениях это видно отчетливее, в некоторых менее явно. На картине кисти Рембрандта видно, как Аид, стоя на колеснице, которая погружается в грозную морскую пучину, держит Персефону на бедре, а океаниды цепляются за шелковую накидку девушки, прикрывающую его чресла.
Мама, конечно же, боялась, что меня изнасилуют. Но сознательно шла на эту опасность. Сейчас, по зрелом размышлении, я даже удивлена, что этого не произошло. Может, потому, что я сама боялась этого не меньше ее. Или потому что добровольно отдавалась тем, кто мог бы меня принудить.
Должно быть, она и воспринимала это как похищение, как будто кто-то украл дочь, заменив ее менадой. Я предпочла уйти от нее, лгать, ходить по таким местам, где мужчины с мощными бедрами могут положить на меня свои руки, но я все еще была ребенком. А кто же тогда был мой похититель? Можно ли назвать его Аидом? Ведь я испытывала к нему влечение, затуманившее мое сознание и вытравившее из моей головы мысли о чем-либо еще. Конечно, я боялась, но я последовала за ним. Может, это и было самое страшное.
Согласно свадебным обычаям Спарты, повсеместно принятым в Греции, жених должен был схватить свою извивающуюся невесту и «украсть» ее, увезя на своей колеснице, — похоже на похищение Прозерпины.
Всем нам знакома пикантность любви, случившейся поневоле. А что мне подсказывало сердце? Моя двойственность терзала меня, но одновременно с этим и пленяла. Эрос, тот моторчик, который завелся вдруг во мне, — он и увез меня из родного дома во тьму. Я знала, что все это очень опасно. Но я не могла отделить страх от желания — и то и то возбуждало мое тело, которое я тоже совсем не знала. Ведь это удел дочерей — уезжать от матерей, бродить в темноте в поисках мужских выпуклостей, а потом им отчаянно сопротивляться. Должно быть, моя мама была к этому готова, но надеялась, что ее минует чаша сия.
Но не была ли моя мама одновременно и моим любимым человеком, и моим пленителем? Может, это от ее объятий я с таким остервенением пыталась освободиться? Как и у спартанской невесты, мое сердце было бы разбито, если бы она меня действительно отпустила. Ведь дочь в первую очередь обвенчана с собственной матерью. В своем гимне «К Деметре» Гомер говорит, что «Девять скиталася дней непрерывно Део пречестная / С факелом в каждой руке, обходя всю широкую землю»21. После этого богиня принимает человеческое обличье и берет на себя опеку над элевсинским мальчиком, которого пытается сделать бессмертным, однако у нее ничего не выходит.
Моя мама стала психотерапевтом. Она приняла в свою жизнь длинноволосого блондина, падкого до женщин, который нежно заботился о нас, пока мама ездила на рейсовом автобусе в город и обратно, поставив себе на колени текстовый процессор22. Работа психотерапевта и заключается в том, чтобы понимать такого рода вещи. Работа терапевта вообще не сильно отличается от того, что в принципе делает любая мать, при том что таит в себе меньше опасностей. Ведь это сотрудничество и забота, но в то же время не симбиоз. У этих двух видов деятельности разные потребности. Ее пациенты могли быть теми элевсинскими детьми, которых никогда не сделать бессмертными; тем не менее она помогала им, а мне помочь было невозможно.
Когда я сообщила ей за несколько месяцев до своего семнадцатилетия, что уезжаю, она не попыталась остановить меня. Я знала: она не хочет, чтобы я уезжала. «Может, мне нужно было попытаться задержать тебя тогда, — говорила она мне с тех пор неоднократно. — Но в тот момент я испугалась, что могу потерять тебя навсегда».
Пытаюсь вспомнить. Я чувствовала между нами напряжение, которое могло в любой момент лопнуть. Но к тому моменту, как я съехала от нее, я немного смягчилась. Уехала бы я, если бы она тогда стала возражать? Думаю, что нет, хотя, возможно, это я сейчас так думаю, вспоминая себя молодой девушкой. Так или иначе, я бы все равно нашла подземное царство, в которое и спустилась.
Аид согласился вернуть Персефону матери. Вмешался Зевс, и Аиду пришлось сдаться, но при одном условии: если Персефона хоть раз съест что-нибудь, находясь в его царстве, она будет вынуждена проводить с ним половину года. Знала ли Персефона об этом? И да и нет. Согласно некоторым версиям, она считала себя достаточно умной, чтобы суметь ускользнуть от него: съесть что-нибудь, но все равно вернуться домой. В этом мифе очень много пробелов, повторов и изменений, многие из которых не укладываются в хронологические рамки. Миф — это воспоминание об истории, которая прошла сквозь время. Как и любое воспоминание, он претерпевает изменения. Иногда умышленно, иногда по необходимости; бывает, что-то забывается, а иногда так происходит и по эстетическим соображениям.
Рубиновые зернышки граната так и манили своей сладостью. И во всех существующих версиях этой истории Персефона их попробовала.
Начинала я не с героина. Начинала я с метамфетамина, хотя мы называли его «кристаллом» — просто звучит симпатичнее, если представить себе все эти подожженные кусочки фольги, которые повсюду валялись в нашей квартире, и вспомнить запах, витавший в воздухе: как будто забыли выключить работающую духовку.
Представьте себе первые месяцы Персефоны в аду. Ее звонки домой. «Извини, давно не звонила. Была занята уроками. У меня тут появились такие чудесные друзья».
Моя ложь была наполовину правдой. Я действительно ходила на занятия. У меня была работа, я делала домашние задания, у меня даже был матрас в кладовой, пахнущий кошачьей мочой, который обходился мне в сто пятьдесят долларов в месяц. Конечно, мама бы заплатила за меня. И тем самым купила бы себе право хотя бы отчасти знать правду.
Когда я ездила на том же самом рейсовом автобусе домой, где меня ждал горячий домашний обед и где я видела беззаботную страну моего детства, в которой жизнь била ключом, это было все равно что подняться из подземного царства на свет божий.
Мне так этого не хватало. Но вместе с тем я не могла дождаться момента, когда смогу уехать. Во мне что-то свербело — как неотступное желание, как голод, как определенные проявления любви.
Предположим, что Персефона любила Аида. Неужели это так уж невозможно? Мы часто испытываем любовь к тем, кто нас похищает. Мы часто боимся тех, кого любим. Мне кажется, я бы нашла выход, если бы была привязана к человеку половину своей жизни. Нет, половину бесконечности. Ведь она была бессмертной.
Но даже если бы ей удалось умереть, она все равно не спаслась бы от него.
Было Рождество или День благодарения. Мы с мамой и братом взялись за руки, сидя за столом, горячий ужин оказался внутри этого импровизированного круга. Мы крепко сжали ладони друг друга. Вот она, наша маленькая триада, которая так огорчалась из-за отсутствия отца и в то же время старалась казаться такой сильной. Мы так неистово любили друг друга, но все равно не могли не огорчаться. После того как посуда была вымыта, мама села на диван и улыбнулась нам. Она была так счастлива видеть меня дома.
— Может, нам поиграть во что-нибудь? Посмотреть кино?
— Мне нужно будет взять твою машину, — сказала я.
Мне больно даже вспоминать ее лицо в этот момент. Как будто я скомкала ее сердце и выбросила вон.
— А куда тебе так нужно сегодня?
Я уже не помню, что тогда ответила, помню только, что она меня все же отпустила и как мне самой было больно уезжать от них. Когда я закрыла за собой входную дверь, внутри меня что-то надорвалось, как бывает с тканью, которую плохо заштопали. Я поспешно закурила в кромешной тьме и свернула с нашей дороги на шоссе. Мне кажется, именно так чувствует себя мужчина, который уезжает от семьи к любовнице. Я себя чувствовала вот таким вот горе-отцом, горе-мужем. Может, каждая дочь так себя ощущает. Или только те, чьи отцы их бросили.
Я не стала ей рассказывать, что прекратила ширяться, что бросила вообще все. Она и не знала никогда, что я начинала. Она знала только то, что видела, но и этого было вполне достаточно. Нельзя приползти к маме из ада и не выглядеть паршиво. Если бы я ей сказала, из-за чего ей больше не стоит переживать, мне бы пришлось ей рассказать, из-за чего она должна была переживать. Тогда бы мне пришлось покончить со всем раз и навсегда. Что, если бы Персефона рассказала маме не только о том, что случилось в аду, но и о том, что она, возможно, вернется туда навсегда? Какая дочь такое сделает? Кроме того, с Аидом было связано гораздо больше всего, не только героин.
Когда я уже год как была доминатрикс, мама приехала навестить меня в Нью-Йорке. Она знала о моей работе. Это было феминистское занятие, никакого секса. По сути, чистой воды активизм. Или, скорее, актерствование. Как часто бывало и раньше, она не стала испытывать мои нервы. Однажды вечером, когда мы собирались пойти куда-нибудь поужинать, она заметила дилдо и кожаные ремни, висевшие на двери в спальне. Не уверена, что хотела, чтобы она их увидела; просто я действительно не придавала этому большого значения.
— Я знаю, что они заставляют тебя делать этой штукой, — сказала мама с бравадой в голосе.
Я ничего не ответила. Чтобы сейчас мне не было так больно, я думаю, что могла бы легко использовать все это для собственных нужд всего несколькими годами позже. Было бы неловко, но гораздо менее болезненно. Но в тот момент все происходило не «несколькими годами позже» и все это было не «для собственных нужд». Она правда знала, что меня «заставляли» делать? Даже думать не хочу о том, откуда ей это известно.
Не то чтобы мы никогда не говорили о сексе. Иногда говорили. Не говорили мы о том, о чем не хотела говорить я. О тех сторонах моей личности, которые она могла бы счесть трудными для понимания. Которые она бы не одобрила, или которые могли бы причинить ей боль, или те, для которых я не могла найти слов. «Он не такой уж и плохой, — могла бы сказать Персефона. — Сложно объяснить. Здесь, внизу, свой отдельный мир. Это наполовину мой дом». Хотя я прекрасно понимаю, почему бы она так не сказала.
Был какой-то другой праздник. После ужина все мы разлеглись на диване, сытые и довольные.
— Мне нужно будет взять твою машину, — сказала я.
Умоляющий взгляд ее красивых, грустных глаз.
— А куда тебе так нужно сегодня?
Я сделала глубокий вдох.
— У меня встреча, — ответила я. А потом мне пришлось дать объяснение. — Все плохо, — сказала я.
Она хотела знать, насколько плохо, или думала, что хотела.
— Плохо, — только и ответила я.
Я ей рассказала самую малость, но все равно ей было больно это слышать.
— Теперь мне понятно, — сказала она. На ее лице читалась усталость. Мне хотелось, чтобы ничего этого никогда не было.
Сколько можно рассказать тому, кто тебя так сильно любит и кого ты хочешь защитить? Разве будет хуже, если он узнает обо всем позже, когда я буду уже в безопасности? Я ненавидела, когда мама начинала копаться в прошлом, пытаясь собрать пазл из моих недомолвок и умалчиваний. Ложь выставляет тех, кого мы любим, в глупом свете. Это такое осторожное уравнение, защищающее их ценой нашего предательства. Все равно что снова заложить дом, чтобы заплатить за машину. Кроме того, ложью я всегда защищала и себя. Было что-то такое, во что я бы больше не смогла верить, если бы мне пришлось рассказать об этом вслух. Я могла рассказать маме всю правду, только когда сталкивалась с ней лицом к лицу, смотрела в глаза.
Спустя три года я отправила ей книгу, которую написала.
— Позвони мне, только когда прочтешь все до конца, — сказала я. В книге я описывала все то, о чем не рассказывала маме: о героине и о тех сторонах моей профессии, которые не были похожи на феминистский активизм и актерствование. «Не спеши, когда будешь читать», — сказала я, надеясь, что она будет читать достаточно долго, чтобы не хотеть поговорить со мной о том, каково это — читать об этом.
Она согласилась.
Телефон зазвонил на следующее же утро в 7:00.
— Мама? Ты же должна была дочитать книгу до конца, прежде чем звонить.
— Я дочитала.
— Правда?
— Я не могла остановиться. Я то откладывала ее и выключала свет, то опять включала и продолжала читать.
— Почему?
— Мне нужно было знать, что у тебя все будет хорошо.
— Это было самое тяжелое, что она когда-либо читала, — сказала мама. — И это шедевр, — добавила она.
В последующие годы она порой передавала мне неловкие комментарии коллег, которые они отпускали по поводу книги, рассказывала, как ей приходится объяснять мое прошлое и как она не находит для этого слов.
— У меня ведь есть свой опыт подобного толка, — сказала она однажды. Она, конечно, имела в виду, что ей тоже бывало тяжело в жизни. Проживать жизнь и рассказывать об этом. Я предпочла письменно рассказать миру о том, о чем не могла говорить. Я заставила себя рассказать об этих вещах, хотя я едва ли могла обсуждать их с мамой. Мой выбор открыл эти вещи ей и одновременно вынудил ее к разговору с миром. Но что было еще более несправедливо — я ничего не хотела об этом знать. Мне была ненавистна сама мысль об этом.
Прошло десять лет. У меня была любовница, которая засыпала меня подарками, делала красивые жесты. Она хотела, чтобы я была постоянно сконцентрирована на ней. И когда я думала только о ней, она меня вознаграждала. Если я отвлекалась, она меня наказывала, в основном тем, что отстранялась от меня. В таких случаях я ощущала обособление, как в детстве, и это вызывало у меня тоску. Это была пытка. Замкнутый круг, на который я давала добровольное согласие.
Когда я впервые привела свою любовницу домой, она даже не смотрела на мою мать. Она смотрела только на меня. За ужином она отвечала на вопросы, которые ей задавали, но сама ничего не спрашивала. Ее глаза постоянно искали мои, как будто стерегли меня. Мне было сложно смотреть куда-либо еще.
— Она так сфокусирована на тебе, — заметила мама. — Это как-то странно.
Моя любовница принесла маме подарок — ожерелье, сделанное из лавандовых бусин, гладких, как внутренняя сторона ракушки. Уже в спальне она вытащила из чемодана коробочку и протянула ее мне.
— Передай это ей, — попросила она.
— Но это же твой подарок, — ответила я.
— Будет лучше, если ты отдашь его ей, — сказала она.
Я была уверена, что маме это тоже покажется странным. Таким же странным, как и то, что моя любовница постоянно смотрит на меня. Как и то, что ей необходимо проводить со мной львиную долю нашего и без того короткого визита.
— Мы отдадим его ей вместе, — предложила я.
У меня был соблазн в течение нескольких месяцев после того, как я ушла от своей любовницы, интерпретировать ее поведение как чувство вины. Но не думаю, что она анализировала свое поведение достаточно, чтобы чувствовать себя виноватой перед моей мамой. Скорее даже она воспринимала мою маму как конкурентку. Подозреваю, она боялась, что мама увидит в ней то, чего я еще не разглядела. Собственно, так оно и произошло. Тем не менее я любила эту женщину два года. Два года, в течение которых я почти совсем отдалилась от мамы. Как и моя любимая, я отказалась смотреть на маму. Я закрывала глаза на то, что видела она.
Пару раз я звонила маме, всхлипывала в трубку. Я делала так и раньше, еще когда сидела на героине.
— Ты считаешь меня хорошим человеком? — спрашивала я.
— Конечно.
Я чувствовала, как сильно ей хотелось помочь мне. Я вешала трубку. Мне так ее не хватало, это было невыносимо.
В то утро, когда я наконец приняла решение уйти от своей любовницы, я позвонила маме. На этот раз я не стала ждать три года, чтобы написать книгу и отправить ее ей.
— Я ухожу от нее, — заявила я. — Все было намного хуже, чем я тебе рассказывала.
— Насколько хуже? — спросила мама. — Почему ты мне раньше не сказала?
— Не знаю, — ответила я, всхлипывая. — Что, если бы я сказала тебе, что ухожу от нее, а потом не ушла?
Мама помолчала мгновение.
— Ты что, думаешь, я бы на тебя из-за этого обиделась?
И тут я разревелась по-настоящему, закрыв глаза ладонью.
— Послушай меня, — сказала она, и я почувствовала твердые нотки в ее голосе. — Ты никогда меня не потеряешь. Я буду любить тебя каждый день твоей жизни. Ты не можешь сделать ничего такого, что бы заставило меня разлюбить тебя.
Я ничего не ответила.
— Ты меня слышишь?
Каллигенейа
Когда я прислала маме свою вторую книгу, мы несколько часов проговорили по телефону. Я объяснила, каким образом мое писательство создавало некое пространство, в котором я могла заглянуть в потаенные уголки своей души, поговорить с собой. Она в свою очередь объяснила мне, что именно это и является основой ее терапевтического метода. Мы и раньше говорили об этом, но никогда так откровенно.
Спустя несколько месяцев мы стояли перед кабинетом, в котором собрались психотерапевты. Дело было на конференции, на которую мама ездит ежегодно. Она начала свой мастер-класс с того, что объяснила метод, который в основном применяет в своей практике и во время путешествий по всему миру, когда обучает других врачей. Было невозможно отвести от нее глаз. Она была такой милой, веселой, харизматичной — настоящий профессионал. Становилось понятно, почему наш почтовый ящик забит открытками с выражением искренней благодарности от пациентов, которых она перестала вести несколько десятилетий назад. Когда она закончила, встала я. И заговорила о том, как писательство помогает мне справляться с наиболее болезненными моментами прошлого и находить смысл и возможность исцеления. Потом я попросила всех взять ручки и сделать одно упражнение, которое иллюстрировало мои слова и было основано на терапевтическом методе моей матери. Все врачи кинулись что-то писать в своих блокнотах, а потом я попросила нескольких из них поделиться с нами тем, что они придумали. Пока они читали, вся группа согласно кивала и улыбалась. Несколько человек заплакали. Люди подходили к нам все выходные, чтобы пожать нам руку и поблагодарить за нашу совместную работу.
Все были восхищены нашим чудесным сотрудничеством.
— Как это необычно, — говорили они. — А чья это была идея?
— Ее, — отвечала я.
У истории Деметры есть и более старая версия. Поскольку воспоминания о событии изменяются при каждом последующем пересказе, само событие изменяется безвозвратно с каждым завоевателем, каждым колонизатором, каждой ассимиляцией одного народа другим. Эта версия существовала еще до греческой и римской, которые нам так хорошо известны, и, как считается, была частью мифологической системы — в центре которой находится мать — и общества, чьи ценности эта система отражала.
Не было никакого насилия, никакого похищения. Мать, богиня, отвечавшая за круговорот жизни и смерти, могла свободно перемещаться между подземным царством и земным, помогая умершим перейти из одного мира в другой. Ее дочь, согласно некоторым версиям, была просто юным воплощением той же самой богини, наделенным теми же силами. Согласно другим источникам, Фезефатта издревле была именно богиней подземного мира.
Меня раньше пугало то, что вещи, которых не понимала мама, казались мне привлекательными. Думаю, мы обе боялись этой разницы, существовавшей между нами. Пытаясь скрыть ее от мамы, я часто создавала именно то, чего бы хотела избежать. Не то чтобы мне следовало рассказывать ей все — это было бы само по себе жестоко. Хотя, конечно, я могла бы больше доверять маме.
Та, более ранняя версия нашей истории, та, с которой я прожила всю свою жизнь, та, большую часть которой я рассказала на страницах этой книги, тоже имеет право на существование: я причинила боль себе и причиняла ее маме, снова и снова. Но, как и в случае со старым мифом, тут тоже есть еще одна версия, более мудрая.
Дело не в том, что Персефоне все же удастся вернуться домой. Она и так уже дома. Миф объясняет смену времен года, круговорот жизни. То время, что Персефона проводила в темноте, было не ошибкой природы, а ее законом. Со временем я начала так же воспринимать и свои обстоятельства. Как и у Персефоны, моя темнота стала моей работой на этой земле. Я постоянно возвращаюсь к маме, снова и снова, и оба царства, выходит, являются моим домом. Тут нет Аида, похитителя. Есть только я. Там, в подземном царстве, нет ничего такого, чего бы я отчасти не обнаружила в себе. И я рада, что наконец поняла: мне не нужно скрывать это от нее. Вероятность того, что темнота убьет меня, теперь менее вероятна, чем когда-либо. И это помогает.
Я могу быть частью обеих историй. Ведь в одной найдется место для другой. Вспомним, во-первых, жертву, приносимую в первый день Тесмофорий, в Катодос, ее ритуальную жестокость. Во-вторых, жертву, приносимую на третий день, Каллигенейа, рассыпанную по полям. Жертва становится урожаем. Все мои жестокие поступки можно рассмотреть с этой точки зрения: спуск, восхождение, высеивание. Мы сеем свои жертвы — и каждая может дать всходы.
Пока за окном моей крошечной квартирки в Риме с шумом проносились автомобили, я сидела, уставившись на свой телефон, и у меня подступало к горлу от ужаса. Я понимала, что могу сейчас выкинуть коту под хвост всю поездку, каждый день ругая себя за ошибку. Но я не должна была так поступать. Та часть меня, которая боялась, что наша с мамой связь окажется слишком хрупкой, чтобы выдержать этот удар, была новой частью меня. И мне нужно было рассказать маме эту новую историю. Мне нужно было сказать ей, что я верю тем ее словам. Я не могу сделать ничего такого, что бы заставило маму разлюбить меня. Я пообещала ей. И набрала ее номер.
Конечно, она пришла в бешенство, она была разочарована, но уже к концу нашего разговора мы обе смеялись.
Спустя несколько дней я позвонила маме из городка, в котором когда-то родилась ее бабушка.
— Тебе здесь понравится, — сказала я.
Существует разница между страхом расстроить кого-то, кто любит тебя, и опасностью потерять этого человека. Я долгое время не могла отличить одно от другого. Мне потребовалось много времени и усилий, чтобы разглядеть разницу между причинением боли тем, кого я люблю, и моим страхом того, что я могу потерять. Причинение боли тем, кого мы любим, можно пережить. Эта боль неизбежна. И я сожалела о том, сколько ее причинила в прошлом, но была уверена: маму я бы никогда не потеряла.
Через год я забрала ее в аэропорту Неаполя, и мы поехали вдоль побережья к тому городку. Мы две недели объедались свежими помидорами и моцареллой и ходили по тем улицам, по которым когда-то ходила ее бабушка. Я прокатила нас по всему Амальфитанскому побережью и лишь однажды немного поцарапала арендованное авто.
Пока я вела машину, мама, подняв телефон повыше, снимала невероятно голубую воду, покрытую мелкой рябью, отвесные склоны, кружащих в небе птиц, которые, казалось, преследуют нас, и крошечные деревушки, прилепившиеся на склонах. Было страшно и одновременно дух захватывало от красоты — обожаю такие поездки.
Вернувшись домой, я просмотрела сделанные фотографии и удалила повторяющиеся кадры. Я с улыбкой разглядывала наши счастливые лица. Когда я добралась до видео и просмотрела его, то увидела мамину ногу в босоножке — широкую и крепкую, как и у меня, — на полу в арендованном «Фиате», грязном от песка. Я услышала наши голоса, звучащие удивительно четко: мы комментировали пейзаж. Я вдруг поняла, что мама все это время держала камеру вверх ногами. Подавив невольный смешок, я продолжила смотреть: мама убрала ногу, пока мы отпускали ремарки по поводу проезжавшего мимо автобуса. Я закрыла глаза и стала просто слушать, о чем мы тогда так оживленно болтали, перескакивая с одного на другое, как мы вскрикивали, когда мимо на крутых поворотах проносились мопеды, и как то и дело заливисто смеялись, снова и снова.
Ксанаду
Александр Чи
Нам разрешили посидеть в комнате одним и записать показания на пленку, потому что мы были несовершеннолетними. Пока я ждал в приемной вместе с остальными ребятами, мой друг произнес, пожав плечами:
— Я позволил ему сделать мне минет. — Сказав это, он откинулся назад и вытянул руки. — В общем, я в порядке. Мне не было больно.
Я кивнул и попытался вспомнить, какие ощущения испытывал сам.
Нам было по пятнадцать, почти шестнадцать. Мы оба в течение нескольких лет пели в одном юношеском хоре и оба только что ушли из него, так как голоса стали ломаться. Многим мальчикам из хора пришлось поменять школу, как только информация просочилась в прессу. Я даже знал, что к нам, жертвам, относились так, словно мы тоже были преступниками. Я вдруг обнаружил, что всем хочется высказаться, стоит им узнать о том, что мы подверглись сексуальному насилию. Все тут же начинали думать, что уж они-то точно бы справились с этим лучше, и ждали, что мы ответим на все вопросы и подтвердим их догадки. Ведь в таких случаях можно назвать человека слабаком за глаза или даже заявить об этом открыто, особенно если он мальчик.
Я согласился дать показания, но не считал себя жертвой. Всего против директора свидетельствовали пятнадцать человек.
Я повторил фразу моего друга. Даже его тон.
Все было не так уж плохо, пытался я убедить себя. Я знал, что вру сам себе, да и мой друг, думаю, тоже себе врал. Я не собирался лгать, вовсе нет. Я просто хотел, чтобы меня оставили в покое.
Я размышлял об этом спустя год. Мне тогда пришлось убеждать того моего друга не кончать жизнь самоубийством, а для этого понадобилось сказать ему, что он не гей.
Я, конечно, могу сказать, что он был моим другом, но на самом деле нет такого специального слова в языке для того, чтобы объяснить, кем и чем мы были друг для друга. У нас были сексуальные отношения на момент дачи показаний. Наша связь началась на глазах у директора. Мы тогда пошли в поход, чтобы порадовать его. Спустя несколько месяцев после этого начались наши отношения, как будто нам было нужно, чтобы прошло какое-то время. Мы вместе играли в «Подземелья и драконы» — он всегда был паладином, а я всегда использовал магию. Влюбленности не было, но я его любил и до сих пор люблю. Я не знал, как назвать то, что было между нами. Иногда я вспоминал его как своего первого бойфренда, но мы не держались за руки, мы не пошли на выпускной как пара — мы оба были с девушками. То, что мы затеяли однажды без лишних слов, было для меня чем-то гораздо более реальным тогда. Мы никак это не называли. Никогда. Один из нас всегда придумывал, чем бы заняться, и это могло быть что угодно. Интересно, можно ли сказать, что мы утешали друг друга? У меня нет ответа на этот вопрос, потому что мы никогда не говорили друг с другом о том, чем занимались. Его признание, сделанное в тот день в суде насчет насилия, случившегося в прошлом, ничуть не шокировало меня; я своими глазами видел то, о чем он говорил.
Когда все это происходило, у нас с друзьями из хора была привычка рисовать затейливые планы фортов с солдатами, оружием, самолетами, подводными лодками — что-то невероятно сложное по структуре. Вот и наш хор был чем-то таким, как мне кажется. А может, таким был я сам. Полон секретов, слишком сложных для понимания. Может быть, эти планы говорили сами за себя. Это была попытка высказаться.
В хор я пришел в возрасте одиннадцати лет. Интерес ко мне директор стал проявлять, когда мне было двенадцать: он старался сыграть и на моем чувстве гордости из-за того, что я выглядел развитым не по годам, и на моем же чувстве стыда, потому что я был полукровкой, я был голубым, я был школьным парией. Он с самого начала пестовал во мне убеждение, что я талантлив и более одарен интеллектуально и эмоционально, чем мои сверстники. Он постоянно хвалил мой голос, на прослушивании говорил, что я прекрасно читаю с листа, однажды назначил меня ведущим голосом, а затем и солистом. А это означало, что мне предстояли репетиции наедине с ним. Я доверял ему, потому что благодаря его вниманию чувствовал себя счастливым, можно сказать, избранным. Особенно приятно это было осознавать в те моменты, когда мне казалось, что весь мир от меня отвернулся. И когда я говорю это, я имею в виду тот факт, что я был наполовину корейцем, наполовину белым американцем, живущим в городке, где у людей разных этнических групп не принято было создавать семьи, не говоря уже о том, чтобы иметь детей. Я постоянно ощущал себя уродом, слишком очевидно отличавшимся от всех, а это все равно что быть невидимым.
У меня было сопрано в три октавы с уверенными верхними нотами, я хорошо слышал остальных исполнителей, сливаясь с ними в гармоничном многоголосье. Я мог читать музыку с листа и петь, с первого раза точно попадая в ноты, и потому был ценным исполнителем. Вскоре я обнаружил, что, какими бы расистами ни были мои одноклассники, в хоре я оказался полноценным лидером. Я стал популярен, снискал симпатию ребят, завел друзей. В средней школе я по-прежнему ощущал себя загнанным в угол, был изгоем. Но здесь, в хоре, меня окружали друзья. Мне отчаянно хотелось найти свое место, я даже сам не осознавал, насколько это было для меня важно. Но это знал директор. Поэтому он и вел себя со мной так, как будто только он мог предложить мне такие привилегии. Теперь я знаю, как это называется, — окучивать жертву. Наш хор, в котором было немало талантливых мальчиков — многие из них чувствовали себя такими же отверженными, многие были голубыми, — на короткое время стал для меня настоящим раем.
Внешне все выглядело так, будто я просто ходил на репетиции хора, но у меня было ощущение, что я постоянно убегал подальше от дома. Совершал побег внутри себя. Каждый день. В то единственное, как мне казалось, место на земле, где меня принимают, холят и лелеют. По мере того как росла аудитория, для которой мы выступали, аплодисменты все чаще воспринимались мной как утешение, которого я нигде больше не мог получить.
Преступления директора раскрылись в тот же год, когда мы оплакивали моего отца, — он умер в январе, почти три года спустя после аварии, — практически все это время я был в хоре. В тот период своей жизни, о котором я сейчас рассказываю, я был маминой правой рукой, и так повелось с самого начала. В тот день, когда нам позвонили из больницы и сказали, что отец попал в автомобильную аварию, она тут же поехала к нему, оставив нас дома с другом семьи, пока не выяснятся подробности. Не помню, чтобы я был в состоянии делать что-либо; я остался в комнате, недалеко от телефона, и ждал, пока позвонит мама. В первые минуты, когда приехал друг семьи, чтобы побыть с нами, и уехала мама, я понял: настал тот момент, о котором мне как-то говорил отец. Если вдруг с ним что-то случится, мне предстоит стать мужчиной в доме. И в ту самую секунду я стал другим.
Когда, наконец, раздался звонок, телефон взметнулся в воздух и полетел в мою сторону, как будто это я управлял им силой мысли. Это был телекинез, которому я так мечтал научиться, когда читал комиксы, — и вот, стоило произойти трагедии, как он не заставил себя ждать, прямо как написано во всех этих историях. Но даже если я и вправду такое сделал, то даже не смог закрепить успех. Я сразу схватил трубку. Больше такого со мной не случалось.
Когда я поднес телефон к уху, то услышал мамин голос. Она с трудом могла говорить, но тут же стало понятно, что наш мир не будет прежним.
Это было лобовое столкновение, водитель, получивший меньше травм, умер спустя несколько дней. Мой отец оставался в коме три месяца. Мы ездили в больницу читать ему по очереди — нам сказали, наши голоса могут помочь ему прийти в сознание. Я уже не помню, что за книгу мы выбрали, но помню произошедшую в себе перемену: мужчина, который когда-то читал истории мне, теперь слушал их, находясь в коме, как будто теперь я стал старшим и мог вести его за собой. Было еще кое-что. Та боль, в которой я не мог признаться никому, сидя у его постели и читая ему, была так же велика, как моя жизнь: в аварии, в которую попал отец, я винил себя.
Прошлой осенью я как-то попросил, можно ли мне пропустить занятие по плаванию, — мне очень хотелось поехать кататься на роликах вместе с Вебелос23. Катался я неважно, так как мне не хватало опыта, но я обожал фильм «Ксанаду»24, и мне хотелось кружить на катке и подпевать всем этим песням, находясь в свете прожектора, как Оливия Ньютон-Джон, — я тайком представлял себе, что я — это она. Но в тот вечер я упал, приземлился на левую руку. Когда я взглянул на нее, она была сломана, как ветка дерева. Я взвизгнул, как мог взвизгнуть только мальчик, поющий сопрано, — музыка на катке стихла, помню свою руку в свете прожектора и как все, затормозив, в ужасе уставились в мою сторону, и дискотека закончилась. Мама, которая в тот момент ехала в сторону катка на машине, пропустила на дороге скорую, теряясь в догадках, кто мог пострадать.
В больнице, помню, доктор, вправлявший мне руку, сказал, что та штука, в которую он поместил мои пальцы, была похожа на средневековое приспособление для пыток, придуманное для проведения допросов. А теперь она используется для того, чтобы сломанные кости правильно срастались. Старомодная машина для пыток аккуратно стянула мою руку. Мне сделали рентген, наложили гипс. Вскоре я уже был дома, одурманенный обезболивающим, раскаивающийся. В течение нескольких дней выяснилось, что я больше не смогу ходить в бассейн на тренировки, — мой тренер был в бешенстве. А еще мы не сможем поехать во Флориду на каникулы, потому что песок может попасть в гипс.
В ту ночь, когда мой отец попал в аварию (его автомобиль занесло, и он врезался в машину на соседней полосе), я подумал: «А ведь в это время мы должны были валяться на пляже, находясь в полной безопасности». Эта мысль не давала мне покоя всю жизнь. Я ждал, когда же меня начнут обвинять. Моя рука была по-прежнему в гипсе, словно что-то чужеродное, и постоянно чесалась.
Но никто мне ничего не сказал.
Пройдет тридцать пять лет, прежде чем я поделюсь этими соображениями с мамой. Я вдруг понял, что в основе моей теории лежало воспоминание, но я не был уверен, можно ли ему доверять. Было нестерпимо видеть, как сильно ее шокировали мои слова, как будто на ее глазах я превращался в кого-то, кого она раньше никогда не видела.
— Нам пришлось отменить поездку, потому что папе нужно было работать, — сказала она. — А не из-за твоей руки. Мы бы так никогда не поступили.
Не уверен, что поверил ей тогда. Но было видно, что, по крайней мере, в это верит она.
Может, я придумал себе тот разговор об отмене поездки, хотя был уверен, что хорошо его помню? Конечно, понятно, что причина была не только в моей руке, — отец тогда работал над многомиллионной сделкой. Он бы не отправился в отпуск с семьей в самый разгар переговоров. Мой отец верил, что этот проект станет его звездным часом. Он водил меня посмотреть на роскошные автомобили, предвкушая покупку. Или частенько забирал меня из школы на машине, проводя тест-драйв. Однажды он приехал за мной на «Мерседесе» с откидным верхом: сам автомобиль был белым, а салон отделан красной кожей. На следующий день — на «Альфа-Ромео». Затем на «Ягуаре». Он был таким довольным, когда открывал дверь, так счастливо улыбался. А потом случилась та зима.
Много лет спустя мои одноклассники признались: они всегда думали, что это были наши автомобили. Оглядываясь назад, я понимаю, как сильно отец страдал от полученных травм, — авария безжалостно разделила его тело пополам, вся правая сторона туловища оказалась парализована. А вместе с ней были разрушены и все его мечты. Он с детства увлекался боевыми искусствами, именно благодаря своей физической выносливости сумел выжить в аварии, которая унесла жизнь другого водителя. Отцу тогда повезло больше. Он всю свою жизнь тренировался выживать несмотря ни на что. И вот он выжил, но в действительности хотел лишь умереть.
Сколько я себя помню, он всегда был очень сильным. Всего за несколько месяцев до аварии он учил меня задерживать дыхание под водой — сам он мог проплыть на задержке и сорок пять, и шестьдесят восемь метров. Он брал меня с собой в подвал, где учил боксировать, а позже обучил меня тхэквондо, узнав, что дети в школе обижают меня. Однажды мы были на побережье, и он бросил меня в волны, потому что я разревелся от страха перед океаном, а потом годами учил выплывать из приливов. «Вам нужно уметь хорошо плавать, чтобы, если вдруг лодка пойдет ко дну, вы могли доплыть до берега», — говорил он нам.
Но я не знал, где был этот берег.
Мне двенадцать лет. Мой отец для меня — настоящий герой. Он искалечен, и я думаю, что это из-за меня, это моя сломанная рука толкнула его, и он угодил под машину. Я перестал так думать только четыре года назад. В течение трех лет отец пытался излечиться от ран, от которых в результате и скончался; в первый год, выйдя из комы, он жил дома, в спальне, которую ему организовали, отгородив часть гостиной. Он был зол и подавлен, иногда испытывал суицидальные приступы. Придя домой из школы, я какое-то время болтал с ним, прежде чем приступать к урокам. Наша семья, живущая в Корее, прислала к нам моего двоюродного дядю, чтобы тот пожил у нас, составил отцу компанию. Это был пожилой мужчина, к которому я неплохо относился несмотря на то, что он был довольно суетливым.
Он смотрел корейские дорамы или играл в карты с отцом, который когда-то был отличным игроком в покер, и старался развеять его беспросветную грусть и злость. Мы делали все возможное, чтобы он жил, а он не хотел. Было тяжело от осознания, что мы не можем ему помочь. Мама научила меня готовить американский вариант китайского рагу, которое, по сути, было макаронами-ракушками в томатном соусе; техасский хеш — это почти то же самое, только с рисом; бефстроганов, который делался из говядины со сметаной и грибным соусом, и я часто подавал его с тем же рисом.
Мама работала в рыболовной компании, которая, как надеялся отец, должна была стать его золотой жилой; та сделка, над которой работал отец, так и не состоялась без человека, который был ее центральной фигурой. И теперь мама оказалась в бизнесе, где всем заправляли мужчины. Она приходила домой поздно вечером, уставшая, к человеку, которого любила достаточно сильно, чтобы однажды выйти за него замуж, предав ради этого брака свою семью и культуру. Она рассказывала о том, как работа отдаляла ее от многих женщин, с которыми она когда-то дружила, о том, как она привлекала мужчин, которые работали с отцом, на свою сторону, но как это было сложно. Я слушал эти рассказы, иногда гладил ее по спине или похлопывал по плечу, а бывало, и приносил ей стакан виски со льдом. Я был и остался для многих жилеткой, в которую можно поплакать, но научился этому именно тогда.
Вот только я никогда не знал, как рассказать ей о том, что происходило, когда я находился вдали от дома.
Все знают, что я всегда болтаю, когда остальные молчат, и открыто говорю о том, о чем все думают, но предпочитают не обсуждать вслух. Тем удивительнее мне самому осознавать, что я никогда никому не расскажу об этом. Хотя меня можно понять, если вспомнить, что для меня это было чем-то вроде тайного рая. Единственным наслаждением, доступным мне помимо еды, было пение. А потом случился еще один ад. Лишь немногим менее страшный.
Прошел год, и сестра моего отца убедила нас, что у нее дома ему будет лучше, все заботы она возьмет на себя. Она заявила, что знает доктора в Массачусетсе, который может поставить отца на ноги. Мы отвезли к ней отца и моего троюродного брата и в течение года ездили туда-сюда, навещая его. Спустя год мы поняли, что доктор только ставит эксперименты на отце, подвергая его опасности, и забрали его обратно в штат Мэн, на этот раз выбрав для него больницу недалеко от нашего дома, в Фалмуте.
Наш хор становился все больше, все профессиональнее. Я гордился своей позицией лидера и сопутствующей этому популярности. Но вот однажды директор получил от меня то, что хотел, и я стал представлять для него угрозу. Он обвинил меня в том, что я создаю клику со своими «Подземельями и драконами», и попытался изолировать меня от остальных ребят. Я по-прежнему был старостой хоровой партии, но больше не солировал. Странные отношения с моим другом составляли теперь тихий центр моей жизни, тот мир, который нас объединял. Мы занимались сексом, когда нам удавалось уединиться. В такие моменты меня пронзала жгучая боль от осознания, какой жуткой была остальная часть моей жизни. Теперь же мои воспоминания о нем окрашены совсем в другие тона, как будто все это было прожито в другом измерении.
Одно из моих любимых летних воспоминаний — неделя, проведенная в домике у озера, который принадлежал его родителям. Мы пробирались ночью к озеру, купались, обретая друг друга в жидкой темноте. Все наши встречи стерлись из моей памяти, хотя оно того стоило. Но я не говорил ему и не знал, что он чувствовал по этому поводу. Иногда я думаю, как бы все могло обернуться, скажи я ему тогда хоть что-нибудь.
Секреты, переполнявшие меня тогда, могли заполнить все озеро, но я так ничего и не сказал. Они остались со мной.
Мне пятнадцать. Я механически проживаю день за днем, превратился в робота, задача которого — приводить данное мне бренное тело куда надо и делать что надо. Иногда случаются всплески, приступы гнева. Я дерусь с братом, пытаясь заставить его замолчать, а если не выходит, то прижимаю его к земле, усаживаясь ему на грудь. Его глаза, полные ужаса, до сих пор стоят перед моим внутренним взором.
Поскольку готовлю теперь я, еда все время рядом со мной, и я начинаю есть. Бейглы со сливочным сыром на завтрак, пицца пеперони или гамбургер, а может, и чизбургер на обед, сэндвичи с ростбифом и сыром мюнстер, польские колбаски и яйца, ветчина и плавленый чеддер. Еда — это наше первое восприятие заботы, как говорит мне детский психиатр, к которому я иногда хожу. Мама меня отправила к нему из-за моего отношения к еде. Я набрал вес. Она переживает, что я чувствую себя нелюбимым, а я и не знаю, что на это сказать. Я ем, потому что мне это приносит удовольствие, я получаю аннигилирующее удовольствие от еды. Я ем, потому что я слишком умный, слишком чувствительный, слишком странный, слишком грустный, слишком громкий, слишком тихий, слишком озлобленный, слишком толстый. Я ем, потому что я хотел пойти кататься на роликах, наслаждаться ярким освещением, а мой мир вдруг рухнул, и я больше не смогу убегать от реальности таким образом, хоть и создается ощущение, что мне это удается. Как будто с помощью еды я могу найти выход из этого ада.
Когда у меня наконец ломается голос, возникает ощущение, будто в горле что-то заменили, я чувствую напряжение, словно что-то отмирает. Те высокие ноты, которые я брал как сопрано, то свечение внутри меня, словно от нитей накаливания, — все это вдруг исчезает, и очень сложно не почувствовать, что позади меня разверзлась тьма. Во всяком случае, того особого света больше нет. Я по-прежнему слышу что-то такое, могу почувствовать, как ноты заполняли мою голову и горло, подобно воздуху, который я задерживал, когда погружался под воду. Вибрация моего тела в ответ на звуки, которые рождались в моем горле, была моим способом оставаться живым.
В течение последующих тридцати лет я так и не научусь петь своим взрослым голосом. Именно тогда я влюблюсь в мужчину со взрослым голосом, таким красивым, что ему не было равных среди тех поп-звезд, песни которых он исполнял в школьной группе. В отдаленном будущем мы сможем ходить петь в караоке так часто, что мой собственный голос начнет оживать, как будто я снова хожу на прослушивания.
Я по-прежнему не чувствую, что мой голос тот же, что был. Он не просто поменялся. У меня скорее ощущение, что тот, старый, голос исчез, а на его месте появился новый.
Сейчас, давая показания, я использую именно этот голос. Мой новый. Я описываю поездки, то, как он выбирал любимчика, обучал его и оставлял после занятия, давая ему уроки солирования. Я не рассказываю, что знаю все это по собственному опыту. Я не рассказываю о том, что он делал все возможное, чтобы я чувствовал себя особенным, когда, казалось, никому больше до этого не было дела. Я не рассказываю, что комната, полная детей, многие из которых были геями, была моим первым гей-сообществом. Я ни слова не говорю о том, что нашел там своего первого бойфренда и что это позволило мне почувствовать связь с миром, когда ничто другое не давало мне этого ощущения. Я не упоминаю о том, что многие из нас чувствовали себя так же. Нас выбрали, потому что у нас было много общего, — мы были мальчиками, нуждавшимися в ком-то, кто будет поддерживать наш мир, чтобы тот не рухнул, и позволяли ему взамен делать то, что он делал. Мы были мальчиками, у которых не было отцов, а если они и существовали, то были сломлены. Мальчиками, чьи мамы старались спасти свой дом. Я говорю, что это случилось с другими, я веду себя так, словно просто проявляю участие. Я не говорю, что мне хотелось умереть от чувства вины, от ощущения, что я тоже в некотором роде виноват в том, что произошло, и что все это и произошло потому, что я был геем.
Я не рассказываю о той ночи, когда мой друг позвонил мне, умоляя меня сказать, что он не такой, как я, что он не гей. Он заявил, что держит в руках дробовик отца, и, если я скажу ему, что он гей, он застрелится. «Скажи мне, — умолял он. — Скажи мне, что я не такой, как ты». И я сказал. «Ты не такой, как я, — сказал я ему. — Ты не гей». В любом случае хорошо, что мы наконец обо всем поговорили. Потому что разве не лучше в такой ситуации выбрать жизнь? Во всяком случае, для него. Я не рассказываю, что не раз тоже почти предпринимал попытки, когда, готовя еду на кухне, как завороженный смотрел на нож, мучаясь от того, что мне не хватает смелости подняться наверх, пустить воду в ванне и забраться в нее с лезвием. Вместо этого я запираю в себе эти истории. Я выхожу из здания суда, взведенный, как бомба, забытая со времен старой войны и оставленная в земле до тех пор, пока ее не обнаружат, — тогда-то она и взорвется.
Прошло двадцать лет, осень 2001-го, я в своей бруклинской квартире держу в руках мобильный телефон и с ужасом думаю, звонить или нет. Завтра выходит мой первый роман, и мама должна вот-вот приехать в Нью-Йорк к началу моего выступления на мастер-классе азиатско-американских писателей. Если я не позвоню ей сейчас, мне придется у нее на глазах зачитывать отрывки из книги о том, как пережить сексуальное насилие, педофилию, — истории, в основе которых лежат события моего детства, автобиографические события, события, которых я никогда ей не описывал. И она узнает обо всем уже завтра, сидя в зале, полном незнакомых людей. Она никогда не простит меня. Поэтому сейчас самое время, чтобы позвонить ей.
Я бы мог сказать вам, что помню тот звонок, помню, что я тогда сказал, что она ответила. Однако это было бы неправдой. Я позвонил. Но этот разговор стерся у меня из памяти. Помню только, что она была в шоке и даже не могла понять, почему я ей ничего не рассказывал. Я тоже не понял, но понимаю сейчас. Нашей семье довелось побывать в аду, и я молчал обо всем, чтобы выжить. По крайней мере, я знаю точно: я никогда не говорил ей об этом, потому что был уверен, что тем самым защищаю ее. Не то чтобы я стыдился этого. Я знал, что ее это расстроит. Очередная трагедия. Я не мог оказаться тоже сломленным, как отец. Поэтому мне и пришлось спрятаться в трагедии поменьше, чтобы пережить большую трагедию. Спрятать себя. Изо дня в день мама ходила на работу в компанию, ставшую призраком отцовской мечты, которую он пестовал столько лет. И каждый вечер она возвращалась к нам — трем своим детям и мужчине, которого любила и который теперь был подавлен и хотел умереть. Я знал, что был нужен ей.
Роман, который я протягиваю маме на следующий день, детально повествует о том насилии, которому я подвергался, и обо всем, что последовало. Несчастный случай, произошедший с отцом, его отчаяние, его смерть и то, как я это пережил, — ничего этого в книге нет, хотя я и собирался рассказать об этом. «Никто не поверит, что все эти жуткие вещи приключились с одним человеком», — заявил мой первый агент, и мне пришлось убрать все это из черновой версии, придумав другие горести, кажущиеся более вероятными. То, что я решил опустить все эти события, стало моим способом выжить даже спустя годы. На страницах книги я пережил только одну трагедию, хотя на самом деле обе.
Заканчивая читать фрагменты своего романа перед аудиторией, открывая маме тот мир, что я спрятал от нее между строк, я вдруг встречаюсь с ней взглядом. Она улыбается. Видно, что ей тяжело, но она гордится мной. Гордится сильнее, чем когда-либо.
И тут я понимаю, что мы снова обрели друг друга. Ведь я делал именно то, чему меня учил отец, когда я был маленьким: попав в быстрину, нужно позволить течению нести тебя, пока не сможешь сам выплыть к берегу. Наконец я к нему выплыл.
Переулок Минетта-Лейн, 16
Дилан Лэндис
Жены папиных друзей не гладят рубашки.
— Я уверена, что и полы они не моют, — констатирует мама беспристрастным голосом. Она разговаривает со мной, но как будто сквозь меня. Мы с ней вдвоем в лифте, спускаемся из нашей нью-йоркской квартиры в подвал здания, где женщина по имени Флосси будет учить маму — за два доллара — гладить мужские рубашки.
Мама сообщает мне, что у жен папиных друзей есть степень по психологии или социологии и они принимают пациентов так же, как это делает мой отец в нашей гостиной.
— Скажем, так: я это осознаю, — говорит мама, и мы выходим из лифта, оказываясь в огромном подвале с запутанной системой коридоров.
Сейчас 1964 год, мне восемь лет. Школа, в которую я хожу, отличается такой строгостью нравов, что девочкам запрещается носить брюки, даже когда на улице настоящая метель. Отец работает над своей диссертацией по психологии, которая называется «Границы Эго», а мне кажется, что так зовут еще одного, четвертого, человека, тайком проживающего в нашей квартире. Отец дразнит меня, что, когда я вырасту, я защищу свою кандидатскую и возглавлю его практику. И я верю, что так оно и будет.
Маме он не говорит, что она защитит кандидатскую.
Мама — домохозяйка.
Мы проходим по широкому коридору с дверями, на которых висят замки. Здесь живет рыжеволосая дочь коменданта нашего дома, Сильда. Мы катаемся на роликах по гладкому полу и подглядываем за Отто, носильщиком, у которого на руке есть номер и который спит в кладовой за кипами старых газет.
Прачечная вкусно пахнет мокрой шерстью, из нее все время доносится грохот работающих сушилок. Мама здоровается с Флосси, весело спрашивает, как у нее дела, и Флосси поднимает на маму глаза. Она отвечает маме такой же рассеянной полуулыбкой, какой одаривает всех, кто с ней заговаривает. У нее морщинистое лицо, она темная, как слива, и хрупкая, как птичка. Ее утюг выглядит довольно тяжелым. Она с грохотом ставит его на доску, и этот звук отдается гулким эхом весь день.
Жены, живущие в нашем здании, платят ей двадцать пять центов за рубашку.
Я с трудом вытаскиваю мокрую одежду из стиральной машины. Мама выбирает рубашку, относит ее Флосси и протягивает ей деньги, которые исчезают в кармане рабочего халата глиняного цвета. Флосси натягивает рубашку на уголок гладильной доски.
Мой отец меняет парадные рубашки каждый день. Если мама перестанет отдавать их Флосси, они смогут экономить пять долларов в месяц.
Я подхожу к металлическому шкафу, заполненному рядами чужой, давно высохшей одежды, — и начинаю перебирать металлические вешалки, которые с характерным звуком царапают железную стенку. Наконец я нахожу пустую вешалку. Сворачивая нижнее белье и носки отца, я слежу глазами за Флосси, она дает урок: сначала гладит она, потом мама, а потом мама слушает Флосси, согласно кивая головой.
Она такая красивая, моя мама. У нее широко расставленные голубые глаза и скулы, похожие на нож для масла. Ее подбородок напоминает мне фарфоровую чайную чашку моей бабушки. Раз в неделю она позирует одной художнице в нашем здании — эта женщина, к которой мама испытывает симпатию, попросила ее побыть моделью; и я вижу, как мама ускользает из своей клетки на несколько часов, разговаривает о книгах, потягивает чай с художницей и смотрит, как искрится за окном Гудзон.
Под вешалками, за стеной, в несколько рядов стоят газовые горелки — мощность их оранжево-голубого пламени тщательно контролируется. Иначе огонь может взметнуться и ненароком лизнуть одежду.
Сушилки стоят четвертак. Вешалки не стоят ничего.
Мама подходит ко мне, держа в руках рубашку на проволочной вешалке.
— Она потрясающий учитель, — говорит мама и кричит, обернувшись к Флосси: — Вы потрясающий учитель! — И через секунду добавляет: — Вижу, работы тут еще непочатый край.
Через несколько недель отцу вдруг приходит в голову что-то невероятное: прямо в нашей гостиной он приглашает маму потанцевать.
Мы уже закончили ужин, на улице темно — хотя у нас дома всегда темно, ведь наша гостиная находится над вентиляционной шахтой, а окна моей спальни выходят на кирпичную стену.
Мы с мамой убираем посуду после ужина. Отец, который обычно сразу возвращается к своему рабочему столу, достает пластинку. «The Boy Friend». Пластинки мы любим. У нас нет телевизора. Но есть проигрыватель, сделанный из блестящего пластика баклажанного цвета. И мне не разрешается к нему прикасаться.
Отец заносит руку над пластинкой и ставит алмазную иглу. Начинается увертюра, духовые инструменты звучат так несдержанно, бравурно, что я знаю: они лгут. Но мои родители притворяются, что именно так и звучит счастье.
Отец садится на диван, расставив локти и колени, как богомол.
Мама открывает книгу, усевшись на другом конце дивана, и подсовывает ступни под отцовскую ногу.
— Потанцуй для нас, милая, — говорит отец.
Мама умеет танцевать?
Раздаются женские голоса, они такие жизнерадостные, что мне хочется дать этим женщинам затрещину.
Мама улыбается, мотает головой и продолжает читать. На обложке написано «Золотая чаша».
— Ну давай же, милая, — просит отец, подбадривая ее. — Потанцуй.
— Я же совсем не умею, — отвечает мама.
И встает.
Джулия Эндрюс поет, что каждой девушке нужен кавалер, что мы все с готовностью умерли бы ради него, и меня это немного коробит; это звучит фальшиво, как и все на этой пластинке, хотя в то же время и очень интимно. Мама двигается как-то по-новому, поначалу как будто пробуя воздух на готовность, а затем — в ритме танго в сторону книжного стеллажа во всю стену, с кавалером, которого мы не видим, по сцене, которой на самом деле нет. Она кружится. Она прикусывает губу. «Ого», — восклицает отец, но мама его не замечает. Она вышагивает, отставляет в сторону носок, приподнимает юбку и выставляет вперед грудь.
Песня заканчивается, и мама садится так, как будто только что вошла в комнату, снова прячет свои ступни и открывает книгу там, где заложила ее.
— Милая! — восклицает отец, аплодируя. — Где ты этому научилась?
Он не то чтобы спрашивает, а мама не то чтобы отвечает.
— О, я просто импровизировала, — говорит она.
* * *
Куда мама, которая умеет так танцевать, ходит, когда она не дома? Где она была всю нашу жизнь?
Вопросы, которых я не задаю маме в тот вечер:
«Почему ты не танцуешь каждый день?»
«Почему бы не взять за руку отца и не предложить ему присоединиться?»
«Почему бы не взять за руку дочь и не предложить ей присоединиться?»
Мама, которая умеет так танцевать, исчезает, чтобы появиться однажды весенним субботним утром, три года спустя. Мне одиннадцать, и мы с папой случайно натыкаемся на дом, в котором мама когда-то жила.
Вряд ли мама хотела, чтобы мы его увидели.
Мы садимся на поезд № 1 до Четырнадцатой улицы и идем гулять. Мои родители любят вот так бродить. Отец мечтает о том, чтобы снова погулять по Эдинбургу, а мама — о том, чтобы погулять по Парижу. Мы идем по деловому центру, по Шестой авеню, и мои родители держатся за руки. Отец напевает песенку, которую выучил, когда служил на флоте, — Dirty Lil, dirty Lil lives on top of Garbage Hill25. И мне как-то не по себе от этого. Неужели этой Лил хочется жить там, и она не против, чтобы моряки ее дразнили?
Вдруг мы слышим откуда-то сверху женские крики, и на тротуар сыплются шарики из скомканной бумаги, похожие на большие, пожеванные жемчужины. Мне хочется открыть одну из них, потому что у меня ощущение: они попали сюда из другого, далекого мира.
— Что-то здесь не так, — хмуро заявляет отец.
Мне всегда кажется, что это сон, когда я прохожу мимо дома предварительного заключения для женщин. Он высокий, с рядами темных окон; это тюрьма, женщины выкрикивают что-то, но я не могу разобрать их слов. Кроме того, если они находятся там взаперти и к ним нельзя попасть, как они могут бросать эти скомканные шарики?
Что они пытаются этим сказать?
Мы продолжаем гулять по деловому району, проходим узкими улочками. Наконец я решаюсь задать вопрос:
— Почему они кидают эти бумажные шарики?
Мама вздыхает.
— Они указывают свои имена и оставляют номер телефона, — объясняет она. — А потом кричат прохожим, чтобы те позвонили их мужьям и детям и передали сообщения.
— Какие сообщения? — Я заинтригована. Эти крошечные белые шарики похожи на свет далеких звезд, которые давно потухли.
— «Я люблю тебя», — отвечает мама веселым голосом. — Что же еще?
Теперь мы находимся в самом центре Вест-Виллидж. Отец уводит нас правее, в сторону Шестой авеню, но вдруг мама останавливается, да так резко, что я наступаю ей на пятки.
Но я не знаю, почувствовала ли она это.
Мы стоим на углу улицы с таким названием, что его можно пропеть: Минетта-Лейн. Мама смотрит на здание розового цвета, которое я никогда раньше не видела.
Оно мне безумно нравится. Это же настоящий домик Барби, который мне не разрешают купить. На окнах белые ставни, при входе кованые ворота. За ними небольшой дворик, где висит черный фонарь, который своим светом немного приглушает цвет стен.
— О, — выдыхает мама, как будто ей перекрыли кислород для дыхания. Отец терпеливо ждет, глядя на нее. Он привык находиться в движении.
— Когда-то я жила в этом доме, — говорит мама. В ее голосе слышится потрясение.
— Какое славное место, милая, — говорит отец и смотрит на часы. — Девочки, а вы не проголодались?
Я страшно хочу есть, но даже думать об этом не могу. Я хочу быть дочерью своей матери, той, что живет в розовом домике, той, что танцует.
Мама стоит, задумавшись. Я наблюдаю за ней. Она ощупывает здание взглядом, смотрит мечтательно за ворота, и вдруг мышцы ее лица потихоньку расслабляются, и я даже ловлю себя на мысли: а вдруг мама большую часть времени старается выглядеть приветливой специально ради нас?
Какое-то нехорошее ощущение. Я смотрю на отца, но он просто ждет, любезно давая маме возможность рассмотреть дом, а затем обращает свой взор в сторону Виллидж-стрит.
Я двумя руками обхватила решетку кованых ворот и пытаюсь представить себя внутри.
— Я кричу, ты кричишь, — говорит отец. — Все мы кричим…26
— Как ты могла отсюда уехать? — спрашиваю я.
Мама берет меня за руку. Я по-прежнему сжимаю один из прутьев решетки.
— Квартирка была маленькой и темной, — говорит она мягко. — Окна выходили на внутренний дворик. Ничего особенного.
Но она заблуждается. У этого домика есть солнце и свисающие из кашпо растения, и там живут кошки. Внутри розовые стены, и все это похоже на декорации, в которых мама может танцевать. Там стоит ваза с маргаритками. Стол и два стула.
— Клянусь тебе, — говорит мама. — Внутри все совсем не так красиво, как снаружи.
* * *
В 1970-м мне четырнадцать лет и мы живем в пригороде Нью-Йорка, в Ларчмонте. У нас свой собственный дом — ну, практически. Мама по-прежнему гладит папе рубашки. Она держит их в ящике для овощей в холодильнике, чтобы они оставались влажными до того времени, пока она не возьмется за глажку. Она давным-давно обучила и меня искусству Флосси — манжета, манжета, воротничок, ворот, рукав, рукав. Мы приводим одежду в порядок, что-то подшиваем, штопаем носки, оттираем пятна. Я отвечаю за отбеливание, а еще складываю нижнее белье отца, вынув его из сушилки. Мне противно, но я ничего не могу с этим поделать.
Мамин портрет, написанный масляными красками, висит теперь между моей комнатой и спальней родителей. Художница удивительно четко передала ее черты — мечтательный взгляд голубых глаз, едва уловимую грусть, тонко очерченные скулы, по которым так и хочется провести пальцем. Я хочу, чтобы эта картина была у меня, так что я даже подумываю ее однажды украсть.
Я валяюсь на гостевой постели в мамином кабинете, здесь царит настоящий бардак; в этой комнате она печатает счета пациентам отца. И вдруг она упоминает имя художника, которого когда-то знала. Его звали Билл Риверз.
Билл — мужское имя. Она в основном говорила со мной об отце и всего два раза о человеке, за которым была недолго замужем. Все, что я знаю, — это то, что он убил ее любимого бульдога Чифи, оставив его в раскаленном от жары автомобиле.
Я приподнимаюсь.
— Его имя Хейвуд, но все звали его Биллом. — Она всматривается в почерк отца и ударяет по клавишам своей красной пишущей машины Selectric. — Это было задолго до твоего рождения, — говорит она и поворачивается ко мне на стуле. — Мы были просто друзьями. Я не понимала тогда, каким он был хорошим художником, но я точно знала, что мне хорошо с ним. Мне нравилось находиться в окружении художников, с которыми он проводил время. Они были великими. Он часто брал меня с собой в бар в Ист-Виллидж, куда любили захаживать художники и писатели. И знаешь, Дилан… Они считали меня особенной. Я была очень остроумной барышней.
— Вот это да! — говорю я. Я боюсь, что мыльный пузырь, переливающийся над нашими головами, вдруг лопнет.
Она вздыхает.
— Мы постоянно обменивались шпильками. Собирались вместе, пили, болтали, среди нас были художники, иногда какие-то писатели, у меня на все было готово саркастическое замечание — и все тут же начинали хохотать.
Я слушаю, как зачарованная, и киваю, киваю, киваю, пока не начинаю раскачиваться.
— Им нравилось, когда я приходила, — говорит она. — А мне нравилось быть там с ними.
Это не та женщина, которая вышла замуж за моего отца и воспитала меня.
— У нас с Биллом были прозвища, которые мы дали друг другу. Я звала его Деревенским Мальчишкой, потому что он был родом из крошечного городка в Северной Каролине.
Она начинает оглаживать себя через брюки и, кажется, даже не осознаёт этого. Ее ладони непрерывно двигаются вверх и вниз по бедрам, вверх и вниз, вверх и вниз. Мне становится неловко. Я смотрю на свои руки.
— А как он тебя называл? — спрашиваю я.
— Городской Девчонкой, конечно.
Мама очень любит прозвища. Она и папе однажды придумала имя. А он — ей. У нее и для меня была куча каких-то нелепых прозвищ, например Метеор, что для меня звучит как кличка скаковой лошади, или — мне даже неловко произносить это вслух — Кисонька. А интересно, они с тем Биллом Риверзом встречались?
Я уже собираюсь задать ей этот вопрос, как вдруг она разворачивается к своему письменному столу и выдает очередь на своей Selectric.
Я оканчиваю десятый класс, смухлевав на экзамене по французскому и математике. Начало 1972-го, то лето, когда случился Уотергейтский скандал27. Я счастлива, потому что мне досталась подработка моей подружки Джей: я сортирую транзисторы в мастерской по ремонту телевизоров. У Джей, которой пятнадцать, была интрижка с женатым тридцатишестилетним боссом, поэтому я веду себя очень осторожно, хотя в этом и нет особой надобности.
Однажды я возвращаюсь домой из магазина и краем глаза вижу, как мама сидит за обеденным столом, устало склонившись над семейной книжкой расходов. Она, бывает, по два-три дня сидит так, согнув спину.
— Дилан, мне нужно, чтобы ты поужинала, — говорит она.
Слишком поздно. Я уже убежала наверх.
Кажется, теперь у нас больше денег. Во-первых, мама опять стала отдавать рубашки на глажку. А во-вторых, в прошлом году отец купил себе кабриолет «Альфа-Ромео». Он не разрешал мне его водить (не доверял мне как водителю), а потом его украли. В моих глазах справедливость восторжествовала. А еще теперь к нам каждую неделю приходит садовник, и это важно, потому что угадайте, кто косил траву и сгребал листья граблями, когда мы только переехали сюда два года назад?
— Я иду гулять, — кричу я из своей комнаты, потому что теперь я типичный подросток. Но на самом деле меня переполняет злость при виде мамы, прикованной к этому стулу, — меня злит тот факт, что она добровольно приковывает себя к нему.
Это какой-то монстр, эта книжка расходов. Ее завел мой отец. Толстенная папка с кучей таблиц, разделенных на всевозможные категории, каждая из которых подписана сверху маминым красивым, аккуратным почерком. Каждый чек должен быть внесен в соответствующую категорию.
Да я бы лучше умерла.
Мама появляется в дверном проеме моей комнаты. Стены у меня розового цвета. Мама однажды закатала рукава и помогла мне все покрасить. В комнате стоит сигаретный дым, потому что родители мне больше не указ. Конечно, они меня не бьют и никогда не выгонят из дома, и криком меня не заставишь подчиняться.
— Сходи куда-нибудь поужинай, — говорит она серьезно. — Пожалуйста, не делай этого сейчас.
Теперь я вижу, что моя мама пугающе умна. В колледже она доучилась только до половины курса, и она никогда не рассказывает, что случилось. Но она рассуждает о Тургеневе, Шекспире, Толстом, Притчетте, Элиоте, Паунде, Лессинге, Чехове, Селине — она читает книги, написанные литературными критиками. Что-то внутри заставляет ее брать их в руки. Она говорит, так же было и с ее мамой — Эстер, которая, живя в России, доучилась только до третьего класса, прежде чем ей пришлось идти работать на фабрику: крутить сигареты наряду с другими детьми.
Я никогда не смогу прочесть всех этих книг, я и не думаю защищать диссертацию, мой удел — разочаровывать своих умных родителей. Поэтому я делаю то, что у меня хорошо получается: гуляю с мальчиками, особенно с теми, кому уже исполнилось двадцать. У них длинные волосы, есть машина и наркотики.
— Я опаздываю, — говорю я. — А эта чековая книжка — дурацкое занятие.
И понеслось, мы ругаемся из-за какой-то ерунды, которой даже нет названия.
Мама плохо понимает цифры на часах, путает лево и право, она не может подсчитать сдачу в «Гранд Юнион». Но ведение книги расходов — это часть ее работы. Она продолжает корпеть над ней, тыча в карманный калькулятор карандашом с ластиком на конце, пока у нее не сходится все до последнего пенни.
Она домохозяйка.
На следующее утро отец отвозит меня к себе в офис. Это красивая комната — красные стены, потолок, обшитый кедром, глубокие кожаные кресла фирмы «Эймс», в которых обычно сидит психиатр и его пациенты.
— Ты полегче там с Эрикой, — говорит отец мягко. — Ей сейчас приходится несладко.
Вечером, когда родителей нет дома, я обыскиваю мамин комод. Не знаю, что конкретно я ищу, потому что не знаю, какой вопрос меня мучает, но я все же нахожу ответ: маленькая картонная коробочка с золотой крышечкой. Она спрятана под шарфом, в ней лежат таблетки секонала28 — около двадцати капсул красного цвета, ярких, как кровь.
Выходит, я не единственная, кто крадет у отца антидепрессанты.
Через несколько часов после того, как я открыла ему ее тайник с суицидальным содержимым, она осторожно заходит ко мне в комнату.
— Мне очень жаль, правда, — говорит она удрученно. — Однажды ты должна была их обнаружить. Я не знаю, почему мне казалось так важно запастись этими таблетками. Но я хочу, чтобы ты знала: я вовсе не собиралась их принимать.
Настоящая речь, и вот она подошла к концу.
Мама стоит, положив руку на дверную ручку. И я не знаю, как достучаться до нее и хочу ли я этого.
Я уверяю ее, что все в порядке.
* * *
1947 год, моей маме двадцать. Она бросила Университет Майами и переехала в Нью-Йорк. В течение нескольких беззаботных месяцев она не платит аренду, живя на Уэст-стрит, 114, в здании, которое принадлежит ее отцу, Ульриху. Когда-то он был управляющим в отелях Майами, а потом в кабаре и ночных клубах одного курортного района близ Нью-Йорка. А теперь он прикован к креслу и полностью зависит от своей второй жены (которая на дух не переносит мою маму): она его кормит, купает, помогает сходить в туалет. Но Ульрих слаб не только физически. Ему никогда не хватало духу заступиться за свою дочь. Когда Эрика была маленькой, у нее была астма, и ее мама иногда подбегала к ее кровати, вскинув руку со щеткой для волос, и шипела: «Прекрати. Этот. Кашель», пока ее дочь не научилась сдерживаться.
Ярость Эстер была для него так же неодолима, как и его паралич. Но он сказал Эрике: «Я все уладил, дорогая. Когда меня не станет, у тебя все будет хорошо». Поэтому мама была просто в шоке, когда спустя несколько месяцев после его смерти обнаружила, что ее выгнали из дома, лишив наследства. «Моя дочь, Эрика Эллнер, рассердила меня, о чем она потом вспомнит и пожалеет, — процитировал юрист завещание, глядя на нее поверх очков. — Я оставляю ей сумму в размере четырех тысяч долларов». Все остальное имущество — а это много всего, включая и то здание, где она живет, — отошло мачехе.
Это новое завещание.
— Его заставили это сделать, — уверяет мама. — Я могу подать в суд?
— Нет, ведь вы указаны в его завещании, — отвечает юрист. — Собственно, поэтому вам и достаются эти четыре тысячи долларов. Понимаете? Теперь вы не можете сказать, что он оставил вас без наследства.
* * *
День благодарения 1976 года. Эрика в своем кабинете разбирает бумаги, но вместе с тем создает беспорядок, что совершенно сбивает ее с толку. И тут дочь вдруг спрашивает, может ли она забрать ее портрет, написанный маслом, к себе в общежитие.
— Да, пожалуйста, — отвечает Эрика. — Я так устала смотреть на него.
В ее голосе слышится легкое сожаление. Она стала другой, а вот женщина на картине совсем не изменилась.
Она добавляет:
— Когда я была молодой, я позировала для Лиги студентов-художников Нью-Йорка.
— Правда? — говорит ее дочь. У нее есть удивительная способность реагировать на любую историю Эрики, не выказывая при этом особого любопытства. — У тебя сохранились какие-нибудь работы?
— Нет. Но как-то раз я проходила мимо одного здания и увидела свой портрет в витрине.
Пока она говорит, она перекладывает стопку коричневых конвертов из бежевой бумажной папки в картонную и убирает на место. Она это делает так, как будто это ничего не значащая работа по дому, а не сокрытие десятка неоткрытых — не говоря уже о том, что не обналиченных, — чеков для возмещения расходов на медицинское обслуживание, которое осуществляет ее муж во время психотерапии. Она хранит каждый чек на депозитном счету в банке, вносит сумму в специальную табличку и подбивает все цифры. Дебет, кредит, категории. Но дело в том, что она не умеет подбивать цифры. Поэтому и хранит все чеки, как белка.
Ее дочь приходит в восторг. Да, конечно, они обе знают это здание. Оно красивое, в стиле французского Ренессанса, с очень высокими, выступающими витринами.
— А ты ходила туда, пыталась купить его?
— Нет, — говорит Эрика. — Мне нужна помощь на кухне.
— Ты даже не попыталась найти художника?
— Мне это было не так уж интересно — думаю, поэтому.
— Тебе не был интересен твой собственный портрет?
Эрика закрывает «ушки» картонной коробки. На ней напечатано: «ОДЕЖДА ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ».
— Помоги мне порезать зеленую фасоль, — говорит она.
В коробке, должно быть, чеков на тысячу или две долларов.
Скоро придется заводить новую. Как она вообще избавляется от таких вещей?
История с Биллом Риверзом — паразит, живущий у нее под кожей.
В 1946-м Билл Риверз приезжает в Нью-Йорк и три года учится в Студенческой лиге искусств.
В 1947-м мама начинает работать там моделью.
Ей двадцать один год, у нее нет отца, ее выселили из дома. Она уезжает с Уэст-стрит, 114 так далеко, как только может, туда, где улица Минетта переходит в переулок Минетта-Лейн.
Ее новая квартира маленькая и темная, но само здание, в котором она находится, похоже на замороженный торт. Эрика находит работу: продает по телефону рекламу в «Желтые страницы» и делает это лучше всех в офисе благодаря своему радостному-но-серьезному голосу.
А чтобы заработать себе «на булавки», она позирует в Студенческой лиге искусств.
В студии вкусно пахнет живицей. Мама заходит и видит, что большинство студентов — молодые мужчины. Она застывает, прижав книгу к груди. Ее обнаруживает куратор и говорит: «Спасибо, что вы пришли в нашу мастерскую», как будто она — художница, заглянувшая на огонек.
Он протягивает ей свернутую белую простыню и провожает за ширму.
Мама осторожно снимает одежду. В том, чтобы позировать художникам, нет ничего эротического. И она это знает. Это всего лишь работа. И она это знает. Она смотрит на свое тело, такое сексуальное, с пленительными изгибами, когда она одета, но, возможно, не такое соблазнительное, когда она обнажена. Груди дерзко торчат, но вот соски смотрят внутрь — и немного сморщены по краям. Ее доктор говорит, что ей придется кормить малыша из бутылочки, когда придет время.
Мама заворачивается в простыню и выходит к студентам, распрямив плечи.
Она отлично умеет позировать. После перерыва она легко возвращается в ту же позу. Она думает, что студенты, сидящие перед ней, могут быть не художниками, а медиками, судя по тому, с каким интересом они изучают ее тело, нащупывая взглядом верную линию, свет, тень.
Ей кажется, что один из них, прищурившись, наблюдает за ней, пока она облачается. Она отмечает, что он исключительно хорош собой, и поэтому не спешит, поправляя простыню. Она останавливается рядом с ним, чтобы посмотреть, как он ее рисует.
«Я еще не закончил, — говорит он и закрывает от нее свою работу. — Меня зовут Хейвуд Риверз. Но ты можешь звать меня Биллом. — Он протягивает ей руку. — Для меня большое удовольствие рисовать тебя, Эрика».
Мама закрывает глаза. «Дай угадаю», — говорит она. Она смотрит фильмы как заправский критик и удивительно хорошо слышит акценты. Она и свой нью-йоркский акцент выработала, просто смотря фильмы. «Северная Каролина», — говорит она и вызывает у него первый в их отношениях безудержный взрыв хохота.
Апрель 1992 года, и у магнолии на заднем дворе моих родителей цветы размером с салатную тарелку. Мой сынок играет в паровозики в гостиной, игнорируя историю, которую для него на ходу сочиняет мой отец.
А на втором этаже мама рассказывает нам с мужем окончание ее истории с Биллом Риверзом. Мы в ее заваленном барахлом кабинете. В принципе, он уютный. Это мамина версия домашнего очага, вокруг которого собирается вся семья.
Она говорит, что он подарил ей картину.
— У вас была картина Билла Риверза? — Муж жаждет подробностей. Его интересует американо-африканское искусство — очень интересует; мы начали собирать его как любители. Он совершенно точно знает, кто такой Билл Риверз. — Где она?
— После того как мы потеряли друг друга из виду, — говорит мама, — я попыталась продать ее.
Мы потрясены, мой муж — потому что он понять не может, как мама могла упустить такую вещь, а я — потому что не могу понять, как можно, если вы так близки, что у вас даже есть друг для друга ласковые прозвища, просто так взять и продать подаренную картину?
Мама продолжает:
— Я как-то читала, что у Гарри Абрамса была большая коллекция работ, сделанных черными художниками. Я позвонила ему. Рассказала о картине, и он ответил: «Приноси».
Мама знает многих художников, чьи картины висят в офисе Гарри Абрамса. Сейчас она работает в Метрополитен-музее и проводит свой обеденный перерыв, прогуливаясь по галерее.
Он посмотрел на картину, затем на нее, потом снова на картину и назначил слишком низкую цену, прекрасно отдавая себе отчет в том, что однажды картина взлетит в цене.
«Спасибо, что уделили мне время», — сказала мама и забрала картину домой.
Мы с мужем смотрим друг на друга. Она знала, что картина была ценной.
— Так где же она? — спрашиваю я.
— Была повреждена во время переезда, — говорит мама рассеянно, как будто все это случилось не с ней.
— Как повреждена? — пытаюсь понять я.
— Не помню, — отвечает она и описывает рукой круг в воздухе, как бы говоря, что этот эпизод стерся из ее памяти, развеялся как дым.
— Сильно повреждена? — не унимается муж.
Мама пожимает плечами.
— Кто знает.
Мы с мужем снова обмениваемся взглядами.
— Но ведь картины подлежат реставрации, — говорю я, и мои слова повисают в воздухе: «Ты ведь была на короткой ноге с художниками, ты работала в музее, тебе ведь все это было известно». — Так что же с ней случилось?
Мамины руки опять взмывают в воздух. Дым, сплошной дым.
— Выкинула.
История Билла Риверза — паразит, живущий у меня под кожей.
* * *
Мысль о Париже практически не выходит у него из головы с тех пор, как та простыня соскользнула с ее плеча, как кокон с бабочки.
Половина всех художников, которых он уважает, находятся в Париже или собираются туда. Бофорд Делани. Эд Кларк. Лоис Мейлу Джонс, у которой хватило мужества продолжать начатое и не сдаваться, действуя в одиночку29.
Они часто ходят к Стэнли. Эрика идеально вписывается в это место. Она как никто умеет слушать собеседника, и, если ей есть что добавить, она с удовольствием проявляет свою эрудицию. Речь заходит о новой галерее, которую открывают в Париже какие-то темнокожие художники-экспаты30, и он хочет теперь писать современные картины, быть частью этого.
Он приносит картину Эрике в переулок Минетта-Лейн. «Как тебе?» — спрашивает он искренне.
Он видит, как внимательно она изучает сложные формы, световые пятна, мазки. Это конец его фигуративного периода, церквей, тетушек, сшитых вручную лоскутных одеял. Портретов, сделанных на занятиях. И он это прекрасно осознаёт.
«Мне очень нравится, — наконец произносит она. — И для меня очень важно, что ты отдаешь ее мне».
А потом происходит одно из двух.
Либо он делает ей предложение руки и сердца — и она все портит.
Либо не делает и не собирается.
* * *
В мае 1983 года я звоню домой, чтобы поделиться с родителями новостью.
Мы с моим женихом держим вместе телефонную трубку, стоя в залитом солнцем проеме балконной двери.
Мы живем во Французском квартале в Новом Орлеане31, мы оба репортеры в газете Times-Picayune — он занимается расследовательской журналистикой, я — медицинской.
Он черный. Я белая.
Он совершенно точно уверен, что мне лучше подождать и сообщить все родителям лично. Но я не понимаю его опасений. Мне двадцать семь лет. Я люблю своих родителей. И не могу больше ждать.
Я делаю вид, что ничего не понимаю.
Трубку поднимает отец, я сообщаю ему, и он говорит: «Да это лучшее, что ты могла мне сообщить, дорогая. Если бы мне самому пришлось выбирать себе зятя, я бы тоже выбрал этого парня». Я слышу, как он бежит по ступенькам наверх, в мамину комнату.
К моему изумлению, когда я сообщаю новость ей, молчание на другом конце провода затягивается, и я начинаю нервничать. И эта женщина когда-то пичкала меня книгами Элис Уокер32, Ричарда Райта33, Тони Моррисон34; именно она привела меня однажды на Бродвей смотреть премьеру спектакля For colored girls who have considered suicide / when the rainbow is enuf35. Может, конечно, это я все неправильно поняла.
Наконец она произносит: «А как быть с детьми?»
Мне двадцать семь. Я делаю вид, что ничего не понимаю.
«А что с детьми? — отвечаю я бесцеремонно, чувствуя, как закипаю. — Бить мы их не будем».
В 1949 году Билл Риверз едет в Париж, где встречает американку выдающегося ума, с притягательной улыбкой. Ее зовут Бетти Джо Робертс. У нее степень магистра по английскому языку и стипендия Фулбрайта, благодаря которой она и оказалась в Сорбонне. Она белая. Представьте себе, что он водит Бетти Джо в Les Deux Magots36, где писатели, художники, музыканты из разных стран, черные и белые, пьют прекрасное дешевое французское вино. Она идеально вписывается в это место, смеется с гостями, а стоит ей что-нибудь рассказать — и все замечают, как она умна и как с ней весело. Повторяется та же история, что и с Эрикой у Стэнли, только теперь все еще лучше, потому что это Париж, и он чувствует, что его артистическая жизнь распускается, как редкий цветок, расцветающий по ночам.
Один из художников-экспатов говорит: «Об Эрике ничего не слышно?» — и приобнимает Бетти Джо, которая не тратит времени на глупое беспокойство о том, что не находится в ее непосредственной близости.
«А то мы потеряли связь», — добавляет он.
Когда он делает Бетти Джо предложение руки и сердца, она не спрашивает: «А как быть с детьми?»
Но из-за того, что во Франции межрасовые браки запрещены, в 1951 году они садятся на корабль и плывут в Англию, где и женятся. Сначала у них рождается сын, потом дочь. Чудесная темнокожая малышка, как сообщает журнал Jet. Удается ли ей по-прежнему посещать занятия в Сорбонне? Билл теперь так лихо орудует краской, накладывая густыми мазками янтарно-желтый, голубой, приглушенно-зеленый, что некоторые его холсты просто невозможно свернуть и отправить обратно домой.
В одном из некрологов по случаю ее смерти было написано, что, когда Бетти Джо спросили о парижских годах, предшествовавших их разводу, она охарактеризовала то время как «бедность, красоту и счастье».
Похоже, он никогда и не предлагал руку и сердце моей матери.
* * *
Маме есть чем еще поделиться. Она решается рассказать об этом, когда моему сыну исполняется десять, и я снова остаюсь один на один с ней в ее кабинете, забитом всякой ерундой.
Однажды, когда она гуляла по Нью-Йорку много лет спустя после того, как они с отцом переехали из Виллиджа, кто-то вдруг окликнул ее по имени. Ей навстречу шел Билл Риверз, он узнал ее и был очень рад видеть.
— Наши взгляды встретились, — рассказывает мама. — Он тут же понял, что я его узнала. Но я остудила его пыл, сделав вид, что первый раз его вижу, и прошла мимо.
Меня пронзает боль, как будто человек, которого она проигнорировала, — это я или она сама.
— Но почему? — едва сдерживаясь, спрашиваю я.
— Не знаю, — отвечает она. — Мне теперь так стыдно за свое тогдашнее поведение.
— Ты прекрасно знаешь, почему, — думаю я. — Конечно же, ты знаешь.
— Можно попытаться найти его, — предлагаю я. — Можно навести справки.
Она закрывает рот рукой.
— Это было бы слишком болезненно для меня, — отвечает она. — Пожалуйста, не надо.
Я даю ей слово.
Я не буду ничего предпринимать.
Я никогда ничего не предпринимаю.
Билл Риверз умрет в 2002-м. Но я узнаю об этом лишь спустя годы.
За год до смерти Эрики (ей восемьдесят четыре, а мне пятьдесят семь) я задаю ей личный вопрос. Лучше бы я этого не делала.
— Ты так часто говорила о Билле Риверзе, — говорю я. Мама, сидящая в инвалидном кресле, смотрит на меня с оживлением. — Он подарил тебе картину. Вас связывала потрясающая… дружба. Я часто о вас размышляла.
Мама ждет. Она все так же красива, как когда-то, только теперь ее волосы выглядят скорее седыми, чем посеребренными сединой, и она стала полнее. Под свитером у нее прячется зонд для кормления, а под шарфом — трахеостома37.
Делаю глубокий вдох.
— Мам, а вы с Биллом были любовниками?
Я могу спросить это, потому что попросила ее сиделку оставить нас наедине. Маме теперь нужна помощь. В спальне дремлет отец, его собственное инвалидное кресло стоит рядом.
Мама подбирается и бросает на меня оскорбленный взгляд.
— Как тебе только в голову пришло спрашивать у меня такое.
Отец умирает в мае 2014-го, а мама — спустя семь недель после него, сразу же после экстатического припадка, во время которого она признаётся в следующем (я успела сделать несколько лихорадочные записи):
— Передай своим друзьям. Я принимаю чудо, которое снисходит на меня. Я принимаю чудо, которое снисходит на меня. Я принимаю боль с благодарностью. Я самая счастливая женщина в мире. — Она делает паузу. А потом продолжает: — Я думаю, одна из самых гадких вещей в жизни — это циничное поведение.
История о Билле Риверзе, рассказанная моей мамой, подошла к концу.
Но моя история о Билле Риверзе, которая разыгрывается у меня в голове, подобно мелодраме, еще не закончена. У нее два возможных конца.
Представьте себе.
1949 год. Торговцы продают на улицах города рыбу и свежую кукурузу, тут же можно купить костюм с двумя парами брюк.
Билл Риверз сообщает маме, что едет в Париж.
Она догадывается об этом. Но ничего не отвечает.
Он говорит ей: «Поехали со мной, Эрика? Это же Париж. Нас ждет настоящая магия. Я буду рисовать, а ты учиться в Сорбонне — будешь изучать все, что захочешь».
Но она молчит. Ее голубые глаза сейчас скорее как океан, чем как небосвод.
«Поехали со мной в Париж, — говорит он. — Выходи за меня».
Мама аккуратно спрашивает: «А там это законно?»
Он наклоняет голову и смотрит внимательно на маму. «Это законно в Англии», — отвечает он.
Есть лодка.
В долгой, звенящей тишине, в которой она борется с собой, чтобы не обнять его в ту же самую секунду, она спрашивает: «А как быть с детьми?»
И когда он уходит, у нее такое чувство, что перед ней разверзлась могила.
Или же он не делает ей предложения руки и сердца.
А просто говорит ей, что едет в Париж.
Она догадывается об этом. Но ничего не отвечает.
«Я буду безумно скучать по тебе, Эрика, — говорит он. — Обещай, что будешь писать мне».
Мама кивает. «Безумно» не отражает того, через что ей пришлось пройти за эти два года. Она молчит.
Он говорит: «Приходи на причал проводить меня в следующую субботу».
Мама отвечает, взвешивая каждое слово: «Боюсь, это невозможно».
Он смотрит на нее, ничего не понимая. И вдруг до него доходит смысл сказанного. Он кивает и целует ее в лоб.
И когда он уходит, у нее такое чувство, что перед ней разверзлась могила.
В моей мелодраме о Билле Риверзе и для картины находится место.
Мама, которой двадцать один или двадцать два года, модель, муза. На портрете она сидит. Обнаженная.
Хейвуд Билл Риверз — настоящий художник. Потому что картина просто потрясающая — ее мотивы перекликаются с орнаментами покрывал, которые делались женщинами в его семье, — она выставлена в оконном проеме Студенческой лиги искусств, и прохожим, снующим по Пятьдесят седьмой Уэст-стрит, она тоже видна. Конечно же, маме не интересно узнать, кто написал эту картину. Она и так это знает.
Они ходят в бары, где художники встречаются с мыслителями своего времени. Становятся достаточно близки, чтобы дать друг другу ласковые прозвища. И однажды Билл Риверз дарит ей портрет.
Возможно, два-три года спустя после того, как ушел тот корабль, один общий друг говорит ей, что Билл Риверз живет в Париже, женат, и не просто женат, а на белой женщине, на женщине, у которой было то, что моя мама бы восхищенно назвала храбростью.
Эта женщина учится в Сорбонне, у нее есть ребенок, может, два, и она дружит с теми самыми художниками-экспатами, с которыми мама ерничала в свое время в Нью-Йорке…
Мама идет домой, в переулок Минетта-Лейн, и долго стоит перед портретом женщины. Она говорит ей: «Твою жизнь теперь проживает Бетти Джо Риверз».
* * *
«Эрика!»
Голос Билла Риверза в тот день пронзает сердце моей мамы насквозь.
«Эрика, — говорит он (она думает, что он так говорит). — Скажи мне, как ты распорядилась своим блестящим умом?
Ты сделала правильный выбор?
Ты вышла замуж за правильного парня?
Ты бы стала учиться в Сорбонне, Эрика? Смеяться с писателями в Les Deux Magots?
Зарыла ли ты в землю свой потрясающий талант острослова или написала книгу?
Удалось ли тебе побродить по Парижу?
Что бы ты думала, если бы твоей дочерью была чудесная темнокожая малышка?
Кого бы ты любила, Эрика?
Кем бы ты была?»
В 2001 году по маминой просьбе я прячу три коробки с чеками на возмещение расходов на медицинское обслуживание в нашем гараже в Санта-Монике. Она предполагает, там чеков тысяч на десять долларов. Когда же мы задумали переезжать в 2007 году, коробок в гараже не оказалось. Мои родители сейчас живут в Брентвуде, довольно близко, поэтому я спрашиваю маму, не она ли их взяла.
Она делает в воздухе неопределенный жест рукой. Рассеялись как дым.
* * *
Мой муж вдруг обнаруживает, что одна из картин Хейвуда Билла Риверза, ранняя работа в фигуративной манере, — сельская церковь с детально изображенным хором в нише — была продана с аукциона как часть имения миссис Гарри Н. Абрамс 7 апреля 2010 года. Она ушла за 5625 долларов.
Я уговариваю консьержа в доме моего детства дать мне заглянуть в подвал.
Невероятно, но в 2012 году люди живут в крошечных комнатушках, запирающихся на один замок, — через приоткрытые двери я слышу, как у них работает телевизор, и вижу аккуратно выстроенные в ряд ботинки.
В прачечной больше нет скрипучих сушильных шкафов, как будто я все это выдумала, как будто и не было никогда оранжево-голубых горелок.
После того как умерла мама в 2014-м, я регулярно устраиваю паломничество по адресу Минетта-Лейн, 16. Я все еще отчаянно мечтаю жить здесь, потому что, хотя мне теперь пятьдесят восемь, без мамы я навсегда останусь восьмилеткой.
Дом в переулке Минетта-Лейн больше не розового цвета. Кто-то снял фонарик и перекрасил здание в белый.
Пятнадцать
Бернис Макфадден
В первый раз я сбежала из дома, потому что твой муж, мой отец, дал мне пощечину. Он был пьян, мне было пятнадцать. Оплеуха была мощной; я отлетела к шкафу. Помню, как гладила свою горящую щеку одной рукой, а второй пыталась прикрыть голову от сыпавшейся на меня с полок одежды и металлических вешалок.
Оправившись от шока, я выползла из шкафа, собрала чемодан и ушла.
По дороге из бруклинской квартиры, в которой мы тогда жили, я встретила тебя, как раз заворачивавшую за угол: ты шла домой после длинного рабочего дня.
Ты опешила, увидев, как я волочу чемодан в сторону поджидавшего меня такси. Спросила, что не так, хотя по моим слезам и по ярко-красному пятну на щеке все было и так понятно.
— Ненавижу его, — выкрикнула я, когда водитель положил мой чемодан в багажник. Я забралась на заднее сиденье и с силой захлопнула дверь. Ты осталась стоять на тротуаре, заламывая руки.
Не знаю, что случилось дома в тот вечер. Но уверена, что вы поругались. Он наверняка заявил, что я плохо воспитана, что я ему дерзила, что вела себя так, словно я лучше его, потому что хожу в частную школу, что мои одноклассницы — белые девочки из привилегированных слоев общества — разговаривают с родителями почтительно и он не намерен терпеть подобное высокомерие от своей темнокожей дочери.
Трое суток я жила у лучшей подруги. Я не стала звонить тебе, чтобы сказать, где я или что со мной все в порядке.
Я планировала провести там еще несколько недель, а потом вернуться в пансион к концу лета. Как именно провернуть все это — не имея денег, — я не знала.
Утром четвертого дня, едва рассвело, раздался звонок в дверь. Потом еще один. Звонили долго, настойчиво, со злостью.
Еще до того, как мама моей подруги посмотрела в дверной глазок, я знала точно, что это он стоит за дверью.
Сидя на заднем сиденье его машины, я проревела всю обратную дорогу домой.
Через несколько лет я снова сбежала. Он по-прежнему пил, а ты по-прежнему уходила и приходила, уходила и приходила. И когда я спросила, почему бы нам не уйти насовсем, чтобы больше не возвращаться, почему бы нам не переехать к бабушке с дедушкой, мои слова тебя задели. Я смотрела на тебя испытующе, но ты, поправив очки, отвела грустный взгляд в сторону и пробормотала:
— Есть кое-что, чего ты не знаешь о своей бабушке. Как-нибудь я расскажу тебе, как-нибудь.
К тому моменту, когда я уже перестала ждать, что ты уйдешь от него, что расскажешь мне то, чего я не знала о бабушке, мне исполнилось девятнадцать, у меня была постоянная работа, парень и собственная телефонная линия, которую я оплачивала отдельно. Да, я, конечно, жила под его крышей, но я уже не была ребенком, у которого нет права голоса и который зависит от старших. Я считала себя чертовски взрослой женщиной. И теперь, если он повышал на меня голос, я отвечала ему тем же.
Мне было двадцать два, когда его уволили с работы, на которую он устроился в год моего рождения. Спустя три месяца я родила собственного ребенка, теперь у меня была дочка. Родила ее я, но воспитывали ее мы вместе — она принадлежала нам обеим, — мне и тебе, мамочка; она была моей дочерью, но нашей девочкой.
В 2001 году я взяла нашу девочку, и мы переехали с ней в наш собственный дом. Оставляя тебя, я знала, что ты в безопасности с ним, потому что соотношение сил к тому моменту изменилось. Теперь ты стала главой семьи, ты была кормильцем. Все начинания исходили от тебя, ты принимала все решения. Его присутствие в доме сократилось до положения гостя с правами сквоттера38.
Я всегда была вежливым и послушным ребенком, и, став подростком, я не изменилась.
Наша же девочка была другой, она открыто выражала свои мысли, держалась развязно — я бы себе такого никогда не позволила. Она была скорее похожа на тебя, чем на меня.
Когда, учась в старших классах, она увлеклась одним мальчиком, я сказала ей то же, что мне говорила ты, когда мне было пятнадцать: начнешь бегать на свидания, когда тебе исполнится шестнадцать, и не раньше.
Если бы я в свое время не была изолирована от внешнего мира в женском пансионе, я бы, может, и проигнорировала твой запрет; но она-то не была изолирована, она ходила в бруклинскую школу и пристрастилась лгать мне о том, где она, с кем она, о том, что прогуливает уроки, чтобы побыть со своим мальчиком.
Узнав обо всем, я, естественно, разозлилась. Я пыталась понять, спит ли она с ним. Но она все яростно отрицала и ни во что меня не ставила.
Я пригрозила ей, что выгоню ее из дома. Я открыто бранила ее по телефону, чтобы и друзья, и родственники слышали, — я надеялась таким образом устыдить ее и заставить меня слушаться.
Посмотри, какую жизнь она ведет, посмотри на дом, который я создала для нее. Я брала ее в путешествия по всему миру, и вот так она мне решила отплатить? Эгоистка, какая же эгоистка. Будь у меня в детстве то, что сейчас есть у нее, я бы никогда не доставляла своим родителям хлопот. Сказать по правде, у меня и сейчас ничего этого нет и я до сих пор живу по родительской указке.
Да этому парню наплевать на нее. Ей только кажется, что она влюблена. Но ведь секс — это не любовь, это только кажется, что это любовь.
Какая эгоистка.
Со временем все стало еще хуже.
Потеряв всякое терпение, я сделала то, чего клялась никогда не делать. Я прочла ее дневник, где обнаружила (как и подозревала), что секс у них все же был. А также я узнала, что ее подростковое презрение обернулось ненавистью ко мне.
Когда она пришла из школы, я начала размахивать этим дневником у нее перед носом. Помню, как шелестели страницы, громко, зловеще, словно крылья целой стаи черных птиц. Ее обычная неприступность и надменность вдруг дали сбой, и она разрыдалась. Тогда я и почувствовала, что отомщена.
Мы разошлись по разным комнатам, где и просидели каждая при своем мнении. Когда я проснулась на следующее утро, дома ее не было.
Она оставила письмо, в котором обвиняла меня в том, что я вторглась на частную территорию и что я не знаю, что такое любовь и преданность.
Я позвонила ее отцу и спокойно рассказала ему, что наша дочь сбежала. В ответ я услышала лишь усталый вздох.
Я знала имя и фамилию того мальчика и знала его телефон. А в справочнике на сайте Reverse Phone Lookup я нашла и его адрес.
Я позвонила тебе рассказать, что произошло.
Узнав, что наша девочка сбежала, ты расстроилась так же сильно, как тогда, когда мой отец поднимал на тебя руку.
Пока ты ехала к нам на такси, ее отец, ветеран нью-йоркской полиции, стучал в дверь дома, где жил тот парень.
Позже, когда моя дочь уже стала взрослой женщиной и могла спокойно говорить о том времени, она призналась, что они с тем парнем окаменели от ужаса, когда ее разъяренный отец барабанил в дверь. Они были уверены, что он ее сейчас выбьет.
Ты приехала в сопровождении моей сестры и невестки. Все мы собрались в гостиной, переживая, что еще один член откололся от нашей и без того не очень дружной семейки.
Тягостное ожидание длилось несколько часов. Когда ее отец ушел, парень тайно увел нашу девочку из одного безопасного пристанища в другое, а потом чья-то вовремя насторожившаяся мама сумела убедить ее вернуться домой и объясниться со мной.
Несмотря на всю эту неразбериху, ты была все время как-то подозрительно тиха, и, когда наконец мы поняли, что наша девочка едет домой, ты повернулась ко мне, и я увидела, что выражение твоего лица изменилось: ты больше не переживала, ты была встревожена.
— Только не отправляй ее в тюрьму, — сказала ты.
— Что? — проблеяла я тонким голоском. — Что такое ты говоришь? С чего мне сажать ее в тюрьму?
— Ты не в курсе, что сделала однажды твоя бабушка… Как-нибудь я расскажу. Как-нибудь.
И вот этот день наконец настал.
Я знала, что ты родилась в 1943-м, за несколько месяцев до того, как твоей маме исполнилось шестнадцать. Через какое-то время она уехала в Чикаго, не желая больше видеть расизм и бедность, царившие на юге. А также убегая от мужчин, которые были уверены, что на женщин, живущих в том доме, у них есть такие же права, как на землю, которую они возделывают.
Когда твоей маме было двадцать пять, а тебе девять, она наконец послала за тобой, потому что ты была уже большой девочкой, у тебя уже начала расти грудь.
Ты узнала ее поближе и сразу же поняла, что она была патологической лгуньей и воришкой.
Вранье и кражи начались, когда она была еще ребенком. Ее сестра рассказывала истории о Тельме, о том, что, будучи нечистой на руку в детстве, она продолжила воровать, уже став взрослой. Она крала у родственников дорогие их сердцу фотографии и ювелирные украшения у сотрудников фирмы.
Когда я училась в средней школе, она возглавляла отдел охраны в здании, где располагались корпоративные офисы основных финансовых институций. Она подарила мне кольцо, которое я ношу по сей день. Кольцо, которое она однажды стащила из открытого сейфа одного инвестиционного банкира.
Ты мне рассказывала, как она узнала о том, что ты встречаешься с мальчиком постарше. Он подарил тебе два кашемировых свитера, которые ты обычно прятала на самом дне чемодана. Однажды ты пришла домой, а тут мама: стоит у плиты в тех свитерах — обоих сразу. Ты была в шоке, но ничего не сказала. Она тоже. Она разложила еду по тарелкам и поставила на стол. За ужином вы разговаривали о чем угодно, только не о тех свитерах. А после еды ты помыла посуду, пошла к себе в комнату и разревелась. Больше этих свитеров ты не видела.
Когда вы с папой планировали свадьбу, он позвонил тебе, требуя объяснить, почему ты солгала, что влюблена в него, почему сказала, что ребенок, которого носишь, от него, хотя он был зачат от другого мужчины, и почему тебе не хватило смелости сказать правду ему в лицо вместо того, чтобы посылать письмо, как настоящая трусиха.
Ты тогда тоже получила письмо.
Письмо, в котором он признавался в любви к другой женщине. Она тоже была беременна, и он собирался жениться на ней.
Ни один из вас этих писем не писал. Когда вы сравнили почерк, он совпал. Да и на марке стояла одна и та же дата и индекс — 11420.
Это был ваш с мамой индекс. Это она отправила вам письма, хотя и отрицает все по сей день.
Когда ты впервые решила поделиться со мной всеми этими историями, я была слишком мала, чтобы что-нибудь понять.
Но по мере того, как я взрослела, мне открывалась правда.
В Чикаго моя бабушка уходила из дома до рассвета, чтобы ехать на работу, оставляя тебя одну. Она была прислугой в пригороде, где жили состоятельные люди. Ты должна была сама проснуться, одеться, поесть и пойти в школу. А вернувшись домой, ты делала домашнее задание и начинала готовить ужин. Тебе было девять лет.
В конце концов вы с мамой переехали сначала в Детройт, а потом, наконец, и в Бруклин.
К тому моменту ты была уже подростком.
У вас были свои разборки. Разборки, которые случаются между матерью и дочерью. Вот только твоя мать никогда не умела вовремя остановиться. Ты говорила, она никогда не поднимала на тебя руку, но уж лучше бы она тебя била — иногда лучше хорошая оплеуха, чем постоянное ворчание и придирки. Ты говорила, она заводилась из-за малейших промахов с твоей стороны: то раковина недостаточно чиста, то ковер не выбит как следует. Тебе казалось, она получает удовольствие, заставляя тебя чувствовать себя несчастной.
Именно эта травля и заставила тебя убежать из дома летом 1958-го. Тебе было пятнадцать лет.
Ты говоришь мне, что тогда в вашей общине редко кто получал даже среднее образование. В колледже учились только белые. И если ребенок оканчивал среднюю школу, это становилось поводом для празднования. Твоя собственная мать доучилась только до четвертого класса.
У тебя был план. Ты собиралась бросить школу в старших классах, найти работу и снять комнату — и больше никогда в жизни не слышать ее придирок. В тот день, когда жизнь твоя изменилась, ты была в баре с друзьями — в те годы подростки ходили в бары и их обслуживали, если они выглядели на восемнадцать. Ты выглядела довольно взрослой для своих пятнадцати лет. К тебе подошли двое мужчин в костюмах, предъявили золотые значки39 и представились детективами из Нью-Йорка. Они спросили, как тебя зовут. А потом надели на тебя наручники, зачитали тебе твои права и увезли на полицейской машине без опознавательных знаков.
Ты рассказываешь эту историю, и я вижу, как твои карие глаза становятся черными, — ты вернулась мысленно в 1958 год, сидишь на заднем сиденье той полицейской машины, напуганная, совсем ребенок.
Наш разум — вещь настолько же удивительная, насколько и опасная: он сам выбирает, от каких воспоминаний нас оградить, а какими огорошить. Ты вся дрожала.
В зале суда твоя мать поднялась со своего места и обвинила тебя в том, что ты украла у нее деньги и ювелирные украшения. Находясь в зале суда, твоя мать поднялась со своего места и солгала.
Тебя приговорили к году заключения в «Вестфилд Фарм» — женском исправительном учреждении в Бедфорд-Хиллз, штат Нью-Йорк.
Мать приходила навещать тебя каждые выходные. Она приезжала навещать тебя, словно ты находилась в летнем лагере. Вы никогда не говорили о том, что она сделала или почему она это сделала. Ни до того дня, ни после вы ни разу не обсуждали того, что случилось. Повторилась история с кашемировыми свитерами.
Ты знала, что в нашей семье полно секретов, ужасных секретов, которые были слишком болезненными и постыдными, чтобы их обсуждать, поэтому никто о них и не говорил. Мы не говорили о дяде, который изнасиловал по меньшей мере двух своих племянниц, и они понесли от него; о брате, который ласкал свою сестру; о тетке, пытавшейся утопить своего ребенка в ванне, но ей не удалось.
Поэтому, навещая тебя в тюрьме, бабушка приносила тебе сигареты, конфеты, гигиенические прокладки и журналы, но не давала никаких объяснений, а ты ничего и не спрашивала, ведь тебе были известны правила.
В мае 1959-го Гэй Тализ, опытный журналист, редактор и старший вице-президент американской издательской компании Doubleday, посетил тюрьму и написал статью в The New York Times о том, как занимаются спортом заключенные Вестфилдской тюрьмы.
Двадцать пять босоногих девушек в шортиках сидят на полу в позе Будды, медленно вращая запястьями. Их головы и туловища раскачиваются в такт ритму, который им отбивают на африканском барабане.
Интересно, была ли и ты среди тех босоногих девушек.
…Выступавшие заключенные почти час прыгали и скакали, ползали по полу и качали бедрами в такт многочисленным мелодиям, включая «Ритуал дикарей» Леса Бакстера40.
По окончании своего срока ты вернулась домой. У твоей матери был новый мужчина; она собиралась за него замуж. Ты так и не вернулась в школу. Ты познакомилась с моим отцом, забеременела, вы поженились, и родилась я. Ты продолжала жить как ни в чем не бывало, храня этот секрет в сердце, как пестик для колки льда. И потом вдруг из дома сбежала наша девочка, и тот пестик выпал, и ты наконец рассказала мне о том, что держала в себе сорок пять лет.
«Ты обещаешь мне, что не отправишь ее в тюрьму, обещаешь?»
Последний раз я слышала такие умоляющие нотки в твоем голосе семнадцать лет назад, когда мой отец держал пистолет у твоего виска. У меня сердце оборвалось, когда я узнала об этом. Оно обрывается у меня и сейчас, когда я об этом думаю. Но ты не любишь слез, поэтому я сдержалась, чтобы не расплакаться, пока наша девочка не вернулась домой и ты не уехала к себе — и только тогда я расплакалась за нас всех.
Не осталось ничего недосказанного
Джулианна Бэгготт
К десяти годам я стала маминым духовником. Мои старшие братья и сестры были либо подростками, либо уже совсем взрослыми, у них была своя жизнь. Осталась только я, и маме было скучно и немного одиноко — а может, просто впервые в жизни у нее появилась возможность подумать о себе, вспомнить детство. Она не пускала меня в школу, и я сидела дома и занималась счетами, играла в казино, а она рассказывала мне самые темные истории, которые только можно себе представить.
Помню, эти наши беседы происходили на крыльце, пока мы играли в карты. Конечно, тут что-то не сходится. Ведь жили в Делавэре, а большую часть года там очень холодно. Но в моих воспоминаниях это всегда поздняя весна. Мама в домашнем платье, ее лицо обрамляет копна рыжих волос. Она бросает карты на клеенку. Наш нервный далматинец, Дульче, снует туда-сюда, выбегая через специальное отверстие, сделанное для него в двери, — пластиковый щиток, который привесил отец.
Мама оставляла меня дома и если за окном шел дождь (переживала из-за автобуса на шоссе), и когда на улице светило солнце, хотя погода порой была слишком хорошей, чтобы сидеть в четырех стенах. Она оставляла меня дома в свой день рождения, который, по ее разумению, был гораздо важнее для меня лично, чем день рождения любого из президентов. Иногда у нее вообще не было никаких причин так поступать. Но она уверяла меня, что я выше всех этих школьных уроков.
— Дай другим детям шанс подтянуть свои знания, — говорила она мне заговорщицки, как будто я была гением и это надо было скрывать.
Но это было не так, и я знала об этом. Училась я довольно посредственно, плавала в математике, никогда особо не читала. Из-за того, что я часто отсутствовала на уроках, плохо знала историю и естественные науки. Однако мне удалось научиться кое-чему очень важному — притворяться, что я что-то знаю. Мы серьезно относились к карточным играм, но обе частенько мухлевали. Мать уже воспитала троих детей, и я была для нее скорее приятелем по играм, чем ребенком. Я привыкла, что со мной разговаривают как со взрослой. И я просто ненавидела, когда другие взрослые обращались со мной как с маленькой. Я была уверена, что весь остальной мир недооценивает детей, и, судя по признаниям моей матери, я точно могла вынести гораздо больше.
Говоря, что эти истории были темными, я не преувеличиваю. Взять, например, историю тетки, которой сделали аборт в домашних условиях с помощью вязальных спиц; ребенок прожил три дня. Или вот другая история: одна из теток моей бабушки повесилась на столбике кровати. Были, однако, и истории, которые происходили с самыми близкими, — например, отец моей матери издевался над моей бабушкой. Мама рассказывала сама, что когда она была ребенком, то думала, что варикозные вены — это синяки, которые остаются от рук жестоких мужей.
Не помню, чтобы мама становилась какой-то напряженной или плакала, рассказывая мне эти истории. Я не помню особого проявления эмоций с ее стороны или нескончаемого потока слов. Она пыталась что-то припомнить, подбирала слова. Иногда у меня складывалось впечатление, что она впервые проговаривала какие-то вещи вслух, воспоминания словно накрывали ее с головой, как плохие, так и хорошие.
А хорошие истории тоже были. Преданность моей матери музыке, ее любовь к добрым монахиням, которые помогали ее семье, любовные отношения с моим отцом.
Эта история стоит особняком в моей памяти. Ее отец не умел ни читать, ни писать. Будучи из бедной семьи, он бросил школу совсем мальчишкой и пошел работать уборщиком в бильярдную. Однажды вечером, поливая траву, он попросил свою дочь рассказать ему, чему она научилась.
— Мне на ум пришли строки Шекспира, — рассказывает мама и тут же цитирует: «Сгорели свечи ночи, день веселый / Встал на дыбки на высях гор туманных…»41. — Она замолкает, а потом говорит: — Мой отец сказал тогда, что звучит красиво.
Мама чувствовала в нем некую глубину, какое-то томление.
— Остается только гадать, что бы он мог сделать, если бы жизнь дала ему шанс, — говорит она.
Родственники со стороны матери, кажется, верили, что истории обладают спасительной силой. Они воспринимали их как назидания, врачебную мудрость и уроки любви и потерь.
* * *
Когда мне было двадцать, и уже позже, разменяв четвертый десяток, я на какое-то время усомнилась в правдивости тех историй, которые слышала от матери. Они казались мне слишком похожими на сказки. Как это вообще возможно — повеситься на столбике кровати?
Одна история носила почти библейский характер. Наши предки из Ангиера, Северная Каролина, отправились как-то ночью в непогоду в путь — мужчина, женщина и ребенок, верхом на лошади. Мужчина и женщина были убиты, но ребенка нашли завернутым в виноградную лозу, живого! К этому моменту я уже сама была взрослой женщиной, матерью. В аспирантуре я изучала южную готику42 и прекрасно знала, о чем речь.
Однажды, сидя в кухне, отец составлял генеалогическое древо своей семьи. Он был очень скрупулезен — его волновали только факты. Мама считала, что это скука смертная. А лично для меня это ее заявление было равносильно признанию в том, что все ее семейные истории — выдумка чистой воды.
Поэтому я решила узнать у нее подробности — особенно той истории про тетку, которая повесилась.
— Это не могло произойти, чисто логически это как-то странно, — сказала я. — И слишком уж драматично.
Но мама не сдавалась. Мы тогда даже поругались из-за этого. В конце концов она немного уступила:
— Хорошо, — сказала она. — Можешь мне не верить.
Я вернулась домой — я жила тогда всего в миле от нее — с чувством, что моя взяла. А вечером мама пришла ко мне и принесла газетные вырезки, сохраненные в качестве семейной реликвии. Они были написаны в традициях южной готики, которые я так хорошо знала, и повествовали о слепой и недееспособной матери моей тетки, которая, находясь в соседней комнате, не могла ничем помочь и только слушала предсмертные хрипы дочери.
— И что теперь ты скажешь об этой истории? По-прежнему думаешь, я все выдумала?
Мне пришлось согласиться.
Когда наличие ребенка, найденного в виноградной лозе, спустя годы тоже подтвердилось (в одной небольшой, напечатанной самиздатом книжечке, рассказывающей об Ангиере), я сдалась окончательно. К этому моменту я уже стала писателем. И однажды мне в голову пришла мысль: тот факт, что я слушала все эти истории, мог частично повлиять на мой выбор профессии или по крайней мере воспитал во мне чувство прекрасного. Неудивительно, почему меня так и тянет к магическим реалистам и всякого рода выдумщикам: мне нравится налет абсурдности. С одной стороны, рассказывать мне все эти истории в столь раннем возрасте — довольно сомнительное проявление материнской заботы, но с другой — возможно, именно это и было нужно подающему надежды беллетристу, чтобы он мог, хорошенько впитав полученный материал, сплести свою художественную паутину. Когда мне было чуть больше тридцати и у меня уже вышло два романа, я решила, что наступило время написать часть нашей семейной истории.
* * *
Вот еще одна правдивая история: моя бабушка выросла в доме проститутки в Роли, Северная Каролина, во времена Великой депрессии. Ее мама была распорядительницей этого заведения. Это скрывали от моей мамы все ее детство; она была единственной, кто был не в курсе. На самом деле, именно мой отец и рассказал ей: они с мамой были еще молодоженами, когда он услышал об этом в одном из тех разговоров, которые ведут мужчины, растягивая слова, когда выйдут перекурить на крылечко. Мама была в шоке, но в то же время все сразу встало на свои места, как это часто бывает, когда выходит на поверхность долго скрываемая правда.
Хочу внести ясность: со временем я пришла к мысли, что невероятно важно рассказывать семейные истории, выпускать их наружу. В семье моего отца было особо не принято распространяться. Его отец умер, когда ребенку было пять лет, — он попал в аварию на армейском джипе, — и только спустя несколько десятилетий, когда моему отцу было под сорок, он узнал, что мама бросила мужа примерно за полтора года до этого. Она нацарапала ему записку, находясь в их квартире в Бруклине, и потащила троих детей обратно в Западную Вирджинию, одна.
Мне вся эта история казалась очень нездоровой, и, когда я вышла замуж за белого англосаксонского протестанта43 (в семье которого было принято держать язык за зубами), я начала активно проповедовать, как важно все рассказывать друг другу, ничего не тая. Детство моего мужа было омрачено разводом родителей, поэтому он воспринял мою идею с энтузиазмом.
К этому моменту моей бабушке уже исполнилось восемьдесят, ее здоровье сильно пошатнулось. Я понимала: для того чтобы узнать о ее детстве из первых рук, мне нужно поговорить с ней и сразу же записать всю эту историю, хотя я и сомневалась, готова ли ее выслушать.
Вооружившись маленьким диктофоном, мы с бабушкой сели на диван в ее розовой квартирке, она взяла на колени своего пуделя, и я начала ее расспрашивать. У нее было прекрасное детство, сказала она. Она любила родителей. У нее были чудесные воспоминания о тех женщинах, что жили в их доме. Мужчины часто давали ей мелочь, чтобы она сходила в кино. Но когда однажды ее мама уехала с каким-то мужчиной, ее и одного из ее братьев на какое-то время отправили в детский приют. А когда ей исполнилось пятнадцать, стало уже ясно, что она не может больше жить в одном доме с проститутками: это было слишком опасно. Тогда она вышла замуж за лучшего друга своего брата, моего дедушку. Когда он избил ее в первый раз, она села в автобус и уехала в родительский дом. Чего я никогда не могла понять — и сейчас отказываюсь, — это того, что, узнав о случившемся, ее мать отправила дочь обратно к мужу.
Довольно скоро я поняла, что бабушка неплохо справляется с интервью, а вот я нет. Мне было тяжело. Я реагировала слишком эмоционально, и мне приходилось удаляться в ее розовую ванную, чтобы побрызгать водой на лицо и привести себя в чувство.
В конце концов я научила ее пользоваться принесенным мной диктофоном, чтобы наговаривать воспоминания на кассету глубокой ночью, пока она страдает от бессонницы. Таким образом, я в любой момент могла остановить запись, не прерывая бабушку, если мне делалось не по себе.
Как-то раз бабушка рассказала мне о нескольких вещах, о которых я не должна говорить маме. Их не так много, но все равно их нужно записать. Так я стала буфером между ними.
* * *
Здоровье бабушки ухудшалось, и однажды она сказала маме: «Есть кое-что, о чем я тебе никогда не рассказывала». Было понятно, что это нечто важное и ей нужно успеть рассказать, пока не станет слишком поздно.
К этому времени осталось не так много недосказанного. Все истории, которые мне в свое время поведала бабушка, я пересказала маме — нам было о чем поговорить. Моими стараниями обнаружилось много всего, что тщательно скрывали годами. Некоторые члены нашей семьи, славящейся своими рассказчиками, прожили долгую жизнь, и чем старше они становились, тем больше им хотелось поведать.
Мама говорит, она вдохнула поглубже и подумала: «Ну вот. Началось».
Она объясняет свои опасения следующим образом: «Мама и так рассказала мне очень много всего. Она была предельно честна со мной. И я была уверена, что она ничего не утаила. Я и представить себе не могла, что меня ждет, и поэтому боялась».
Бабушка посмотрела на свою дочь, прочитала ее выражение лица — смесь ужаса и, возможно, усталости. И вдруг, как будто передумав, заявила: «Хотя, знаешь, есть, наверное, вещи, о которых тебе знать не следует». Мама почувствовала облегчение. Она с благодарностью подумала, что они с ее мамой настолько близки, что умудрились сказать друг другу так много, не произнеся ни слова.
Мама время от времени вспоминает тот случай. Отказала ли она своей матери в чем-то? Попросила ли она свою мать проявить доброту в последний раз, и было ли это настоящим подарком — то, что та ничего не рассказала?
— Признаюсь, иногда я думаю, что же это могло быть, но я ни о чем не сожалею, — говорит мама. Она была единственным ребенком. Она родилась, когда ее матери было всего семнадцать. Их связывали отношения матери и ребенка, но взрослели они вместе.
Они любили друг друга так глубоко, как только могут двое людей.
Я думаю о матери моего отца — той, что написала мужу записку и увезла детей домой, в горы. Их отец умер. Зачем говорить им, что брак родителей распался? Или что он спускал все деньги, которые был обязан выплачивать им в качестве алиментов, на выпивку и оставил детей ни с чем? Он тоже, конечно, был хорош. Почему бы не оставить детям те немногие хорошие воспоминания, которые они смогут хранить в сердце: как он притворялся, что падает, вызывая их заливистый смех, как он танцевал, как нежно им улыбался? Зачем обливать это грязью? Ведь в том, чтобы позволить детям иметь отца — именно такого, какого они хотят и в котором нуждаются, — есть своя сила и красота.
Как и мои предки, я верю, что истории обладают спасительной силой. Наши истории — наша самая ценная валюта. То, чем один человек хочет поделиться с другим, является проверкой на близость и доверие, подарком, который тебе делают. Некоторые усмотрят в признаниях моей матери груз, который она умудрилась перекинуть со своих плеч на мои. Но это не так. Я смотрю на это как на проявление человеколюбия. Она пренебрегла вежливостью, обнажила повседневность и показала, что она такая, какая есть, что она уязвима. Она честно рассказала мне о тех, кто был до нас. Какими бы темными ни были эти истории, они исполнены надежды. Рассказчик — это человек, который выжил. Фраза «Я жил на земле, чтобы рассказывать истории» имеет особый смысл. Мама давала право голоса своему прошлому, а также тем, кто не мог рассказать свои истории сам. Рассказывание историй — это способ борьбы с забвением, потерями и даже смертью. Любая история, рассказанная о мертвом, — это воскрешение. Любая история, рассказанная о прошлом, — это двойное доказательство того, что мы еще живы.
Послушайте, когда я была ребенком, я знала, что все, что происходит в моей жизни, не отражает всей правды. Любой ребенок это чувствует. Меня от чего-то ограждали. И моя мама дала мне возможность заглянуть за это ограждение. Приятно, когда кто-то признаёт, что безоблачное детство, которое пестуется в нашей культуре, нереально. Мама показала мне, что жизнь — штука сложная и состоит из множества нюансов; порой она бывает темной, да, но от того не менее прекрасна.
Мама до сих пор рассказывает мне истории, новые, но они удивляют меня не меньше. Взять хотя бы ее долгий брак с отцом. Она рассказывает истории их отношений, их любви, порой довольно пикантные. Моим родителям уже за восемьдесят, но они оба вполне здоровы. Теперь, оглядываясь на свое детство, я благодарна маме за всё то, что она мне рассказывала тогда, и благодарна не только как писатель, но и как дочь, — ведь благодаря этим разговорам мы обрели невероятную близость.
Да, признаюсь, я тоже рассказываю своим старшим детям наши семейные байки. Моей старшей дочери, Фиби Скотт, сейчас двадцать три, она скульптор и создает скульптуры женщин в натуральную величину, особенно женщин пожилых. Их истории запечатлены в их костях и отражены на их коже. Кажется, семейные истории питают и ее творчество, пусть и по-своему.
Однако есть кое-что, что по-прежнему не дает мне покоя. Если бабушка так и не смогла раскрыть нам каких-то вещей до самой смерти, может, и мама поступит так же. Время от времени меня пронзает мысль — а что, если она не все мне рассказала? Что, если я пока не знаю самого страшного? Что, если есть еще что-то? Если такой момент наступит и она прошепчет мне, что ей нужно мне что-то рассказать, прежде чем она умрет, я не смогу ей отказать. У меня не хватит силы воли. Я буду обязана узнать все.
Я наклонюсь к ней поближе — хотя, возможно, это и не понадобится — и скажу: «Что такое? Расскажи мне».
Все та же старая история о моей маме
Линн Стеджер Стронг
Я поведаю вам одну историю о матери, которую я обычно применяю как антидот к другим историям, что рассказываю о ней же. Уже долгие годы это воспоминание дает мне прочувствовать, насколько моя мать хороший человек — и в то же время насколько она, по-моему, человек ужасный. Возможно, я отчасти спекулирую фактами, но многие из нас, мне кажется, это делают. Мы берем истории из своей жизни, подвергаем их тщательнейшему отбору и делимся ими, дабы доказать другим что-то о самих себе или о людях, которые в этих воспоминаниях фигурируют.
В этой истории о матери речь пойдет о том далеком уик-энде, когда она приехала проведать и немного «встряхнуть» меня в университетском общежитии для первокурсников. Мне было восемнадцать, я пребывала в глубокой депрессии и большую часть времени, пока мать там находилась, я или спала, или угрюмо сидела на стуле в тамошней библиотеке. Все это время мама наводила чистоту в моей комнате, перестирывала в прачечной мое белье — в общем, трудилась в поте лица, потом принимала душ, после чего, наконец, вытаскивала меня куда-нибудь поужинать. А поскольку я была не просто человеком в глубокой депрессии, а грязнулей в глубокой депрессии, то уже не один месяц из моей комнаты в коридор просачивалась такая жуткая вонь, что люди, почуяв ее, сразу спрашивали, откуда это так несет, и в основном старались меня избегать, разглядывая издали и, возможно, тихонько обсуждая, когда я все же покидала комнату, чтобы сходить в уборную или в душ.
Моя соседка по комнате уже давным-давно съехала, определенно измученная жизнью бок о бок со мной, — впрочем, еще и потому, что попалась на торговле травкой в общежитии. От одиночества мне сделалось еще хуже. В комнате повсюду были залежи нестираного белья (большей частью покрытые белесой коркой грязи треники и пропахшая потом одежда для бега), баночки из-под помадки «Бетти Крокер», которой я тогда в основном питалась, обертки от всякой другой съедобной дребедени, упаковки от мексиканских буррито, которые мне обычно приносила одна из сокурсниц в те долгие недели, когда я вообще отказывалась покидать общежитие.
Мои родители — состоятельные люди, и порой я рассказывала кому-то эту историю, чтобы показать, что моя мать — нечто гораздо большее, нежели ее шикарный дом, авто и бриллианты, сверкающие у нее в ушах, на пальцах, на запястьях. Я рассказывала об этом, желая показать, как она всего добилась из ничего, и как она любит меня, и как работает не покладая рук. Я рассказывала это, чтобы показать, насколько сама я была никчемным, избалованным ребенком из богатенькой семьи. Как я сидела, ничего не делая, в то время как мать раз за разом загружала в студенческой прачечной стиральную машину; как она легко и быстро сдружилась с парнями-второкурсниками, с которыми я вообще боялась заговаривать, и как они дали ей четвертаков, когда сломался разменный автомат, а она в знак благодарности угостила их конфетами из другого автомата. И как однажды — уже следующей осенью — она купила в Urban Outfitters приглянувшийся мне стул и тащила его на себе через подземку до самого общежития.
Я рассказывала это, дабы показать, насколько, наверное, тяжело было быть моей матерью.
Долгие годы я передавала эту историю как доказательство ее сильного характера. Когда у меня самой появились дети, мое мнение переменилось — как, наверное, и все во мне переменилось с появлением детей. И в первые годы собственного материнства я злилась на свою мать.
— Ведь она даже не попыталась со мной поговорить, — сказала я, помнится, кому-то, пересказывая ту историю про общежитие для первокурсников и попутно кормя грудью одного из своих чад, чего мать никогда не делала в пору раннего материнства.
Да, она не припала к моей общаговской постели и не поговорила со мной. Не спросила, что случилось, что со мной происходит.
Конечно, она понимала, что именно со мной не так: к тому времени я не раз попадала на больничную койку, поскольку еще в старших классах успела изрядно повыкидывать всех этих фортелей — и алкогольных отравлений, и автоаварий, и прогулов, — причем в таких количествах, что мне уже грозило отчисление из школы. Каких мне только медикаментов не прописывали! Но я наотрез отказывалась их принимать. Мать орала на меня, ругалась, плакала и злилась — ведь я такая бесполезная, никчемная, я просто кусок дерьма, и что вообще за ерунда со мною происходит?! И подолгу сидела в моей комнате, пытаясь меня удержать дома (при том что я не в пример крупнее ее), снова и снова увещевая, моля, упрашивая наконец остановиться.
На какой-то период — когда первому моему ребенку было около двух лет и на подходе был второй — мы с матерью даже перестали разговаривать. Мы тогда сильно повздорили. Однажды она принялась орать на меня в трубку: мол, у меня всегда и во всем отвратительный жизненный выбор, и наша квартира в Бруклине в жутком состоянии и в страшно неудачном месте, и дом, который мы присмотрели себе во Флориде, имеет немыслимо плачевный вид. А я, беременная вторым ребенком, стояла и слушала ее, выйдя из аудитории выпускного курса.
И что-то сместилось тогда в нашей телефонной стычке. Она не только унижала меня, но и с пренебрежением отзывалась о том выборе, что делали мы с мужем для наших детей; она умаляла не только мою жизнь, но и ту жизнь, которую мы пытались для них создать. Мы тогда здорово накричали друг на друга. Тут не было кого-то правого и виноватого или чего-то среднего. На кону для нас обеих стояло то, любили ли — и любим ли — мы своих детей. То есть любим ли их как полагается. Несколько месяцев провоевав с ней с переменным успехом, я почувствовала, что мне необходим тайм-аут, и прямо ей об этом сказала. Мне не хотелось больше никаких баталий — а ничего другого между нами в последнее время уже не получалось.
И в этот момент моя история переменилась вновь. Я стала говорить, что, будь я тогда в Бостоне на месте матери, приехавшей поднять на ноги своего ни на что не способного, впавшего в черную депрессию подростка, я бы непременно заставила свою дочь рассказать, что ее беспокоит. Я обязательно бы с ней поговорила. Я была бы для нее гораздо лучшей матерью. Так считала я тогда, оглашая эти мысли, — как будто сама ясно понимала, что означает это «лучшей», как будто имела представление о том, что мама чувствовала в тот момент.
* * *
Я очень неплохой рассказчик. Как и моя мать, которая по профессии адвокат, специалист по гражданским судебным тяжбам. А еще я, как и мать, отлично умею изливать свое возмущение, пылая злобой и яростью в отношении того, кто, как мне кажется, причинил мне зло. Словно какое-то нехорошее возбуждение таится за моим гневом или огорчением, стремительно набирая обороты, охватывая меня целиком. И вскоре я уже начинаю широко жестикулировать и распрямляюсь во весь рост.
Когда мне было шестнадцать, мою машину однажды утащил эвакуатор, и мать повезла меня к штрафной стоянке, чтобы ее забрать, всю дорогу крича на меня, какая я отвратительная, какая ужасная, какой я никчемный кусок дерьма.
Тогда, ругая меня (она так часто это делала в ту пору, что я за долгие месяцы привыкла воспринимать ее ругань как вполне достойные меня речи), мать заявила, что они с отцом ни цента не потратят из своих кровью и потом заработанных денег, чтобы отправить меня в университетский колледж. (Это, конечно, была неправда — она и сама прекрасно знала, что они ни за что себе не позволят не пристроить свое дитя в колледж. Она просто брякнула это сгоряча.) Сказала, что у нее уже опускаются руки, что она устала и не понимает, как я так могу, зачем я это делаю. Я на ту пору успела набрать чрезмерный вес, перестала появляться в школе и на учебной практике. Я постоянно пила и попадала в неприятные истории.
Так, громко разнося меня, она вела свою шикарную красную машину с опущенным верхом. Когда мы подъехали к штрафной стоянке, тамошняя парковка была забита до отказа. Вышедший к нам мужичок сказал маме, что она должна ему шестьсот долларов. Мать посмотрела на меня. Я была в хлопковых свободных штанах и в толстовке, с опухшими от плача в машине глазами, с растолстевшим лицом. Никакая моя одежда на меня не налезала, и именно в этом «наряде» я обычно теперь и ходила. Неважно, насколько тепло было на улице. Неважно, что кожа покрывалась капельками пота, оседавшими обратно на поры, и испускала такой запах, что меня саму порой от него воротило.
И вот моя мать набросилась на этого мужичка, который, как я поняла, был всего лишь работником стоянки, обещая его засудить. Стала объяснять, насколько незаконно то, что он совершил, отбуксировав машину у шестнадцатилетней девчонки, у совсем еще ребенка, который не в состоянии понимать, да и не должен еще понимать, что же он такого натворил. И это чтобы положить в свой карман шестьсот баксов!
— Чтобы нажиться на этом вот ребенке! — указала она на меня, особенно подчеркнув последние слова.
Я вся съежилась — отчасти от страха, но еще и потому, что четко уяснила свою роль. Мать угрожала призвать газетчиков. Обещала возбудить против стоянки гражданский иск за все те автомобили, что скопились у них там на парковке. Цитировала соответствующие законы. Заявляла, что это сущий грабеж — вымогать деньги, удерживая у себя принадлежащее другим людям имущество.
Мужичок — еще полусонный, крупный дядька с подросшей на лице щетиной, с проглядывавшим из-под рубашки пухлым животом — дал моей матери выговориться, после чего сказал, что мы можем забрать свою машину и ради бога ехать восвояси. Когда мама вручала мне ключи, я заметила, как она переменилась в лице, будто вспомнив, что одной командой мы были, лишь пока нам требовалось получить желаемое, и что нужда в этом уже отпала.
* * *
Предполагалось, я напишу очерк о том, чего я не могу высказать матери, чего я никогда ей не говорила. Когда меня об этом попросили, я поначалу испытала волнующий соблазн вынести наружу все, чем она меня так возмущает и выводит из себя. Однако в том, что я о ней думала, уже не было ни чего-то нового, ни какого-то праведного гнева, ни давно сидевшей внутри обиды. Я и так уже высказала ей едва ли не все, что думала. Я и так успела ее обидеть, а она, в свою очередь, обидела меня. Ничто из этого не было для нас тайной.
На следующий день я вела занятия по гендерологии перед девятью девушками-подростками, которые сидели за расставленными вокруг меня кружком столами и очень старались говорить правильные вещи. Мы со студентками обсуждали матерей. Говорили о том немыслимо трудном положении, в котором наши матери находятся. О том, как они являются для нас моделями поведения. О том, что им тоже необходимо и хочется иметь какое-то личное пространство. Студентки этого не заметили, но меня вдруг пробрал плач. Я сдержала выступившие слезы, а когда закончилось занятие, отправилась в туалет и просидела в кабинке, пока не перестала плакать. В последнее время мы совсем не разговаривали с матерью. Да и вообще не часто с ней общались. Мне даже трудно было припомнить, что я чувствовала, когда мы разговаривали в прошлый раз. Выплакавшись тогда в туалете, я еще несколько часов думала, что непременно наберу ее номер, что обязательно скажу ей, как люблю ее. Однако я не слишком-то уповала на этот звонок, боясь, что стоит мне ей позвонить, как мать примется говорить первая, и после этого мне уже трудно будет снова исполниться к ней любовью.
Чего я никак не могу сказать своей матери, так это всего того, что я собиралась ей высказать в том несостоявшемся телефонном разговоре, да и во все те прочие разы, когда я брала в руки сотовый, «пролистывала» до ее имени, глядела на него… и снова убирала трубку. Возможно, мы все в такой момент чувствуем перед собой огромную зияющую пропасть, — когда наша мать совершенно не соотносится с тем, что, на наш взгляд, должно подразумевать понятие матери, и со всем тем, что это, по идее, должно бы нам давать.
Чего я никак не могу ей сказать, так это всего того, что обязательно ей сказала бы, если б научилась не огорчаться и не злиться из-за этого несоответствия.
* * *
Младшая наша дочь питалась грудью дольше, нежели я предполагала, едва ли не до двух лет. Мне нравилась та легкость, с которой я могла отдавать ей себя. Если дочь плакала, я давала ей грудь, и она пристраивалась поудобнее, и все снова было хорошо. Когда я перестала кормить грудью, то неожиданно начала всего бояться. Как-то внезапно я разом потеряла простой и ясный способ дарить ей свою любовь, и у меня теперь не было уверенности, что я смогу ее успокоить. Теперь, когда она в чем-то остро нуждалась, чего-то желала, из-за чего-то страдала, лучшее, что я могла ей предложить, — слова, объятия, увещевания. Я могла теперь лишь прижимать ее к себе и просить, уговаривать. Мне остался лишь искаженный и абстрактный способ проявления обычной человеческой любви.
Как-то одна дама-психотерапевт сказала мне, что я просто родилась не в той семье. Это «просто» было ее слово, не мое. «У нас разные жизненные ценности», — говорю я порой, когда меня спрашивают о моих родителях. Но это само по себе звучит чересчур субъективно и несет намного больше осуждения, нежели я в это вкладываю. Мы с ними очень разные, обособленные друг от друга люди, которые и случайно, и намеренно причиняют взаимную боль и всю жизнь любят друг друга какой-то ущербной и напряженной любовью. И как бы старше я ни становилась, как бы ни возрастал у меня собственный опыт материнства, это ощущается мною так же свежо, болезненно и накаленно, как это было в четырнадцать лет. Как и в любую другую пору моей жизни.
* * *
Не так давно я разрешила детям смотреть телевизор, пока навожу порядок в ванной. Я редко когда им это позволяю. Когда я была маленькой, мама давала мне подолгу его смотреть. Целыми днями работая и всем обеспечивая нас так, как я не в состоянии обеспечить моих детей, она частенько проводила выходные дни, прибираясь за нами с такой тщательностью, с какой мне обычно не удается навести в доме чистоту для своих детей. Тогда меня возмущало множество разных вещей по множеству разных причин — в особенности то, что мне якобы придется делать, когда я стану взрослой, и в особенности потому, как я считала, что есть какие-то иные способы проявлять любовь и чувствовать себя любимой.
Однако пару недель назад я поступила точно так же. Я тогда очень устала, поскольку бодрствуют мои дети уже намного больше, чем спят. Сейчас они в том возрасте, когда готовы часами сидеть перед телевизором. Я взялась за уборку в ванной, потому что на тот момент не готова была какими-то более затейливыми способами выказывать им свою любовь и их развлекать, если мы выключим вдруг телевизор и станем просто вместе проводить этот день. Я вообще редко навожу чистоту в ванной, и для меня это было великое дело. И вот я по локоть в чистящем средстве, ползая на уже ноющих коленках, старательно вычищала плесень из всех углов и отскребала застарелые мыльные потеки с днища ванны — и чувствовала при этом, будто полностью отдаю себя своим детям таким знакомым, таким важным и осязательным способом. Мне хотелось показать себя настоящей, заботливой матерью, всецело выкладывающейся ради блага своих детей. В точности как некогда моя собственная мама.
Как уже бывало не один раз до этого, рука у меня потянулась к телефону. Мое отражение в зеркале — с очень тонкими руками, с россыпью веснушек по плечам, с широким носом и короткими волосами, с выступившим на лбу потом — так напоминало мне ее. Я настолько сильно в этот момент ощущала себя своею матерью, что мне очень захотелось ей об этом сказать.
Я все же сделала тогда звонок — и много раз пожалела об этом. Она не хотела как-то разбираться в нашей схожести, анализировать и проводить какие-то параллели — хотя бы потому, что я всегда начинаю с выяснения того, почему мы так отдалились друг от друга. Она вообще не любит говорить о своих чувствах и начинает очень нервничать, когда я пытаюсь обсудить с ней, что между нами есть, а что отсутствует, что мы показываем друг другу, а что скрываем. Она почти всегда воспринимает это как нападки в свой адрес.
Чего я никак не могу сказать своей матери, так это того, что она, конечно же, ранит меня своим отношением и я из-за этого злюсь. Но я уже не придаю этому такого большого значения, как раньше. Все мы причиняем друг другу обиды. Она не может меня не обижать. И не может меня не злить. И мне бы очень хотелось однажды сказать ей, что в конце концов я с этим просто смирилась.
Как же все это по-американски
Киезе Лаймон
Я — девятилетний мальчишка в летнем дневном лагере при Университете штата Джексон. Рената — одна из здешних студенток. Ей двадцать один, и она вожатая. Рената — единственный человек, кого я пока знаю. Это первый наш день в лагере, и все ребята проходят медосмотр. В графе о моем весе здешний доктор вписывает: «oж.». Я справляюсь у стоящих рядом близнецов, которые постарше меня, не значится ли у них в бланке то же самое «ож.»?
— Это означает, что у тебя ожирение, братан, — отвечает один из них. — Это значит, что ты слишком пухлый для своего возраста.
Придя домой, интересуюсь в справочнике насчет ожирения. Вскоре со мной приходит сидеть няня. Когда она уходит, я чувствую себя уже не настолько страдающим этим самым ожирением.
На второй день в лагере я говорю тем двоим близнецам, которые мне прояснили, что я жирный, будто видел обнаженной нашу вожатую Ренату, которую все считают даже изящнее Тельмы Эванс.
— По-вашему, она сейчас красотка? — сказал я им тогда. — Вот видели бы вы ее без майки!
Один из близнецов говорит, что быть того не может, чтобы Рената стала раздеваться перед «жирным черным ссыкуном» вроде меня, и я тогда описываю, какая родинка имеется между грудями у Ренаты.
Близнецы презрительно цыкают сквозь зубы, но потом все же пересказывают это другим старшим парням, те передают еще кому-то из таких же старших, и к концу недели уже большая часть лагеря за спиной называет Ренату «шлюшкой».
А потом называет и в лицо
В лагере мы с Ренатой не разговариваем. Она вообще старается меня там избегать. И я тоже всячески стараюсь ей там не попасться. Однако два вечера в неделю — как у нас заведено в последние несколько месяцев — Рената приходит ко мне домой. На самом деле она и есть моя няня, и я в ней просто души не чаю. Когда приходит Рената, мы вместе смотрим по телику борьбу, вместе читаем книжки, на пару играем в Atari. Вместе пьем Tang. Рената делает с моим телом непотребные вещи, что позволяет мне чувствовать себя избранным, чувствовать себя любимым. Да и Рената ведет себя так, будто все эти непотребные вещи точно так же дают ей почувствовать себя избранной и любимой. И вот однажды мне случается услышать и увидеть, как Рената занимается теми же неприличными делами со своим настоящим бойфрендом. И я слышу, как она велит ему прекратить. Судя по звукам, то, что он ей делает, вовсе не заставляет ее чувствовать себя избранной или любимой. Но мне уже не важно, что он с ней там вытворяет. Важно то, что Рената больше не желает выбирать меня.
* * *
И сейчас, уже тридцать лет спустя и за сто шестьдесят миль от того места, где мы виделись с Ренатой, я хорошо помню и вкус, и температуру, и консистенцию того Tang, что я выпил как раз перед тем, как Рената первый раз сунула мне в рот свою правую грудь. Помню, с какой силой она прижалась телом, перекрыв мне ноздри. Помню, что делала с моим пенисом ее левая рука. Помню, как я напрягал мускулы, туго сжимаясь всем телом, когда она касалась моей кожи, — но не потому, что мне было страшно. Мне просто хотелось, чтобы Рената сочла, что мое толстое, черное, рыхлое тело намного сильнее и крепче, чем это было на самом деле.
Не думаю, что я тогда пустил грязный слух из-за всего, что делала Рената с моим телом. Я пустил тот слух, потому что она была черной девушкой старше меня, а я уже знал, что распространять слухи о черных девушках, независимо от их возраста, для черных парней — все равно что говорить им: «Я тебя люблю».
Сейчас, тридцать лет спустя, когда мои тело и душа уже изрядно потрепаны жизнью, я могу лишь поздравить себя, что не стал ни Бреттом Каваной, ни Трампом, ни Биллом Косби. Источник своего беспокойного поведения и напрочь порушенных любовных отношений мне хочется видеть в своем детском опыте сексуального насилия. Или уж тогда в материальном положении, или в неизмеримо больших возможностях белого населения; или в том, что я часто получал, что называется, по мозгам; или в том, что некоторые до сих пор считают: нуждающиеся черные дети штата Миссисипи должны быть благодарны за то, какие бесчинства над ними испокон веков учинялись. Мой опыт существования в этой стране, в моем штате, в моем городе, во всех, какие ни есть, американских домах и заведениях слишком неприглядный, слишком грязный, слишком зависящий от (точнее, даже находящийся под влиянием) перечисленных выше концентрических кругов насилия, чтобы я мог сказать, будто причинял кому-то зло в этой стране просто потому, что зло причинили мне. Так же как я не могу утверждать, будто кто-то в этой стране причинял мне зло по причине насилия над ним.
Ни про кого из живущих в этой стране нельзя сказать, что ему в этом смысле повезло.
В этот год я много думал о великой важности словосочетания «в то время как», размышляя о причинах и следствиях у нас, в Америке. Мы часто используем это выражение — «в то время как». И черные феминистки, и черные политологи уже десятилетиями учат нас прибегать к этому сочетанию слов. В то время как Рената причиняла мне зло тем способом, каким сам я ответить ей не мог, — я причинял ей зло тем способом, каким она не могла бы ответить мне. Между тем сексуальное насилие в нашем обществе происходит, в то время как существует домашнее насилие, в то время как существует экономическое неравенство, в то время как происходят массовые выселения и тюремные наказания, в то время как государство слабеет, нищает и отыгрывается на учителях, в то время как учителя терпят разочарование и измываются над учениками, в то время как эти самые ученики унижают друг друга и издеваются над младшими братьями и сестрами.
В прошлом году я завершил наконец свое произведение искусства, которое начал творить для тебя, мама, еще в двенадцатилетнем возрасте. Я задался целью художественными средствами исследовать то, как изменились бы мы внутренне и внешне, не будь мы столь отягощены разгадыванием своих неисчислимых узкосемейных и общенациональных секретов. Мы с тобою сошлись на том, что мне следует назвать свое сочинение «Тяжеловес».
Переписав по какому-то внутреннему побуждению уже девятый черновик «Тяжеловеса», я осознал, что это стремление причинить зло тому, кто любил меня втайне от всех, а затем публично компенсировать то зло, которое уже причинил тому человеку, в каком-нибудь издании из дешевых мужланско-феминистских соображений и ради мелких гонораров сделалось каким-то маниакальным. Пока меня ребенком растлевали, причиняя мне непоправимое зло, я ни разу не имел возможности наблюдать, чтобы кто-то публично, в письменной форме, ради денег признался, что меня подвергали насилию потому, что ими тоже кто-то так же точно помыкал.
Возможно, завтра эта ситуация и изменится, но на сегодняшний день самый насущный вопрос в нашем мире, на мой взгляд, следующий: «О чем бы мне действительно хотелось соврать?» И я хотел бы не просто ответить на этот вопрос, а докопаться до внутриличностных и конструктивных последствий этого вопроса, до всей той лжи, что окружает нашу жизнь. Почему же, в самом деле, мне так хочется лгать? Почему мы лжем друг другу в таких количествах и так подолгу? И как я отреагирую, если меня все же поймают на вранье? Мне по-прежнему отчаянно хочется лгать насчет того зла и поношения, что я причинил людям, которые меня любили. И мне по-прежнему очень хочется верить, что я ни с кем не завожу романтических отношений потому, что всегда был честным и достойным человеком, а вовсе не потому, что я так и остался тем ожиревшим черным мальчишкой, вечно боящимся, что его отвергнут, боящимся, что снова выберут не его. А еще мне по-прежнему хочется верить, что, прочитав мой захватывающий литературный труд, американские мужчины неизбежно расчувствуются и назовут своими именами все то зло, что мы когда-то совершали, найдя истоки этого зла в некой давнишней психологической травме, и тем самым заслужат бурные поздравления — в том числе от женщин — за то, что честно признали эту травму, притом совершенно пренебрегая теми страданиями, которые мы сами кому-то причинили. А еще мне по-прежнему отчаянно хочется верить, что как беспорядочная коллекция, так и подробная каталогизация сорванных «клубничек» и есть именно то, что позволяет процветать искусству. Хотя и понимаю, что это не так.
Но все равно мне очень хочется продолжать лгать.
Я уже перестал перечитывать, дополнять и переправлять воспоминания, которые начал писать для тебя в двенадцать лет на крыльце бабушкиного дома, — не потому, что передумал как можно точнее запечатлеть на бумаге хронику своего становления, а потому, что не мог больше лгать тебе насчет того, кем в действительности я стал. Я стал трусливым, одиноким, с нездоровой психикой, злоупотребляющим чужими чувствами, с дурными пристрастиями, успешным чернокожим писателем. Создавая свою книгу, я обнаружил, что ни с кем на свете ни разу не был абсолютно честен. Я осознал, что, несмотря на глобальную жизненную несправедливость и повсеместное насилие, больше всего я причинил зла тем, кого, как мне казалось, я любил. Я обнаружил, что в нашей стране есть люди, которые любят честно, страстно и щедро, не оглядываясь на то, что их обижают, им причиняют зло, ими манипулируют другие люди, учреждения, политические установки.
Есть учителя, делающие все, что в их силах, чтобы понять обстоятельства и образ жизни своих учеников, и обучающие их в высшей степени этично, не нанося оскорблений и обид. Есть члены попечительских советов и правлений, которые, рискуя потерять свою работу, ставят здоровье и благополучие социально слабозащищенных людей впереди прагматичных соображений своих организаций. Есть родители, которые каждое решение в своей жизни принимают с мыслями о том, как отразится их шаг не только на собственном ребенке, но и на всех социально незащищенных детях на земле, у которых не хватает денег, чтобы оплачивать медицинские услуги, проездные билеты, да и попросту нет достаточно еды.
Однако вся правда в том, что у нас, в Америке, таких людей раз-два и обчелся.
Или, может быть, мы слишком часто воображаем себя именно такими примерными американцами? Я и сам, признаться, в это верю. И если эта ложь действительно является краеугольным камнем внутриамериканского террора, то расплата за нее должна лежать в корне любого видимого проявления свободы и равноправия в этой стране.
Теперь, осуществив свой замысел, я понимаю: проблема нашей страны не в том, что нам не удается спокойно сосуществовать с людьми, партиями или политиками, с которыми у нас есть разногласия. Проблема в том, что мы ужасны в своей, как нам кажется, искренней любви к людям, родным местам и политикам, к которым мы как будто питаем склонность. Я написал для тебя «Тяжеловеса», потому что хотел, чтобы мы оба научились друг друга любить.
Прочитав мою книгу, ты написала мне в ответ:
«Перебирая воспоминания, я слышу наш веселый смех и наши жаркие споры; я помню беспрестанные волнения насчет твоей безопасности и твои отличные результаты в пятом классе; помню, как ты упражнялся с баскетбольным мячом в далеких сельских глубинках; помню тех девушек, что ты себе выбирал, и твои поездки в Новый Орлеан и Мемфис, и твои поражения и неудачи. И да, я помню свой постоянный страх безвременно тебя потерять — неважно, потому ли, что ты просто отвернешься от меня, или потому, что тебя отнимет небо. Я все время жила в этом страхе, хотя, быть может, мне следовало бы заставить себя быть более храброй, менее суровой в любви и более в тебе уверенной. Видимо, я в чем-то ошибалась».
* * *
В тот день тридцать лет назад, когда Рената едва ли не нагая выскочила из моего дома вместе со своим приятелем, у меня разбилось сердце. Я чувствовал, что потерял любовь уже второй взрослой женщины в своей жизни, которая однажды меня выбрала. Теперь я понимаю, что я не любил Ренату. Мне нравилось, какие ощущения она во мне вызывала. И я вовсе не уверен, что любил тебя. Я знаю, мне порой нравилось то, что ты заставляла меня чувствовать. Пусть даже Рената и причиняла мне зло, но она, по крайней мере, стремилась ко мне прикоснуться. По причинам совершенно американского восприятия ее грубые нежности я принимал за любовь к себе, но точно так же она могла бы нежничать с любым чернокожим мальчишкой по соседству. И по причинам совершенно американского восприятия я совсем не думал о том насилии, которое испытывала сама Рената, — ни со стороны ее бойфренда, ни со стороны ее родителей или учителей, ни со стороны любых парней в этом мире, включая, в частности, меня. Теперь, когда я как следует поразмыслил обо всем этом и поделился этим с тобой, мне хочется спросить: как вообще мы позволяем этому твориться? Как допускаем все эти «в то время как» — любое из этих «в то время как», — если хотим научиться любить по-настоящему, отныне и навеки? Сейчас это единственный вопрос, который действительно для меня важен. А ты можешь поделиться тем, какие вопросы больше всего волнуют тебя? И можем ли мы провести с тобой остаток жизни, открыто обсуждая эти вопросы? Прошу тебя — давай у нас, в Америке, научимся любить друг друга лучше?
На материнском языке
Кармен Мария Мачадо
За несколько месяцев до того, как мы с Вэл поженились, мы решили с ней наведаться к далекому от религии семейному психологу, записавшись на серию консультаций, которые подготовили бы нас к предстоящей совместной жизни. Нам хотелось правильно, надлежаще взяться за дело. Узнать, чего нам обеим не хватает, найти нужные средства для достижения успеха. Наша психологиня — умная, проницательная и к тому же донельзя остроумная женщина по имени Мишель — оказалась вроде бы именно тем, что надо. Человек очень чуткий, она сумела искусно одолеть защиту каждой из нас — эмоциональность Вэл и мое замыкание в себе. (Уяснив, за чем именно явились к ней два уже взрослых ребенка, она бесконечно хвалила нас за наши старания на столь нелегком пути и по окончании курса выдала соответствующий сертификат.) Когда мы дошли до обсуждения вопроса детей (а этому было посвящено целое занятие — этакая версия выпуска «Недели акул» по каналу Discovery с добрачным собеседованием), я с удивлением обнаружила, что весьма неоднозначно отношусь к тому, чтобы стать родителем.
Разумеется, мы с Вэл уже обсуждали тему детей. Как только стало ясно, что наши намерения более чем серьезны, мы обе решили, что хотим стать родителями, хотя и не определились на тот момент, в какие сроки и каким способом это осуществим. Уже успев стать тетушками для своих крохотных племянников, мы располагали первичным опытом появления в жизни детей. Нечто совершенно изматывающее, несущее беспорядок, но в то же время очень забавное и феерическое. Нечто такое, чего мы однозначно с ней желали.
И вот в том кабинете, когда я заявила своей без пяти минут жене: «Не знаю, хочу ли я вообще иметь детей», я сама удивилась сказанному и тут же почувствовала знакомое, предшествующее плачу покалывание где-то в носовых пазухах. Я повторила еще раз, с трудом веря в то, что это сходит с моих уст: «Не знаю, хочу ли я заводить детей». У меня было такое чувство, будто я вот-вот расплачусь, но этого не последовало. Я просто сидела, охваченная этим внезапным осознанием, этой мыслью, что казалась мне новой, хотя, конечно, она была для меня вовсе не нова.
* * *
За мою жизнь я испытала целый спектр чувств по отношению к материнству — от сильной неуверенности до нетерпеливого ожидания. Я люблю совсем маленьких крох с их пухленькими ножками, с серьезными, озабоченными лицами и боксерски стиснутыми кулачками; я безумно устаю от бегающих без устали карапузов с их отсутствием логики, полной зацикленностью на себе и неприятием общепринятых правил поведения; люблю детишек постарше, с которыми можно поговорить о школе и о книгах, которые они читают. А вот подростки для меня — полная и пугающая неизвестность. Будучи ипохондриком, я боюсь беременности и связанных с ней медицинских рисков. Будучи гедонистом, я не хочу отказываться от коктейлей с виски, от суши и мягких сыров. Будучи писателем, я боюсь того, что драгоценное время, отпущенное мне на сочинительство, буду вынуждена посвящать воспитанию детей.
Когда я была помоложе, то не знала толком, хочу ли я быть мамой. Потом, когда я не на шутку влюбилась в нежном и ранимом возрасте двадцати трех лет, во мне словно щелкнул какой-то гормональный переключатель, и от полнейшей неуверенности меня перекинуло к судорожному желанию иметь детей. Я стала думать о детях в каком-то даже сверхъестественном фокусе — даже когда ни с кем не встречалась, даже при том, что вовсе не хотела забеременеть. Мне раз за разом снилось, что я беременна, и сны эти были всякий раз одинаковы: будто я лежу на кровати, поглаживая ладонью распухший живот и зная, что скоро все переменится.
Когда я была маленькой, моя любовь к матери казалась простой и незамысловатой. Я очень много болела, и потому она никуда на работу не ходила и массу времени проводила, возя меня по докторам. Сидя дома, я вместе с ней смотрела «мыльные оперы» — ей тогда нравились «Все мои дети», — а мама попутно гладила белье или занималась аэробикой. Мне кажется, ей очень нравилась та версия меня с чисто детскими, во всех отношениях, сложностями. Она была хорошей матерью для совсем еще юных чад.
Моя матушка родилась одним из девяти детей в семье — из девяти выросших на ферме детей, у которых никогда и ничего не было собственного. Она с трудом училась в школе, однако обладала этаким воинственным, задиристым взглядом на жизнь, который в восемнадцать лет привел ее во Флориду, подальше от родного штата Висконсин. Она умела быть очень веселой, остроумной, доброй и очаровательной. Однако в ее семье все отличались трудным характером, невероятным упрямством и уверенностью в своей правоте. Теми качествами, что и сама я, увы, унаследовала.
Чем старше я становилась, тем сложнее были наши отношения с матерью. У всех подростков матери не в состоянии их понять, — но лично мне казалось, что моя мать понимает меня хуже всех. Я стала старше и сложнее, и проблемы мои тоже сделались старше и запутаннее. В сущности, я уже не нуждалась в матери так сильно, как прежде. Мне требовалась в ту пору более сложная совокупность разных вещей: и моральная поддержка, и репетитор по химии, и какая-нибудь работа, и мир, где не шеймят толстых подростков и не ненавидят женщин, и старший наставник со свободными взглядами, и кто-то, кто помог бы мне подать заявление в колледж, и хоть какой-то перерыв между окончанием школы и поступлением. Мои брат с сестрой тоже взрослели, превращаясь в более зрелую и сложную версию самих себя, так что все мы постепенно покинули материнскую орбиту.
Мама же решила снова пойти в колледж и получить диплом о профессиональном образовании, что она и сделала. После этого она перебегала с работы на работу, пытаясь найти свою истинную страсть: занималась и продажей недвижимости, и профессиональным обучением, и реставрацией мебели, и розничной торговлей. Ничто ее по-настоящему не цепляло. В то время как ее разочарование жизнью все больше росло, я успешно окончила школу, поступила в колледж, получила свой диплом магистра изящных искусств. Между нами пролегла огромная, неодолимая пропасть. Всякий раз, когда мы виделись, она находила способ дать мне понять, что, несмотря на все мои достижения, я неудачница по жизни. «Тебе надо бы научиться правильно делать выбор», — говорила она, хотя никогда при этом не уточняла, что за выбор она имеет в виду. Кроме того, от нее самой я слышала лишь: «Как жаль, что я не смогла в свое время сделать верный выбор». И я никак не могла ей в этом помочь.
* * *
Через пару месяцев после окончания магистратуры я вернулась домой, на юго-восток Пенсильвании. Вэл и я — в ту пору еще просто близкие подруги — активно искали работу, живя каждая в своем родительском доме, вот только родители Вэл приняли ее куда радостнее, чем мои родители меня. Мои несколько раз приглушенно между собой ругались из-за моего присутствия. Отец всякий раз утверждал, что я всегда желанна в этом доме, потому что они мои родители и любят меня, а мать все время говорила, что это не мой дом и что она позволяет мне тут оставаться только потому, что на этом настаивает отец.
— Я знаю, что это не мой дом, — отвечала я ей. — Как только мы с Вэл найдем себе работу и жилье в Филадельфии, то сразу же отсюда уедем.
Спала я в неуютной гостевой комнате — бывшей комнате брата, — которая была теперь настолько заставлена мебелью, что даже негде было втиснуть чемодан или просто нормально пройти. Мать запрещала мне там есть и пить — дескать, «еще разведу там грязь». Периодически она заглядывала ко мне проверить, как дела, убедиться — уж не знаю даже, что предположить: что я не устраиваю там кровавых жертвоприношений или не развожу в ее гостевой комнате пчел. Если постель была не прибрана или поперек кровати лежала пижама, я слышала душераздирающий вопль, проносящийся по дому, точно птица. И в самом деле, стандартное среднезападное пассивно-агрессивное поведение никогда маму не устраивало. Ей непременно надо обо всем что-то сказать свое, она все время рвется в бой. И именно это я, признаться, от нее и унаследовала. Это одна из моих худших — и в то же время лучших — черт характера.
Днем я обычно искала работу в Филадельфии и попутно занималась фрилансерским написанием статей. В доме было слишком шумно (новости включались на полную громкость, мама орала на отца), а потому я усаживалась на заднее крылечко и там работала под пение птиц и отдаленные глухие удары по футбольному мячу. Периодически мать выходила наружу и возмущенно глядела на меня.
— Как ты можешь так просто тут рассиживаться! Тебе же надо найти себе работу!
— Я работаю, — указывала я на свой ноутбук.
— Какой смысл было оканчивать эту понтовую магистратуру, если ты потом не в состоянии найти работу!
Это был очень каверзный для меня вопрос, поскольку он бил в самое средоточие моих тревог (и впрямь, чему я собиралась посвятить себя после получения диплома?) и в то же время показывал, насколько мать не знает и не понимает ни меня, ни вообще мою жизнь.
Я пыталась объяснить ей и то, что своим «рассиживанием тут» я зарабатываю тридцать пять баксов в час, и то, зачем я ищу работу здесь, если собираюсь перебраться в Филадельфию. Но она то ли не верила мне, то ли просто не понимала — словно понятие работы имело для нее одно лишь толкование, и если я не складывала в магазине одежду или не махала где-то шваброй у себя в родном городе, значит, по-настоящему и не работала.
Она без конца проглядывала колонки с вакансиями в местных газетах. А не хочу ли я устроиться водителем школьного автобуса? Или заняться маркетингом по телефону? А как насчет бухучёта? И, уходя, оставляла газеты возле меня. Я научилась очень театрально отправлять их в мусорный бак.
— Как ты собираешься выплачивать свой студенческий кредит, если ты не нашла работу? — спрашивала она.
— Я еще не пропустила ни одной выплаты, — уверяла я. — И у меня есть работа.
— Ты так никогда и не расплатишься по своим студенческим долгам, и они, сама знаешь, повиснут на нас с твоим отцом. Это ты понимаешь?
И так, по кругу, раз за разом. Читатель, возможно, сейчас подумает, что все это — тоже проявление любви и безосновательных родительских тревог. И возможно, он будет прав. Но у меня было такое чувство, будто я вот-вот сойду с ума. Тут не было ни доверия, ни каких-то нежных чувств, ни желания выслушать — лишь совершенно некомпетентная мелочная опека. Казалось, будто я существую в какой-то параллельной вселенной, где, как бы я ни повернула свою жизнь и что бы я в ней ни делала, все это не имело никакого значения. Я снова была ребенком — никчемным, ни на что не способным ребенком. Здесь ничто мне не принадлежало — ни мой распорядок дня, ни мои предпочтения и склонности. («Ты так и не найдешь работу, если будешь долго спать»; «Если будешь слишком часто наведываться к своей подружке, не сумеешь найти себе работу»; «Ты понимаешь, что тебе необходимо срочно найти работу, чтобы выплачивать свой студенческий кредит?»; «Зачем ты вообще пошла учиться, если не в состоянии найти работу, чтобы выплатить кредит за свое образование?..»)
— Не думай, что можешь так просто у нас тут жить, — заявила она мне однажды. — Не думай, что можешь просто так здесь поселиться и жить в этом доме.
— Если ты хотя бы на миг решила, что я, вместо того чтобы жить со своей подругой в Филадельфии, собралась остаться в этом ненормальном, безумном, полном кинкейдских кошмаров доме, где ты постоянно дышишь мне в затылок, то ты просто самая настоящая сумасшедшая.
Мать плотно сжала челюсти и ничего мне не сказала. Уж не знаю, чего еще она от меня ожидала — разве только того, чтоб я убралась от нее как можно дальше. Что я, собственно, вскоре и сделала.
* * *
Под конец моего пребывания в родительском доме меня однажды навестила Вэл. У нее намечался прогресс в поисках работы, к тому же мы очень друг по другу соскучились. Не желая иметь дело с моей матерью, мы засели у меня в комнате с попкорном и сельтерской водой и стали смотреть кино с моего ноутбука. Мать внизу пронюхала об этом неблагоразумном нарушении ее запрета на еду и питье в комнате — возможно, до нее донесся дух попкорна, или это было просто какое-то шестое родительское чувство, — и тут же принялась орать. Ее голос доносился до нас с нижнего этажа, разъяренный и пронзительный. Я слышала, как она говорила моему отцу, в точности как делала всегда, когда я была маленькой, — резко и громогласно, чтобы это было несомненно мною услышано и вызвало бы у меня стыд. Она говорила, что я неблагодарная. Что я никудышный человек и непочтительная дочь. Что мне здесь не место и она хочет, чтобы я поскорее куда-нибудь убралась.
Тут во мне вдруг словно что-то лопнуло — как это бывает, когда срываешь себе спину. Я поняла, что столкнулась с непоколебимо стоящим на своем, лишенным всякой логики субъектом, и ничего тут не поделать, хоть дойди до белого каления, потому что любые доводы рассудка здесь бессмысленны и ни к чему не приведут.
И вот я спустилась вниз с миской попкорна в руках и остановилась перед сидящей в кресле матерью.
— Ты просто кошмар какой-то! — заявила я ей. — Ты невежественная и озлобленная женщина. И ты, и этот дом — сущий кошмар наяву. Ты несчастное, жалкое существо, и это твое право быть такой, но я отказываюсь вместе с тобою погрязать в ничтожестве.
— Ты эгоистка! — вскинулась она. — Самодовольная, заносчивая эгоистка, которая думает, что все крутится вокруг нее и ей принадлежит.
— Ага, — отозвалась я и с абсолютно невозмутимым видом медленно высыпала на пол попкорн.
Она поднялась и покинула гостиную. Когда мать ушла, я смела с ковра облепленный ворсинками попкорн и выкинула в мусор. Потом поднялась к себе и легла спать. Наутро мы с Вэл уехали в Филадельфию и временно остановились в квартире у подруги. Через три недели уже окончательно переехали на новое место. Вэл нашла себе работу на полный день, я же пыхтела на разных работах по совместительству: давала почасовые уроки, занималась торговлей и разным фрилансерским трудом. В общем, у нас все получилось — и до сих пор все получается.
Но как я наслаждалась тем моментом, когда я наконец-то устроила то безобразие, которого она все время от меня ожидала! Я испытала такое глубокое в своем роде удовлетворение, с предельной четкостью исполнив ее ожидания и зная, что мне этого никогда больше не придется делать.
* * *
Сейчас мы с матерью совсем не общаемся. Началось это не в тот описанный только что момент с попкорном, но тот случай явился началом какого-то нового этапа между нами. Осознания того, что у меня есть возможность выбора, как строить свою жизнь, и один из принципов этого выбора состоит в том, что она в моей жизни не участвует.
С тех пор прошло уже пять лет. Она не явилась на нашу свадьбу — дескать, мне «следовало бы сперва наладить наши отношения», прежде чем она удостоит нас своим визитом. Так она мне сообщила электронной почтой, и я даже не сочла нужным ей ответить.
Самое подходящее к нашим отношениям слово, пожалуй, «отчужденные» — и мы действительно чужие друг другу. Я думаю о ней так отстраненно, будто это некто, кого я помню по вводным урокам биологии в первом семестре колледжа, а вовсе не женщина, меня вырастившая.
Сейчас я уже не знаю, что она обо мне думает. Все, что я собой представляю, суть доказательство того, что она ошибалась насчет меня, и тем не менее эта женщина, которую я знаю всю свою жизнь, даже не пытается извиниться, признать свою ошибку. Я уверена, она любит меня, равно как уверена и в том, что самое лучшее для нас обеих — чтобы наши жизни никак друг с другом не соприкасались. Потому что моя личность сложена из того, что ей не характерно. И мать для меня является образцом того, как не следует вести свою жизнь. Я верю, что ее гордость моими достижениями и любовь ко мне активно борются с ее раздражением и обидой, но я не желаю наблюдать эту гражданскую войну и не обязана это делать.
* * *
Итак, о родительстве. Меня останавливает в этом целое множество препон, от чисто практических вопросов (стоимости, например) и эгоистических соображений (моя и моей жены карьера, наша радость от общения друг с другом) до совершенно нелогичных домыслов (мысль о том, что мое дитя когда-нибудь станет взрослым и состряпает обо мне очерк для антологии «О чем мы молчим с моей матерью — 2», и лишь тогда я четко, словно с высоты птичьего полета, увижу все свои ошибки и причуды).
Я думаю, мама всегда желала для себя лишь спокойного, эгоистичного существования. Сомневаюсь, что она предполагала активно искать свою индивидуальность после сорока, после пятидесяти, шестидесяти лет. И я ее нисколько не виню. Я тоже хочу быть эгоисткой. Хочу писать книги, путешествовать по свету и спать допоздна. Хочу готовить странные, замысловатые блюда и ни с кем не делить свое время с женой. Разница между мной и матерью (учитывая, что моя жена уже приняла для себя решение, а я до сих пор нет) в том, что для нас обзавестись ребенком значит предпринять целенаправленное действие. Для того чтобы стать родителями, нам надо скопить денег, подобрать сперму, пройти через массу сложных и дорогостоящих инвазивных процедур. Мы не можем просто случайно взять да и сделаться родителями, как большинство пар. И пожалуй, так даже лучше. Никаких «упс!», после чего всю жизнь за тобой тянется этакая гидра недовольства и раздражения, с которой уже никак не совладать. Но, разумеется, здесь имеется и другая проблема: тут нельзя извлечь уроки из одного пути и выбрать другой. Ты или родитель, или нет.
Так вот, о чем мы никогда не говорим с матерью? О том, что не моя вина, что она так бесконечно несчастна в жизни. Что у нее был шанс меня узнать — по-настоящему узнать, как взрослую личность, как творческую натуру, просто как человека, — и она его упустила. Что я ни на секунду не сожалею о нашем разрыве и отчуждении, хотя до сих пор тщетно жду, когда это сожаление во мне возникнет. Что меня сильно удручает ее глубокая неудовлетворенность своей жизнью и этого я не пожелала бы и своему худшему врагу. Что я тоскую по всему тому, что связывало нас, когда я была маленькой, но я больше не ребенок и никогда им уже не буду. И что единственное по-настоящему удерживающее меня от того, чтобы не кинуться со всею рьяностью на путь родительства, никак на самом деле не связано ни с деньгами, ни с карьерными амбициями, ни с ипохондрией, ни с эгоизмом. Скорее это страх, что из своего детства я почерпнула намного меньше, чем следовало. И что я окажусь куда больше похожа на свою мать, чем мне того хотелось бы.
Ты слушаешь?
Андре Асиман
Я всегда знал, что моя мама ничего не слышит, но мне трудно вспомнить, когда до меня окончательно дошло, что она абсолютно глуха. Мне говорили об этом, но я как-то не верил. Пожалуй, примерно так же я узнавал и про секс: кто-то ненароком доводил до моего сознания разные житейские факты, и, хотя у меня это не вызывало какого-то потрясения и я уже, в принципе, об этом знал, я все равно не мог заставить себя ничему из этого поверить. Между знанием чего-то и отказом это знать лежит бездонная сумрачная пропасть, в которой даже самые просвещенные из нас и свободные от предрассудков были бы не прочь обосноваться. Если кто-то и дал мне точную оценку состояния моей матери, то это была бабушка, которая не любила свою невестку и считала, что глухие друзья моей матери отвратительны — все равно что никчемные куры, противно клохчущие в гостиной ее сына. Если не считать бабушку, то я мог узнать это и от людей на улице, частенько потешавшихся над моей мамой.
Некоторые мужчины присвистывали, когда она проходила мимо, потому что моя мать была красивой и сексуально привлекательной, а еще умела храбро смотреть в лицо другому человеку, пока тот не опускал глаза. Однако, когда она куда-то заходила за покупками, то говорила, как все глухие, монотонным гортанным голосом, и у окружающих это вызывало смех. В Египте, в Александрии, где мы жили — пока в конечном счете нас не выслали оттуда, как всех тамошних евреев, — так бывало со всеми, кто серьезно отличался от других. Над такими людьми смеялись. Над матерью неизменно витала насмешка, эта падчерица презрения, которая столь же безрадостна, сколь и жестока. Мама не могла слышать их хихиканья, но хорошо угадывала это по лицам. Должно быть, так она окончательно осознала, почему люди забавляются, когда она вроде бы разговаривает с ними как все. Кто знает, сколько времени ей потребовалось в нежном возрасте на то, чтобы уяснить, что она не такая, как другие дети, и почему некоторые просто отворачиваются от нее, а другие, из добрых побуждений, ведут себя как-то не так, даже принимая ее в свою игру.
Родившись в Александрии в 1924 году — на закате британского колониального правления, — моя матушка принадлежала к среднему классу, к франкоязычной еврейской семье. Ее отец был успешным торговцем велосипедами и не жалел денег, чтобы исцелить дочь от глухоты. Мать возила ее к самым именитым специалистам-аудиологам в Европе, но после очередного визита к врачу возвращалась домой все более удрученной. Доктора говорили, что это не излечить. Что ее дитя потеряло слух после менингита, перенесенного в возрасте всего нескольких месяцев, а от последствий менингита, дескать, оправиться уже невозможно. Что сами уши у нее вполне здоровы, однако болезнь затронула ту часть мозга, которая отвечает за слух.
В те годы не было ничего и близко похожего на так называемую гордость глухих. Глухота воспринималась как позорное клеймо. Бедняки порой вообще пренебрегали заботой о своих глухих отпрысках, обрекая их на черную работу до самой гробовой доски. Такие дети оставались безграмотными, их язык был крайне примитивным и состоял главным образом из жестов. Со снобистской точки зрения маминых родителей, если вылечить глухоту не представлялось возможным, то надо было научиться ее скрывать. И если ты этого ничуть не стыдился, то тебя этому учили. Учили, как читать по губам, не выдавая своей глухоты, учили общаться голосом, а не руками. Мол, ты же не ешь руками — с чего бы тебе ими разговаривать?!
Поначалу мою мать определили в еврейскую французскую школу, но уже спустя считаные недели учителя и родители поняли, что такая школа не годится для глухого ребенка, и девочку под присмотром нянь перевели в специализированную школу в Париже. Оказалось, это скорее был пансион для благородных девиц, нежели школа для глухих. Ее учили красивой осанке, заставляя ходить с книжкой на голове и за обеденным столом локтями прижимать книжки к бокам. Она научилась шить, вязать, вышивать. Однако она была подвижным и неугомонным, не знающим покоя ребенком, из которого выросла девчонка-сорванец, вечно прибиравшая себе велосипеды из отцовского магазина. Она не любила играть в куклы. Ей не хватало терпения для французских манер, для французской грации и осанки.
Спустя два года она вернулась в Александрию, где ее препоручили заботе благонамеренной, исполненной новых идей гречанки, основавшей в своем городке частную французскую школу для глухих. В этом заведении царили приветливость и снисходительность, все было наполнено осознанием великой миссии. Тем не менее на уроках дети долгими утомительными часами учились подражать тем звукам, которые мама никогда в жизни не способна была услышать. Остальное время посвящалось искусству читать по губам — и чтению анфас, и, как в случае с моей матерью, чтению в профиль. Она научилась читать и писать, освоила основы языка жестов, ее обучили истории и литературе, а по окончании школы случившийся проездом в Александрии генерал вручил ей французскую бронзовую медаль.
И все-таки первые восемнадцать лет своей жизни мама посвятила тому, что училась, пожалуй, самому неестественному на свете умению — притворяться, будто все слышишь. Это не лучше, чем учить слепого считать шаги от одного столба к другому, лишь бы не ходить с белой тростью. Она училась смеяться над шутками, хотя и не могла в самый главный момент слышать игру слов. Она кивала аккурат в самых нужных местах речи собеседника, говорящего с ней по-русски, и этот собеседник оставался в полной уверенности, что она поняла все, что он ей говорил.
Гречанка-директриса была настоящим кумиром для своих учащихся, однако ее методики имели для моей матери ужасные последствия, заключавшиеся в полной неспособности обдумывать и обобщать сложные понятия и идеи. За определенным порогом для нее все просто теряло смысл. Она могла поддержать разговор о политике, если ты излагал обещания очередного кандидата в президенты, но совершенно не в состоянии была уяснить противоречия в его предвыборной программе, даже если ей это растолковали. Ей недоставало концептуальной базы или достаточного опыта оперирования символами, чтобы владеть и активно пользоваться абстрактным словарем. Ей могли нравиться картины Моне, но она абсолютно не способна была обсуждать красоту поэзии Бодлера.
Когда я задавал ей вопрос типа: «А может Бог создать такой камень, что сам не сможет его поднять?» или «Лжет ли критянин, утверждая, что все жители Крита — лжецы?» — мама не понимала, о чем я спрашиваю. Мыслила ли она словами? Я как-то спросил ее об этом — она сама того не знала. Но если не словесно, то как тогда строила она свои размышления? Этого она тоже не знала. Кто вообще мог это знать? Если ее спрашивали, когда она осознала, что полностью глуха, или каково это — жить, ничего совсем не слыша, или не удручает ли ее, что она не может послушать Баха или Бетховена, мама отвечала, что как-то даже и не думала об этом. С тем же успехом можно было попросить слепого порассуждать о красках. Остроумие тоже не было ее стихией, хотя мама и любила эксцентрические комедии, шутки, буффонаду. Она искусно разбиралась в мимике, и в кинематографе ее привлекал безгласный Харпо Маркс, чьи шутки держались не на репликах, а на языке тела.
У мамы имелся кружок преданных ей глухих друзей и подруг, однако в отличие от нынешних глухих, имеющих возможность проследить по буквам любое слово в Оксфордском словаре, мама и ее друзья не пользовались алфавитом — лишь лаконичным языком рук и мимических знаков, словарь которого едва ли насчитывал полсотни слов. Ее подруги могли обсуждать шитье, рецепты, гороскопы. Они умели изъяснить свою любовь к кому-то. Они могли с исключительной добротой и лаской прикоснуться к ребенку или старику, поскольку руки передают чувства куда более непосредственно, нежели слова. Однако непосредственность изъявления чувств — это одно, а сложные идеи — совсем иное.
После окончания школы мама вызвалась работать санитаркой в Александрии. Она научилась брать кровь, делать уколы и в итоге попала медсестрой в госпиталь — ухаживать за британскими солдатами, раненными в сражениях Второй мировой войны. С некоторыми военными она даже встречалась и катала их на мотоцикле, который подарил маме ее отец на восемнадцатилетие. Она любила бывать на вечеринках и проявляла удивительные способности к быстрым танцам. Она была желанным товарищем для каждого, кто любил потанцевать свинг или на рассвете сходить на пляж искупаться.
Когда ее повстречал мой отец, ей не исполнилось еще и двадцати. Он был поражен ее красотой, душевностью, необычайным сочетанием кротости в ее облике и дерзкого прямого взгляда. Этим она компенсировала свою глухоту, порой заставляя даже забыть о своем изъяне. Она очаровала всех его друзей и родственников — за исключением его родителей. Будущий свекор называл ее калекой, а будущая свекровь считала охотницей за деньгами. Однако мой отец отказался их слушать, и три года спустя мои родители поженились. На свадебных снимках мама светилась счастьем. Ее наставница-гречанка горячо восхищалась ее триумфом: мама не просто вышла замуж — она тем самым вырвалась из тесного гетто для глухих.
Теперь я понимаю, что, будь у нее образование получше, мама могла бы стать кем-нибудь еще. Ее интеллект, ее боевая стойкость и упорство перед лицом множества препятствий, встававших перед женщиной-еврейкой в Египте — а потом, после Египта, в Италии и в США, — помогли бы ей сделать отличную карьеру. Она могла бы стать врачом — например, терапевтом или психиатром. Однако в тот менее просвещенный век она осталась домохозяйкой. И несмотря на то, что мама имела приличный достаток, она все же была не просто женщиной, а глухой женщиной. А значит, уязвимой вдвойне.
Мама говорила и понимала по-французски, изучила греческий и основы арабского, а когда мы перебрались жить в Италию, быстро усвоила итальянский, каждый день бывая на рынке. Если она чего-то в речи не понимала, то делала вид, будто понимает сказанное, до тех пор, пока не уясняла это на самом деле. И почти всегда ей это удавалось. Помнится, в консульстве в Неаполе — перед нашим переездом в Штаты в 1968 году — у нее случилось первое знакомство с американским английским. Ее попросили поднять правую руку и повторить за тамошним служащим присягу верности. Мама пробормотала что-то еле слышное, что американец с радостью принял за слова присяги. Все это выглядело настолько неловко и забавно, что у нас с братом вырвались нервические смешки. Когда мы вышли из здания, мама рассмеялась вместе с нами, а вот отцу пришлось объяснять, что нас так развеселило.
Ее глухота всегда стояла между ней и отцом неодолимой стеной, и чем дольше они были в браке, тем труднее им было находить точки соприкосновения. Да и в прошлом это всегда между ними присутствовало. Отец любил классическую музыку — она же никогда не ходила на концерты. Он читал пространные русские романы и современных французских писателей с их ритмичной, мелодичной прозой — она предпочитала модные журналы. После работы отец хотел спокойно посидеть дома и почитать — мама же любила пойти на танцы или зазвать на ужин друзей. Она буквально выросла на американских фильмах, потому что в Египте они шли с французскими субтитрами, — он же предпочитал французские фильмы, идущие без субтитров, а значит, совершенно непонятные для нее, поскольку читать по губам актеров на экране было просто невозможно. Его друзья любили поговорить о вещах, в высшей степени заумных и утонченных: о греко-египетском боге Сераписе, об археологических раскопках близ Александрии, о сочинениях Курцио Малапарте. Мама же предпочитала досужую болтовню.
Уже довольно скоро после начала совместной жизни оба поняли, насколько они разные. Родители любили друг друга до самого конца, однако постоянно не понимали и обижали один другого и ссорились чуть ли не каждый день. Когда к нам в гости являлись ее глухие друзья и подруги, отец чаще всего просто уходил. В шестидесятые годы он вообще на несколько лет покинул дом и вернулся лишь за пару недель до нашего отъезда из Египта. У маминых подруг, нашедших себе избранника не из глухих, замужество было точно таким же беспокойным. Лишь у тех, что остались в сообществе себе подобных, жизнь в браке была такой же счастливой и безмятежной, как и у слышащих пар.
Мама так и не сумела до конца выучить английский. Движения губ были для нее недостаточно отчетливыми и понятными — разве что ради комического эффекта ты не начинал утрированно повторять то, что говорилось. Ей очень не нравилось, когда я на людях, говоря с ней, преувеличенно шевелил губами, потому как это выдавало всем ее глухоту. Многие маму жалели, а некоторые даже пытались одолеть отделявший ее барьер. Кое-кто из самых лучших побуждений пытался общаться с ней, имитируя речь глухих, подражая их гортанному голосу и корча гримасы. Другие говорили чересчур громко, как будто повышением уровня децибелов можно было донести до нее чью-то точку зрения. Она же воспринимала это, будто они ругаются. Среди собеседников встречались и такие, что, как ни старались, никак не могли уяснить, что мама им говорит. Бывали и те, которые не прилагали ни малейших усилий, чтобы что-то понять. Они предпочитали не глядеть ей в лицо, а то и вообще даже не замечать ее присутствие за ужином.
А некоторые просто над ней смеялись.
Когда приятели на детской площадке спрашивали меня, почему моя мама говорит таким странным голосом, я отвечал:
— Потому что она так разговаривает.
Ее голос мне ничуть не казался странным, пока на это не указали прямо. Это был мамин голос. Этим голосом она будила меня по утрам, звала искупаться на пляж, успокаивала меня и рассказывала перед сном сказки.
Порой я даже пытался себя убедить, что на самом деле она вовсе не глухая. Что она просто решила всех разыграть — притвориться глухой, чтобы все вокруг напряглись. Так иногда шутит, пожалуй, всякий ребенок, прикидываясь оглохшим, ослепшим или даже мертвым. Но мама по какой-то причине просто забыла прекратить розыгрыш. Желая проверить это, я подкрадывался к ней со спины, чтобы она не видела, и кричал ей в самое ухо. Никакой реакции. Даже не вздрагивала. Какое удивительное самообладание, думал я. Иной раз я подбегал к маме и говорил, что кто-то звонит в дверь. Она шла открывать; потом, поняв, что я сыграл нехорошую шутку, отделывалась смехом: разве не забавно, что радость ее жизни — то есть я — придумал такой грубый розыгрыш, чтобы, как и все вокруг, напомнить ей, что она глуха?
Однажды я наблюдал, как она наряжается, собираясь пойти куда-то с отцом. Когда она застегивала в ушах сережки, я сказал ей, что она очень красивая.
— Да, красивая, — отозвалась она. — Но это все равно ничего не меняет.
Мол, я все равно глуха и тебе не стоит об этом забывать.
Мне как ребенку было трудно примириться с ее вечной готовностью улыбнуться, любовью к буффонаде, с ее спокойным приятием своей неизбывной горечи как жены и как глухого человека. С подругами она всегда плакала. Они все, на самом деле, плакали. Однако те, кому довелось пожить среди глухих, быстро перестают испытывать к ним жалость. Напротив, от жалости ты быстро перескакиваешь к жестокости — точно камешек, прыгающий по мелководью, — не понимая до конца, что это значит: жить вообще без звуков. Мне редко когда удавалось спокойно сидеть рядом, сознавая ее обособленность от остального мира. Намного проще было выйти из себя оттого, что она меня не слушает, — потому что она никогда меня не слушала. Потому что большей частью понимание того, что я ей говорил, складывалось из догадок и интуиции — когда тень, отбрасываемая фактами, значит больше, чем сам факт.
Для меня не было хуже пытки, нежели звонить за маму по телефону. Она нередко просила меня или брата ей помочь: набрать номер и с кем-то за нее поговорить. Сама же она при этом стояла рядом, ловя каждое мое слово. Она очень признательна была за это и гордилась, что уже в столь юные годы мы способны вызвать водопроводчика, пригласить ее друзей или портниху. Мама говаривала, что я — ее уши. «Он — ее уши!» — громко заявляла и ее свекровь, имея в виду, что, слава богу, есть хоть кто-то, способный делать за нее рутинные дела. Иначе, мол, как бы эта бедняжка вообще выжила?
У меня имелось два способа улизнуть от повинности делать за нее звонки. Один — спрятаться. Другой — солгать. Я набирал номер, выжидал немножко, потом говорил, что линия занята, и вешал трубку. Через пять минут линия снова оказывалась занята. Мне тогда даже в голову не приходило, что, может быть, маме надо срочно позвонить или, если муж не пришел вовремя к ужину, необходимо пообщаться с подругой, родственником — с кем-то, способным развеять ее одиночество. Бывало, матери звонили мужчины, но, поскольку посредниками в разговоре выступали мы с братом, то общение оказывалось весьма неловким. Больше эти мужчины не звонили.
Когда я уехал учиться в магистратуре, связующим звеном между нами остался мой брат. Я говорил ему что-то по телефону, он передавал сообщение, после чего в отдалении я слышал голос мамы, говорившей, что следует сказать в ответ, и брат передавал мне это в трубку. Иногда я просил позвать ее саму к телефону, чтобы она рассказала мне о чем угодно, что только взбредет в голову, потому что я скучал по ее голосу. Мне хотелось снова слышать все те слова, что она говорила мне когда-то, пусть немного невнятно и порой коверкая грамматику, — слова, что были для меня не столько словами, сколько звуками, уносившими меня в далекое детство, когда я еще толком не понимал слов.
Ребенком я фантазировал, что однажды кто-нибудь изобретет чудо-устройство, которое позволит моей матери созваниваться и разговаривать с другими глухими людьми. Чудо это случилось около тридцати лет назад, когда я приобрел для матери телетайп. Впервые за свою жизнь она способна была общаться с глухими подругами, не привлекая к этому меня или моего брата. Теперь она могла печатать длинные послания на своем ломаном английском, а также сама договариваться с друзьями о встрече. Потом, спустя семь лет, я установил на ее телевизор приставку, давшую ей возможность визуального общения с друзьями по всей стране. Многие из них были уже слишком стары для дальних поездок, так что новое устройство явилось для них сущим подарком небес.
Открытая всему новому, мама радовалась любому плоду научно-технического прогресса (чего не скажешь об отце, который с крайней неохотой осваивал что-нибудь новое и не желал расставаться со своим коротковолновым радиоприемником). Несколько лет назад, когда матери было уже сильно за восемьдесят, я купил ей айпад, и теперь она могла часами общаться по скайпу или фейстайму с друзьями за рубежом, которых не видела уже долгие годы. Ни о чем подобном я мальчишкой даже мечтать не мог! Она могла позвонить мне когда угодно — когда я дома, или на работе, или в спортзале, или даже в «Старбаксе». По фейстайму я всегда мог с ней связаться и не волноваться, где она и чем занимается. Когда умер отец, мама настояла на том, чтобы жить одной, и я больше всего боялся, что она где-нибудь упадет и что-то себе повредит. А еще фейстайм позволил мне уже не так часто наведываться к матери, и она прекрасно это понимала: «Ну что, раз мы нынче поговорили по айпаду, то вечером тебя можно не ждать?»
Моя матушка, при всех ее изъянах, была самым тонким и мудрым человеком, какого я только знал. Язык был для нее как протез или как пересаженная конечность, с которой она научилась существовать, но которая, однако, все равно оставалась для нее второстепенной, потому что мама в состоянии была обойтись и без нее. Она прекрасно владела более естественными средствами общения. Она была удивительно проницательным человеком и обладала особенным, инстинктивным чутьем и на людей, и на ситуации. Ее внутренний радар всегда был включен: кому доверять, чему верить, как расценить какое-то отклонение от привычного. Своим обонянием она с лихвой компенсировала все то, чего лишилась из-за глухоты. Она учила меня, какие бывают специи: на рынке, называя каждую поочередно, она запускала ладонь в джутовый мешочек и, вынимая горсть, давала мне понюхать. Она учила меня распознавать ароматы ее духов, запах мокрой шерсти или утечки газа. Теперь, когда я в книге пишу о запахах, я ориентируюсь не на Пруста, а на свою мать.
Чаще всего люди сразу же тянулись к ней. Это можно приписать тому, что, где бы мама ни появлялась, она неизменно излучала прекрасное настроение. И все же при этом моя мать оставалась глубоко несчастным человеком. Мне кажется, у нее была безграничная способность к тесной дружбе с первого взгляда, причем с кем угодно — с богачом и бедняком, с человеком хорошим или плохим, с мясником, с почтальоном, с важной персоной или сенегальскими работницами в супермаркетах верхнего Вест-сайда, которые помогали ей, даже не зная, что ее родным языком тоже был французский. Случись ей вдруг оказаться в Кандагаре или Исламабаде, она бы без труда, пожалуй, нашла там именно такой кусок говядины, какой ей нужно, да еще до победного конца торговалась бы о цене, попутно обрастая там, на базаре, новыми друзьями.
А еще ее личность подвигала других искать ее дружбы. Более того, ради этого сближения ты с готовностью погружался в самого себя, пытаясь вспомнить, куда ты спрятал свою способность дружить и есть ли у тебя в принципе эта самая способность. Это был ее язык общения, и — в точности как сидящие в одиночках заключенные учатся перестукиваться на новом для себя языке, со своим особенным алфавитом и грамматикой, — мама учила других на нем говорить. Бывало, мои друзья уже через час после знакомства с нею напрочь забывали, что она их не слышит, и понимали все, что она им говорила, — хотя не разумели ни слова по-французски, а уж тем более из уст человека глухого. Я пытался вмешаться в разговор и перевести ею сказанное на более понятный язык.
— Да мы уже поняли, — отвечали друзья.
— Я тоже все прекрасно понимаю, — добавляла мать, ясно давая понять: «Оставь нас в покое и не встревай. У нас и так все хорошо».
Это я ничего не понимал.
Как-то раз, несколько лет назад, я, бегая трусцой в особенно холодный день, заглянул к маме — согреться, перевести дух, а заодно проведать, как она поживает. Она в это время смотрела телевизор. Я сел рядом с ней и принялся объяснять, что у меня не получится прийти вечером на ужин, потому что собираюсь встретиться с друзьями, но могу заглянуть к ней на следующий день — выпить нашего излюбленного скотча и вместе поужинать. Маме эта мысль понравилась. И что бы мне хотелось, чтобы она приготовила? Я предложил сделать запеканку из макарон с похрустывающей сырной корочкой. Мама сочла это отличной идеей.
Я забыл тогда снять с лица балаклаву, и на протяжении всего разговора мои губы были закрыты. Мама слушала меня, следя лишь за движением бровей.
В том новом мире, в котором моя матушка окончила свои дни, любой человек имел право на всеобщее уважение. Он имел равные с другими права, возможность жить с достоинством и в полной безопасности. Ей этот мир нравился гораздо больше, нежели Старый Свет. Однако он все-таки не был ее домом. Только теперь, когда я размышляю о языке, который Шекспир, скорее всего, назвал бы «неподатливым», я понимаю, что тоскую по его непосредственности, его тактильности, пришедшей из другой эпохи, когда главным связующим звеном было лицо, а не слова. И этим языком я обязан не книгам, что я читал или по которым учился, а матери, которая не слишком доверяла словам и не имела для них достаточного таланта или терпения.
Брат, не одолжишь ли мелочи?
Сари Боттон
— Хочешь такую вот блузочку?
Мама выносит блузу с анималистическим принтом, с еще висящим на ней ярлычком. Я бы ни за что такое не надела, и мать прекрасно это знает, но ей все равно очень хочется, чтобы я эту вещь забрала, приняла из ее рук.
— Я ее совсем недавно купила, но на тебе она, пожалуй, будет гораздо лучше.
— Нет, спасибо, мама, — отвечаю я, пытаясь скрыть раздражение и неловкость.
— У меня есть еще кофточка, которая тебе может понравиться, — вновь отправляется она к стенному шкафу. На сей раз возвращается с темно-синим зауженным лонгсливом из хлопка от Michael Stars, который я уже точно у нее хоть раз да брала надеть и который заметно припудрен тем снадобьем, что прописал матери дерматолог. — Эта тебе больше подходит.
Что верно, то верно.
— Но это твоя блузка, — пытаюсь я протестовать.
— Я могу купить другую, — настаивает мать. — Схожу еще разочек в «Блумингдейл». А то хочешь, пойдем вместе? Могу купить тебе там новую. Мне так хочется тебе что-нибудь купить.
Боюсь, ее сильно заденет, если я признаюсь, что какая-то часть моего существа отказывается верить в искренность ее подарков. Я боюсь, что за этим кроются какие-то условия и обязательства. Более того, я вижу в этом отступление от того, какой она учила меня быть, во что она сама раньше верила. А еще — если хорошенько, поглубже копнуть — я боюсь, что, стоит мне в этом признаться, как ее дары тут же иссякнут.
* * *
За десять лет до этого, приехав домой после первого курса в колледже, я сделалась воровкой.
Несколько раз в неделю я втихаря пробиралась в комнату своего сводного брата Джареда, который был на год старше и ужасно меня бесил, совала руку в его большущий круглый аквариум, наполненный грязными пятицентовиками, десятицентовиками и четвертаками, и умыкала оттуда где-то семьдесят пять центов или, бывало, доллар.
Я вовсе не считала это воровством. Это совсем не соответствовало моему давно установившемуся, бесспорному имиджу Примерной дочери. Себе я говорила, что просто одалживаюсь у брата, хотя и делала это без спросу. А еще — ни разу не пыталась вернуть взятое.
Иногда я расценивала это не как одалживание, а как своего рода репарацию. На внешне цивилизованном, но на самом деле жестоком поле битвы родительского развода я определенно проиграла больше всех. Получилось, что я обделена обоими родителями, которые в новых своих браках оказались супругами с наименьшими средствами, с наименьшим влиянием в семье и с наименьшей решимостью постоять за своих собственных детей.
Когда мне было двенадцать, отец вторично женился на вдове, которую бывший муж обеспечил наравне с обеими дочерьми солидными трастовыми фондами. Каждый год их бабушка — утонченная бостонская аристократка из евреев — с гордостью вручала мне ханукальную открытку, внутрь которой неизменно вкладывала новенькую, хрустящую долларовую купюру.
Когда мне было пятнадцать, мама познакомилась с вдовцом, который сразу же дал ей понять, что предпочел бы не жениться на женщине с детьми. И моя мать, как могла, старалась производить на него впечатление бездетной особы. Покупая что-нибудь мне и моей сестре, она всякий раз отводила нас в сторонку и шепотом, чтобы не узнал отчим, говорила: «Гляньте-ка у себя под кроватью — я там вам кое-что оставила».
И вот уже в восемнадцать, сама платя за свое обучение в колледже, я прониклась к себе такой глубокой жалостью, что в утешение взялась вознаграждать себя очень скромной финансовой помощью из обильного склада мелочи своего сводного брата. И вообще, разве возможно, чтобы он заметил пропажу каких-то пары-тройки монет!
* * *
Таскала я мелочь, чтобы платить за автобус М32, на котором по будням ездила от Пенсильванского вокзала до конторы торгового клуба «Книги месяца», где я пристроилась на лето поработать, чтобы оплатить учебу в следующем семестре, осенью 1984-го. По утрам я отправлялась в город на рейсе, выезжавшем в 6:47 из Оушенсайда на Лонг-Айленде, и в 17:43 садилась на автобус в обратную сторону — неизменно в компании своего отчима, гнуснейшего на свете человека, которого моя бабушка называла словечком farbissener, что на идиш означает «ничтожество». Каждое утро меня встречал нехороший дух у него изо рта и глаза-букашки, увеличенные толстыми очками-«авиаторами», причем в тот ранний час, когда вообще трудно сфокусировать взгляд, а уж тем более кому-то улыбаться; но отчим все равно вечно жаловался матери на мою неприветливость. Впрочем, было совершенно очевидно, что Бернарда тоже не слишком радует необходимость ездить в одном автобусе со мной. Всякий раз он напряженно молчал. А я не просто не хотела заговаривать с ним — я этого боялась. У него был очень крутой нрав. Я опасалась, что, стоит мне хоть что-нибудь сказать, он взорвется гневом. А потому, оказываясь с ним в автобусе, я большей частью притворялась, будто сплю.
Именно так мы обычно и отзывались о Бернарде: «У него крутой нрав». Так мы характеризовали его действия, когда он запустил сыну в голову стеклянной миской со спагетти, вызвав у того сотрясение мозга. Или когда швырнул в мою мать бокалом для вина, который, отскочив от ее щеки, вдребезги разбился об пол. Или когда стащил мою тринадцатилетнюю сестру за волосы по лестнице, когда схватил ее руками за горло и начал бешено трясти, оставляя на ее шее синяки. Так мы говорили и когда искали убежища в доме у маминой подруги. И когда мама возвращалась, прося у Бернарда прощения, что ушла. И когда кто-то — возможно, та самая мамина подруга — анонимно позвонил в органы детской опеки и наш дом стал регулярно навещать сотрудник социальных служб.
У него крутой нрав.
Так это называлось, когда он швырнул в меня керамической свиньей-копилкой, — я, старшеклассница, сидела на кровати, делая домашнее задание, а он ворвался ко мне в комнату, потрясая линованным листочком из блокнота, на котором карандашом были написаны какие-то цифры. Он весь кипел от злости, что я не хочу позвонить отцу и попросить увеличить сумму алиментов на меня. Я успела вовремя пригнуться. Копилка врезалась в стену и разлетелась на куски.
* * *
Все лето мое мелкое воровство сходило мне с рук. Чем дальше, тем бесстрашнее я становилась, и меня все меньше и меньше тревожила неблаговидность моих поступков. Я чувствовала себя очень спокойно и уверенно, для меня это стало совершенно привычным делом.
Но в конце августа меня ожидал крайне неприятный сюрприз. Оказывается, мой сводный братец вел точный счет всей мелочи, что хранилась у него в аквариуме. Однажды субботним вечером, за неделю до того, как мы должны были разъехаться по своим колледжам на второй курс, он спустился к ужину в дикой ярости, чуть ли не с пеной у рта. И ткнул пальцем… в мою сестру.
— Это она взяла! — вскричал он. — Я точно знаю, что это она!
— Это не я! — завопила в ответ сестра.
— А кто тогда, по-твоему, это сделал, а?!
Я сидела рядом обомлевшая, не говоря ни слова. Сестра со сводным братом весь вечер продолжали перепалку. Сестра плакала, умоляя маму ей поверить.
До того как признаться в содеянном, я подкинула им мысль: а может, кто-то другой прибрал эти деньги? Кто-то, зашедший к нам в гости ненадолго? Но в ответ Джаред уверенно заявил, что это сделала или моя сестра, или кто-то другой из живущих в этом доме, поскольку на протяжении последних двух месяцев он замечал у себя постоянную утечку денег.
Едва ли в моей жизни была ужаснее пора, чем те двенадцать часов, когда из-за меня несправедливо обвиняли сестру. Я обязана была прояснить ситуацию, но совершенно не представляла, как это сделать. У меня бы язык не повернулся признаться в своих преступлениях. Всякий раз, когда сестре доводилось сильно провиниться, она, немного побрыкавшись и поорав, все же признавалась в своем проступке и получала наказание. Но мне сама мысль об этом казалась дикой и пугающей. Я слишком привыкла к роли невинного ангела в этом доме и теперь с ужасом думала о том, что мой безупречный образ будет запятнан. Кем же я останусь без своего светящегося нимба?
Всю ночь я просидела, раз за разом переписывая признательные записки на своей цветной, именной почтовой бумаге, полученной в подарок на бат-мицву. В пять утра я рассовала послания по конвертам и разложила у каждого места за кухонным уголком, где мы обычно завтракали. А в конверт сводного брата еще и присовокупила чек.
Потом я укрылась у себя в комнате и, вся сжавшись, стала прислушиваться к разговорам внизу, когда все конверты были явно вскрыты.
Услышала, как сестра прошипела:
— Вот видите?!
И как Джаред отозвался:
— Ну да, наверняка ты там тоже что-то свистнула.
И как она рассмеялась ему в лицо.
Спустя какое-то время ко мне в комнату поднялась мама.
— Это ты?! — Она даже не нашлась, что сказать еще.
* * *
Причиной полного преображения моей матери явилось последнее ее замужество, третье по счету. Во всем, что только можно представить, Стэнли — третий мамин муж — сильно отличался от Бернарда. Стэнли был человеком душевным, добрым, легким и непосредственным. Этаким лысеющим фокусником-любителем, называвшим себя в честь своей гладкой макушки «Великим Гладини». Стэнли был умным, проницательным и бесконечно великодушным.
Хоть Стэнли и не был так уж богат, но все же куда состоятельнее прежних двух маминых мужей (включая моего отца), так что ему было, в принципе, чем поделиться. И хотя большую часть своей жизни я имела дело с людьми при деньгах — со своими родственниками, друзьями семьи, родственниками отчима с их трастовыми фондами, — большинство из них держали свои деньги при себе. Стэнли был совсем иным — это для нас был сущий клад, истинный мужчина. С первой же недели нашего знакомства он обращался со мной и моей сестрой точно с собственными детьми, водил нас в прекрасные рестораны, осыпал подарками на день рождения и Хануку, да и впоследствии всегда меня выручал, когда мне случалось оказаться на мели.
С новым замужеством мама сделалась совершенно другим человеком. Ту женщину, с которой я жила в середине семидесятых, — переживающую тяжелые времена мать-одиночку, которая еле-еле сводила концы с концами на свою жалкую зарплату учительницы начальной школы, «социал-либералку», как шутили ее друзья, главу местного отделения организации «Учителя штата Нью-Йорк», разъезжавшую на изрядно помятом, стареньком «Додж-Дарте», — было теперь просто не узнать.
Теперь она каждую неделю ходила на маникюр и педикюр, а также еженедельно, а не изредка, как прежде, нанимала себе помощь в уборке дома. В ее гардеробе появилась совершенно новая категория одежды: сверкающие вечерние наряды для званых ужинов с танцами и коктейльных вечеринок, куда она теперь частенько ходила под руку со Стэнли. По отдельным поводам она получала в подарок золотые украшения и на школьных каникулах ездила по тропическим странам.
В процессе такого преображения мать внезапно сделалась очень щедрой к своим дочерям. В браке с Бернардом ей бывало трудно нам что-то дарить — большей частью потому, что она опасалась потревожить «крутой нрав» мужа. Для нее это был чисто стратегический выбор — способ сосуществования с самым злющим человеком в доме.
Как только Бернарда рядом с ней не стало и в кадре возник Стэнли, мама словно переродилась. Теперь всякий раз, как я к ней приезжала на выходные погостить, у нас начинался Великий ритуал подношения разных вещей. К концу уик-энда я обрастала всевозможной одеждой, обувью, побрякушками, съестными запасами и косметическими пробниками, что шли в придачу к губной помаде, только что купленной матерью в «Блумингдейле».
Она и мне частенько предлагала прогуляться туда за покупками, и это вызывало у меня отвращение. Хотя вроде бы в тринадцать лет, да после развода родителей мне наоборот бы этого хотеть! Еще и упрашивать маму взять нас с собою в «Блумингдейл», как некоторые дети умоляют родителей отвести их в Диснейленд.
После некоторого блуждания по универмагу я начинала ощущать, как сквозь мамино внешнее антивещистское пренебрежение начинает просачиваться желание. У нас был своего рода ритуал: для начала мы брали на троих два супа и один салат в тамошнем ресторане под названием Ondine. Подкрепившись, мы осаждали стойку косметики Clinique, после чего отправлялись в секцию для девочек и наконец, попадали в отдел женской одежды, где давали советы и подсказывали, в каком из выбранных ею нарядов она выглядит лучше всего.
В завершение каждого нашего выхода в магазин мы спускались в отдел деликатесов на цокольном этаже, где мама неизменно покупала маленькую баночку земляничного варенья Little Scarlett, в которой сквозь стекло проглядывало бессчетное число крохотных алых ягодок.
Потом, в двадцать три года, я уже чувствовала себя при этом крайне некомфортно. Что это за снобистского вида дамочка и что она сделала с моей матерью, обычной работягой? И где теперь та женщина, которой летом 1976 года, после разрыва с моим отцом — почти что без его в этом участия, — довелось столкнуться с еще большими финансовыми тяготами, нежели те, к которым она уже привыкла?
Походы в «Блумингдейл», равно как и все остальное, приятное и радостное в нашей жизни, разом оборвались в 1981 году с появлением на горизонте Бернарда и его двух сыновей, когда мне было пятнадцать. Следующие шесть лет были мрачными и беспросветными, отравленными тихой, подавленной ненавистью с нашей стороны и бурной, взрывной яростью Бернарда, выливающейся в неизгладимые вспышки жестокости.
После очередного его выпада, — когда он запустил в мою сестру стереомагнитофоном, а потом стащил ее за волосы по лестнице, — мать наконец подала заявление о разводе. Какое же это было для всех нас облегчение, когда он убрался из нашего дома! Тогда я и представить не могла, что еще большее облегчение ждет нас впереди, когда несколько месяцев спустя мама начнет встречаться со Стэнли.
* * *
Довольно скоро после того, как мама со Стэнли поженились, я перестала сопротивляться ее подаркам и с удовольствием, хотя и несколько сдержанно, брала все, что она мне давала. Чаще всего я немного ломалась, но потом все же уступала, принимая ее подношения, — и ради ее спокойствия, и для своего блага. Теперь я понимаю, что ей так же отчаянно хочется что-то мне отдать, как я когда-то желала от нее что-то получить.
И она не просто дарит мне какие-то вещи. Она возмещает мне сам процесс дарения — то, чего так долго не имела возможности делать и о чем теперь глубоко сожалеет. И, принимая ее подарки, я дарю ей удовлетворение от того, что она наконец может отдать.
* * *
В мае 2018 года в возрасте восьмидесяти девяти лет Стэнли внезапно сразила тяжелая болезнь, и в считаные недели — за месяц до тридцатилетия их брака — его не стало. Весь чудесный мамин мир, равно как и ее финансовая стабильность, стали стремительно рушиться.
Через неделю после похорон я приезжаю помочь ей собрать вещи в их зимней квартире в Бока-Ратоне, штат Флорида. Маме необходимо еще купить ее любимый гипоаллергенный тональник, которым она по-прежнему все время пользуется, и она спрашивает, не заедем ли мы за ним в «Блумингдейл».
Как странно оказаться теперь в этом универмаге после стольких лет, когда я практически не ходила по магазинам. Там почти все то же самое — мягкое для глаз освещение, роскошный дизайн интерьера, броская выкладка товаров. Я чувствую эйфорию от витающего там духа богатства и изобилия. И мне кажется, мама испытывает то же самое. В ее поступи вновь появляется та пружинистая легкость, которой я не наблюдала у нее с тех пор, как слег Стэнли.
— Тебе тут ничего не нужно? — спрашивает у меня мама.
— Нет, — отвечаю, — у меня все есть.
По пути к излюбленной косметической стойке мама останавливается примерить туфли. Сунув ногу в одну из балеток FitFlop, она признается, что, когда Стэнли лежал в отделении интенсивной терапии, она прошлась по магазинам, чтобы развеять тревогу, и купила себе две блузки. А еще, проболталась она, у нее шестьсот баксов долга на платежной карте «Блумингдейл».
— Обещай мне, что, когда завещание вступит в силу, ты непременно это выплатишь, — говорю я, и мама обещает.
* * *
В нынешнее время ситуация, естественно, радикально переменилась. Мне пятьдесят три, а маме семьдесят восемь, и теперь моя очередь заботиться о ней. К счастью, у нее есть пенсия, социальное пособие и еще кое-какие поступления, чего на сегодняшний день хватает, чтобы вовремя оплачивать счета. За ужином я обычно забираю у нее чеки. Приношу ей и присылаю разные маленькие подарочки: билеты на какой-нибудь спектакль или концерт в ближайших окрестностях; натуральный клюквенный концентрат, который она добавляет себе в сельтерскую воду; маленькие, затягивающиеся тесемкой мешочки, которые она собирает, чтобы хранить косметику или ювелирные украшения; раскраску для взрослых с позитивными, жизнеутверждающими афоризмами, дабы ей легче было пережить горе; миндальное печенье в шоколаде. Как же замечательно, что я могу вернуть ей хоть то немногое, что мне доступно.
Я даже не представляю, как изменится мама на следующем этапе своей жизни, и не могу не опасаться, что она окажется чересчур подверженной обаянию еще какого-нибудь негодяя вроде Бернарда. И все же я надеюсь: что бы ни ждало ее дальше, моя мать заново откроет в себе чувство независимости и те далекие от меркантильности принципы, которым она на собственном примере учила меня в отроческие годы. Возможно, тогда они и прикрывали собою ее внутренний протест и серьезные проблемы с самооценкой, однако сейчас они мне все же многое способны объяснить.
Ее плоть — моя плоть
Найоми Мунавира
Я сижу на унитазе в ожидании, когда придет мать. Мне приходится ее дожидаться, потому что я не умею как следует подтереться. И, как всегда, она заставляет меня ждать. Когда она наконец появляется, то, вытирая меня, делает брезгливое лицо. Дескать, ей совсем не нравится этим заниматься, однако она вынуждена, потому что я слишком бестолковая, чтобы все сделать как надо.
По этому вопросу в нашей семье уже не раз разыгрывались баталии. Отец и бабушка яростно спорят с матерью, чтобы она позволила мне подтираться самостоятельно, объясняя, что это вообще не нормально. Однако она и слушать их не хочет — мол, она моя мать и мое тело всецело принадлежит ей.
Я с ней и не спорю. Я доверяю матери и знаю сама, что не способна ничего сделать правильно. Вот только на этот раз дело принимает иной оборот. Там кровь. У меня начались первые в жизни месячные. С этого момента мать позволяет мне начать подтираться самой. И с этого момента разрешает принимать душ без ее присмотра. Мне двенадцать лет.
Проблема крылась в том, что она не видела никакой разъединенности между своим телом и моим, считая, что я целиком и полностью принадлежу ей. Я была одновременно и ее самым что ни на есть любимым, драгоценным чадом, и ни на что не годной тупицей. То она пекла для меня вкусности и шила мне наряды, то орала, что я ничего этого не стою. И вот я постоянно витала между этими двумя представлениями о себе, вечно не зная, где окончательно мне приземлиться, и все время ища подтверждения тому, кем я на самом деле являюсь.
В детском возрасте все было очень просто. Тогда она естественным образом контролировала каждый малейший аспект моей жизни, и это подпитывало в ней потребность меня подчинять. Уже позднее, когда сделалось очевидно, что у меня отдельно от нее формируется личность, что я по-любому не буду ее, что я унаследовала и черты характера своего отца, которого мать ненавидела, но от которого не могла уйти, ситуация резко осложнилась. Помнится, я услышала однажды, как другие взрослые обсуждают ее вспышки злости. Однако они боялись оказаться в гуще наших внутрисемейных трений, и потому никто и никогда не вмешивался.
Родители частенько говорят, что, когда я была ребенком, меня можно было на несколько часов оставить одну в комнате. Я сидела тихо, почти даже не шевелясь. Для них это, похоже, свидетельствовало о том, что я хорошая девочка, послушное дитя. Они не расценивали это как необычное для ребенка поведение, маскирующее глубокие психологические проблемы.
Десятки лет спустя, когда мне было уже за тридцать и я жила в Сан-Франциско, я нашла психотерапевта, который смог «разблокировать» всю мою жизнь. Ему я наконец призналась, сколько мне было лет, когда мать перестала обращаться со мной как с маленькой. Я еще никогда и никому об этом не рассказывала. Мне казалось, если я поведаю кому-либо эту свою позорную тайну, то люди сразу поймут, что я с изъяном, а потому по природе своей недостойна любви. Запинаясь и плача, я наконец нашла в себе силы сказать эти слова. И врач ответил мне вот такой волшебной фразой:
— Это не ваша вина. Вы не делали ничего плохого. Вы были просто ребенком.
Покинув его кабинет, я отправилась в книжный магазин и со второго этажа, глядя в окно на открывающуюся передо мной площадь Юнион-сквер, позвонила матери и спросила ее, почему она не позволяла мне самой распоряжаться своим собственным телом. Она ответила, что не помнит, что, наверное, была еще слишком молода. Но скорее всего, предположила мать, она просто старалась делать для меня самое лучшее, всего лишь пыталась быть хорошей матерью. Что все это для нее очень печально, но ей тут нечего сказать. Больше мы об этом ни разу не заговаривали.
Свадьба
Мои родители поженились в Шри-Ланке в 1972 году. Маме тогда исполнилось девятнадцать лет, она была младшим ребенком вдовы. Ее отец умер от сердечного приступа, когда она была еще совсем юной, а вскоре после этого старший и любимый брат погиб в ужасной автокатастрофе. Она так и не смогла забыть, как однажды утром, уходя в школу, сказала брату: «Пока!» — а вечером в дом привезли его разбитое тело. В определенном смысле в ее душе уже тогда появилась глубокая трещина. Она поняла, что в этом мире не стоит рассчитывать на безопасную жизнь.
Папе моему было тогда двадцать девять лет. Он только что получил профессию инженера, окончив престижный Университет Перадении, став одним из сорока восьми свежевыпущенных в том году инженеров на всем острове. Он был очень умным человеком. И очень застенчивым. Вырастила его властная мать, все время толкавшая его к успеху. В определенном смысле в его душе тогда тоже уже имелась глубокая трещина. Он понял, что в этом мире не стоит рассчитывать на многие радости.
Их грозные матери были знакомы с детства, росли бок о бок, в одной деревне. Они были «своими людьми», так что, когда зашел разговор о браке, обе семьи сразу дали согласие. Молодой человек и девушка немного знали друг друга. Возможно, до свадьбы ходили несколько раз вместе в кино — что-то большее было просто немыслимым.
Когда я смотрю на свадебное фото своих родителей и вижу их счастливо улыбающимися, ее — в сверкающем серебристом сари, его — такого красивого и статного в черном костюме, во мне все замирает от благоговения и скорби.
Чаяния переселенцев
Я родилась у них ровно через год. Мама всегда желала для нас чего-то большего, нежели в те времена могла бы дать нам Шри-Ланка, а потому в 1976 году, когда мне было три года, она убедила отца переехать жить в Нигерию. Когда в Нигерии в 1984 году случился военный переворот, именно мать настояла на том, чтобы мы перебрались в Соединенные Штаты. Мне тогда было двенадцать лет, а моей сестре Намаль — три.
Мы оказались в первой волне осевших в Америке выходцев из Шри-Ланки — небольшое сообщество бывших островитян, обосновавшихся в пригородах Лос-Анджелеса. Случись вам тогда нас увидеть, вы сочли бы нас за идеальное иммигрантское семейство — людей, которые вытягивали себя из социальной ямы чуть не за шнурки.
Что касается отца: в Нигерии он считался уважаемым профессионалом, инженером. В Америке первая его работа заключалась в том, что он, лежа на животе на маленькой роликовой доске, передвигался через сточные илистые воды в противопаводковых каналах. Но постепенно он дорос до государственных должностей в Лос-Анджелесе и наконец сделался весьма выдающимся инженером. Совершенно невероятная жизненная траектория для мальчика из маленькой шри-ланкийской деревушки!
Что касается матери: эта девушка не окончила ни одного колледжа. В Нигерии она сделалась директором ею же открытой школы. В Калифорнии начала с работы воспитателя нулевых классов. Она открывала школу в шесть утра, в шесть вечера закрывала, после чего отправлялась домой прибираться и готовить. За два десятка лет мать скопила достаточно средств, чтобы приобрести нулевую школу в собственность, потом еще одну. Она превратилась во владелицу приличного бизнеса, в домовладелицу.
В Америке мы понимали, что обязаны производить на всех очень и очень хорошее впечатление. Американцы зачастую глядели на нас с подозрением. Бывало, нам говорили, что мы неплохо разговариваем по-английски, предполагая, что это комплимент. Им даже в голову не приходило, что из-за непростой истории нашего острова мы от рождения знаем этот язык, поэтому мы просто улыбались, благодаря за добрые слова. А бывало, когда американцы злились на нас, кричали, чтобы мы убирались из их страны восвояси. Тогда мы понимали: лишь наше активное стремление к совершенству сможет убедить их, что мы такие же люди, как они.
Мы были цепкими в работе, упорными, расчетливыми и очень трудолюбивыми. А еще всегда очень хорошо выглядели: мама в сари, отец в костюме с галстуком в цвет ее сари и две их прелестные дочурки. Как мы блистали на иммигрантских балах, которые были для нас верхом светской жизни в этом наистраннейшем месте — в этой Шри-Ланке под Лос-Анджелесом, в Коломбо у стен Голливуда! Для нас было крайне важно выделяться в своем маленьком сообществе из двухсот семей. Отказаться от этого означало с большой вероятностью подвергнуться презрению — а кто сумеет выжить в безжалостных дебрях Америки без утешения и поддержки своих людей, собственного народа?
Жизнь дома
Мама всегда считала себя королевой, а мы все были ее верноподданными. Любое притязание на собственную индивидуальность рассматривалось как неподчинение власти, как знак того, что мы ее не любим. А когда мама считала, что мы ее не любим, то милостивая королева исчезала и вместо нее появлялась злая ведьма.
— Тучи сгущаются, — шепотом предупреждали мы друг друга, чувствуя, как настроение матери начинает смещаться в мрачную сторону.
Так коротко можно описать то, что не имело названия и зловеще подкрадывалось к нам исподтишка. Мама орала на нас, била посуду, пока в доме не оставалось ни одной целой тарелки, говорила нам ужасные вещи, которые все оседали у меня в мозгу, и потом требовались десятилетия, чтобы их забыть. Она столько раз разбивала парадные свадебные фото, что мы перестали ставить их в рамочку. Потом она запиралась в ванной и долго рыдала, не в силах остановиться. Бывало, она на несколько дней погружалась в молчание. В одну минуту она могла переключиться от плача к безудержному смеху. Когда нас вовсю еще колбасило после устроенного ею урагана, она могла спросить вдруг: «Что случилось?» И если на наших лицах в ответ не отражалось ликования, то буря могла возобновиться. Так что мы мало-помалу научились игнорировать собственные чувства и эмоции, пока наконец не перестали их испытывать.
* * *
Мне четырнадцать, и мать не один час бушевала, метая громы и молнии. Мы с отцом и сестрой устраиваемся смотреть телевизор: то ли «Остров Гиллигана», то ли «Шоу болванов» — наши любимые в ту пору телешоу и простейший для нас способ снять напряжение. Между тем в доме становится подозрительно тихо, и я иду проверить, что и как.
Мама в ванной, с длинным глубоким порезом поперек запястья. На стене, на раковине кровь. Мать глядит растерянно, что-то бессвязное бормочет. Я смываю кровь с ее рук и туго перевязываю рану бинтами, что хранятся у нас в шкафчике. Спрашиваю, зачем она это сделала, но она ничего не отвечает. Я укладываю ее в постель. О том, что случилось, не говорю ни отцу, ни сестре, которой всего восемь лет, а она в своей жизни уже видела много такого, чего ей видеть не следовало.
Где-то спустя год или чуть позже мать бушует в кухне. Она только что узнала, что отец снова тайком от нее отправил деньги своей сестре и матери на Шри-Ланку. Она кричит на него уже не один час, а мы с сестрой сидим у себя по комнатам, делая вид, будто ничего не происходит. Внезапно слышен ее резкий вскрик — мы прибегаем в кухню и видим там по всему полу алые потеки. Оказывается, отец схватил ржавую жестяную банку с сахаром и что есть силы грянул мать по голове. Кожа рассечена, вовсю хлещет кровь. Вместе они отправляются в больницу, где будут объяснять, что она резко ударилась головой о шкафчик. Плачущую сестренку я отправляю обратно в комнату. Убираю с пола кровь, поблескивающие кристаллики сахара, алые комки, где они смешались вместе. Вспоминаю, что это кровь моей матери, и от этой мысли у меня начинает плыть перед глазами. Но все же к тому времени, как родители возвращаются домой, в кухне царит чистота и порядок.
Когда становилось особенно невмоготу, я брала сестру и мы куда-нибудь уходили из дома. Неважно, насколько поздним был час, — мы отправлялись с ней бродить по опустевшим пригородным улицам. Зачастую мы покидали дом так быстро, что оставались босиком, и бетон дороги холодил нам ступни. В парке мы качались на качелях, взмывая навстречу луне, упиваясь ощущением свободы от того, что могли гулять в то время, когда другие дети уже давно в постели. Мы пробирались в чужие сады и надирали себе целые букеты роз, гортензий, лилий. Прогуляв так не один час, я прокрадывалась к нашей двери и прикладывала ухо. Если в доме еще слышались крики, мы с сестрой шли гулять дальше. Возвращались мы, только когда там все уже спали. Расставляли по вазам украденные цветы, и их аромат вскоре разливался по всему дому, проникая и в наши сны. Утром отец отчитывал нас за то, что мы умыкнули собственность других людей. Он так всегда беспокоился о других людях — как мы в их глазах выглядим и что у них отнимаем. И никогда его, похоже, не заботило то, что отнимается у нас, его детей.
Неудачный брак
На посторонний взгляд, у нас все было идеально. Дома мы бывали порой тихими и безмятежными, порой счастливыми и радостными. В другие времена, пожалуй не так часто, нами завладевал страх. Дело в том, что мы никогда не могли предугадать, какая мать нас ждет, какими у нас будут нынче родители: нормальные, предсказуемые, которые заставляют нас учиться и определенно нас любят, или те, что бешено изливают свою ярость друг на друга, затягивая в свой поток ненависти и нас. Мы с сестрой сделались тонкими экспертами, улавливали малейшие перемены в их настроении и всегда были настороже, ожидая, когда в наш дом снова нагрянут мрак и ужас.
Я с самых ранних лет знала, что главная проблема крылась в неудачном браке. Мать не раз говорила мне, что ее выдали замуж слишком молодой за ужасного человека на десять лет ее старше. Она рассказывала, как скверно отец с ней обращался, что он не любил ее и что она глубоко его ненавидела. Меня порой очень смущали эти разговоры, поскольку я знала, что очень на него похожа, унаследовала многие его черты, и ко мне он был особенно добр и ласков. Мать его ненавидела, а я являлась его частью и потому, видимо, была в чем-то так же отвратительна и достойна ненависти. А еще я считала, что должна мирить родителей и по возможности беречь их друг от друга.
Ни о каком разводе не могло быть и речи. По общей негласной убежденности, для всех было бы лучше, если бы они вообще никогда не стали мужем и женой. Но раз уж они поженились и завели детей, ни для кого из нас уже не было никакого выхода.
Когда мы переехали в Америку, я узнала, что развод — нормальное явление. Мы лично знали выходцев из Шри-Ланки, которые здесь развелись и начали каждый свою новую жизнь. Конечно, это все равно считалось в каком-то смысле клеймом, но все же не было здесь так невозможно, как в Южной Азии и Африке. В тринадцать лет я решительно заявила своим родителям, что им следует развестись. И в дальнейшем меня страшно удивляло, почему же они этого не делают. Прошел не один десяток лет, прежде чем я поняла, что версия неудачного брака была лишь прикрытием чего-то иного, что было куда труднее разглядеть.
Шрам
В течение нескольких лет — благодаря тому, что я всякий раз ее прошу, умоляю, грожусь разорвать с ней общение, — моя мать периодически обращается за помощью к психологу. Но всякий раз где-то на четвертый месяц, когда начинается тяжелая работа по самоанализу, она бросает это дело.
Ее недоверие к лечению объясняется еще и особенностями национальной культуры. Традиционно в южноазиатских семьях психические недуги воспринимаются как нечто постыдное, едва ли не заразное. Когда мама была еще подростком, у самой красивой в ее поколении кузины вдруг начались, как это называется, психотические припадки. Родители возили ее лечиться за границу, но ничего не помогло, и в итоге ее привезли обратно на Шри-Ланку и заперли от всех в родительском доме. Все знали, что она дома, — порой с верхнего этажа даже доносились ее крики, — но никому не дозволялось с ней видеться. Это принудительное затворничество продолжалось три десятка лет. В определенных южноазиатских кругах сумасшедшая на чердаке — вовсе не готическая страшилка, а совершенно реальная возможность существования для женщины, переживающей проблемы с психикой. Когда у матери затихали вспышки ярости, во время которых она отталкивала от себя любимых людей и уничтожала вещи, она обычно звонила мне и с плачем, снова и снова, повторяла: «Я не сумасшедшая! Не сумасшедшая». Что следовало понимать как: «Прошу, не запирайте меня! Не выбрасывайте ключ!»
Вместо лечения моя мать доверяется священным ритуалам. Детьми нас не единожды водили в некий молельный дом, где индуистский священник подносил к нашим лбам один за другим сотню лаймов и разрезал их поперек. Предполагалось, что едкий сок брызнет в злые очи неведомых нам врагов, которые и вызывают все наши несчастья. В нынешнюю пору мать то и дело пишет мне по электронной почте, спрашивая, можно ли, она пошлет нам талисманы доброй удачи, благословленные святыми людьми. Говорит, что всегда читает наши гороскопы и что мне следует носить ярко-розовый, а сестре — золотой, дабы уберечь себя от чьих-то злых козней. И она искренне надеется, что если все мы будем хотя бы просто придерживаться этих переменчивых правил, то обязательно станем счастливой семьей.
Когда мне было семнадцать лет, родители возили меня в одну из сельских местностей Индии, в гигантских размеров ашрам своего гуру Саи Бабы — святого человека, у которого миллионы поклонников по всему миру. Мы там жили в семейном бараке — большом и многолюдном строении. Спали на циновках на полу, питались в огромной столовой. Вставали мы в 3:30 утра и вместе с матерью и сестрой сидели на земле, на женской стороне двора — с сотнями и тысячами других женщин, ожидавших в предрассветных сумерках, когда же появится гуру. Как только он выходил, женщины начинали песнопения. Один раз, когда он медленно проходил мимо нас, мама сунула ему в руки письмо, где описывались все ее беды. И с искренней набожностью рыдала, когда он принял ее послание.
Мне самой до лампочки был этот гуру. Мне жутко не нравилось и это место, и их правила, и их еда. Не нравилось разделение мужчин и женщин. В Америке у меня уже был бойфренд, но здесь, в нашем бараке, тоже жили симпатичные парнишки, в том числе и два брата из Южной Африки. Как-то раз, когда мои родители прилегли днем «переспать жару», я отправилась в их угол, и мы, усевшись рядом на земле, стали разрезать манго. Когда один из парней шутя подбросил в воздух нож, я инстинктивно попыталась его поймать, и лезвие рассекло мне два пальца на правой руке чуть не до кости. Из раны тут же хлынула кровь.
Все, о чем могла тогда я думать, — это как разозлится на меня мать. Я стала умолять мальчишек и их родителей ничего ей не говорить. Я схватила порезанной ладонью рулон туалетной бумаги, потом еще один — но они стремительно пропитывались кровью. Мой желтый костюм шальвар-камиз тоже запачкался кровью. Вокруг стали собираться люди, старухи перешептывались, что это мне наказание за то, что разговаривала с мальчиками.
Кто-то все же донес моей матери о случившемся, и, когда она появилась, лицо ее было холодным и суровым. Она ничего мне не сказала, просто отвернулась и ушла. Кто-то перевязал мне руку, и отец отвел меня в больницу, где толпилась уйма народу. В дверях мы сообразили, что он не сможет войти вместе со мной, потому что здание тоже разделялось на мужскую и женскую половины. И потому мне пришлось в одиночку бродить по коридорам больницы, где я ни слова не понимала на местном языке. Наконец удалось найти врача, чтобы зашить рану. Она оказалась хирургом, и потому у нее имелась лишь медицинская нить, которой зашивают внутренние органы, — толстенная и черная. Когда она наложила швы, два пораненных пальца выглядели так, будто мою кожу скрепляют сразу несколько огромных пауков.
Когда я вернулась из больницы, мать начала меня игнорировать. Я выказала неповиновение королеве и теперь для нее попросту не существовала. Ее гневное молчание длилось несколько дней. Сейчас, двадцать восемь лет спустя, у меня на руке по-прежнему виден шрам от того ужасного пореза. Он напоминает мне, каково это — нуждаться в сочувствии и утешении и вместо этого получить гнев и злобу. Он напоминает мне, что в моменты боли и страдания я никогда не обращусь к матери за утешением, потому что она — по сути, сама глубоко обиженный ребенок — никогда не сумеет мне его дать.
Выживание
Как же удалось мне выжить в таких обстоятельствах своего детства? Ответ прост: я скрывалась в другом мире. Еще ребенком я погружалась в чтение книг, и все, что происходило вокруг, да и мое собственное тело, сразу рассеивалось. С моей стороны это был вполне осознанный акт. Мне очень повезло, что я так рано, не ведая еще ничего иного, избрала книги в качестве лекарства. С тех пор я так никогда полностью и не отказывалась от той давней привычки к уходу в себя. Можно сказать, вся моя жизнь прошла внутри книг — сперва я их только поглощала, а впоследствии уже и создавала, — и, возможно, в этом смысле психическое состояние моей матери явилось главной движущей силой моей жизни.
В подростковые годы мне казалось, что наше шри-ланко-лос-анджелесское сообщество было идеальной моделью национального меньшинства, однако за старательно ухоженными газончиками, за роскошными автомобилями и всевозможными учеными степенями все же скрывалась разного уровня гниль и разложение. Девочки вокруг меня шепотом делились, что отцы к ним прикасались, но все вокруг на них только шикали. Знакомых мне девушек матери выдавали замуж за мужчин на двадцать пять лет их старше, и никто не считал нужным в это вмешиваться. Коль скоро вам удавалось воплощать в жизнь пресловутую «американскую мечту», то, что творилось в вашем доме, ни для кого не имело значения.
В этой атмосфере я научилась лгать. Меня саму изумляет, как быстро это получилось. В двенадцать мать еще вытирала мне попу, а через пять лет я уже тайком исчезала из дома, чтобы заняться любовью с моим первым парнем. По американским стандартам, мое поведение было вполне даже нормальным. По стандартам Шри-Ланки, я отбилась от рук. Матери запрещали своим дочерям со мною разговаривать. Один из моих дядьев позвонил родителям, сообщив, что видел меня с юношей. Родители пытались снова взять меня под контроль, но было уже слишком поздно, а вскоре я и совсем уехала из дома, поступив в колледж.
В последующие годы я постоянно выбирала себе таких партнеров, которые были не столь эмоционально крепкими, как я. Я хорошо усвоила свою роль спасительницы. И хотя я переехала жить к заливу Сан-Франциско, я довольно часто навещала родительский дом. А когда мама на летние каникулы уехала на Шри-Ланку, я на время перебралась в Лос-Анджелес и все эти месяцы вела ее бизнес. Жила в ее доме, носила ее одежду, сделавшись, по сути, ею самой. Потом, вернувшись к себе на залив, я почти каждый день общалась с ней по телефону. Она рассказывала о своих делах и проблемах, нередко рыдала в трубку. Свой голос я настраивала на исключительно умиротворяющий тон, каким никогда и ни с кем не разговаривала. Беседовала я с ней очень мягко и спокойно. Порой бывало, у меня все тело ломало от нежелания звонить, но я не обращала на это внимания. Я знала, что, если не поговорю с ней, может случиться что-то страшное. Я была убеждена, что достаточно лишь найти для нее верное средство: медитацию, книгу или хорошего психолога — и она будет счастлива. Верила, что могу ее спасти. Что все зависит от меня. Я сумела избавиться от тюремных стен моего детства, однако все же унесла эту тюрьму внутри себя во взрослую жизнь.
Спасти собственную жизнь
В 2007 году я встретила мужчину, который со временем стал моим мужем. Уит оказался первым человеком, который сказал, что, судя по всему, детство у меня было крайне неблагополучным, что я почти всегда плачу после разговора с матерью, что из поездок домой я возвращаюсь разбитой эмоционально и физически и что всякий раз, как мы с ним планируем какую-то поездку, мне приходится ее отменять, потому что мои родители опять устроили ужасный скандал или один из них угрожал суицидом. Сама я, впрочем, все эти события не воспринимала как нечто из ряда вон. Ну да, мое семейство склонно к хаосу — но что я могу тут поделать! На все его сомнения я отвечала: «Ты не понимаешь. Ты — белый. Но в южноазиатских семьях бывает именно так».
Я любила этого человека, но совсем его не понимала. Он хотел, чтобы наша любовь была глубокой и безмятежной. Но если вы не кипите яростью и не бушуете — разве это не признак того, что вы не любите друг друга? Первую пору наших с ним отношений я все ждала, когда он на меня накричит. Четыре года у меня ушло на то, чтобы осознать: он вообще не собирается ругаться. И осознание этого меня глубоко поразило. Еще больше лет ушло на то, чтобы полностью расслабиться в своем ощущении безопасности.
На первых порах наших отношений я была на любовной арене точно дикое дитя. Я рыдала, ругалась, ревновала его до безумия. Если он проводил время с друзьями — не говоря уже о какой-нибудь девушке, — я впадала в панику, страдая душой и телом и чувствуя, будто вот-вот умру. Как-то раз мы проводили утро вместе, и он сказал, что собирается с друзьями на футбол и мы увидимся лишь к ужину. Когда он уехал, я села в машину и прорыдала целых три часа. Все это время меня била истерика, однако к тому моменту, когда он снова был рядом со мной, я опять отлично себя чувствовала. Вот тогда-то я сама себя и испугалась. Я поняла, что со мною что-то совсем неладно. И что если я немедленно что-нибудь не предприму, то нас с Уитом ждет разрыв, — хуже того, я перенесу эти явные ненормальности своего поведения на все свои будущие связи с мужчинами. И всем моим дальнейшим существованием будут полновластно править неконтролируемые приступы тоски и ярости. И моя никем не обузданная, бесценная жизнь пройдет понапрасну.
Перепрограммируя свой мозг
Последующие пять лет стали для меня долгим путем к исцелению, продолжающимся и поныне. Это предполагало изменение тех нейронных связей в мозгу, что появились еще в детские годы и существовали во мне более тридцати лет, и их замену новыми. И, как и всякий слом сценария, происходило это невероятно мучительно.
Спасти мне жизнь помогло долгое, многолетнее использование трех верных средств. Это медитация випассана44, позволившая мне полностью овладеть своим собственным телом; группа «Анонимные созависимые»45, где мне убедительно показали, что та модель поведения, которая помогла мне выстоять в детстве, больше не работает; а еще руководство опытнейшего психотерапевта, переродившего и перевоспитавшего меня как личность к новой взрослой жизни.
Был и еще один важный, спасший меня фактор — наша многолетняя любовь с Уитом. Много лет меня захлестывали истерики и вспышки гнева, и, когда, наконец, все это закончилось, Уит был по-прежнему со мной. Именно с ним я испытывала все те чувства и эмоции, которые мне непозволительны были в детстве, потому что рядом с ним впервые в жизни я чувствовала себя в безопасности. Глубоко в душе я сразу признала, что могу доверять ему, хотя осознанно не смела в это поверить еще долгие годы. Он вошел в наши отношения с уже врожденным пониманием и сочувствием, и лучшего партнера в любви и в жизни я не могла и ожидать.
Иное объяснение
Мы не один год проработали на пару с психотерапевтом, прежде чем он однажды мне сказал:
— А ведь твоя мать, возможно, «пограничник». С пограничным расстройством личности.
И тут для меня словно дверь распахнулась настежь! Что, если эти ее резкие перемены настроения были не просто проблемами несложившегося брака, а неким диагностируемым расстройством личности, которое можно научно квалифицировать и разложить по полочкам. Я понимаю, что не смею ставить диагнозы своей матери. Как понимаю и то, что вообще очень сложно самому выявить какой-то диагноз, даже если долго и вплотную работаешь с психотерапевтом. Но могу сказать точно: когда я прочитала об этом психическом состоянии, то первый раз в жизни разрозненные фрагменты моего детства сложились для меня в цельную картину. И впервые в жизни я испытала надежду в отношении себя и в то же время сочувствие к своей матери.
На веб-сайте, посвященном лечению пограничного расстройства личности, были описаны основные симптомы этого психического состояния (вызываемого в детстве такими причинами, как оставление, надругательство или смерть близких): внезапное пренебрежение, чрезмерный контроль, вспышки ярости, повышенный критицизм и склонность к обвинениям, враждебность, родительская отчужденность.
Пограничное расстройство личности
Когда я узнала про пограничное расстройство личности, это явилось для меня настоящим открытием. Наиболее познавательной в этом отношении мне показалась книга Кристин Энн Лоусон «Понять маму в пограничном состоянии: как помочь ее детям преодолеть напряженность, непредсказуемость и неустойчивость в отношениях с ней?». Буквально на каждой странице я видела собственную семью. В этой книге зачастую просто жуткое поведение моей матери описывалось с почти невероятной точностью. Там рассказывалось о том, как наша семья пыталась справляться с происходящим, находя этому объяснения и оправдания и игнорируя проблему. Объяснялось, как отец сам создал для этого подходящие условия. И как мы с сестрой выступали в ролях очень плохой и, соответственно, очень хорошей девочки, причем оба эти ярлыка влекли опасные для нас обеих последствия.
Эта книга дала мне столько познаний о моей собственной жизни, сколько я не почерпнула ни из одной другой. Впервые я уяснила для себя: то, что довелось мне пережить в детстве, не было лишь игрой моего воображения. В обоих имеющихся у меня экземплярах этой книги мной выделен такой абзац: «Дети людей, страдающих пограничным состоянием, как будто проваливаются в кроличью нору. Они слышат приказ Червонной Королевы всех обезглавить. Они попадают на безумное чаепитие и отвоевывают у Герцогини право иметь собственное мнение и мысли. Они устают от того, что чувствуют себя то очень большими, то совсем маленькими».
А самое важное — я уяснила для себя, что, будучи старшей и «очень плохой» дочерью матери с пограничным состоянием, я имела огромный риск развить этот недуг в себе самой. Только благодаря моему подражанию другим взрослым и глубокому увлечению литературой я отделалась куда менее тяжелыми и все же обратимыми симптомами.
Читая об этом, я мучилась вопросом: стоит ли говорить об этом матери? Это все равно как узнать, что у кого-то диабет, и оставить эту информацию при себе. Мне казалось, что умолчать об этом будет нечестно — и в то же время я с ужасом представляла, как буду об этом рассказывать. И вот однажды, когда мы разговаривали с ней по телефону, это само непроизвольно слетело с моих уст. Обмолвившись, что случайно узнала о таком психическом состоянии, я сказала, что в этом нет ее вины, но, возможно, у нее это присутствует. Мама ничуть не рассердилась, она оказалась настроена на восприятие. Я спросила, можно ли зачитать ей перечень симптомов, и она согласилась. И вот я прочитала ей список из тридцати симптомов недуга, и на каждый она отвечала: «Нет, такого за мною не было». Тогда я напоминала ей случай, когда она демонстрировала подобное поведение, — и так пока мы не сверили все по пунктам.
Я спросила, можно ли прислать ей кое-какую информацию по этому вопросу, и, когда мама согласилась, отправила ей коробку с книгами о пограничном состоянии. Она сообщила, что все получила, и я потом не раз пыталась с ней об этом поговорить, спросить, прочитала ли она их, — и всякий раз мама лишь отмахивалась от вопроса. Наконец я перестала спрашивать, и она сама тоже о них не заикалась — ни разу за прошедшее десятилетие. Сейчас, когда я навещаю своих родителей, — что случается теперь довольно редко, — то вижу эти книжки на полочке в гостиной, рядом с нашими детскими книгами, с конспектами из колледжа как еще один слой скопившихся в доме осколков существования. Матери, должно быть, претит мысль их выкинуть, поскольку их ей подарила я. Все же она так и не смогла смириться с тем фактом, что многие из ее поступков, кажущихся совершенно необъяснимыми, могут иметь определенное название.
Мне кажется, теперь я понимаю свою мать намного лучше. Я знаю, что, если ей и случается кого-то обидеть, сама она страдает от этого несоразмерно больше. На YouTube я видела записи, где оправляющиеся от пограничного состояния люди рассказывали, каково это — иметь мозг, который без устали и беспощадно нападает на самого себя. Такие люди часто страдают от непереносимой ненависти к себе и от отчаяния. И я постигла, что, когда мать на несколько часов запиралась в ванной в ту пору, когда мы с сестрой были еще подростками, она отчаянно пыталась справиться с немыслимой душевной мукой.
Я видела ролик, где «пограничник» говорил: «Я вел себя ужасно жестоко. Я заставлял страдать людей, которых очень любил. Я плевался в них ядом и смотрел, как они мучаются от моих слов. От этого мне самому делалось больно, но я не в силах был остановиться». Мама, похоже, тоже никак не могла себя остановить. И тоже, судя по всему, страдала, причиняя боль любимым людям. Ее саму ужасала мысль, что она отталкивает от себя близких, но она не могла заставить себя не делать то, что вынуждает людей от нее отворачиваться. Единственным способом защититься от ее агрессии было убраться куда-нибудь с ее глаз долой. Так утверждалось, кстати, в книге Лоусон: «Самая лучшая защита повзрослевшего ребенка от родителя-“пограничника” — это способность от него уйти».
Пограничное расстройство личности — состояние неисцелимое. Пока что не найдено никаких лекарств, способных помочь при этом недуге. Хотя продолжительное лечение с целеустремленным, опытным профессионалом, сосредоточенное на том, чтобы научиться управлять симптомами болезни, способно намного улучшить качество жизни, особенно в области межличностных отношений. Но моя матушка никогда не проявляла желания к долгому и непрерывному лечению.
Память
Однажды, приехав навестить родителей, я обнаружила у них прилепленный к микроволновке листок с длинным списком. Там отец перечислил все те случаи за последний месяц, когда мама унижала его на людях, когда причиняла себе раны, когда словесно оскорбляла его семью и вообще кричала на кого-либо. Все происшествия были датированы. Так он интуитивно пытался совладать с ее недугом и, в надежде, что мать станет лучше с ним обращаться, заставлял ее вспоминать все те случаи, когда она глубоко его задела.
Те случаи, что оставили неизгладимый след у меня в сознании, равно как у моей сестры и у отца, напрочь отсутствовали в памяти у мамы. И эта неувязка была мне совершенно не понятна, пока я не прочитала в той же книге Лоусон следующее: «Как показывают исследования, постоянное эмоциональное напряжение травмирует ту часть мозга, которая отвечает за память… а поскольку находящаяся в пограничном состоянии мать не может вспомнить эмоционально напряженные события, то она оказывается не способной учиться на собственном опыте. И, не помня предыдущих последствий своего поведения, она будет снова и снова прибегать к деструктивным действиям».
И это самая удручающая часть моей истории. В памяти у моей матери хранится совсем не та жизнь, какую мы с ней на самом деле прожили. И пропасть между нами оказывается неодолима, потому что она часто, если не всегда, не в силах вспомнить, почему тот или иной любимый ею человек оказывается глубоко обижен и потому вынужден отдалиться от нее и эмоционально, и физически.
Собственная моя память тоже местами размыта и прерывиста. Однажды, в канун свадьбы моей сестры Намаль, мы с ней сидели на кухне у подружки невесты, обсуждая наше с ней детство. Вспомнив очередную историю, я спрашивала: «Помнишь такое?» А сестра отвечала: «О да, а я уж и забыла!» И в свою очередь спрашивала: «А ты помнишь, когда это случилось?» И у меня в сознании ярким языком пламени вспыхивало воспоминание. Ее подруга какое-то время молча слушала нас, потом не выдержала: «Вы, девчонки, так об этом говорите, будто ничего тут нет особенного. Но это же просто полное безумие!» Мы изумленно уставились на нее: мы не считали это чем-то аномальным. В нашей жизни столько всего успело случиться, что мы воспринимали как норму то, что другие уж точно нормальным не считали, и прощали то, что другие ни за что бы не смогли простить.
В этом очерке я изложила лишь несколько воспоминаний, что запечатлелись у меня с предельной четкостью. Другие словно окутаны туманом. И одно из величайших благ, подаренных мне в моей жизни, — что сестра способна напомнить мне мой собственный жизненный опыт.
Высвобождение
В конце концов я осознала, что, если хочу изменить свою жизнь к лучшему, мне необходимо эмоционально отделиться от родителей. Шесть лет назад я сообщила, что собираюсь общаться с ними намного меньше, и предупредила, что, если они заговорят о каком-то ином для меня партнере, я попрошу их замолчать, а если они продолжат эту тему, то попросту повешу трубку.
Далее последовали месяцы отчаянной борьбы, когда я пыталась от них освободиться. Однажды отец позвонил мне и сказал: мама так сильно расстроена из-за моего отказа с ней разговаривать, что заперлась в ванной, и он боится, как бы она чего-нибудь с собой не сделала. Он просунул мобильник в щель под дверью, и я долго слушала, как она рыдает и бормочет что-то детским тоном. В какой-то момент она совершенно девчоночьим голосом стала снова и снова, с сотню раз, наверное, повторять: «Я люблю тебя», причем я даже не поняла, говорит она это мне или кому-то другому. Я стала разговаривать с матерью тем давно усвоенным, умиротворяющим тоном, пока она наконец не успокоилась и не затихла. Когда же я в конце концов повесила трубку, то почувствовала себя страшно измученной, все тело ныло, а еще я была в бешенстве, что оказалась не в силах отстоять свои границы.
Несколько месяцев спустя мне позвонил отец и срывающимся голосом сказал:
— Я больше не могу. Я, наверное, сделаю что-нибудь ужасное…
Я стала умолять его взять себя в руки, поскольку находилась в тот момент в горах, причем связь была очень плохой. Повесив трубку, я, точно банши, стала спускаться с горы, то и дело набирая его номер и не получая никакого ответа. В голове проносились картинки, как он лежит весь в крови на полу в кухне или плашмя на их общей постели.
Я позвонила своему двоюродному брату Динешу, что живет в Шри-Ланке и с которым я всю жизнь в очень доверительных отношениях.
— Позвони в полицию, — посоветовал он.
Я набрала номер Уита.
— Позвони в полицию, — сказал он тоже.
Поэтому, несмотря на все мои страхи насчет того, как могут обойтись представители закона с цветными людьми, я позвонила в полицейский участок и поговорила с тамошним офицером, который сказал мне:
— О да, я знаю этот дом. Мне уже доводилось там бывать.
Затем я снова попыталась связаться с отцом. Тот наконец ответил на звонок, сказав, что просто ходил прогуляться, проветрить голову после большой ссоры. Так что теперь он чувствует себя отлично. Спросил, почему у меня такой расстроенный голос, а потом сказал:
— Погоди-ка, там кто-то за дверью… Полицейские.
— Да, это я вызвала полицию, — заявила я, — потому что откуда мне было знать — вдруг ты наложил на себя руки?
— Зачем же ты это сделала? — сказал он мне тогда. — Соседи же увидят!
Три дня его продержали в лечебном заведении. Выйдя оттуда, он сказал, что говорил там с психотерапевтом и это было лучшее, что только случалось в его жизни, потому что хоть кто-то наконец его полностью выслушал. Я спросила, не желает ли отец продолжить общение с врачом. Папа категорически отказался, поскольку всем известно, какие эти психотерапевты жулики. Как только пациенту полегчает, надо, мол, сразу переставать им платить. Для меня это была критическая точка, переломный момент. Если они сами не желают спасать собственную жизнь, то я не намерена тонуть вместе с ними.
Любовь
Уж не знаю, продолжалось ли в доме, где я выросла, все то, что довелось мне видеть в детстве. Просто надеюсь, что с возрастом мои родители все же научились более-менее мирно сосуществовать. Я даже думаю, им вполне удалось переделать себя в замечательных бабушку с дедушкой для детей моей сестры. Как я уже обмолвилась, в те годы я виделась с родителями совсем не часто. Мне хватало пары часов в их обществе — и передо мной вырастала целая гора того, о чем мы не могли с ними говорить. Рядом с ними я делалась молчаливой, угрюмой, даже грубой. Я становилась совсем не тем человеком, какой сама себя знала и какой знали меня близкие мне люди. Бремя всего невысказанного между нами превращало мое сердце в плотно сжатый кулак.
И вот что еще очень важно тут сказать: во многих отношениях мои отец и мать были очень хорошими родителями. В разные моменты жизни, когда я отказывалась выполнять предписанную мне традиционную роль дочери из южноазиатского семейства, оба они поддерживали меня так, как большинство родителей из Южной Азии не стали бы поддерживать своих детей. Они всегда были щедры в финансовом плане. В отличие от многих моих друзей мне не приходилось работать в пору учебы в колледже, и я смогла его окончить без каких-либо кредитных долгов — а в наши дни, когда студенческие долги порой калечат людям жизнь, это на самом деле величайший подарок.
Родители возили нас с сестрой в путешествия по таким местам, о которых мои сверстники не могли даже и мечтать. Не так давно — невероятный знак великодушия! — отец помог нам с Уитом купить дом. Когда я тыкалась по разным издательствам, пытаясь продать свою первую книгу, мама всякий раз, как выдавалась возможность, посылала мне чеки и позволяла мне жить в своем доме на Шри-Ланке, когда я туда приезжала. Так что во всех подобных отношениях мои родители очень милые, щедрые и безотказные люди. Я твердо это знаю, и для меня это — часть нашей общей, коллективной правды. Уверена, что этот прорыв молчания в отношении моего детства будет воспринят как великая неблагодарность к ним с моей стороны. Потому-то мне так необходимо высказать свою признательность за все те многие дары, что они мне в жизни преподнесли.
Когда я изредка наведываюсь в дом, где я выросла, то вижу десятки наших с сестрой рисунков. Почти все они хранятся с нашего детства и отроческих лет — как будто время там остановилось. Я знаю, что родители любят меня и по мне скучают. И я тоже глубоко тоскую по всему тому, чего мы лишились. Но я уже успела погрузиться на дно своего собственного, отдельного колодца. Здесь есть сострадание, но никакой надежды на тесную связь.
Всякий раз, как я уезжаю из дома моего детства, родители выходят помахать мне вслед. Мама — на ступеньках крыльца, отец — на краю лужайки. Пока я отъезжаю, они всё машут мне руками. И не заходят в дом, пока меня еще можно разглядеть. В зеркале заднего вида я наблюдаю, как они неустанно машут вслед, пока не становятся совсем малюсенькими, точно крошечные детки, и наконец совсем исчезают вдали.
И тогда я медленно вспоминаю, что проложила для себя свою, особую тропу. Я нашла тех, кто познал мою душу и бережно ее хранит. Я создала себя таким человеком, который чаще всего мне все же нравится, которого я уважаю и люблю. Я нашла путь к себе и поняла, что любовь тоже, на самом деле, заразительна. Я осознала, что исцеление возможно. Что мы можем построить свой мир так, как не могли и мечтать в детские годы, и тех, кем были мы в том далеком малолетстве, внести наконец в эту новую и сияющую светом жизнь.
Все о моей матери
Брэндон Тейлор
Моя мать мало что о себе рассказывала. Принято считать, что в южноамериканских семьях полно разных преданий, но моя, видимо, исключение. Или, подозреваю, преданий в моей семье достаточно, только ими особо не делятся, а если что-то и рассказывается, то это обходится такой ценой, что, вынеся на свет какое-то очередное воспоминание, мы порой не разговариваем по несколько дней.
Однажды мать рассказала мне, что, когда я был совсем маленьким, ни за что не хотел расставаться с соской. Мама пыталась отучить меня от нее, когда мне был год, потом уже в два года, но я не поддавался. Она говорила, я ходил со своей пустышкой везде и постоянно ее сосал, не выпуская изо рта даже тогда, когда спал. Мать пыталась забрать ее, когда я брался за бутылочку, но я все равно крепко сжимал соску в руке. Конечно, она без труда могла бы силой вырвать ее из моих пальцев — в конце концов, я был еще малышом и не смог бы ей противостоять, — однако в решающий момент ей отказывали силы. Она пыталась ее у меня вытянуть, но я крепко держал соску во рту или сжимал в кулаке, а в глазах выступали крупные слезы, и я начинал издавать какие-то прерывистые, похожие на икание звуки, точно силился проглотить нечто слишком крупное для моих размеров. Мать тянула, а я сопротивлялся, и у нее не хватало духа отнять у меня соску.
Но вот однажды у меня сильно разболелся живот. У меня вечно были проблемы с желудком. Часто случался жар и лихорадка, нарушалось пищеварение. Однако в тот раз я отправился в туалет один, и меня там вырвало. Мать поспешила за мной следом, потому что я едва не опрокинулся над унитазом. Она заглянула вниз и поняла, что я пытаюсь выудить из рвотной массы свою соску. Расценив это как свой шанс, мама тут же спустила воду.
Впервые, если не ошибаюсь, она рассказала эту историю на мой день рождения, когда мне исполнилось пять лет. Все, кто был в комнате, надо мной смеялись — то ли надо мной вообще, то ли над тем малышом, каким я был тогда, трудно сказать, — а она стояла подбоченясь у кухонного стола в старом трейлере, где мы тогда жили, и, смеясь, качала головой. А потом добавила:
— Ты всегда таким был. Загребущим.
Меня сильно задели ее слова. Я тогда начал заметно набирать вес и как крепыш носил уже свободную одежду.
Для вящей убедительности мать добавила:
— Да-да, жадным и загребущим.
Новый взрыв смеха в трейлере заглушил ее слова. Я же сидел на полу, возясь с игрушкой, которую мне подарил отец моего двоюродного брата. Лицо у меня вовсю горело.
А мать снова покачала головой:
— Ты испорченный ребенок.
Испорченный. Загребущий.
Кто-то тут же шутя назвал меня «Жирбертом», и прозвище сразу ко мне прилипло, — отца моего звали Элвином, но многие называли его Элбертом. А я был толстячок. Жирный Элберт. Или Жирберт.
Такой вот подарок преподнесла она мне на день рождения. Это да еще хот-доги, сосиски для которых сильно переварились и, полопавшиеся вдоль, бесформенно лежали на кусках белого хлеба.
Итак, после рекламной паузы возвращаемся к настоящему.
Эта история про соску интересна для меня во многих отношениях, и самым примечательным является тот факт, что у матери так и не хватило духу самой отнять у меня соску. И меня изумляет это проявление милосердия и доброты с ее стороны. В свое время я много думал: что же такое произошло, что превратило женщину, не способную силой забрать соску у плачущего малыша, в женщину, назвавшую меня жадным и загребущим за поедание конфет и торта в свой день рождения? Впоследствии мать нередко повторяла мне эту историю, и второе, что я нашел в ней примечательным, — это сколь неизменно она всякий раз излагалась. Когда мама вспоминала другие случаи из жизни, ее рассказы всегда менялись в зависимости от ее настроения или от того, что именно ей хотелось ими доказать.
* * *
Когда я был совсем маленьким, мама работала кастеляншей в небольшом местном мотеле. Никто из моих родителей машину не водил: мама — потому что несколько лет назад слетела однажды с дороги и из-за этого у нее развился страх, а отец — потому что был официально признанным инвалидом по зрению. Так что собственного автомобиля у нас не имелось. Чтобы добраться до работы, мать пристраивалась к одной из моих тетушек или же платила пять долларов мужу сестры, чтобы тот подвез ее до работы, и еще пять — чтобы забрал оттуда домой.
В то время мы все вместе жили на бывшем болоте, на полутора акрах расчищенной от густых кустов земли, примыкавшей к участку, принадлежавшему моим бабушке с дедушкой. У родителей никогда не было ни клочка собственной земли, а трейлер достался нам в наследство от бабушкиной сестры, которая поселилась у подножия рыжего глинистого холма, у самой границы с собственностью моей бабушки, но уже на земле прабабушки. Вообще сейчас может показаться странным, что все мои родственники таким образом скучковались в одном месте, что никто из детей не приобретал себе никакой земли и все жили с родителями, пока уже сами не становились довольно старыми или не обрастали слишком большими семьями — и тогда, наконец, отваливались от родной ветки, точно переспелые фрукты в саду. Впрочем, такое положение дел было очень удобно для моих родителей, из которых, как я уже обмолвился, никто машину не водил.
Мать у меня работала, потому что отец этого делать не мог. Я никогда не спрашивал его напрямик, что же он все-таки способен видеть, хотя не мог не проверять потихоньку границы его зрения — как зачастую дети прощупывают пределы родительской любви. Я дожидался, пока он неподвижно встанет или сядет в комнате один. Это было очень важно, чтобы отец был там один: мне не хотелось, чтоб кто-то позвал меня по имени или как-то иначе испортил игру. Я подкрадывался и вставал сбоку от него или поблизости в коридоре, дожидаясь, когда же он повернется ко мне. Держался я абсолютно тихо, полагая, что если задержу дыхание и не буду шевелиться или скрипеть полом, то он не сможет найти меня по слуху. Порой бывало, отец приходил в мою комнату и окидывал ее быстрым взглядом — причем, даже если смотрел прямо на меня, он все равно меня не видел. Он заходил в комнату и звал меня, но совсем не так, как зовут того, кого видят, просто привлекая к себе его внимание. Таким голосом обычно зовешь, когда разыскиваешь кого-то или когда стоишь перед стеной деревьев, полностью скрывающих то, что ты ищешь, и ждешь, что оно само к тебе явится, что оно поднимется с того места, где улеглось, и прилетит к тебе обратно, точно ветер. Он заходил в мою комнату, произносил мое имя, после чего, не видя меня, выходил прочь. Я же в это время прямо перед его носом сидел на кровати или на полу.
Мама целыми днями пропадала на работе, так что дома мы с ним подолгу оставались одни. У меня же была еще одна любимая игра. Я дожидался, пока его зовущий голос станет резким и хриплым, когда он устанет уже раз за разом меня звать, и лишь тогда подбирался к нему сзади, прижимался лицом к его вспотевшей пояснице и, обхватив руками за бока, говорил:
— Да вот я, здесь. Ты меня просто не заметил.
Он издавал стон, что-то бормотал, потом тянулся ко мне ладонями и, ущипнув легонько, отвечал:
— Точно, совсем не заметил.
Итак, после рекламной паузы продолжаем статью.
«Когда мама вспоминала другие случаи из жизни, ее рассказы всегда менялись в зависимости от ее настроения или от того, что именно ей хотелось этим доказать».
Когда мама в конце дня возвращалась домой, терпения у нее на меня не хватало. Звала она меня только один раз, и я сразу чувствовал, будто что-то холодное и неприятное сползает у меня по хребту. Я тут же мчался в ту комнату, откуда мать меня звала, причем она глядела на меня так, словно уже из-за чего-то разозлилась. Глаза у нее казались ужасно темными и всегда были прищурены. Волосы у матери были черными, и, пока не обрила голову, когда я уже был подростком, она делала перманентную завивку и укладывала себе что-то типа боба. Сколько помню, мать почти никогда не носила ювелирных украшений. В ней словно крылась какая-то горькая, жестокая тайна — будто бы ничто не могло держаться на ней или с нею рядом, не будучи разорванным в клочья или разлетевшимся на мелкие куски.
Помню, стоило ей появиться поблизости, и атмосфера сразу делалась мрачной и холодной. Помню, как я постоянно боялся, что она меня ударит за какую-то провинность, в которой я не признался, за нечто такое, что она сама учует. Моя мать была не из тех людей, что играют с детишками в разные игры. Даже когда она просто вместе с нами смеялась, я всегда ощущал, как острия ее насмешек вонзаются мне в бока. Стоило мне заслышать ее мощную поступь на лестнице снаружи, я вскакивал с кровати и прижимался лбом к окну, глядя, как она неспешно одолевает ступеньку за ступенькой, сотрясая их своим массивным телом, и наконец тяжело заходит в дом.
* * *
Иногда мать приносила с собой большие полиэтиленовые пакеты, наполненные разными потерянными или выброшенными вещами, оставшимися после других людей. Она притаскивала подушки из мотеля, где работала. Приносила множество разных «зарядок» и проводов. Иногда приносила игрушки и какие-то футболки. Потом, уже в другом отрезке моей жизни, она работала в небольшом отеле при поле для гольфа, устроенном в моем родном городе, — и тогда уже притаскивала домой массу вещей куда более дорогих: mp3-плееры, фотокамеры, фирменные рубашки-поло для гольфа, а также мыло и шампуни — в общем, все то, что выглядело совсем не к месту в нашем трейлере. Как будто мать пыталась с помощью каждого из этих предметов немного приподнять нас над тем положением, которое мы в этой жизни занимали. Словно таким образом мы могли стать лучше, а не острее осознать свое место под действием необъяснимой гравитации, создаваемой всем, что было втянуто на нашу орбиту.
У меня есть еще брат, хотя в более ранних моих воспоминаниях он не присутствует. Его постоянно не было дома. То он бродил по округе, то шумел где-то за домом, то пропадал в лесу. Учитывая, как все в итоге обернулось, я поражаюсь удивительной нежности, исходящей от этих ранних воспоминаний, от их мягких бледно-серых оттенков. Хотя, подозреваю, то, что кажется мне удивительным, другие люди сочтут вполне обычным делом, а именно тот факт, что в первые годы жизни родители держали меня при доме. Вот почему их образы так четко огорожены в моей памяти. Мне не позволялось никуда уходить со двора.
Когда я достиг пяти или шести лет, то допустимые пределы моих передвижений расширились вплоть до дороги. То есть теперь мне позволялось уйти со двора и отправиться к бабушке с дедушкой, на их участок. Мне позволялось нырять в заросли шиповника и деревьев, прыгать по глинистым склонам оврага или даже съезжать по ним на дно, сплошь заросшее лианами кудзу, которые оплетали валявшиеся там обломки машин. Однако мне не разрешалось переходить дорогу, чтобы наведаться к сестре моего отца, которая, сколько я помню, всегда давала мне игрушки и мелкие подарки, играла со мной и позволяла мне расчесывать ей волосы. К ней я мог попасть, только когда отец брал меня за руку и переводил через дорогу. И еще кое-что, кстати, отпечаталось у меня в памяти из той поры: я никогда не пытался вытянуть руку из его ладони и помчаться впереди. На дороге я никогда не выдергивал у него руку, не извивался, не пытался с ним драться. Когда я наблюдаю порой за детьми на улице, то вижу, как они то и дело проверяют пределы своей независимости, норовят убежать куда-то от родителей. Я вижу, как они выскальзывают из родительских пальцев, мечутся туда-сюда, выскакивая на улицу, в тот мир, где вроде бы нет никакой опасности, — пока вдруг откуда ни возьмись не вылетит машина и мир внезапно не сделается намного меньше и в то же время намного огромнее, чем только что казалось.
Со мной такого не было. Когда мы переходили дорогу, я крепко держал отца за руку. Или еще я мог попросить бабушку перевести меня через дорогу, чтобы найти отца. Один лишь раз я перешел дорогу без разрешения — мать тогда уехала в город покупать мне ботинки к школе для уже больших мальчиков. Через несколько недель мне предстояло идти в первый класс, и это придало мне небывалой храбрости. И я перебежал через дорогу, чтобы повидаться с тетушкой. Остановился у подножия холма; потом, пыхтя, забрался наверх и помахал ей рукой, когда она выбиралась из машины, вернувшись с работы. И она дала мне перекусить, и угостила виноградом, и позволила посмотреть у нее мультики, после чего проводила меня до дома. И там меня уже дожидалась мать. Хотя нет, сперва мне сказали, что она для меня кое-что купила и это что-то ждет в одной из дальних комнат в доме моей бабушки. Там, на кровати, я нашел коробку с ботинками. Внезапно из-за занавески, что закрывала гардеробную, вышла мать, огромная и разъяренная, крепко сцапала меня одной рукой, а другой стала лупить, еще и еще. А потом забрала у меня ботинки, сказав, что, если я считаю себя таким взрослым, мне придется идти в школу босиком.
Однако мне все равно кажется замечательным тот факт, что, когда я был еще крохотным, совсем малышом или уже бегунком-трехлеткой, родители держали меня дома. Я склонен воспринимать это как проявление неизмеримой нежности ко мне. Той нежности и бережности, что выказываешь людям, которых очень любишь. И которая самому мне очень трудно дается. Они настолько меня любили, что даже в четыре года никуда не выпускали. Настолько любили, что не давали мне самому спускаться по лестнице. Меня брали за руку и шли со мною рядом.
* * *
Первое, что сказал мне отец, когда умерла мама, — это то, что она очень меня любила. И в тот момент его слова показались мне совершенно нелепыми. Не потому, что любовь ее была и так для меня очевидной, — для меня это, если честно, не являлось и не является чем-то очевидным, — но потому, что отец решил рассказать мне это как нечто очень важное. А я в то время как раз так не считал. В ответ я фыркнул, отшутился, но он снова мне сказал:
— Она тебя любила. Ты ведь и сам это знаешь? Она любила тебя.
Такие слова в нашей семье говорить было как-то не принято. Жизнь моей семьи являла собою череду приглушенных вспышек ярости за закрытыми дверями. Мы никогда не говорили друг другу «я люблю тебя», или «спокойной ночи», или «с добрым утром». Любые разговоры шли у нас напряженно и тяжело. Просто сказать что-либо было все равно что выложить на всеобщее обозрение самую уязвимую часть самого себя. Но я все равно постоянно разговаривал. Не от особой какой-то смелости или чего-то подобного, а скорее из недомыслия, так, как без конца болтают дети, лишь бы что-то говорить. Просто чтобы производить шум, не имеющий никакого специального смысла. Однако после смерти матери у отца вошло в привычку говорить мне эти слова, и я всякий раз демонстративно на них не отвечал. Мне казалось, мы издавна играем в какую-то игру по неким уже заведенным правилам, и я не видел надобности эти правила менять.
Но позднее я начал задумываться: а вдруг это было не просто мое ощущение себя как единственного малолетки в семье, как вечного проказника, несносного мальчишки. Столько лет мне казалось, что я подшучивал над отцом, притворяясь, будто меня нет в комнате, прячась и задерживая дыхание, воображая себя невидимкой. Только эгоистичный ребенок может полагать, что он главный, что он всем воротит, и даже мысли не допускать, что отец тоже может притворяться, будто совсем тебя не замечает, поскольку знает, какую радость ты получишь, если его проведешь.
Как много все же упускается с первого взгляда!
* * *
Моя мать умерла четыре года назад, в сентябре. В короткий и очень напряженный отрезок времени она угасла от рака. Я даже не знаю, как лучше это описать. Я бы не стал употреблять слово «боролась», поскольку никакой, собственно, борьбы с болезнью не было. У нее нашли рак. И она от него умерла. Нет такого слова, чтобы описать тот период, когда ты чем-то болен и уже знаешь, что эта болезнь сведет тебя в могилу. У матери был рак легких, развившийся от бластомы пищевода, вот и вся история.
Я никогда не знал, откуда берутся истории и предания в нашей семье, не знал, какие из них произошли на самом деле, а какие просто придуманы, чтобы устранить тот или иной сиюминутный диссонанс. Но точно я знаю то, что у матери был рак, и что она умерла, и что ее уже несколько лет нет в живых.
До того, как мать умерла, я далеко не часто обращался к публицистике. Даже школьные сочинения я вымучивал с трудом. Так бывает, наверное, когда вырастаешь в семье с неадекватным, излишне недоверчивым отношением к фактам. Я не имею тут в виду именно правду, поскольку считаю, что мне все же говорили правду, насколько это было возможно. Я имею в виду факты — то, в чем, предположительно, содержится правда.
Вот вам пример: когда я был еще маленьким, то спросил однажды у дедушки, есть ли в тех яйцах, что мы приносим с птичьего двора, деточки-цыплятки. Дедушка ответил, что нет, те яйца, которые мы едим, от петухов, а они, будучи мужского рода, не способны откладывать яйца с цыплятками. И я в это очень долго верил. А когда обнаружил, что это совсем не так, то снова обратился с этим к дедушке. И он просто в ответ пожал плечами, обронив: «Надо ж, подумать только!»
Или другой пример: когда матери диагностировали рак, она мне сказала, что врач предложил ей выбор между химиотерапией и хосписом. Она несколько раз повторила слово «хоспис» и рассмеялась: «Нет, я боец. Я буду сражаться». Когда же впоследствии мне эту историю поведала бабушка, то она сказала, что с трудом уговорили маму не ложиться в хоспис, что та уже почти подписала все нужные бумаги, чтобы отправиться дожидаться смерти.
Или еще одна история: в последний раз, когда я разговаривал с матерью, она жаловалась мне на брата. Дескать, он выводит ее из себя, без конца ей названивает, не давая покоя и все время жалуясь, потому что ему необходимо постоянно бесить ее, добираться до печенок, выводить из себя. По словам же брата, когда он разговаривал с матерью по телефону, она сказала, что любит его, после чего очень долго плакала в трубку. Обо мне они вообще не упоминали.
* * *
Мне трудно бывает оперировать фактами. Трудно понять, что с ними надо делать, как их лучше организовать, чтобы они обретали нужный смысл и могли поведать какую-то историю. Правда — это то, что появляется из тщательного расположения деталей. Слово «факт» мы используем, чтобы описать некую деталь, подробность, имеющую определенное отношение к правде. Притом любую совокупность деталей можно организовать таким образом, чтобы вместе они связывались в правду. И когда мы эту правду распознаём, то называем эти детали фактами, даже если прежде они казались нам не соответствовавшими действительности.
Мне всегда трудно давались эссе, потому что факты постоянно от меня ускользали. В моей семье верили в привидения и всякую нежить. Верили, что если будешь спать на спине, то на тебя заберется какая-нибудь ведьма и задушит тебя или навеки проклянет; что если перед сном наешься жирной свинины или чего-то соленого, то к тебе в спальню проберется дьявол и проникнет в твои сны. Как я мог писать эссе с их упорядоченностью, точностью и правдивостью, если единственное, что мне в жизни было знакомо, казалось опосредованным и размытым? Взять, к примеру, любовь к другим людям, которую выражают через прикосновения, или через слова, или какие-то иные проявления симпатии. В моей семье любовь была для меня лишь постепенным накоплением моментов, когда мне не причинялось серьезной боли и обид.
А что такое любовь, если получаешь ее этаким окольным путем? Событие или всего лишь одна из обычных деталей жизни?
Намного комфортнее я себя чувствую в художественной литературе. В художественных произведениях ты сам решаешь, где реальность, а где нет, где правда, а где вымысел, какие детали являются основой, а какие — всего лишь деталями. В художественном произведении я сам есть проницательное око, единственный источник истины. Но когда я пытался написать о своей матери, то любые мои рассказы о ней оказывались какими-то плоскими. Казалось, я просто не способен ввести ее в художественную ткань беллетристики. И в самом деле, в моих дневниках тех дней, когда она умирала, полно описаний погоды и ощущения, будто во мне разверзлась бездна. В те давние дни я пытался что-то для себя зафиксировать, собрать воедино детали, обретая тем самым какой-то намек, какую-то подсказку, как жить дальше. А еще я чувствовал, что не имею права испытывать такие чувства и так печалиться о матери после всех тех ужасных мыслей, которые приходили мне в голову в связи с ней, или после того, что она собственноручно со мной сотворила.
Вот отдельные подробности, способные поведать о моей матери. Однажды она заставила меня перед всеми подтирать подмышки, потому что, как она сказала, я давно не мылся и от меня несет. Однажды она обнаружила мой дневник, что я хранил под кроватью, и принялась его зачитывать перед гостями. Назвала меня «нытиком» и «молокососом» и высмеяла то, каким языком я там изъяснялся. Однажды она покусилась на мой банковский счет, использовав найденные у меня в шкафу незаполненные чеки. Как она объяснила, ей нужна была пара сотен долларов, чтобы приобрести школьные принадлежности для моей маленькой племянницы, но вместо этого купила своего любимого пива Natural Light. Однажды она так разошлась, неистово охаживая меня ремнем, что разбила над головой светильник, а потом заставила меня в темноте собирать с постели стеклянные осколки.
Ее любили все без исключения друзья. Она обладала таким складом личности, который обычно притягивает к себе людей: часами умела их выслушивать, владела едва ли не всеобъемлющими знаниями по части межсоседских сплетен; она была веселым человеком, умела отпустить настолько меткое и остроумное замечание, что, даже если речь бы шла о вас, вы не удержались бы от смеха. Она щедро тратила на друзей себя и свое время. Ей требовался целый мир, а он так мало мог ей предложить! Она хотела тихо умереть, но моя бабушка ей этого не позволила.
«В моей семье любовь была для меня лишь постепенным накоплением моментов, когда мне не причинялось серьезной боли и обид».
Главное, что мешало мне писать о ней и о своей скорби в художественных произведениях, — это то, что мне недоставало искренних, нормальных человеческих чувств к собственной матери. Хотя нет, это не совсем так. Чего мне действительно не хватало, так это сочувствия, сострадания к ней. Я так был озабочен собственными чувствами к матери, что уже не оставлял места для ее чувств и переживаний, для понимания того, чего же она ждала от жизни. Я не оставлял ей места на бумаге в качестве отдельной личности. Мне кажется, другие люди, по большому счету, не воспринимаются нами в полной мере до тех пор, пока их не подкосит болезнь или совсем не станет. Вот тут-то и начинает работать творческое воображение, пытаясь во всем разобраться, их оправдать, понять их поступки. Я не мог художественно писать о матери, потому что еще не овладел своими чувствами к ней. Потому что еще не научился понимать ни ее, ни то, какой смысл она видела в собственной жизни. Я был законченным солипсистом и праведником в своем гневе, в своем страхе, в своей угрюмой печали. Я совершенно не замечал этой зловещей симметрии между нами: ее травма детства — моя травма детства, насилие над ней — насилие надо мной, ее злость — моя злость. Не то чтобы теперь я стал по-настоящему ее любить, но я научился относиться к ней с тем же великодушием и милосердием, какое проявляли ко мне мои друзья. И этим, думаю, так замечательно писательское дело — тем, как в процессе творчества мы познаём других людей и как это помогает нам раскрыть нас самих.
По-моему, самое что ни на есть сложное в сочинении книг — это отключить избирательность сознания, которая всегда что-то отдельное подавляет, а чему-то другому позволяет взять верх. Когда пишешь о переживаниях других людей — в особенности о переживаниях своих близких, — ты должен заглушить свое «я», дать себе полностью раствориться в другом человеке. Ты не имеешь права отстраненно ждать, когда эти страдания закончатся, чтобы потом быстро сообщить, насколько тебе это не по душе, и тут же добавить какой-то свой внезапный ракурс. Странно, согласитесь: чтобы до конца понять то, что причинило тебе боль, ты должен снова впустить ее в себя с твердой верой, что теперь это не доставит новых страданий.
Вы слыхали о баптистах? О том, как при крещении они крепко берут человека и погружают под воду? Так вот, здесь примерно то же самое. Ты должен просто верить, что тебя вовремя извлекут наружу.
Итак, ее имя — Мэри Джин Спейнер. Умерла она в молодые годы. Она так много работала, что кожа на пятках у нее была серая и растрескавшаяся. Она жевала табак, сплевывая его в баночки из-под Natural Light. Она фанатично смотрела все до единой мыльные оперы. Любимой рыбой у нее была белая. Она не употребляла соли. Она не употребляла сахара. Курицу она зажаривала чуть не дочерна. По утрам и в конце дня проверяла у себя сахар, расплющивая на тест-полоске ярко-красную каплю своей крови. У нее случался тремор левой руки. У нее был вздернутый нос и прикрытые веками темные глаза. Любимый цвет у нее был зеленый. Любимый телесериал — «Беверли Хиллз, 90210». Ей очень нравился Хью Грант. Она любила смеяться. Любимая музыка — блюз. У нее был ужасный голос, но тем не менее она любила петь. В юности ее изнасиловал один человек, и никто ничего даже не сказал. Никто ничего не предпринял. Этого человека ей приходилось видеть каждый день. Она ежедневно выпивала. Порой она не могла есть, потому что у нее так сильно болел желудок, что ей хотелось плакать. Но она не плакала. Никогда. Разве что однажды, уже совсем взрослая, когда родная сестра назвала ее «отвратительной лгуньей». Она пришла тогда домой и несколько часов проревела на своей кровати. Она терпеть не могла жуков. У нее был резкий, хриплый голос. Она не любила, когда к ней прикасались. Терпеть не могла, когда с ней кто-то говорил, как с глупенькой. Очень не любила секретов. Никогда не говорила полную правду. Она все время танцевала. Она поздно ложилась спать. И поднималась тоже поздно. Спала она очень беспокойно. Она чуралась рассказов о том, что снилось другим людям: для нее чужие сны звучали как скрип по стеклу. Она могла пошутить на любую тему. Любила рассказывать истории. Верила в магию. Никто не готов был за нее постоять, так что ей пришлось стоять за себя самой, и спустя какое-то время она просто устала стоять.
Мне жаль, что я не успел узнать ее лучше.
Может статься, мы могли бы быть с ней большими друзьями.
Мне жаль, что я не проявил настойчивости. Что не поторопился.
Этого недостаточно, чтобы рассказать о ней. И никогда не будет достаточно.
Но на этом пока все же придется остановиться.
И на холме настиг меня страх…
Лесли Джемисон
Лето 1966 года, Шейла и Питер — молодая семейная пара, живущая в Беркли. Они страстно влюблены друг в друга, а еще они впервые в жизни под сильным кайфом от «кислоты». В Тильден-парке они прогуливаются по обмелевшему ручью, кишащему первобытными монстрами — ну, по крайней мере, саламандрами. Вокруг изумрудная листва. Мир кажется бесформенным и зыбким, точно гигантская амеба. Сами они — Адам и Ева, и они сумели отыскать свой путь к райскому саду.
Они снимают жилье в многоквартирном доме у некоего адвоката, оказавшегося наркодилером. Один местный персонаж по прозванию Дикий Билл во время очередного психоделического трипа расписал у них стены словами: «О боже! Я мог бы замкнуться в собственной скорлупке и мнить себя владыкой бесконечных пространств, если бы меня не мучили такие жуткие сны!» Они едят спагетти с соусом песто на конопле и угощаются домашним печеньем, где в тесте замешано масло с марихуаной. От наркотиков их сознание словно все время завернуто в мягкий кроличий мех. Они ходят на званые обеды, перетекающие в настоящие оргии. Они устраивают обмен супругами с одним известным поэтом и его женой. Они верят в любовь, не отягощенную собственническим чувством к партнеру, однако их брак начинает трещать по швам, когда Шейла по-настоящему влюбляется в другого мужчину.
Таков более-менее приблизительный сюжет неопубликованного романа «Распутье», написанного человеком по имени Питер Бергель в 1968 году. Это история о двух людях — молодых и пылких, вечно безденежных и крайне уязвимых. В конечном счете это история того, как постепенно уходило в небытие их совместное будущее. А еще это история моей мамы.
* * *
Моя мама той поры, когда она еще не стала матерью, всегда существовала в моем сознании как некая совокупность мифов — наполовину придуманных, едва ли возможных в реальности. Читая роман, в котором она была одним из персонажей, я просто увидела на бумаге то, что и так уже воспринимала как правду: годы ее ранней молодости, казалось, были длиннее, чем вся ее жизнь.
Зовут мою маму, конечно, не Шейла. И она терпеть не может это имя. Ее зовут Джоанна. Она влюбилась в Питера — которого и в самом деле зовут Питер, — когда училась на втором курсе Рид-колледжа в городе Портленд. После того как Питер завершил учебу, они поженились — за год до окончания ею колледжа — и разошлись спустя два года после ее выпуска. Тот период времени, что они прожили вместе, всегда приводил меня в искреннее изумление — особенно то, как они хипповали в Беркли, пытаясь продвигать там новую теорию открытых браков, — поскольку лично я видела свою маму лишь в контексте самого что ни на есть обычного детства с «Национальным радио», вечно звучащим в машине на автостраде, да кассеролью в духовке. А еще, как заметила однажды моя лучшая подруга, какие остатки блюд ни прихватишь в нашем холодильнике, везде найдешь фасоль.
Что могу я сказать о наших отношениях с мамой? Большую часть моего детства мы были с ней вдвоем. Готовили себе на ужин вегетарианский вариант бургеров «Слоппи Джо». Смотрели по воскресеньям «Она написала убийство», бок о бок уписывая по большой ванночке мороженого. Совершали привычный новогодний ритуал, предполагавший написание своих желаний на бумажке и сжигание их в пламени свечи. На многих фотографиях моего детства мама меня обнимает, одной рукой обхватив поперек живота, а другой указывая мне на что-то и говоря: «Взгляни-ка», направляя мой взгляд на уже примелькавшиеся чудеса. Рассказ о ее любви ко мне или о моей любви к ней звучал бы как одна большая тавтология: именно мама всегда определяла мое представление о том, что такое любовь. Так же бессмысленно говорить, что наши с ней обычные, самые будничные дни являлись для меня всем, потому что я полностью в них растворялась. Они давали мне силы и оставляли покой в душе. Как это происходит и сейчас. Без них меня бы попросту не существовало.
Сколько раз мама брала трубку, чтобы услышать в ней мой срывающийся от слез голос… Я позволяла себе расслабиться, только когда знала, что она уже на связи. Когда она примчалась в госпиталь после того, как родилась моя дочь, я сидела на крахмальных простынях, держа в руках свое дитя. Мама крепко обняла меня, и я расплакалась навзрыд, потому что наконец полностью постигла, как же глубоко она меня любит, и едва сумела перенести открывшуюся мне благодать.
* * *
Когда мама рассказала, что ее первый муж написал о годах их брака роман, мне было уже тридцать лет, и я, конечно, загорелась любопытством. Мы с Питером почти не знали друг друга. Для меня это был милый, добрый образ, парящий по краям воспоминаний моего детства, смутный и полусказочный, обитающий где-то в лесах Орегона. Я знала, что он старается придерживать свои доходы ниже федерального налогового минимума, дабы не финансировать ведущихся нашей страной войн. Я знала, что его не раз арестовывали за участие в пикетах, блокирующих доступ к атомным электростанциям. Я знала, что, когда я была маленькой, он подарил мне «ловца снов».
Становясь взрослой, я часто представляла себе кинематографичное изображение их юношеского брака, написанного широкими небрежными мазками, где было много ЛСД, много фолк-музыки и разбитых сердец. И меня сильно интриговало то, что часть прошлого моей матери так и осталась за кромкой моего видения, за границами привычного ландшафта нашей с ней совместной жизни со скоростными магистралями и съездами, с оживленными спорами за завтраком. Но сколь бы щекочущее возбуждение я ни испытывала от того факта, что юность моей матери осталась за пределами моего взора, я все ж таки хотела на нее посмотреть. Отчасти поэтому я и превратила ее молодые годы в некую легенду, преобразуя их во что-то более простое и отчетливое, что я могла бы держать в руке, как драгоценный камень.
В пору детства и отроческих лет я пыталась по фотографиям и обрывкам рассказов вызвать в себе смутное представление о маме с Питером как о юной супружеской паре. Мама была длинноногой брюнеткой с карими, с поволокой, глазами и точеными скулами — из тех (бесящих других дамочек) женщин, что прекрасны и без специальной заботы о своей красоте. А Питер в те годы был высоким молодым мужчиной с бородкой и эффектным, царственным носом. Отпрыск еврейской творческой интеллигенции из Европы, он всегда мнил себя одиночкой-аутсайдером, что, впрочем, не помешало ему найти близких по духу людей в университетском колледже. Он играл на своей гитаре фолк-музыку и вечно нарушал правила преподавателя драматургии тем, что вносил собственные изменения в образы, — например, как-то раз зачернив зуб тихому чистильщику обуви. Мама говорила, что ее тянуло к Питеру с какой-то первобытной силой, будто она ощущала в нем власть вождя племени.
Когда я написала Питеру с вежливой и осторожной просьбой дать мне почитать его роман, он, как показалось, с большой радостью мне его выслал, несмотря на то что у него имелась только пара-тройка экземпляров рукописи. Я с нетерпением ждала посылки: с одной стороны, ожидая, что его роман подтвердит мои мифические представления о мамином прошлом, с другой — жаждая увидеть, как он вдохнет дыхание в этот миф и наделит его исключительностью.
Роман прибыл ко мне в виде разрозненных страниц, вложенных в малиновую папку, — немного размытая фотокопия оригинальной машинописной рукописи. Нумерация страниц местами прыгала — как отголосок последних авторских переделок, — и большинство листов были усеяны убористой правкой от руки. В сцене, где несколько друзей курят марихуану, макая пальцы ног в жидкость для стирки, реплики были старательно вымараны.
Держа эту рукопись, я чувствовала, будто мне в руки попала бесценная контрабанда или будто я читаю письма, которые мне совсем не предназначались. Книгу я одолела за один день. Я словно с маминого плеча наблюдала, как передо мною разворачиваются таинственные, призрачные, неизвестные мне дни ее далекой жизни, начиная с той первой наркотической эйфории в Тильден-парке. Я была в ту пору крохотным безбилетником, еще только прячущимся в ее яичниках. Недочеловеком, случайно оказавшимся там за компанию.
Первые главы романа навевают ощущение настоящего рая. Шейла с Питером едут на психоделически раскрашенном пикапе по илистым отмелям под Эмеривиллем, потягивая апельсиновый сок, приправленный «кислотой». Они направляются в театр «Филмор» в Сан-Франциско на концерт Jefferson Airplane, выступающих совместно с некой группой под названием Grateful Dead, которые не успели еще выпустить ни одного альбома46. Калифорния предлагает молодым супругам увлекательнейшую альтернативу их тихому существованию в Портленде, где Питер трудился на литейном заводе по производству нержавейки в окружении рабочих, привыкших ковырять в носу над обезжиривателем и «четвертующих» обсыпанные пудрой пончики в комнате отдыха.
В Калифорнии жизнь молодой пары начинает вращаться вокруг того, что Питер именует «этикой клёвости». Это нечто не выразимое словами, но мгновенно узнаваемое. Это большая деревянная чаша с чистой травкой в середине большого обеденного стола. Это люди, которые часто и безо всякой иронии называют то или иное «отпадом». Это красивая девчонка по имени Дарлин, мило воркующая с копом, который собирается ей выписать штраф за самовольное проникновение на общественный пляж. И даже если Питер до конца пока не понимает, в чем именно проявляется эта «клёвость», он безошибочно распознаёт ее, когда видит. «Возможно, я и не секу ничего в ситарах, — высказывается он на одной из вечеринок, — но стопудово скажу, что этот чувак с ситаром знает свое дело».
Их Шангри-Ла47 — это нудистский пляж чуть дальше по берегу, где они на один из уик-эндов разбивают свой лагерь. Единственная на их пути проблема — это человек с ружьем, стерегущий проезд по частной территории. («Рай буквально в двух шагах, а мы не в силах туда попасть! Нам преграждает путь непрошибаемый эгоцентрист, который не позволяет нам туда спуститься по этой паршивой скале».) К счастью, какой-то обнаженный мужчина, стоящий на краю прибоя, рисует на песке схематичную карту, помогающую им найти потайной путь. Наконец они разводят большой общий костер и проводят там всю ночь напролет, под кайфом блуждая в сумерках возле мерцающих фосфоресцентным светом водорослей. Они устраивают шуточные похороны «старых добрых дней». Им и в голову не приходит, что они как раз и живут в этих «старых добрых днях», на которые однажды они захотят оглянуться и на которые решит оглянуться чья-то дочь — словно бросая взор через плечи их призраков, страстно желая увидеть ту жизнь, что у них некогда была.
* * *
Пытаться писать о моей маме — все равно что смотреть на солнце. Ощущение, что язык может лишь заставить потускнеть тот дар, который она преподносила мне всю мою жизнь, — нашу с ней безмерную любовь. Долгие годы я всячески отказывалась писать о матери. Из прекрасных отношений интересных историй ведь не выжмешь. Всякая экспрессия естественным образом тяготеет к проблемам и препятствиям. Захватывающее повествование требует трений, конфликта, а мы с мамой всегда жили в духовной близости и гармонии — днями, неделями, десятилетиями. К тому же я ведь не глупый человек. Кому охота долго выслушивать о чьих-то правильных и разумных родительских отношениях, верно?
Как-то раз одна подруга мне сказала, что, если честно, немного утомительно постоянно слушать от меня о том, как я люблю свою мать. Но что я могу сказать? Мое чувство к ней бесконечно. И я хочу проникнуться к ней еще более полной любовью, полюбив ту женщину, которой она когда-то была. Возможно, меня ждет путь обратно к ее лону и даже дальше в поисках историй о ней, случившихся еще до моего рождения.
* * *
На страницах «Распутья» брак Шейлы и Питера начинает разваливаться после того, как она не на шутку влюбляется в некоего инженера по имени Эрл. Эрл представлен в романе как безнадежно честный и правильный человек, читающий на крылечке бюллетень «Выпускники Стэнфорда», в то время как все остальные их друзья в радиусе десяти миль тащатся под немыслимым «кислотным» угаром. Однако у него с Шейлой уже имеется нечто в прошлом — насколько возможно иметь нечто в прошлом, когда тебе всего только двадцать два года. Когда они втроем отправляются путешествовать по горным кряжам Сьерры, Питер всячески старается не поддаваться ревности. Его начинают преследовать видения того, как Шейла с Эрлом оказываются вместе: «…мое подсознание словно приоткрыло дверцу, давая посмотреть странное трехмерное кино, созданное на основе моих страхов и ощущения небезопасности». Хотя у Шейлы с Питером был так называемый открытый брак, это отнюдь не предполагало, что кто-то из них влюбится в кого-то другого.
Раскол между супругами, вызванный отношениями Шейлы с Эрлом, вскоре превращается в широкую расщелину, обнажающую их более глубокие взаимные недовольства. Они с Питером уже не могут наладить прежнюю совместную жизнь и даже не способны договориться, какую вообще жизнь собираются вести. Они оба на мели и пытаются понять, как из этого выбраться. Может, Питеру все же подыскать себе работу? Или он найдет такую работу, где потребуется обрезать его длинные волосы? На этом этапе главы романа перестают именоваться, к примеру, «Соглашаясь взорвать мозг» или «Второе пришествие» и получают названия вроде «Дрязги». Они и могли бы стать владыками бескрайних пространств, но от жутких снов им никуда не деться.
Напряженность в отношениях достигает критической точки, когда они оказываются в пригородном доме у матери Шейлы. «Матушка Джин» спросила у Шейлы с Питером, не примут ли они и ее оттянуться за компанию. «Что? Бабуля Пэт?!» — мелькнуло в голове, когда я это прочитала, но тут же узнавающе кивнула, проглядев их диалог. Там, где Питер предупреждает ее: «Кислота ж не только сюси-пуси, цветочки да сердечки», та с легкостью отвечает: «Ну, так и я такая же». Она готова к чему угодно, но только малость разочарована тем, что первая ее галлюцинация связана с вареной ветчиной.
Во время этой поездки Питер делится с «матушкой Джин» своими опасениями насчет того, что Шейла захочет положить конец их браку, а сама Шейла, укрывшись за домом матери, борется с собственным страхом. «Мы тут с моим страхом немного пообщались на вершине холма, — говорит она Питеру, после чего задает откровенный и окончательный вопрос: — По-твоему, мы можем остаться вместе?»
Как читатель я следила за их распадающимся браком с чувством нежнейшей грусти, смешанной с эгоистичным облегчением. Как бы там ни было, их брак просто должен был распасться — иначе меня бы не существовало.
* * *
Эпиграф к роману взят из известного стихотворения «Невыбранная дорога» Роберта Фроста, именуемого «хрестоматийным американским поэтом»:
В лесу предо мною развилка, и я…
Я выбрал тот путь, где наторено меньше.
Самым цепляющим душу моментом мне казалось всегда то место, где автор словно запинается, повторяя: «и я… я выбрал». Он как будто пытается уверить себя, что именно тот, выбранный, путь и был для него верным. Однако в этот момент голос у него на миг предательски срывается, выдавая терзающие его сомнения.
В романе у Питера развилка прямо асимметрична этой: Шейла полна решимости покончить с их браком, и Питер чувствует себя опустошенным. Его боль рвется наружу, стремясь выразить себя как можно полнее. Он пишет стихотворение «Черная полоса», полное пустых, бесплодных образов: «И этот странный дождь из глаз / беременности / точно не навеет». Питер начинает ходить на заседания Лиги сексуальных свобод, где можно заниматься сексом с незнакомыми людьми, однако ему это особого утешения не приносит. Во время своего мучительного разрыва с мамой он однажды на вечеринке берется за гитару: «Я словно погружал ладонь в зияющую рану и вытягивал оттуда свою боль, которая, точно угорь, извивалась на крючке, и держал ее в руке, и наслаждался ее видом».
Шейла, с другой стороны, показана решительной, невозмутимой особой — совершенно хладнокровной и жаждущей независимости. Когда она сообщает Питеру, что хотела бы поселиться отдельно, он видит, как «твердеет ее решимость складочкой в уголке рта». И эти твердо сжатые губы, эта ее решимость и стремление к автономности резко контрастируют с пронизывающей его болью. Впрочем, читая «Распутье», я знала то, чего еще не могли знать главные его герои: даже после развода мама и Питер на протяжении более пяти десятков лет останутся очень значимыми друг для друга людьми. Конец их брака явился всего лишь началом их истории.
* * *
Послать мне на прочтение рукопись было актом настоящего доверия со стороны Питера. Не только потому, что я дочь его бывшей жены, то есть предвзятая аудитория, но и потому, что я еще и писатель, представитель этого особого вида вампиров. Отчасти прилипала, отчасти критик, и всегда способный на предательство. Тот, кто больше всех заинтересован в своих собственных творениях.
Хотя не думаю, что Питер когда-либо воспринимал меня как «дочь своей бывшей», потому что он и не относился к моей матери как к «бывшей». В какой-то момент, когда Питер поинтересовался у меня, о чем предполагается очерк, я поведала ему, что хотела бы исследовать то, как повлиял их с мамой брак на дальнейшую жизнь обоих, равно как и то, сколь разошлись их жизненные пути, когда эта связь оборвалась. Он тогда прервал меня на полуфразе, сказав:
— Эта связь никогда не обрывалась. Я бы не стал таким образом это называть.
Влюбившись всей душой в этот роман, я испытала небывалое облегчение. Я полюбила его столь осязаемые подробности — он словно возрождал с невероятно чуткой бережностью то давнее лето, во всем его горячечном, иллюзорном сиянии. Как друзья клали младенца вместо кроватки спать в ящик комода; как соседи держали у себя двух домашних мышей, разносящих помет по всей квартире. Как один парень сочинял книгу комиксов о герое с суперсилой, которая позволяла ему кого угодно запускать в психоделический отрыв (даже присяжных заседателей, которые могли бы его засудить за хранение наркотиков!). Мне очень понравилось, какое внимание уделяется в романе самым что ни на есть мелким деталям. И то, что ЛСД там признается предпосылкой и катализатором на редкость щедрого внимания к самому обыденному миру, к таким простым и привычным вещам, как, например, ощущение в себе приятного вторжения при питье популярной в те годы газировки Diet Rite: «Пузырьки ее прокатываются по рту, точно волна прилива, притом у каждого пузырька как будто есть крохотные вилы, мигом втыкающиеся мне в язык». Мне очень по душе пришлась царящая в романе благоговейная восторженность — именно этим чувством пронизано описание того, как он слушал музыку Джона Колтрейна: «…казалось, будто музыка эта создана из жидкого бетона. Вливаясь в сознание, она затвердевает там посредине, превращаясь в мост, по которому я могу прогуливаться туда-сюда, то выходя из собственного мозга, то возвращаясь обратно». Или взять это ощущение полной несусветицы, когда один из персонажей советует лечить запущенный случай лобковых вшей: «Выбрей себе пол-лобка, на вторую половину налей немного керосину, подожги — и дави этих маленьких сучек, как кинутся спасаться из огня!»
Впрочем, эта книга — нечто гораздо большее, нежели любопытное собрание артефактов контркультуры хиппи. В конечном счете это беззастенчиво откровенное и честное изъявление надежды и ощущения возможности, которые расцветают в попытке построить с кем-то общую жизнь, — и безмерное разочарование при виде того, как эта жизнь рушится, как этот кто-то уходит прочь. Мне уже довелось видеть, как моя мать переживала развод с моим отцом, когда мне было одиннадцать лет, однако чтение книги о финале ее первого замужества не только заставило меня обличить в ней человека, способного причинить страдания другому, но и вынудило меня осознать, что опыт развода с моим отцом, насколько мы с ней это обсуждали, скрывает целые слои переживаний, оставшиеся вне моего видения, которые мне, возможно, никогда и не постичь.
В некотором смысле, читая «Распутье», я испытывала такое чувство, будто изучаю целую пачку личных писем, руководствуясь тем же греховным азартом, с каким дети шарят по ящикам у родителей, когда, заболев, остались дома одни. А с другой стороны, это ощущалось как чтение берущего за душу произведения искусства. Это даже немного походило на отчет о вскрытии: как именно умер данный брак? А еще больше — на попытку принять разрыв между двумя людьми и построить на этом разрыве сюжет, способный его как-то возместить. Роман как раз и позволяет их расколу стать неотъемлемой частью их обоих — первоистоком мифа об их непрекращающихся отношениях.
Прочитав роман, я решила взять интервью у Питера и у мамы о том, как именно каждый из них помнит исход своего супружества. Отчасти мне любопытно было узнать, как по прошествии времени изменился взгляд на это у Питера, — но главным образом мне не терпелось услышать мамино изложение истории. С Питером мы общались по телефону, причем, как правило, во второй половине дня («Я не ранняя пташка, — обмолвился он, — как твоя мама, несомненно, помнит»). С матерью разговаривали, сидя друг напротив друга за кухонным столом. Чаще всего это происходило, когда моя малютка спала в соседней комнате, а на столе, рядом с маминой кружкой и пакетами для морозилки со сцеженным молоком, пыхтел и присвистывал молокоотсос. Она рассказывала мне о той женщине, которой сама была, пока еще не стала моей матерью.
* * *
В романе Питера Шейла изображена несгибаемо настроенной на конец их брака, уверенной в своем решении расстаться, с этой твердой складочкой в уголке рта. Но мама утверждает, что те несколько месяцев после разрыва с Питером были самыми ужасными в ее жизни. Они развелись в ноябре 1966-го, и всю последовавшую зиму мама проработала в кол-центре, перенаправляющем звонки через Тихий океан. Большинство звонивших были жены и матери, пытавшиеся связаться с солдатами в Сайгоне и в Дананге, кричавшие и плакавшие в трубку. Она не может даже припомнить какой-то один, отдельно взятый звонок. Она начала тогда курить и отсыпалась по четырнадцать часов в день. Однажды на нее напали на улице и чуть было не изнасиловали. А ее бабушка прислала ей программку своей собственной свадьбы, в которой были подчеркнуты известные слова из напечатанной там клятвы новобрачных: «Пока смерть не разлучит нас».
На следующее лето мама приехала обратно в Портленд, и у нее случился короткий роман с ее научным руководителем в колледже: она ведь столько уже поломала в своей жизни, так почему бы не разрушить что-то еще! Сейчас, оглядываясь назад, она видела во всем этом всего лишь юношескую мелодраму, но тогда ей с полной ясностью представлялось, что она порушила всю свою жизнь.
И если меня слегка сбивало с толку представление, что моя мать явилась источником страданий Питера, то куда более неожиданно для меня было обнаружить в ней человека со своей, особой, совершенно нестандартной историей. Я никогда не замечала в ней ни малейшей склонности к мелодраматическим переживаниям. Напротив, она всегда являлась для меня той силой, что оттягивала меня назад с самых дальних рифов моих собственных мелодрам. После каждого нового разрыва меня так утешали и вместе с тем так выбивали из колеи ее слова о том, что это «совсем не конец света». Теперь я осознала, что мудрость этой фразы была результатом отнюдь не интуиции. Это было сродни памяти мускулов — нечто такое, что она хотела бы сказать той версии самой себя, из прошлого. Той, что считала, будто все навсегда порушила.
Между тем вскоре после их развода Питер женился на другой женщине, устроив прекрасную свадебную церемонию на берегу моря (мама узнала об этом от своей матери и почувствовала себя преданной от того, что та все равно туда пошла), и у них появился на свет мальчик, которого назвали Шанти. Мама навестила их спустя несколько недель после его рождения, и она хорошо помнит, как увидела их троих на голом матрасе в маленькой съемной квартире. И помнит, как впервые в жизни тогда почувствовала — не абстрактно, а всем своим нутром — желание иметь дитя.
* * *
В то время как матери казалось, что Питер теперь живет именно так, как об этом мечтал и загадывал, сам Питер ощущал это совсем иначе. Он вспоминает, как большую часть тех полутора лет, что прошли после их развода, он пытался вернуть их брак, раз за разом раздвигая границы дружбы, на которую она согласилась. Однако, как он признаётся мне, этому не суждено было получиться:
— Разве что оставалось очень сильно изменить себя, чтобы стать именно тем, кем хочет видеть тебя другой человек.
Первый набросок «Распутья» Питер написал спустя два года после развода, пытаясь примириться с постигшей его потерей. Для него это было в первую очередь исцеляющей процедурой. Кроме того, он ходил на консультации к психологу и регулярно принимал ЛСД, эту «священную субстанцию». А еще участвовал в групповых встречах нудистов, которые собирались у кого-то на дому, скидывали с себя всю одежду и копались в жизни друг у друга. В какой-то момент эта группа исполнилась убеждения, что всё большая вовлеченность Питера в идею ненасилия напрямую связана с сублимацией его подавленного гнева. И они устроили эксперимент: принялись колоть его булавками в руки и ноги, шипя ему в уши разные ругательства, с тем чтобы его гнев вырвался наружу.
— Ничего у них не вышло, — просто сообщает он мне.
Поначалу Питер стал писать роман от первого лица, дабы придерживаться в нем открытого и непосредственного самоанализа. Отдельные события жизни он делал более значимыми и преувеличивал, передавая то напряжение, что он испытывал, их переживая, однако в целом все же правдиво изображал то, что произошло. На мой вопрос к Питеру, зачем он написал этот роман, он цитирует Ницше: «Память говорит: ты это сделал. Гордость — что этого не может быть. И память потихоньку ускользает на второй план». Питер не хотел позволить своей памяти отойти на второй план. Он не хотел, чтобы его гордость как-то переписала правду. «Ухватить бы все это покрепче, с самой максимальной прямотой, — говорил он себе тогда, — и изложить все разом, чтобы уж точно осталось в ловушке». Для него это был способ удержать мою мать, а значит, в реальной жизни он уже мог ее отпустить.
В конечном счете Питер перешел на изложение от третьего лица, надеясь, что некая дистанцированность позволит роману больше походить на произведение искусства. Однако потом решил, что третье лицо придает ощущение трусости и попытки уклониться от правды, и переделал все как было. Переписывал он книгу в живописных лесах Орегона, к западу от Сейлема, где помогал обустраивать коммуну. Он сидел за столом в общем рабочем кабинете в окружении детей и треугольных плиток, предназначавшихся для еще не законченного эллипсоидного купола дома, и пытался представить от первого лица мысли других персонажей, в особенности моей матери. Раз уж он черпал материал для романа из ее жизни, то считал своим долгом изложить и ее точку зрения.
Когда же я спрашиваю, не опасается ли он того, что его гнев неминуемо внесет свои краски в портрет моей мамы, Питер отвечает:
— Во мне не было гнева. Была лишь несказанная печаль.
* * *
Имя Шейла настолько чуждо моей матери, что порой в ее сознание закрадывается догадка, что со стороны Питера назвать ее таким образом есть своего рода акт агрессии. И мне это понятно: это имя кажется слишком притворным, слишком игривым, как будто оно принадлежит разбитной девахе в обрезанных шортах. Однако в романе героиня буквально сразила меня очень узнаваемым и с явным благоговением написанным портретом мамы. Как и у меня, видение Питером моей матери искажено и передернуто какой-то боготворящей любовью.
Шейла — мудрый и знающий человек, заботливый и в высшей степени внимательный к душевному настрою других людей, особенно когда они чем-то расстроены и их необходимо вытянуть из «панциря». Но в то же время она прекрасно отдает себе отчет, откуда эти настроения берутся. В какой-то момент она очень верно заключает, что Питер списывает свое скверное настроение на разочарование «авторитаризмом», в то время как на самом деле его просто раздражает то, что Шейла больше не обращает на него внимания. И этим Питер — как автор, уже годы спустя, — признаёт, что моя мать порой знала его даже лучше, нежели он сам себя.
Однако при всей своей чуткости к другим людям Шейла производит впечатление обезоруживающе самодостаточной натуры. Она постоянно ищет себе нового пространства. Вот откуда эта твердая решительная складочка в уголке ее губ. В определенном смысле Шейла — это как раз образ той женщины, которой я всегда мечтала быть. Скорее жаждущей возводить перед собой границы, чем пытающейся их развеять или преодолеть. И это качество Питер больше всего и любил в моей матери. Как сам он признаётся, они были «предельно близки, но никогда не сливались воедино». И это, в частности, позволило ей от него уйти.
* * *
Когда я спрашиваю маму, что она помнит из того лета, полного психоделических опытов, вожделений и интриг, долгих ночей напролет с травой и затертыми пластинками, она отвечает:
— Я больше помню, как просиживала в библиотеке.
И начинает мне рассказывать о Корпусе мира: им с Питером было назначено в сентябре отбыть в Либерию и она хотела до отъезда побольше узнать об этой стране. Изначально им предписывалось уехать в начале лета в Бечуаналенд, однако Питеру захотелось провести какое-то время в Беркли, пожить немного как хиппи, а потому им разрешили отложить отъезд до сентября. В августе Питер заявил, что уже не желает ехать в Либерию, и потому они так никуда и не отправились. Оглядываясь назад, мама теперь понимает, что у Питера вообще не было желания ехать в Африку. Просто он сказал, что этого хочет, — или сам себе внушил, будто этого хочет, — для того чтобы в первую очередь убедить ее выйти за него замуж.
Когда мы говорим, что в любой истории всегда есть две стороны подачи, две разные правды, то зачастую представляем весьма противоречивые рассказы о том, что произошло на самом деле. Но чаще всего, как мне кажется, разногласия возникают из-за того, что к данной истории относится, а что нет. Для мамы Корпус мира занимал главное место в истории того лета. Это было первое, о чем ей вообще хотелось говорить. Питер между тем ни разу даже не обмолвился о нем в своем романе. Суть главной проблемы была не в этом. Брак его погиб совсем на другом холме.
А что еще, кроме походов в библиотеку, помнит мама из лета 1966 года? Множество веселых вечеринок. Уйму травы. Уйму «кислоты». Уйму дешевейшего красного вина, которое большей частью выпивалось в их доме-коммуне, где они с Питером спали в гостиной, в занавешенном уголке.
— Ох, этот закуток! — восклицает она.
Она очень даже хорошо его помнит.
— Именно там мы провели с Робом нашу первую ночь, в то время как Питер спал рядом в гостиной.
Эрла из романа на самом деле звали Роб. Они втроем отправились вместе в поход, пытаясь прощупать границы своей духовной открытости, и, принимая высоко в горах ЛСД, карабкались голышом по сверкающим на солнце гранитным глыбам. Все они в том путешествии ужасно обгорели (в романе обожженный на солнце Эрл сравнивается с китайским коммунистическим стягом).
Мама говорит, ее манил огромный риск, когда она увлекала Роба в этот закуток в такой близости от своего мужа. Хотя их брак и считался открытым, но все же что-то будоражило ее в этом маленьком грехе. Оглядываясь назад, она теперь понимает, что просто пыталась поломать то, что и так уже успело расколоться.
Когда она описывает тот кульминационный наркотический угар в доме ее матери, то говорит, что все это для нее закончилось ужасным приступом клаустрофобии.
— Вообще это логично, что там, на холме, меня настиг страх. Я очутилась в том месте, где не могла с ним совладать. Мне не верилось, что скоро это закончится и я наконец вырвусь из всего этого.
* * *
Спустя несколько месяцев после знакомства с «Распутьем» я лечу в Портленд, чтобы читать свои творения перед студентами Рид-колледжа — того самого, где моя мама с Питером влюбились друг в друга в начале шестидесятых. Я пригласила маму прилететь туда из Лос-Анджелеса, а Питера — приехать на машине из Сейлема, чтобы иметь возможность услышать историю зарождения их отношений от обоих сразу, одновременно, на фоне пейзажа их общего прошлого.
И вот солнечный зимний день. Питер приезжает в кожаном берете и вязаном жакете цвета овсянки с приколотым к нему значком «Территория безопасности». Когда мы устраиваемся в кофейне при кампусе Рид-колледжа рядом с девчушкой с ирокезом, читающей Фуко, и длинноволосым парнем, читающим «Одиссею», Питер говорит мне, что эти студенты очень напоминают ему тех, с которыми он сам учился. Подходя к общаге первокурсников, где некогда жила моя мама, мы минуем картонную табличку, приглашающую всех желающих принести аудиозаписи собственных оргазмов в некое заведение под названием «Галерея сексуальности». Подняв взгляд к маминому окну на третьем этаже Лэдд-холла, Питер рассказывает о своих давнишних соседях-первокурсниках — о Муслиме из Занзибара, что по пять раз на дню раскладывал перед собой молитвенный коврик, и о парне, жившем за стенкой, который неделями слушал один и тот же альбом Джоан Баэз. Питер запомнил каждую ноту.
Они отвели меня на площадь Пайонер-Кортхауз, где когда-то впервые вместе участвовали в протестных акциях против так называемой Комиссии по расследованию антиамериканских действий. Тот уютный Портленд, что раскинулся вокруг нас, — с аккуратными ульями на задних дворах, с мастерскими по ремонту велосипедов, с кафешками, где подают домашнее мороженое, предлагая даже такие редкие вкусы, как фенхель или цукини, — это совсем не тот Портленд, который они когда-то знали, который казался им глубоко провинциальным и допотопным. Питер рассказывает о женщине, которая скомкала одну из его листовок, а потом плюнула на нее. А другая женщина бросила моей маме: «Надеюсь, ваши дети, когда вырастут, вас возненавидят!»
Когда Питер вспоминает ту женщину, что оскорбила мою мать, тон его становится покровительственным, и маме явно приятно ощущение его защиты. Один раз, когда во время шествия ее стал цеплять какой-то незнакомец, мама заметила, как у Питера на шее от гнева вздулись жилы: ему явно хотелось поколотить этого парня, но он изо всех сил старался придерживаться принципа ненасилия. Когда мама вспоминает, как ей хотелось впечатлить Питера своим политическим сознанием, он улыбается и наклоняется к ней поближе, чтобы тронуть ее колено — так нежно и так польщенно. А когда он начинает мне рассказывать о своем первом впечатлении о маме как о красотке, о «сладкой штучке», я понимаю, что мы словно очутились посреди странного, благодушного и какого-то «треугольного» флирта: как будто Питер, после стольких лет, по-прежнему заигрывает с моей мамой и для него почему-то очень важно, чтобы я оказалась тому свидетелем.
Затем мама с Питером отвозят меня на расчищенную стройплощадку на Ламберт-стрит, где некогда стоял их первый дом. Тот самый, где Питер на кухне варил в большом мусорном баке пиво и три бочонка упрятал под половицами. Один из них взорвался. Вспоминают, как однажды к ним на ужин пришла семейная пара, и после угощения жена сказала: «Если вы не возражаете, мой муж сейчас возьмется за десерт», и ее муж принялся прямо за столом сосать ей грудь. Судя по всему, это была самая кульминация анекдота о том, как двух начинающих хиппи заставили почувствовать себя ханжами.
Мама указывает на здание, где она добыла себе первые противозачаточные таблетки и где врач пристыдила ее за то, что она их принимает. Потом меня приводят к дому на Кнэпп-стрит, где они жили, уже поженившись, с разросшейся сливой на заднем дворе и грецким орехом перед фасадом. Мама готовила там чечевицу с черносливом, а Питер регулярно просматривал газетные страницы с купонами, чтобы покупать по дешевке нерасфасованные картофельные чипсы. Мама писала там дипломную работу по средневековому английскому эпическому роману «Хэвелок-датчанин», а Питер устроился продавать пылесосы с доставкой на дом — но решительно уволился после того, как его вынудили забрать пылесос у матери-одиночки с шестью детьми, не сумевшей вовремя внести платеж. За это моя мама его так любила.
* * *
Мама и Питер сходятся на том, что тогда она еще не готова была к замужеству.
— Твою маму пришлось долго убеждать, — говорит он.
— Я перебрала все причины для отказа, — добавляет она.
На каждое ее возражение, что она, мол, хочет попутешествовать, примкнуть к Корпусу мира, поступить в магистратуру, Питер отвечал встречным обещанием, что все это они могут делать вместе.
— Это было все равно что выиграть дебаты в гуманитарном классе, — усмехается он и тут же признается: — Не надо было мне ее так уговаривать.
Мама говорит, что она всей душой полюбила Питера, но просто еще не готова была вообще выходить за кого-либо замуж.
— Как жаль, что тогда я еще этого не понимала, — говорит она мне.
Питер описывает конец их брака как крушение безоговорочной юношеской веры в себя.
— Я вырос в полной уверенности, что способен достичь всего, чего пожелаю, — объясняет он. — А тут передо мною было то, чего я по-настоящему хотел, и у меня ничего с этим не получалось.
Услышав это, я в душе ощущаю вспышку гордости от того, что Питер хотел быть с моей матерью больше, нежели она с ним. Эта гордость исходит из того же тайного источника, что и заблуждение, в которое я верила большую часть своей жизни: что лучше быть тем, кого желают сильнее, нежели кого-то сильнее желать самому. Будто любовь — это состязание; будто желание есть нечто абсолютное и застывшее; будто какое-то место в этом соревновании способно защитить от причинения тебе или тобой несчастий; как будто контроль над обстоятельствами может оградить тебя от чего угодно.
* * *
Без всякого мелодраматизма могу сказать, что после развода Питера с моей мамой мир будто стал разваливаться на куски. Конец шестидесятых ознаменовали политические убийства Мартина Лютера Кинга и Бобби Кеннеди, расовые беспорядки по всей стране, разгул полицейских дубинок на Национальной демократической конвенции 1968 года и предательская политика Никсона — и все это на фоне чудовищного кровопролития во Вьетнаме.
В этой обстановке — а вернее, по причине этой обстановки — Питер решил целиком посвятить себя обучению людей ненасильственному сопротивлению. В орегонских лесах он основал собственную коммуну. Предполагалось, что это будет такое место, куда городские активисты смогут приехать на пару-тройку месяцев отдохнуть и расслабиться после крупных акций.
Когда мама вышла наконец из депрессии, она повстречала Люси, свою следующую серьезную любовь, а потом отправилась в Лондон, чтобы быть рядом с моей тетушкой, забеременевшей в девятнадцать лет. Затем мама с Люси уехали в Южную Францию провести там сезон урожая и даже организовали забастовку среди местных своих приятелей, сборщиков оливок, убедив тех протестовать против длинных рабочих дней в пору холодов. Уже по возвращении в Штаты, когда отношения между ней и Люси все-таки пришли к концу, мама влюбилась в молодого профессора экономики в Стэнфорде, моего будущего отца. Они поселились в доме при кампусе, и в последующие два года мама произвела на свет двух сыновей, моих старших братьев.
Вот и та самая развилка в лесу: один путь вел в коммуну, другой — в университетское жилье.
* * *
Мама была замужем три раза. Брак с моим отцом длился двадцать три года и распался, когда мне было одиннадцать. Он был человек очень интересный, успешный, многообещающий и, как она всегда мне говорила, «совершенно неутомимый». А еще он был хронически неверным супругом и частенько исчезал из города.
Когда я уехала учиться в колледж, мама, работая в службе социальной справедливости при Епископальной церкви, встретила Вальтера, вышедшего на пенсию продавца кетчупа. Вместе они сделались бабушкой и дедушкой и вместе маршировали по улицам, протестуя против второй войны в Ираке. Истории, что я рассказывала сама себе об этих трех ее браках, в итоге дистиллировались в моем сознании в три основных мужских архетипа: дерзкий, полный идеалистических представлений молодой мечтатель; беспокойная, хмельная, упрямая родственная душа и, наконец, стабильный партнер, с которым можно обрести покой после всех предыдущих треволнений. И я так и осталась верной этой своей дистиллированной классификации.
Поэтому, пожалуй, ничего нет удивительного в том, что в «Распутье» едва ли не больше всего восхитило меня именно изображение Питера как персонажа, реализующего разные архетипы мужественности: простого честного мужчины, «клёвого парня», любовника, защитника, кормильца, демонстранта и пикетчика — и пытающегося найти свое устойчивое место среди них. Он выстраивает характер своего героя с подкупающим пониманием собственной неловкости, собственных противоречий: он способен обторчаться на вечеринке и мнить себя королем Артуром, вытягивая нож из бруска масла, — и он же станет шептать двум незнакомцам, колющимся одной иглой: «Вы вообще слышали когда про гепатит?» В то время как главный герой Питера то и дело произносит пространные монологи о поисках самого себя, Питер-писатель мягко подшучивает над его амбициями: так, в какой-то момент один из персонажей во время его долгой тирады просто засыпает. Между тем свойственная Питеру помешанность на всем «клёвом» и, уже позднее, его исследование этой помешанности на самом деле проявляют в нем более глубокую и всеобъемлющую жажду — мечту о в высшей степени подлинном «я», не скованном никакими внешними нормами, абсолютно свободном.
Мама вспоминает, как ее огорчало то, что Питер не хотел поступать в магистратуру, и как она сказала ему, что у него хватит духу все это одолеть.
— Разумеется, он одолел, — продолжает она. — И конечно, так нечестно поступать с кем-либо — просто накидываться на человека. Но меня расстраивало то, что он не использует все данное ему от природы, чтобы жить той жизнью, которой я для него хотела.
Для меня довольно жутковато слышать, как моя мать толкует о своем разочаровании в связи с тем, что Питер не оправдал ее амбиций в отношении него, ибо это с невероятной схожестью напоминает мне, как сама я строила претенциозные планы, навязывая их всем моим партнерам последних лет. Это было не столько развертывание, экспансия своего эго, сколько желание постоянно пребывать в состоянии восхищения — чувствовать себя вдохновленной и несколько даже более совершенной. Хотя это также может восприниматься и как бездушие, как холодность. И, слушая, как мама объявляет свой вариант их истории, я ощущаю нашу с ней неизмеримую общность.
Мама надеется, что Питер не помнит их нелегкий разговор насчет учебы в магистратуре. Я напоминаю ей, что в романе уже имеется своя версия этого. Но в то время как мама искренне сожалеет о безжалостности своих тогдашних слов, версия Питера скорее сосредоточена на его ответном гневе: «Голос у меня был негромкий, однако в нем сквозила такая ярость, что Шейла на миг оцепенела. Я выждал несколько мгновений, смакуя драматизм ситуации, наслаждаясь ощущением мощи». Питер уверен, что именно он причинил маме боль; мама же запомнила, что боль причинила она — ему.
Когда мать рассказывает о небывалом чувстве освобождения, которое она испытала во время одного «кислотного» улета тем давним летом, поняв, что ее отец никогда не станет известным на весь мир инженером, что ее гипертрофированное ощущение его значимости не соответствует его истинному положению в этом мире, — я не могу не думать, что ее чувства в отношении своего отца определили и ее желание, чтобы Питер стремился к определенному успеху в обществе, и дальнейшее ее замужество за моим отцом. В точности как мои чувства к отцу очертили мои амбиции и то, как я искала амбиции в своих партнерах или проецировала свои амбиции на них.
Питер так и не пошел ни в какую магистратуру.
— Коммуна заменила мне магистратуру, — говорит он мне.
Там он научился заботиться о тех, кто действительно нуждается в заботе. В какой-то момент, когда они катастрофически нуждались в деньгах, живший неподалеку фермер предложил Питеру деньги за то, что он отвезет его кур на убой. Птиц там, казалось, были целые тысячи. Поначалу Питер представлял, как будет осторожно брать в ладони каждую, относясь к ней деликатно и с сочувствием. Однако к концу стал обращаться с ними скорее как с возмутителями спокойствия. Он тогда понял, что, должно быть, испытывают тюремные надзиратели. Как бы мы ни пытались бороться с определенными структурами, мы все равно оказываемся внутри них, они по-прежнему нас формируют. В какой-то момент посреди всего этого громкого куд-куд-кудахтанья он начал слышать, как животные выкрикивают его имя.
* * *
Последний раз мама с Питером видели друг друга, когда им было уже обоим к тридцати. Он заехал навестить ее в Стэнфорде, когда отправился из своей коммуны в Южную Калифорнию повидать родителей. Мама не вспоминает об этой встрече как о радостном воссоединении. Питер сразу дал понять, что, по его мнению, она предала все их юношеские идеалы и ценности. «Что? Преподаватель в бизнес-школе?!» Когда я спрашиваю, действительно ли его осуждение было таким уж недвусмысленным или она лишь так это почувствовала, то мама отвечает:
— Он выдал его совершенно однозначно.
А еще он жестко подтрунивал над ней из-за посудомоечной машины. Что может быть более мещанским!
Когда она мне это говорит, я вспоминаю, что Шейла в романе постоянно что-то готовит на кухне: то тушит говядину, то делает из концентрата «Джелло» десерт, то печет мягкое американское печенье. Даже в те три года их свободной любви кто-то все же мыл посуду на кухне. А теперь она, мол, просто обзавелась посудомойкой. Тут во мне вскипает желание защитить ее!
Я спрашиваю: может, она чувствовала какое-то недопонимание со стороны Питера? Но мама качает головой:
— Нет, никакого недопонимания я не ощущала. Только обиду. В ту пору я даже не представляла ничего из того, что ждет меня в будущем, и не способна была строить какие-то планы.
Нельзя сказать, чтобы она как-то завидовала жизни Питера в его коммуне. На самом деле у него было обыкновение говорить людям, что им следует делать и как это следует делать, и она вполне могла представить, насколько это, должно быть, утомительно — жить в основанной им коммуне. Но по крайней мере в его жизни имелась определенная ясность, некое безошибочное стремление к морали. И возможно, целый спектр непрожитых жизней — жизни ли с Питером или той жизни, что вел он без нее, — действовал на нее еще сильнее, потому что ее собственная жизнь не обрела пока зримые очертания. Возможно, я просто наделяю ложной уверенностью образ своей, еще молодой тогда, матери, потому что мне становится как-то не по себе, когда я представляю ее в состоянии подвешенности. Для меня она всегда являлась источником незыблемой любви, воплощением преданности, отсутствием непредвиденности.
* * *
А как Питер вспоминает этот свой визит в Пало-Альто? Поначалу он просто эхом повторяет все те эмоции, что испытала тогда мама. Он чувствовал себя очень некомфортно. Ему не понравился мой отец, хотя ему трудно было разобрать, то ли дело в самом человеке, то ли в том, что именно он в итоге оказался рядом с моей матерью. Но потом, когда я спрашиваю у Питера, помнит ли он, с каким осуждением отнесся тогда к маме, и действительно ли он считал, что она предала идеалы их юности, он надолго умолкает.
— Ладно, раз уж на то пошло… — произносит он наконец. — При той нашей встрече она сделала одну очень странную вещь. Мы никогда это не обсуждали, но для меня до сих пор загадка, зачем она так поступила.
Он рассказывает, что, знакомя его со своим новым мужем, она вышла в очень прозрачном пеньюаре. И Питер никак не мог понять, что она хочет до него донести. Еще долгие годы он готов был на что угодно, лишь бы увидеть ее снова в таком неглиже. Долгие годы он еще ждал от нее какого-то знака, говорящего, что, может, между ними еще жива какая-то надежда.
Мама же совершенно не помнит ни про какой пеньюар. И вообще не припоминает, чтобы пыталась подавать Питеру какие-либо знаки, — хотя правда и в том, что мы не всегда помним, какие кому посылали знаки, и даже не всегда сами сознаём на тот момент, что кому-то что-то пытались дать понять.
— Не показалось ли мне, что она пытается его предать? Ну, может, было немного.
Он посмотрел тогда на ее мужа, моего отца, и подумал: «Он профессор Стэнфорда, у него две ученые степени, он хорош собой». У отца, правда, была только одна степень, но в памяти у Питера его статус, похоже, возрос вдвое. Питеру тогда показалось, будто моя мать хочет ему сказать: «Смотри, насколько сейчас мне лучше, чем с тобой. Я стою выше тебя на несколько ступенек». И Питер поймал себя на мысли: «Что у меня есть такого, чего нет у него?» И тут же почувствовал твердое убеждение: верность тем ценностям, что они когда-то с мамой разделяли.
* * *
Хотя и Питер, и мама так и остались верны тем идеалам, что изначально сблизили их между собой, приверженность Питера предполагала работу вне государственных структур и учреждений или же против таковых, в то время как мама работала внутри них: на образовательных курсах, в общественных организациях, при церкви. Последние пятьдесят лет Питер был участником акций ненасильственного сопротивления, протестов против налогов, а еще он играл на гитаре в группе политической сатиры под названием Dr. Atomic’s Medicine Show. Его сын Шанти — тот самый малыш, которого мама много лет назад видела лежащим на голом матрасе и которого вырастили в коммуне, — сделался управляющим корпорации.
За те же пятьдесят лет моя мама не просто вышла замуж за профессора экономики, а сама стала преподавать на кафедре общественного здоровья и здравоохранения. А еще вырастила троих детей, попутно проходя кандидатскую практику по проблеме недоедания младенцев в сельских районах Бразилии: она вместе со своими сыновьями отправилась в тамошнюю деревенскую глушь, где взвешивала истощенных малышей на гамачных весах. А еще десятилетиями вела исследования в области охраны материнства в Западной Африке. Ее отдых на пенсии вылился в работу служителем Епископальной церкви и реализацию программ организованного церковью питания после школы детей из малоимущих слоев.
Оба их жизненных пути могут заставить почувствовать себя опустошенным, ущербным, а еще более — испытать определенное чувство вины. Что, мол, я сделал, чтобы спасти наш современный мир? Их обоих множество раз арестовывали, когда они протестовали против войн, перебоев в заработной плате, против ядерного вооружения. Только моя мама занималась этим в церковном облачении и всякий раз, возвращаясь из-за решетки, находила на своем сотовом сообщение от волнующейся дочери.
Спустя пятьдесят лет в их близости столько противоречий, столько расколов — и столько всего юношеского. Близость по духу после развода, возможно, обходится недешево, но она очень глубока. Потому и глубока, что за нее дорого заплачено. Обоим известно, кто из них кем был и кто как изменился, и оба несут в себе все свои прошлые версии. И Питер не раз мне повторяет:
— Несмотря на все свои прочие отношения, я никогда не переставал любить твою мать.
* * *
В Портленде, побывав возле их дома на Кнэпп-стрит, мы направляемся на митинг к Инженерному корпусу армии США. Питер несет два флага: один — флаг мира, другой — флаг Земли. Сейчас февраль, еще не затихли отголоски протестов индейцев резервации Стэндинг-Рок против строительства нефтепровода под рекой Миссури, вблизи их исконных земель. На данный момент большинство из «защитников воды» уже выпущены на волю, остальных в ближайший месяц тоже должны освободить. Инженерный корпус армии США предоставил разрешение на прокладывание трубопровода. Вот против чего мы и идем к нему протестовать.
Выясняется, что административные службы Инженерного корпуса расположены в очень солидном бизнес-центре позади торгового комплекса, напротив небольшого палаточного городка для бездомных. Однако признаков какого-либо митинга нигде не наблюдается: ни на парковке у бизнес-центра, ни в просторном вестибюле внутри. За стойкой видим лишь одинокого охранника. Он вежливо справляется у нас:
— Чем могу быть вам полезен?
Я в полной растерянности. Чувствую абсурдность ситуации. Питер спрашивает у охранника, как попасть в Инженерный корпус. Тот направляет нас на четвертый этаж.
Что-то во мне еще ожидает увидеть хотя бы крохотное подобие митинга на четвертом этаже, однако там не оказывается ничего такого — или, вернее, мы сами и являемся крохотным подобием митинга на четвертом этаже. Кроме нас там лишь приветливого вида секретарша за стойкой в приемной.
Двери лифта снова открываются, и мы видим все того же охранника из вестибюля.
— Я решил вас все же проводить, — говорит он. — А то вид у вас какой-то… озадаченный.
— Мы и в самом деле озадачены, — отвечает ему Питер. — А еще у нас с собой послание, адресованное Инженерному корпусу армии.
Явись я туда сама по себе, я бы уже оказалась за дверью — возможно, отчасти испытывая облегчение, что митинг все же не состоится, что вместо этого мы можем еще несколько часов пообщаться друг с другом, пойти куда-нибудь выпить кофе. Однако Питер заявляет секретарше:
— Мы хотели бы переговорить с кем-нибудь о том, что происходит у резервации Стэндинг-Рок.
Она просит немного подождать и исчезает в целом лабиринте офисных кабинок. Через несколько мгновений, к величайшему моему удивлению, в приемной появляется полковник при полной форме и зовет нас за собой. Он хочет разоблачить наш блеф. Но вот в чем дело: Питер нисколько не блефует. Таков он в действии — ни малейшей неловкости, само упорство.
Полковник приводит нас в комнату для совещаний со стеклянными стенами, где садится во главе длинного овального стола. Питер пристраивается рядом с ним, устанавливая принесенные с собой флаг Земли и флаг мира подле себя, на вращающееся кожаное кресло, как будто усаживая послушных детей.
Позднее я узнаю из интернета, что этот полковник побывал и в Ираке, и в Афганистане. При близком рассмотрении его идеально сидящая, выглаженная до малейшей складочки форма еще более впечатляет.
К нам вскоре присоединяется гораздо более молодой человек в серовато-зеленом флисовом жилете.
— Это Джейсон, — представляет его полковник. — Один из наших юристов.
Джейсон выдавливает застенчивую улыбку.
Далее Питер принимается чеканно, выразительно и на удивление конкретно излагать, что именно его беспокоит в связи с прокладыванием нефтепровода вблизи резервации Стэндинг-Рок. Когда Джейсон начинает отвечать что-то на своем формально-юридическом языке, полковник его обрывает.
— Сколько сокращений! — возмущается он. — Какое-то прямо нагромождение букв!
Далее полковник берет чистый лист бумаги и принимается рисовать карту: вот река Миссури, вот уже существующая полоса отчуждения, вот исконные земли индейских племен Стэндинг-Рок. Что-то не похоже, чтобы Инженерный корпус прокладывал там трубопровод, замечает он. Он просто предоставляет разрешение. Мама тут же вспоминает некий подписанный Обамой указ, который пришлось отменить. Питер уверенно ее поддерживает. Похоже, ему известно каждое судебное решение, которое только имелось в этом деле. Я храню молчание. Меня немало впечатляет компетентность в вопросе и Питера, и мамы, и я испытываю некое облегчение. Я ожидала обычной акции протеста, где я могла бы, толком ничего не ведая, довольная собой, анонимно скандировать какие-то лозунги, но здесь я встречаю нечто совсем иное. Что-то вроде викторины. А что я на самом деле знаю о резервации Стэндинг-Рок? Явно недостаточно, чтобы битый час обсуждать это с полковником.
В продолжение разговора становится ясно, что юрист и полковник глядят на это дело с совершенно разных сторон. В то время как полковник — преданный своему ведомству функционер, упрямо гнущий нужную линию, Джейсон производит впечатление глубоко колеблющегося, взволнованного человека. На юридическом факультете он специально изучал племенное индейское право. Может статься, он пошел сюда работать, чтобы иметь возможность реформировать систему изнутри. Или, по крайней мере, такая история о нем сложилась у меня в голове. Вот он сидит передо мной в своем флисовом жилете в главном офисе Инженерного корпуса, отстаивая прокладывание труб через индейские земли. И у него при этом вид совершенно убитого горем человека. У полковника и взгляд, и поза совсем иные: мол, ну и что вы от меня хотите? Похоже, его немало раздражают наши нескончаемые вопросы насчет «их земель». В какой-то момент он даже повышает голос:
— Мы вообще все тут на их земле! Прямо вот здесь! Тут все вокруг — это их земли.
На этом мы с Питером понимающе переглядываемся: «Вот именно!»
Полковник сообщает нам, что Инженерный корпус сделал более чем достаточно, ведя переговоры с племенем. Они проявили должную заботливость и осмотрительность. И тут я наконец набираюсь смелости тоже подать голос:
— Да, но ведь племя-то с вами не согласилось.
— Равно как и еще три сотни других племен, — подхватывает Питер.
Джейсон тогда отсылает нас к Земельному соглашению с индейцами сиу в форте Ларами от 1868 года и к созданному этим прецеденту.
— Вы как угодно можете относиться к соглашению 1868 года, — говорит он. — И я могу как угодно относиться к соглашению 1868 года…
— А лично вы как относитесь к соглашению 1868 года? — прерываю я Джейсона.
— Это была трагедия.
Несколько мгновений стоит тишина. Все мы согласны с этой истиной. Я все жду, что Джейсон и полковник наконец посмотрят на часы.
Полковник повторяет, что они твердо держатся каждой буквы закона.
— Я вовсе не считаю, что вы, ребята, как-то нарушаете закон, — говорю я. — Я считаю, что законы и так нарушены.
В тот момент, когда я это произношу, мои слова звучат заносчиво и самоуверенно, как будто я стибрила фразу из документальной хроники об активистах шестидесятых. Но когда Питер восклицает: «Да!» — я вспыхиваю от гордости. Я довольна, что сумела впечатлить его, этого активиста-радикала. А еще я сознаю, что изображаю и копирую свою мать, которая хотела быть достойной его пятьдесят лет назад.
* * *
В общей сложности наша встреча с полковником и Джейсоном продлилась без малого полтора часа в этой стеклянной комнате для совещаний, на «их земле». Причем большую часть этого времени я дивилась тому, почему нам до сих пор не указали на дверь. Или это такой пиар-ход? Или так принято в Портленде? У них что, нет другой работы?
Прежде чем наконец уйти, Питер призывает обоих мужчин поглубже заглянуть себе в душу и поразмыслить о том, что они на самом деле считают для себя правильным. Может, в этом есть что-то пошловатое, однако мой внутренний голос произносит: «Аминь!»
Уже выходя из офиса, я слышу, как мама приглашает Джейсона прийти вечером на мои чтения. Мать всегда остается матерью — даже в стенах Инженерного корпуса армии США.
К тому времени, как мы доходим до парковки, я уже начинаю фантазировать, что наш недавний разговор может перенаправить всю карьеру Джейсона, а когда мы садимся в машину, мама признаётся, что ее сейчас посетило точно такое же видение: спустя пять лет он будет оглядываться на сегодняшний день как на ту временную точку, что полностью изменила его жизнь. И мое, и мамино эго слеплены из одного теста.
И опять я хочу найти между нами какие-то грани, пытаюсь уверить себя, что они непременно существуют. Все же есть некое амниотическое удовольствие в том, как трудно бывает эти разделяющие грани найти! Когда вместо них чувствуешь эту чудесную симметрию, это единение духа. В точности как сказал недавно Питер: «Мы были предельно близки, но никогда не сливались воедино». Иногда я бы и рада с нею слиться и заявить — пусть абсурдно, с лихорадочным упрямством: «Я — это моя мама. А она — это я».
Джейсон с полковником, должно быть, решили, что мы одна семья: двое высоких бывших хиппи, разменявших седьмой десяток, и их не менее высокая дочь. И сегодня странным образом так оно и получилось — как воплощение альтернативной реальности, как та невыбранная дорога, где у Питера и мамы появилась бы дочь, которую они тридцать лет спустя взяли бы с собой, продолжая протестовать против мира.
* * *
Всякий раз, как я нахожу какие-либо различия между мной и мамой, я чаще всего расцениваю это как некое бинарное самонаказание. Она изучала недоедающих детей — у меня расстройство пищевого поведения. Она со стоической решимостью разрушила брак — мой бывший парень как-то сказал, что я просто живу душевными ранами. И в то время как я всецело поглощена собственной болью, она поглощена страданиями других. Или, может быть, вообще не поглощена никакими страданиями, а лишь стратегиями существования и выживания.
Долгие годы (хотя я никогда открыто не говорила этого самой себе) я подозревала, что для меня существовало лишь два возможных варианта: либо полностью отождествить себя с матерью, либо не оправдать ее надежд.
Когда я читала «Распутье», то обнаружила, что я либо тоже проецируюсь на ее героиню, либо постыдно нахожу между нами зияющие различия: ее твердость — моя ранимость; ее экстравертность, направленность вовне, — моя забота о собственных интересах. У нее не сложилось в любви, потому что она хотела отправиться по заданию своего Корпуса мира. У меня не сложился последний роман, потому что мне хотелось почаще обмениваться сообщениями. И мне куда больше близок этот «извивающийся угорь боли» Питера, нежели ее «твердая складочка в уголке рта».
А еще, кстати сказать, правда в том, что именно я разрывала почти все отношения с мужчинами, что у меня были, и часто, хотя и не всегда, это происходило, потому что я испытывала определенную клаустрофобию, которая не столько говорит о проблемах в моем прошлом, сколько предполагает, что я разделяю с мамой ее приверженность к границам и расстояниям сильнее, чем сама готова это признать. И что ее жажда независимости не так уж мне чужда.
Когда я сказала Питеру, что в этом очерке речь пойдет о развитии его отношений с моей матерью, это была чистая правда. Но это оказалась не вся правда. Потому что этот очерк — еще и о развитии моих отношений с матерью. О том, как я отчасти стремилась очеловечить ее мифический образ — и как я обнаружила в созданном Питером ее портрете другой, исполненный поклонения взгляд. И в то же время разрушающее это поклонение признание ее реальной, из плоти и крови, сущности.
Я не хотела, чтобы роман Питера разрушал те легенды, что я себе рассказывала обо мне самой и о своей матери, но оно так получилось. Это позволило мне увидеть, что на самом деле и я, и она всегда были куда более сложными, нежели элементы бинарной системы, что я выстроила для нас, в которой мы были с ней либо идентичны, либо противоположны. Мы очень привыкаем к тому, что рассказываем другим о самих себе. Вот почему временами нам просто необходимо увидеть самих себя в чужих рассказах.
* * *
В тот вечер в Портленде, на втором этаже кампуса Рид-колледжа, где мама с Питером когда-то первокурсниками слушали лекцию о человеческом духе, я прочитала свой очерк о массовом женском марше, последовавшем после инаугурации Трампа. Это был очерк о движении протеста и о том, почему это по-прежнему актуально, — тем более что новый президент угрожал всем до последней ценностям, за которые и мама, и Питер неустанно боролись пять минувших десятилетий.
Юрист Джейсон так и не пришел на мои чтения, однако мама с Питером сидели рядом на стульях в первом ряду — так же, как сидели здесь, на тех же самых стульях, много лет назад. Мною владело такое чувство, будто я обращаюсь к тем молодым людям, которыми они когда-то были, когда выходили с протестами к зданию администрации, и когда та тетка сказала маме, что надеется: ее дети потом ее возненавидят, и потом, когда спустя несколько лет Питер навестил маму в Пало-Альто, а она испугалась того, что его разочаровала.
Это выступление для меня явилось возможностью сказать своей матери: «Ты никогда и никого не разочаровывала». Как и возможностью сказать ей: «Твои дети выросли в любви к тебе». Я как будто пыталась перенести свое восхищение ею назад во времени, чтобы поддержать и ободрить ту женщину, которой была тогда моя мама, ту женщину, которая чувствовала, что подвела мужчину, для которого она была первой любовью, ту женщину, которая не знала и не могла знать, какая дорога откроется ей впереди.
Иногда молчание — знак заботы
Кристина Гептинг
Сейчас ведь как. Если пишут о детстве, будь то нон-фикшн или «художка», почти всегда оказывается, что это темное, бесправное время, ломающее человека. Воспоминания о нем не дают покоя всю оставшуюся жизнь — преследуют триггеры. По книжкам, журнальным статьям и блогам медленно тянется эта густая, пахучая, зелено-коричневая краска, которой пишутся тексты о детстве. Масляно поблескивает колючее слово «травма». Детство — одна сплошная травма.
Конечно, в этом больше правды, чем в советской лакировке про чудесную, светлую, сахарную пору. И конечно, я понимаю, что детство — поистине тот период в жизни, который многое определяет в характере и судьбе.
Тем не менее я не могу, да и не хочу смотреть на наши с мамой отношения с позиции ребенка. Прежде всего потому, что я сама — мама. Мама не идеальная — уставшая, работающая, одним словом, выгоревшая. Как и у моей матери, у меня вечно не хватает энергии. Вместе с тем ее вполне хватает на то, чтобы наблюдать через соцсети, как другие — хорошие, активные, полностью вовлеченные в родительство — мамы путешествуют с детьми на озеро Рица и приморские сопки, в Париж и Сортавалу, в Таиланд и на Волгу… Да просто на загородные экопикники или велосипедные заезды. Как они всецело развивают детей, способствуют их высокой самооценке и жизнерадостности.
Мы же гуляем максимум в ближайшем сквере или валяемся на диване (хорошо, если с книжкой). Пока дочки не жалуются. Я знаю, что для них, дошкольниц, я пока еще центр Вселенной. Признаться, меня тяготит та власть, которую я над ними имею.
И я знаю, что, когда вырастут, мои дети возьмут зелено-коричневую краску. Однако я смею надеяться, что мои дочери все-таки будут ко мне снисходительны. Может быть, мне зачтется, что свою маму я стараюсь не судить.
* * *
Когда я стала взрослой, мы с ней фактически перестали разговаривать. Нет, мы не в ссоре. У нас хорошие отношения. Но если меня спросить, о чем мы говорим, кроме быта, я отвечу: ни о чем. Тяготит ли меня это? Нет. Потому что я не вижу в этом ни своей, ни маминой вины. Значит, и груза обиды нет.
Просто так сложилось.
* * *
Любимое мое детское занятие — сидеть на подоконнике. Мама отчитывает меня за взбаламученные шторы.
— Что скажут люди?! — каждый раз говорит мама, поправляя эти чертовы занавески. — Подумают, что здесь какие-нибудь бомжи живут…
Мысленно недоумеваю: «Даже если и подумают, то что?» Но я молчу — все-таки маме виднее. В детстве я была уверена, как и все дети, что мама не может быть неправа.
Сейчас я, понятно, так не думаю. Более того, я знаю: насчет занавесок (и общественного мнения) мама неправа. И иногда хочется ей об этом сказать. Но я молчу.
* * *
Когда я была беременна, я хотела, чтобы на роды со мной пошла мама. Но я даже не успела ей это предложить. Стоило лишь заикнуться о том, что такая практика, как совместные роды, существует, она отрезала:
— Когда я рожала, мне не хотелось никого видеть. Лучше одной.
— А если мне понадобится какая-нибудь помощь, поддержка там, я не знаю?..
— Лучше всё самой.
Потом я подумала, что в чем-то она и права: наверное, ей бы тяжело было смотреть на мои страдания. Да и вряд ли способен поддержать человек, который не считает, что сам в этой ситуации принял бы помощь.
Очень, очень хорошо, что она не пошла со мной рожать. Ведь тогда, в состоянии аффекта, я бы, может, и рассказала ей часть правды. Мой крестец поврежден, и голова ребенка чудом миновала серпантинный изгиб. Эту травму нанес мне мой на тот момент муж.
Я была так раздавлена этой новостью, что могла бы прямо тогда всё ей и выложить. А потом, наверное, пожалела бы об этом.
Или нет?
Но и на эту тему я с ней никогда не заводила разговор. Слава богу, сейчас, когда мой брак в прошлом, в этом просто нет смысла.
* * *
Окончательно уяснив в браке, что я, оказывается, из тех женщин, на которых можно упражняться в мелочном садизме, которых можно лишить самоуважения, сексуальной неприкосновенности, личного пространства, экономической самостоятельности, я не поделилась с мамой тем, что о себе узнала.
Я думала: «Какой смысл рассказывать, какая я вся из себя жертва, а он — абьюзер? Зачем все эти исповеди с самобичеванием или, наоборот, бесконечными обвинениями другой стороны. Какой, наконец, толк во всем этом разоблачении глянцевитых семейных картинок?» Ведь я заранее знала, какие у мамы контраргументы.
Во-первых, я же сама решила выйти замуж в восемнадцать лет. Впрочем, она (как и две мои старшие сестры — они разочаруются в своих браках несколько позже) и не отговаривала. Мне казалось, что исподволь она вздохнула с облегчением — все-таки растить троих детей было сложно.
Во-вторых, «если тебя что-то не устраивает — уходи». Вот бери прямо сейчас и иди. И позже, когда я уйду в первый раз, мама все-таки вяло меня поддержит. И поддержит, когда… я к нему вернусь. Худой мир лучше доброй ссоры — вот это вот всё.
Когда я все-таки уйду окончательно, я не скажу ей слов, которые, как я воображаю, услышат от меня мои дочери в своем подростковом возрасте:
— В восемнадцать надо делать всё что угодно — усиленно учиться или бросать учебу, пытаться поступить в какой-нибудь иностранный вуз или играть на гитаре в метро, писать философские стихи или собирать пазлы из полутора тысяч деталей, но ни в коем случае не выходить замуж.
Узнав о причинах развода, она всплеснет руками: «Ты же не говорила, что он тебя бил».
Конечно, не говорила. Я не видела причин об этом рассказывать. Ведь семью, счастливую или на крайний случай «как у всех», моя мама считала верхом самореализации для женщины. А если ничего с этим не вышло, значит, я сама виновата: выбрала не того мужчину, не смогла «себя поставить», не создала должной атмосферы и бог знает что еще. О чем тут беседовать-то вообще?..
* * *
Всё, что меня тревожит, печалит и раздражает в собственных детях, есть и во мне. Я пришла к такому выводу: все, что в них хорошее, — это их, все, что плохое, — мое.
В детстве и юности мама говорила мне, что я недостаточно коммуникабельна, не умею общаться с людьми. Я реагировала на это почти истерикой, потому что отлично осознавала, что мама ошибается. Просто я и в детстве не видела смысла налаживать коммуникацию с теми, кто мне не интересен, и только. Но как убедить ее в этом? Бесполезно и пытаться.
К счастью, когда я стала взрослым человеком и обросла массой знакомств с умными, интеллигентными, профессиональными людьми, она, видимо, внутренне признала, что была неправа.
Но только внутренне. Потому что вслух мы и этой темы не касаемся.
* * *
Так вот, к слову об общительности. Не припомню, чтобы у моей мамы были подруги. Разве что в юности — по крайней мере, я этого времени не застала. Как-то я спросила почему. Не помню уж, что она мне ответила; наверное, как-то увернулась от четкой формулировки.
Гораздо позже, будто отвечая на тот мой вопрос об отсутствии подруг (на самом деле, конечно, совершенно независимо от этого), она расскажет какую-то нелепую историю. У одной ее замужней знакомой была подруга, которая стала практически членом семьи. Со слов мамы, эта самая подруга прямо-таки вросла в ту семью. Они даже ходили втроем в баню: мамина знакомая, ее муж и подруга. В итоге этот самый супруг к близкой подруге своей жены и ушел.
То, что мама истолковала эту ситуацию именно так, без сомнения, говорит о внутренней мизогинии — конечно, не вполне сознаваемой. О неумении доверять людям и сближаться с ними — особенно с женщинами. Словно где-то в уме держится мысль: уведет, навредит, подставит… Ядовитый полумиф о сложностях работы в женском коллективе (а она много лет проработала в школе) эту мысль только подпитывал.
Я никогда не была согласна с установкой «Не скажи подружке, а скажи подушке». Общению с мужчинами в большинстве случаев предпочту коммуникацию с женщинами. При этом, как и у мамы, по-настоящему близких подруг у меня нет: таких, которые были бы в курсе всего происходящего в моей жизни, у которых я могла бы в любую минуту попросить помощи, с которыми могла бы на пару часов оставить дочек.
Ну нет. По крайней мере, сейчас, когда все подруги, бывшие некогда лучшими, разъехались. Может быть, кстати, и мама потеряла подруг именно так? Не знаю.
Тем не менее смешно, что моя мама, не имеющая хоть сколько-нибудь доверительных отношений с другими, говорила мне на протяжении многих лет: «Ты не умеешь общаться».
Этот парадокс мы с ней никогда не обсуждали.
* * *
Удивительно: как смерть примиряет нас с жизнью, хотя, конечно, не должна.
Объективно говоря, мы с сестрами мало хорошего видели от папы. Разумеется, мама — еще меньше. Помню, в детстве, желая полушутливо укорить нас в чем-то, она говорила: «Папа номер два», и это означало, что мы проявили неаккуратность, необязательность или несдержанность… Короче, какое-то «не». Но, как это часто бывает, после неожиданной смерти отца вокруг него образовался внутрисемейный миф. Сотворенный, конечно, руками мамы. Типа все было хорошо — ну окей, почти хорошо. И вообще-то непонятно, как нам жить дальше.
С тем, как все было в реальности, этот постулат мало согласуется. Но конвенция жанра мифа не позволяет хоть сколько-нибудь подвинуть эту глыбу убежденности.
И об этом мы с мамой также молчим.
* * *
Вообще-то я ненавижу все эти «заговоры молчания». Я свято убеждена в том, что именно молчание порождает зло. Я пишу книги на неудобные темы, на темы, которые не так часто затрагивают, — и я сейчас не только о литературе. И основное, к чему я призываю, — говорить. Говорить, даже если тяжело.
Так почему же обо всем, что я рассказала в этом эссе, я предпочитаю с мамой не разговаривать? Потому что этот опыт, опыт дочери, перестал для меня быть травматичным. Хотя, несомненно, таковым был.
Больше скажу. Если бы по-прежнему меня беспокоило все, о чем я с мамой молчу, вот тогда-то об этом и стоило бы поговорить. Но я отлично понимаю свою маму.
В детско-родительских отношениях гораздо больше социального, культурного, политического, чем мы привыкли думать. В конечном счете любая частная история не такая уж частная.
Моя мать для своего времени была абсолютно нормальной. Дома должен быть порядок, нельзя говорить плохо об отце, женщине нужно прежде всего стремиться создать и сохранить семью… Где-то читала, что наши мамы подчинялись архетипу «мама-воспитательница», а мы перешли к архетипу «мама-психолог».
И мы, нынешние мамы, тоже нормальные для своего времени. Мы пытаемся предотвращать истерики, а не ждем, когда проорется, стараемся не обесценивать детские переживания, все проговариваем, кормим грудью минимум до двух лет и совместно с ребенком спим… Что там еще?
Только через двадцать лет нам все равно от детей «прилетит». Что, конечно, не значит, что стараться не надо.
И я надеюсь, мой ребенок мне не скажет: «Слушай, я помню, как мне было пять лет, а ты развелась с папой, и вдруг мы оказались в чужой квартире, а ты много работала и не обращала внимания на мои переживания». Я буду растерянно лепетать что-то типа: «Как же так? Я обращала… Я пыталась…» — но толку?
Пусть лучше о чем-то мои дочки промолчат. Ну или, по крайней мере, сообщат неприятную правду бережно.
Я надеюсь, что если моя мама прочитает этот текст, то она не расценит его как обвинение. Потому что это и не оно вовсе. Ведь пока я еще могу сказать маме, что у меня «все нормально» — даже если это не так, — я буду считать саму эту возможность существеннее эмоций, выше обид и важнее детских травм.
Благодарности
Спасибо всем авторам, представленным в этой книге, за то, что они поделились такими личными и душевными историями из своей жизни. Антология — это совместный проект, и я также не смогла бы создать эту книгу без руководства моего грамотного редактора Карин Маркус и замечательного агента Мелиссы Флэшман. Спасибо Тейлор Ларсен за то, что она «заперла меня» в столовой ее родителей, чтобы я наконец смогла закончить эссе, положившее начало этой книге, а Лорен Лебланк — за комментарии и правки к нему. Спасибо Сари Боттон за веру в меня и публикацию моего эссе в Longreads. Спасибо всей команде Simon & Schuster, включая Молли Грегори, Кейли Хоффман, Мадлен Шмитц, Элиз Ринго и Макса Мельцера.
Я упустила бы нечто важное, если бы не поблагодарила всех, кто помог мне написать мое эссе или поддержал меня на этом пути. Спасибо Келли Макмастерс, Марго Кан, Тобиасу Кэрроллу, Джо Энн Берд и команде Джо Энн Берд на летнем семинаре Tin House, Дженнифер Пастилофф, Лидии Юкнавич, Кэролайн Ливитт, Порочисте Хакпур, Тому Холбруку, Джулии Фиерро, Джули Бантен, Брайану Чейту и Бетанн Патрик.
Спасибо другим составителям сборников за их советы: Дженнифер Бейкер, Брайану Греско, Сари Боттон и Лилли Дэнсиджер.
Спасибо моей семье, включая моих братьев и сестер: Дженнифер, Колина и Эмму. Спасибо Майклу Филгейту и Нэнси. Спасибо Лизе.
Эта книга посвящена моим бабушкам. Нана и Мимо — самые сильные женщины, которых я знаю.
Спасибо Мелиссе Вакс за ее вдумчивое руководство на протяжении всего процесса работы над этой книгой.
И последнее, но не менее важное: спасибо Шону Фицрою за то, что он заставил меня смеяться и был таким замечательным.
Я люблю вас всех.
Об авторах
Андре Асиман — профессор сравнительного литературоведения в аспирантуре CUNY. Автор научно-популярных книг «Из Египта: мемуары», «Ложные документы: очерки об изгнании и памяти», «Алибис: очерки о других», а также четырех романов: «Зови меня своим именем», «Восемь белых ночей», «Гарвард-сквер» и «Варианты загадки». В настоящее время он работает над романом и сборником очерков. Его роман «Зови меня своим именем» был экранизирован и получил «Оскара» за лучший адаптированный сценарий в 2018 году.
Джулианна Бэгготт — автор более двадцати романов, опубликованных под ее собственным именем и псевдонимами. Ее недавние романы «Чистота» (лауреат премии ALA Alex) и «Седьмая книга чудес Гарриет Вольф» стали книгами года по версии газеты New York Times. Джулианна написала четыре сборника стихов, ее сочинения публиковались в газетах Washington Post, Boston Globe, New York Times в рубрике «Современная любовь», а также звучали на радио в программах «Беседа о нации», «Все рассмотрено» и «Здесь и сейчас». Она преподает сценарное мастерство в Колледже кинематографических искусств Университета штата Флорида и в настоящее время живет в штате Делавэр.
Сари Боттон — писатель и редактор. Она проживает в Кингстоне, в Нью-Йорке. Сари — редактор эссе для Longreads, а также работала над удостоенной наград трилогией «Прощай все, что: писатели о любви и расставании с Нью-Йорком» и недавним бестселлером New York Times «Никогда не сможешь попрощаться: писатели о своей непоколебимой любви к Нью-Йорку». Она также оператор студии Kingston Writers’ Studio.
Александр Чи — автор ставших бестселлерами романов «Эдинбург» и «Королева ночи», а также сборника эссе «Как написать автобиографический роман». Он является лауреатом премии Whiting Award и стипендий от NEA и MCCA, а его эссе и рассказы опубликованы в журналах New York Times, The Yale Review, T и Tin House. Он преподает литературное мастерство в Дартмутском колледже.
Мелисса Фебос — автор мемуаров «Очень умная» и сборника эссе «Оставь меня», который стал лауреатом Lambda Literary Award, Publishing Triangle Award, Indie Next Pick и был назван лучшей книгой 2017 года. Мелисса — первый лауреат Jeanne Córdova Award за нехудожественную литературу для лесбиянок и квиров от Lambda Literary, а также лауреат Sarah Verdone Writing Award 2017 от Совета культуры Нижнего Манхэттена. Она была награждена стипендиями от MacDowell Colony, Bread Loaf Writers’ Conference, Центра творческих искусств Вирджинии, центра Vermont Studio, Мемориального фонда Барбары Деминг, Института BAU, а также фонда Рагдейла. Ее эссе недавно публиковались в Tin House, Granta, The Believer и New York Times. Мелисса живет в Бруклине.
Мишель Филгейт — писатель и редактор, ее работы публикуются во многих периодических изданиях, включая Longreads, Washington Post, Los Angeles Times, Boston Globe, The Paris Review Daily, Tin House, Gulf Coast, O, The Oprah Magazine, BuzzFeed, Refinery29 и других. В настоящее время она учится на магистра изящных искусств (MFA) в Нью-Йоркском университете, где получает стипендию от Stein. Она преподает творческую публицистику в Мастерской писателей Сакетт-стрит и работает над созданной ею серией литературных бесед о женщинах-писателях «Красные чернила». В 2016 году журнал Brooklyn Magazine назвал ее одной из «100 самых влиятельных людей в бруклинской культуре». Мишель — бывший член правления Национального кружка книжных критиков. Эта книга — ее первый сборник.
Кэти Ханауэр — писатель, автор трех бестселлеров New York Times — «Ушедшие», «Сладкие руины» и «Кости моей сестры», — а также двух сборников: «Стерва в доме» и «Стерва возвращается» — лучшей книги 2016 года по версии NPR. Она пишет критические статьи и эссе для New York Times, Elle, O, Oprah, Real Simple и многих других изданий, а также вместе со своим мужем, Дэниелом Джонсом, пишет колонку о современной любви в New York Times. Сайт автора: .
Лесли Джемисон — автор бестселлеров New York Times «Восстановление» и «Проверка состраданием», а также романа «Шкаф джина», который стал финалистом премии Los Angeles Times Book Prize Art Seidenbaum в номинации за лучший художественный дебют. Лесли — автор статей для журнала New York Times, ее работы появились в Harper’s Bazaar, Atlantic, Oxford American и Virginia Quarterly Review, где она также занимает пост главного редактора. Лесли руководит выпускной научной программой в Колумбийском университете и живет в Бруклине со своей семьей.
Дилан Лэндис — автор сборника связанных историй «Нормальные люди так не живут» и романа «Рейни Роял». Ее произведения входят в подборки лучших соискателей премии О. Генри и «Лучших американских авторов для обязательного чтения», а также публикуются в New York Times Book Review и Harper’s. Она получила стипендию в художественной литературе от Национального фонда искусств.
Киезе Лаймон — автор книги «Тяжесть: американские мемуары», «Как медленно убивать себя и других в Америке» и «Длинное подразделение». Он также имеет ученую степень и преподает английский язык и литературное мастерство в Университете штата Миссисипи.
Кармен Мария Мачадо — писатель-беллетрист, ее дебютный сборник рассказов «Ее тело и другие партии» стал финалистом Национальной книжной премии, премии Kirkus, премии Los Angeles Times в области искусства за лучшую беллетристику, премии World Fantasy, международной премии Дилана Томаса, премии PEN/Robert W. Bingham за дебютную беллетристику, также была лауреатом премии Bard Fiction, литературной премии Lambda за лесбийскую беллетристику, литературной премии Бруклинской публичной библиотеки, премии Ширли Джексон и Национальной премии Круга критиков имени Джона Леонарда. В 2018 году газета New York Times включила ее «Тело и другие партии» в состав «Нового авангарда», одной из «пятнадцати замечательных книг женщин, которые определяют, как мы читаем и пишем художественную литературу в XXI веке». Эссе, художественная литература и критика Кармен Марии Мачадо публикуется в New Yorker, New York Times, Granta, Harper’s Bazaar, Tin House, Virginia Quarterly Review, Timothy McSweeney’s Quarterly Concern, The Believer, Guernica, списках лучшей американской научной фантастики и фэнтези, а также лучших американских книг для непроизвольного чтения и др. Она преподает литературу в Университете штата Пенсильвании и живет в Филадельфии со своей женой.
Бернис Макфадден — автор девяти признанных критиками романов, в том числе «Сахар», «Любить Донована», «Нигде нет места», «Самый теплый декабрь», «Сбор воды» («Выбор редакции New York Times» и одна из 100 самых известных книг 2012 года), «Блистательный» и «Книга Харлана» (лауреат Американской книжной премии 2017 года и NAACP Image Award за выдающиеся литературные произведения и художественную литературу). Бернис является четырехкратным финалистом Hurston/Wright Legacy Award, а также обладателем трех наград от «Черного собрания» Американской библиотечной ассоциации (BCALA). «Песнь восхваления бабочек» — ее последний роман.
Найоми Мунавира — отмеченный наградами автор романов «Остров тысячи зеркал» и «Что лежит между нами». Издание Huffington Post отмечает: «Проза Мунавиры — интуитивная и неизгладимая, потрясающе красивая, напоминающая о великолепных трудах Луизы Эрдрих, Эми Тан и Алисы Уолкер, которые также находят способы рассказать правду через художественную литературу». New York Times Book Review назвал ее первый роман «раскаленным докрасна». Найоми хочет, чтобы вы знали, что эссе в этой книге — самое трудное из того, что она когда-либо написала.
Линн Стеджер Стронг является автором романа «Стой спокойно». Ее нехудожественные тексты публикуются в Guernica, Los Angeles Review of Books, Elle, Catapult и других изданиях. Она преподает литературное мастерство в Колумбийском университете, Университете Фэйрфилда и Институте Пратта.
Брэндон Тейлор — студент художественной мастерской в Айове. Его дебютный роман вышел в издательстве Riverhead Books.
Кристина Гептинг — филолог и журналист из Великого Новгорода — пишет в жанре Young Adult, в своих книгах поднимает злободневные, «сложные» темы. Победитель литературной премии «Лицей-2017» за повесть «Плюс жизнь». Вторая книга автора «Сестренка» опубликована в 2019 году.
Копирайты
Вступление и «О чем мы молчим с моей матерью» © Michele Filgate, 2019
«Страж и хранитель моей матери» © Cathi Hanauer, 2019
«Тесмофории» © Melissa Febos, 2019
«Ксанаду» © Alexander Chee, 2019
«Переулок Минетта-Лейн, 16» © Dylan Landis, 2019
«Пятнадцать» © Bernice L. McFadden, 2019
«Не осталось ничего недосказанного» © Julianna Baggott, 2019
«Все та же старая история о моей маме» © Lynn Steger Strong, 2019
«Как же все это по-американски» © Kiese Laymon, 2019
«На материнском языке» © Carmen Maria Machado, 2019
«Ты слушаешь?» © André Aciman, 2014
«Брат, не одолжишь ли мелочи?» © Sari Botton, 2019
«Ее плоть — моя плоть» © Nayomi Munaweera, 2019
«Все о моей матери» © Brandon Taylor, 2018
«И на холме настиг меня страх…» © Leslie Jamison, 2019
«Иногда молчание — знак заботы» © К. Гептинг, 2020
Следующие эссе были переизданы с согласия первоначальных издателей:
«О чем мы молчим с моей матерью» был прежде опубликован на Longreads 9 октября 2017 года.
«Всё о моей матери» был прежде опубликован на Lit Hub 1 августа 2018 года.
«Ты слушаешь?» был прежде опубликован в The New Yorker 17 марта 2014 года.
Примечания
1. Айна Гартен — американская писательница и ведущая кулинарной программы под названием «Босоногая графиня». Гартен не имеет кулинарного образования, но готовит с фантазией и пользуется большой популярностью. Прим. ред.
2. Teen Beat — журнал для подростков, выпускавшийся с 1967 по 2007 год. Прим. перев.
3. SUNY Purchase (State University of New York at Purchase) — один из тринадцати общеобразовательных колледжей Нью-Йорка с уклоном в гуманитарные науки. Прим. перев.
4. Мартас-Винъярд (Martha's Vineyard — Виноградник Марты) — остров недалеко от штата Массачусетс. Благодаря сохранившемуся здесь патриархальному укладу и нетронутой природе стал излюбленным местом отдыха нью-йоркцев и бостонцев. Прим. перев.
5. Корнелльский университет (от английской фамилии Cornell) — один из известнейших и престижнейших учебных заведений США, входит в Лигу плюща. Прим. перев.
6. WASP (White Anglo-Saxon Protestant) — белые англосаксонские протестанты, то есть американцы британского происхождения, исповедующие протестантизм. Иногда букву W расшифровывают как wealthy — богатый. Прим. перев.
7. AOl (America Online) — некогда крупнейший в США интернет-провайдер. Прим. перев.
8. Grand Theft Auto (GTA) — серия компьютерных игр, в которых игрок должен почувствовать себя в роли преступника, выполняя такие задания, как заказные убийства, ограбление банков и пр. Игры серии GTA стали настолько популярными и прибыльными, что некоторых персонажей озвучивали звезды Голливуда. Прим. перев.
9. As Long As He Needs Me — сентиментальная песенка о неразделенной любви, исполненная персонажем по имени Нэнси в мюзикле 1960 года «Оливер!». Нэнси объясняется в любви к преступнику Биллу Сайксу, несмотря на его ужасное к ней отношение. Прим. перев.
10. Девушка с матрасом — студентка Колумбийского университета США Эмма Сулкович, которая, пережив насилие в кампусе, попыталась привлечь внимание общественности к проблеме, актуальной для многих студенток американских вузов. В 2014 году она начала ходить по территории университета с матрасом, добиваясь того, чтобы ее насильника исключили из учебного заведения. К этому флешмобу присоединились многие студентки колледжей США. Прим. перев.
11. «Охотник на оленей» — фильм 1978 года, вышедший на экраны спустя пять лет после вывода американских войск из Вьетнама и повествующий о судьбе трех молодых американцев русского происхождения, призванных на эту войну, о некоторых событиях до и после этого. Прим. перев.
12. Middlemarch — роман английской писательницы Джордж Элиот. Прим. перев.
13. Costco — популярная сеть магазинов, аналог российской сети Metro, где можно купить разные продукты, одежду и прочие товары значительно дешевле, чем в обычных, розничных магазинах. Прим. перев.
14. Глагол, образованный от появившегося в 2017 году хештега #MeToo, подчеркивающего осуждение сексуального насилия и домогательств. Получил распространение в результате скандала и обвинений в адрес кинопродюсера Харви Вайнштейна. Прим. перев.
15. Университет Брауна (Brown University) — седьмой из старейших национальных университетов и один из девяти колониальных колледжей. В 1804 году переименован в честь Николаса Брауна, одного из выпускников университета и члена семьи Браунов, которые играли большую роль в организации и администрации университета. Прим. перев.
16. Джуно (Juneau) — город в США, столица штата Аляска. Прим. перев.
17. As long as life is long / I’ll love him, right or wrong — строчка из песни Ширли Бэсси As Long As he Needs Me (2009 год). Прим. перев.
18. Зернышки граната являются символом брака. Прим. перев.
19. Прозерпина — римское имя греческой богини Персефоны. Прим. перев.
20. По-английски скульптура называется The Rape of Proserpina, где rape — изнасилование. Прим. перев.
21. Перевод В. Вересаева. Прим. перев.
22. Word processor — что-то вроде печатной машинки с экраном. Прим. перев.
23. Вебелос (Webelos) — часть движения бойскаутов для мальчиков 10 – 11 лет. WEBELOS — это аббревиатура от «Мы будем верными скаутами».
24. Xanadu — мюзикл на стыке фэнтези и мелодрамы. Прим. перев.
25. Шутливая песенка, которую поют в летних лагерях. «Грязнуля Лил живет на самой вершине холма из мусора. Никогда не моется и никогда не будет. Ох, грязнуля Лил!». Прим. перев.
26. Возможно, имеется в виду каламбур, основанный на игре слов: I scream for ice-cream — «я кричу, потому что хочу мороженого». Прим. перев.
27. Уотергейтский скандал (Watergate scandal) — политический скандал в США в 1972 – 1974 годах, закончившийся отставкой президента страны Ричарда Никсона. Его команду обвинили в установке прослушивающей аппаратуры в штабе другого кандидата в президенты незадолго до начала выборов. Прим. перев.
28. Секонал — один из сильнейших барбитуратов на черном рынке. Из-за характерного цвета известен под названиями «Красный дьявол», «Красные птички», «Румяна». Прим. перев.
29. Лоис Мейлу Джонс (Lois Mailou Jones) — первая всемирно известная темнокожая художница. Она открыла широкой публике Гарлем — средоточие «черной» американской культуры. Прим. перев.
30. Экспат — человек, живущий в стране, гражданином которой не является.
31. Французский квартал (Vieux Carré) — старейшая часть Нового Орлеана. Прим. перев.
32. Элис Уокер (Alice Walker) — афроамериканская писательница и общественная деятельница-феминистка. Прим. перев.
33. Ричард Райт (Richard Wright) — один из самых значительных афроамериканских писателей. Прим. перев.
34. Тони Моррисон (Toni Morrison) — американская писательница, редактор и профессор. Лауреат Нобелевской премии по литературе 1993 года, обладательница Президентской медали Свободы. Прим. перев.
35. Пьеса Полетты Уильямс, ставшей известной под псевдонимом Нтозаке Шанге (Нтозаке — «хозяйка своих владений» на языке кхоса, Шанге — «идущая с львами» на языке зулу). Премьера состоялась в 1976 году. Пьеса представляет собой музыкально-хореографический рассказ семи женщин о том, как они подвергались угнетению по расовому и половому признаку. Прим. перев.
36. Les Deux Magots — знаменитое кафе в VI округе Парижа. Играло важную роль в культурной жизни города. Среди знаменитых посетителей можно назвать Эльзу Триоле, Пабло Пикассо, Антуана де Сент-Экзюпери, Эрнеста Хемингуэя, Жана-Поля Сартра, Симону де Бовуар. Прим. перев.
37. Трахеостома — трубка для дыхания. Прим. перев.
38. Сквоттер (squatter) — человек, самовольно заселившийся в покинутое или незанятое здание и не имеющий разрешения на его использование. Прим. перев.
39. Если полицейский показывает значок серебряного цвета, то он офицер; если золотого, то это сотрудник с более высоким званием. Прим. перев.
40. Лес Бакстер (Les Baxter) — американский пианист, композитор и аранжировщик, пик популярности которого пришелся на 50-е и 60-е годы. Работал с популярнейшими свинговыми оркестрами своего времени. Прим. перев.
41. У. Шекспир, «Ромео и Джульетта», перевод А. Григорьева. Прим. перев.
42. Южная готика (Southern gothic) — литературный жанр, получивший развитие в США в первой половине XX века (в период так называемого южного ренессанса) и вобравший в себя многие элементы классической готической литературы (склонность к макабрическому, гротескному, иногда мистическому), но при этом неразрывно связанный с бытом и традициями американского Юга. Прим. перев.
43. От англ. WASP — акроним, некогда выражавший значение «стопроцентный американец» (то есть представитель более зажиточных слоев общества США). Прим. перев.
44. Медитация випассана — одна из самых древних индийских техник, предполагающая освобождение души и тела от грязных помыслов, от груза проблем, и замещение их гармонией и внутренним удовлетворением. Прим. ред.
45. Анонимные созависимые» — международное сообщество, объединяющее мужчин и женщин, общая цель которых — научиться строить здоровые взаимоотношения. Прим. ред.
46. Jefferson Airplane, Grateful Dead — культовые группы эпохи хиппи. Американские рок-группы из Сан-Франциско, основанные в 1965 году, считающиеся пионерами психоделического рока, эйсид-рока.
47. Шангри-Ла — литературная аллегория Шамбалы; вымышленная страна, описанная в 1933 году фантастом Джеймсом Хилтоном в романе «Потерянный горизонт».
МИФ Культура
Подписывайтесь на полезные книжные письма со скидками и подарками: mif.to/kultura-letter
Все книги по культуре на одной странице: mif.to/kultura
#mifbooks
Над книгой работали
Шеф-редактор Ольга Киселева
Ответственный редактор Анна Гришина
Арт-директор Мария Красовская
Литературный редактор Мария Торчинская
Верстка Людмила Гроздова
Дизайн обложки Михаил Волохов
Корректоры Наталья Мартыненко, Юлия Молокова
ООО «Манн, Иванов и Фербер»
mann-ivanov-ferber.ru
Электронная версия книги подготовлена компанией Webkniga.ru, 2020
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg


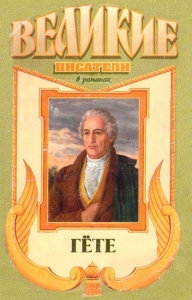
Комментарии к книге «О чем мы молчим с моей матерью», Мишель Филгейт
Всего 0 комментариев