Из сгоревшего портфеля (Воспоминания)
Герасимов Георгий Павлович
А. Герасимова. Предисловие
Мой отец Георгий Павлович Герасимов (14 февраля 1928 – 20 июня 2003) ничем выдающимся не прославился, несмотря на то, что обладал художественными талантами и человеческими достоинствами. Но несомненная заслуга его и большая удача – то, что в своем небольшом автобиографическом сочинении он сумел точно и честно зафиксировать живой кусок эпохи. На войну он не успел по возрасту, к ответственности не привлекался, ни за отчизну, ни за убеждения не пострадал. Постоянно твердит: «повезло», «я счастливый человек»... Ясное дело, повезло. Это можно сказать вообще о каждом, кто во всей этой многоступенчатой мясорубке остался жив, да еще и потомством обзавелся – если, конечно, принять жизнь человеческую за непреложную ценность; но тут наши бодрые борцы-безбожники вряд ли уступают своим верующим оппонентам. Не только сам уцелел, но и родители остались живы (точнее, умерли своей смертью – какое, если вдуматься, ужасное выражение, как смерть может быть «своей»?), причем никто не отсиживался, не прятался, наоборот – активничали и не скрывались. Воистину: «были ли репрессированы, и если нет, то почему?» Получается, едва ли не каждый из ныне живущих может рассказать невероятную историю о том, как выжили его родители или деды-прадеды. Вот и папе нашему повезло, хотя, по сути, он неудачник, как и все его поколение. Революция своих детей хотя бы пожирала, а этих преданных, искренних, горячих людей советская власть даже не съела – пожевала, помусолила и выплюнула догнивать на обочине. Он даже воспоминаний своих не окончил, и обрываются они (по крайней мере то, что сохранилось) на весьма показательном месте: в тот момент, как его забрали в армию. Дома папины писания считались скорее блажью, чем необходимостью, мы уговаривали его продолжать, но было ясно: сомневаясь (в том числе неоднократно на этих страницах) в их необходимости, он недалек от истины. Он даже ездил в дом творчества, как настоящий писатель, сидел там неделями за машинкой, я как-то навещала его там. Потом, синхронно с крахом перестройки (в 1998 году), бабахнул инсульт, и лежание на кровати перед телевизором превратилось из свободного выбора в единственную возможность.
Конечно, мои художества тоже не могли способствовать спокойствию и душевному здоровью. Не знаю, как сохранять спокойствие, когда любимая дочка, в которую столько вложено, круглая отличница, почти вундеркинд, вдруг бросается в объятия непонятных существ и веществ, наплевав на все человеческие ценности. Папа был достаточно широк, чтобы приветствовать перестройку в надежде, что его страна и народ наконец выберутся на верную, вымечтанную отцами и дедами дорогу, но отказывался понимать, при чем тут грязные клеша и сомнительные знакомства. Было дело, мы с ним полгода не разговаривали, – и думаю, он меня тоже до конца не простил, в основном за то, что я вынудила его на крайние меры. С горечью вспоминаю, что тогда (в 1986 году) я даже была как-то рада такому повороту событий: вот и у меня конфликт с родителями, всё как у людей.
Думаю даже, папу было бы легко склонить к лояльности по отношению к моим сомнительным друзьям и увлечениям, но он, как бывает во многих семьях, ринулся поддержать мамину строгость, переборщил и сам пострадал больше всех. На самом деле папа был совершенно прав, и я никак не могу перестать об этом думать, чем дальше, тем настойчивее. Стоило ли «нищее наше кочевье», как я называю его в тогдашнем стишке, таких жертв? Уж не знаю, понимал ли он, что моя фронда – во многом его наука. Тоже ведь какая-никакая революция, хоть и в других одеждах. А революция была привита прежде всего папиными рассказами, въелась, так сказать, с молоком отца. Не забуду, как он стучал на меня кулаком, огромным, не писательским своим кулачищем по хлипкому кухонному столику, когда я (лет в 12? 13?) заикнулась, что Солженицын предатель и «литературный власовец», как его клеймили в «Литгазете». «Павлик Морозов!» – бушевал папа, и даже мама не могла его унять, а я с того момента начала что-то своей девственной башкой соображать. Сталина, правда, они ругали хором – мама и папа. Оба в детстве и юности честно обманывались, у обоих было опубликовано по стишку «о великом и родном» в правоверной пионерской прессе, оба безоговорочно приняли 20-й съезд, ворчали в застойные годы, с восторгом приняли перестройку. На большее их не хватило, несмотря на то, что среди друзей водились и диссиденты, и подписанты, и будущие эмигранты.
Еще пару слов о папином актерстве. С ним вроде бы было покончено, но оно постоянно давало о себе знать, проникая в повседневную жизнь. Например, рассердившись на нас, папа мог крикнуть: «Вы меня до второго инфаркта доведете!» Ситуация была нешуточная, но становилось смешно – никакого первого инфаркта у папы никогда не было, а в тот момент он свято верил, что был. Видимо, именно это умение вживаться в роль провоцировало в принципе милосердную, но не терпевшую пафоса маму на то, что выводило папу из себя и заставляло меня вслед за ним кричать ей: «Не иронизируй!». Тут уже всем становилось смешно и неловко, ведь значение этого слова было мне, шестилетней, неведомо. Однажды папа пошел гулять с собакой и пропал на полдня, а когда вернулся, смущенно объяснил, что познакомился на улице с другим собачником и на вопрос того, чем он занимается, наврал, что «физик-теоретик». Следующие три часа он рассказывал новому знакомому о загадках и достижениях теоретической физики; дело было в середине 70-х, тема модная, современная, а папа очень много читал и все знал. В другой раз в классе пошло поветрие: грызть ногти. А у папы был отличный микроскоп. Он развел «культуру» каких-то особенно отвратительных бактерий, принес к нам в класс свой микроскоп, взял у всех детей пробу из-под ногтей, с понтом положил на стеклышко и показал всем желающим копошащихся мерзких тварей.
Иногда, особенно в раннем детстве, он разыгрывал для меня целые моноспектакли, очевидно, сам получая не меньшее удовольствие, – об этом я пишу и в примечаниях. А однажды напугал до полусмерти: уже вечером, перед сном, скорчил такую страшную рожу, что я с воплем бросилась спасаться – конечно, к нему самому, к кому же еще? Я эту рожу помню до сих пор – перекошенную, дрожащую, как желе, – и до сих пор боюсь. Он был несколько смущен произведенным эффектом.
Хорошо помню, как смотрела и пересматривала фотографии, где папа «в ролях». Меня завораживал сам факт того, что один человек, да еще хорошо знакомый, может так по-разному выглядеть: «и это ты? – (о «Перелеснике»), – НЕ ТЕТЯ? не может быть!» И, конечно, любовь к сцене, полное отсутствие страха перед ней, потребность «выступать», что-то для всех изображать, исполнять стихи и песни, – папина наука. Хвать вместо микрофона рожок для обуви, и вперед: я и Зыкина, и Магомаев, и Аркадий Райкин... Но тут, пожалуй, пора прерваться: остальное вы сами знаете.
Хочется выразить отдельную благодарность моим близким, без которых не было бы этой книги. Сквозь все пертурбации, через которые прошла наша бывшая квартира на Малой Грузинской и ее многочисленное содержимое, мой сын, внук автора Алексей Радов сохранил единственный экземпляр оригинала – черновую машинопись. Я ее отсканировала и одну из копий отвезла в Днепропетровск Виктору Борисовичу Герасимову, сыну папиной сестры Музы Павловны.
У меня всё руки не доходили, а он (вовсе не профессионал) взялся, «распознал» этот местами трудночитаемый текст вместе со всей рукописной правкой (а почерк у папы плохой, непонятный – у меня, правда, еще хуже) и прислал мне, тогда я уже волей-неволей осуществила финальную корректуру и составила примечания. Титульный лист, правда, утерян, и я рискнула выбрать название на свой вкус из упомянутых в тексте вариантов.
Авторский текст представлен практически неизменным, исправлены лишь очевидные ошибки и опечатки, в угловых скобках – немногие конъектуры на месте случайно ошибочных, плохо читающихся или пропущенных при перепечатке слов.
А. Герасимова
Вступление
Так мы жили. Такое было время...
(Из разговоров)
Давайте условимся сразу: специального предисловия не будет. Что, зачем и почему я пишу, станет ясно и без него. Однако кое о чем договориться с читателем следует. Посему – все-таки вступление или предуведомление.
Задумывалось и начиналось все это, пожалуй, уже лет тридцать назад человеком, по моим теперешним понятиям, еще молодым. Активно записывалось в конце пятидесятых – начале шестидесятых, когда возникла вера, что писания эти могут увидеть свет. Потом оказалось, что дело табак, что они – мартышкин труд. Мало сего, при том образе мыслей, который я никогда не умел скрывать, запечатленный на бумаге он мог составить еще больший криминал, нежели мнения, выболтанные с определенной степенью сдержанности публично или с меньшей – в частных разговорах. Как-никак, а эпоха сталинщины закончилась, и доносы, не подкрепленные собственноручными, полученными не под нажимом признаниями, уже не имели того веса. Короче – не следовало составлять компромат на самого себя. И все же возникшая уже привычка фиксировать нечто неизвестно для чего, в расчете, вероятно, на «будущие поколения», – образовалась. И нет-нет, <да и> продолжал я заполнять страницы амбарных книг, этаких здоровенных в картонных переплетах тетрадей, своими откровениями. И валялись они в ящике письменного стола на даче, строенной еще родителями в середине тридцатых. В подмосковном Крюкове на даче, которая уцелела в сорок первом и стала моим Болдино, Спасским-Лутовиновым, Мелеховым. Сие подтверждает и такое четверостишие тех лет:
Бывает болдинская осень,
Бывает в Крюково весна...
Пусть я у Музы недоносок,
Но все же матерь мне она.
В семьдесят шестом дачка из списанных трамвайных шпал, окруженная спутником Москвы – городом Зеленоградом, – сгорела. Вместе с ней и мой архив. Это был уже второй пропавший архив. О том, куда делся первый, расскажу в своем месте.
В последнее десятилетие, окончанием которого стал апрель восемьдесят пятого, я многократно возвращался к мысли-мечте об этой своей так и не написанной книге. И даже вновь делал заметки. Но все это было спорадически и несерьезно. Основательно сесть за работу подвигли меня три обстоятельства. Первое из них – требование одного моего друга, литературного критика, в течение нескольких вечеров терпеливо выслушивавшего мои россказни и даже предложившего название будущей книги: «Из сгоревшего портфеля», чтобы я немедленно записал все то, что поведал ему. Второе – наличие свободного времени. До своего шестидесятилетия, до пенсии я никогда не имел его, ибо почти всю жизнь вкалывал на двух работах: в театре и в газете, в редакции и дома. Днем официально, а утро, вечер, выходные, отпуска – над переводами с литовского. Так было тридцать последних лет. Дочка даже спрашивала: «А что такое отпуск? Это когда все пишут и пишут?». Так прожили и я, и моя жена свою жизнь. В четыре руки, в среднем по двенадцать часов в день. Из года в год. Теперь одна из составляющих отпала, а привычка-то сохранилась! Вот и осмеливаюсь сидеть за столом для души.
Третье: желание доверительно поговорить с тем, кто решится прочесть мой труд, который не собираюсь называть ни автобиографическим романом, ни мемуарами, ни модным ныне словечком – эссе, ни просто книгой. Пожалуй, ближе всего – исповедью, ибо она не только признание во грехах, но и заявление о своей вере, поток воспоминаний и сегодняшних впечатлений, где смешивается и давнее, и сиюминутное, мелочи быта, мечты, надежды, боли и радости, мнения человека, прожившего свои шестьдесят в нелегком нашем веке, записанные им самим в конце восьмидесятых годов, о вопросах глобальных и о «гвозде у меня в сапоге». Не претендую, что высказываю истину в последней инстанции, но готов отстаивать все, о чем говорю. По въевшейся годами привычке, рассматривая какой-нибудь предмет, какое-либо явление, частенько полемизируя сам с собой, пытаюсь выдавить из себя «внутреннего редактора», который всю сознательную литературную жизнь зажимал мне рот, стоило лишь подумать о написании такой исповеди. И, клянусь тебе, возможный читатель, что буду абсолютно правдивым, пусть это не всегда представит тебе мою особу с лучшей стороны. Говорят: скромность украшает. Не будем приукрашиваться! Все как есть! Достало бы сил не выставлять себя лучшим, чем был на самом деле.
И еще одно условие: не собираюсь цитировать никаких документов, опираюсь лишь на собственную память, на свою совесть. Поэтому заранее приношу свои извинения читателю, если обнаружит он ошибки в именах, датах, даже фактах – я запомнил это именно так, так мной было услышано, увидено, прочтено и осмыслено на протяжении почти полувека сознательной жизни. Все, о чем пишу, было и есть с нами, со мной. Во многих случаях употребляю измененные имена просто по той причине, что не помню подлинных или не желаю обидеть кого-то из тех, кто кажется мне достойным жалости. Скверная у меня память на имена. В общем, здесь выжимка из всего пережитого мной, и не только мной, ибо включаю я свидетельства, мнения и соображения других людей, с которыми согласен, – что не всегда оговариваю и как бы присваиваю их.
Верю, что кому-то сгодятся показания и мысли человека, бывшего современником и свидетелем, а иногда и участником всяческих событий, подвигов и преступлений, человека, принимавшего жизнь своих близких, своего народа, государства и мира близко к сердцу, считающего себя, пусть слишком самонадеянно и без особых оснований, наследником и последователем уникальнейшего явления в жизни человеческого духа – российской интеллигенции. Да поможет чему-то моя исповедь. Нет. Не чему-то, а избавлению моего народа (вишь, на что замахиваюсь!) от страха, лжи, заблуждений, неверия, скепсиса, от отвычки договаривать все до конца, безбоязненно выкладывать свою позицию. Ныне, когда пишу я это вступление, идет лето восемьдесят восьмого года, третьего года перестройки и гласности, эпоха ликования многих прежних молчунов и лгунов, дескать – разрешили! Вот какие мы смелые. Но произнесши «а», не торопимся сказать «б», «б» может выйти боком. Тешу себя надеждой, что на протяжении жизни не очень лукавил, часто во вред себе говорил, что думаю. Правда, давно перевожу рассказы литовского сатирика Витауте Жилинскайте, поднаторел в эзоповом языке, научился не только читать, но и писать между строк. Некоторые сегодняшние публицисты стремятся ныне выдавать свои соображения прямым текстом, честь им и хвала. Кое-кто из них и в застойные годы многое себе позволял. Преклоняюсь. Но вот точки над i и ныне еще не все ставят. Кричат о плюрализме мнений, к примеру, и тут же молятся на монолит решений партии. Правящей и единственной. Нонсенс! Реникса! У тебя с кем-то различные взгляды на довольно существенные вещи. Большинство приняло его точку зрения – такое уже неоднократно бывало в нашей истории – и вот ты, из-за иезуитски требуемой от тебя солидарности и партийной дисциплины, вынужден смиряться с неприемлемым для тебя порядком вещей, вынужден наступать на горло собственной песне и идти против своей совести, в надежде, мол, «история рассудит». История, как мы видим, рассуживает и осуждает и сталинщину, и волюнтаризм, и застой – а это семь десятков лет нашей несгибаемой генеральной линии. Хватит! Пора покончить со всеми этими играми! Надо думать и договаривать все до конца. Авторитаризм стал ругательным словом, но единственная в стране правящая партия, глядящая в рот своей верхушке и подкармливаемая из ее рук, единственная в стране политическая сила, сметающая и порой жестоко отбрасывающая со своего неверного, как позже выясняется, пути всех инакомыслящих, обязательно приводит к диктатуре личности, демагогически объявляющей себя гарантом диктатуры передового класса – т. е. к авторитаризму. Разве я не прав? Разве не лежит эта тривиальная истина на поверхности всех наблюдаемых нами событий и явлений, происходивших и происходящих в нашей стране, да и не только в ней? Доколе будем награждать высшими орденами СССР всяких Ким Ир Сенов, Чаушесок, душащих свои народы «коммунистов» сталинского разлива, застывших на его кровавых принципах в позиции прутковского рыцаря, что «всё в той же позицьи на камне сидит»? Доколе будем молчать о том, что известно всему миру, о всех тех беззакониях и мерзостях, преступлениях и жестокостях, которые вопиют к справедливости, чести и правде в наших перестроечных лозунгах? И ради чего? Ради сохранения того пресловутого «единства» международного коммунистического движения, что давно уже не существует? Ради вышвырнутых на свалку истории ложных теорий, ложных догм и принципов, не оправдавших себя, зачастую поддерживаемых людьми, лишь называющими себя коммунистами, переродившимися, изолгавшимися, превратившимися в китайских мандаринов, сановников и вельмож типа Жданова, Суслова, Романова и им подобных? Несть им числа, смрад от них по всему земному шару. Доколе?! Все эти «вожди», большие и маленькие, присосались к своим тепленьким местечкам, готовы на все, лишь бы удержаться на них. Готовы к провокациям, подлогам, доносам, убийствам, да, да – и к убийствам! Лишь бы продлить свое правление. Готовы сжить со свету каждого, кто осмелится не только противостать им, не только возразить, но даже слегка покритиковать. Правда ненавистна им. Они идут на союз с любой нечистью, с любой самой темной силой, с мафией, антисемитами, националистами, демагогически натравливая на интеллигенцию серых и бесталанных «писателей», некомпетентных директоров, бездарных и завистливых неудачников всех мастей и рангов. Любая «революция сверху», пусть и преисполненная самых благих намерений, когда верхи поняли, что так жить дальше нельзя, что впереди пропасть, что, повремени, и начнется подлинная и кровавая «революция снизу», – ничего изменить не может. Власть вынуждена оставлять привилегии тому клану, что все годы поддерживал ее, из недр которого она вышла. Таким образом коррумпированная привилегированная прослойка продолжает существовать и осуществлять власть не только на местах, но и в центре. Замена некоторых, вконец разложившихся бонз типа Романова или Гришина ничего не дает. Система сохраняется. И ничего из подобной перестройки-революции не выйдет. Ежу понятно. Простите меня, но о добровольной передаче, самоликвидации любой власти (исключая выкрутасы, которые может разрешить себе гнилая буржуазная демократия, чему мы не раз были свидетелями) во всей истории человечества мы что-то не слыхивали. Поэтому возможность смены системы дает обществу лишь законная альтернативная сила, партия, находящаяся в оппозиции к правящей. В социалистическом государстве она, сохраняя, как вдалбливали нам на политзанятиях долгие годы, основополагающий принцип общественного владения средствами производства и препятствуя эксплуатации человека человеком, дает каждому отдельному труженику право получать по труду, присваивать определенную часть прибавочной стоимости, что безусловно стимулирует производительность любого труда на пользу всему обществу. Мы же как черт ладана боимся самого термина: «частная собственность». Такая альтернативная партия, основывая свою власть на действительном волеизъявлении народа, может бескровно взять впасть. Если хотим мы выжить как народ и государство – мы обязательно придем к этому. Никакой «плюрализм» в одной, монопольно правящей партии ничего обществу не даст. Демократический централизм – счастливая выдумка недобросовестных властолюбцев, всегда размахивающих от имени народа жупелом опасности, грозящей этому народу от внутренних и внешних врагов, – сможет задавить любую попытку «плюралистических» слабаков, гнилых интеллигентов, поверивших в гласность. При наличии же альтернативной партии, где, боюсь, тоже будет немало демагогов и лезущих к власти деятелей, ни один представитель правящей, ни один бездельник, проворовавшийся подлец, подхалим и бездарь, или даже ловкий демагог, клянущийся Марксом, Лениным, Горбачевым или еще кем угодно, но заваливший порученное дело, в своем руководящем кресле не усидит. А ежели полезет туда некомпетентный человек из оппозиции, то и ему народ долго властвовать не даст, не будет еще у такой особы крепких корней и связей, приобретаемых долгим нахождением в номенклатуре. Выгонят его. Выметут. И сменит его не очередной деятель, а представитель иной команды... Несчастная Италия – сорок правительств за сорок лет. А разве сравнишь уровень народной жизни? Или та же буржуазная Франция, или Швеция? Э, да о чем говорить! Народ должен иметь право выбора. И не как Адам – единственной Евы... И не под нажимом властей предержащих, что пока повсеместно происходит в соцстранах, где в конституции содержится статья о направляющей и руководящей роли единственной партии. Народ должен заставить шевелиться политиков, юристов, экономистов, – представляющих разные точки зрения. Тогда он сможет стать владыкой своего бытия не на бумаге, а на деле. Почему капитализм, сохраняя и охраняя основополагающие ценности частнособственнического присвоения прибавочной стоимости, может разрешить себе такое, может допустить «игру в демократию», а нам, на социалистических принципах, слабо? Повторяю – добровольно власти никто не отдает. Никто. Никогда. Речь и об отдельной личности, и о системе. И если мы поняли это и не собираемся раздувать новую гражданскую войну, то лишь осознание права личности и народа путем свободного волеизъявления, через свободные выборы своих представителей изменить порочную систему – единственный выход из болота, в котором Россия барахтается семь десятилетий.
Смотрите, какой я, оказывается, пророк – вступление это писано в начале восемьдесят восьмого, до победы Солидарности, до «бархатной революции» в Чехословакии, до свержения Хонеккера, Живкова, до, может быть, несколько поспешной казни Чаушеску... Нет, я не кровожаден, но... Собаке – собачья смерть! Идет январь 1990 года. Сегодня обо всех этих «бывших» наши говорят: «тиран, вор, палач, убийца». Народ казнил Чаушеску, предает суду Хонеккера и Живкова, с треском выгнал Якиша и вернул к государственной деятельности Дубчека, а президентом сделал недавно лишь отбывавшего тюремный срок Вацлава Гавела – честнейшего и талантливого человека, писателя и правозащитника, два десятилетия шельмовавшегося не только чехословацкой мафией, но и нашими убежденными защитниками социалистических ценностей. А ведь так еще недавно – два месяца назад, прекрасно, куда лучше нас, зная цену всем этим бандитам, наши сегодняшние вожди перестройки (по моему глубокому убеждению, недалеко от них ушедшие, а то и тон им задававшие) целовались с ними, братались... Ну не безнравственность ли? И хотят, чтобы мы им верили... Когда осенью восемьдесят <второго> в одночасье прекратилась деятельность нашего Генерального, лишь пару дней назад выступавшего с «основополагающим» докладом в годовщину революции, когда наша пресса и политорганы уже подняли визг о необходимости всем народом «изучать» ценнейшие указания дряхлого маразматика, – мы с одним нашим редакционным деятелем, отставным полковником, вышли с траурного митинга, и он тут же понес Брежнева, – я не утерпел и спросил: «Как же ты еще вчера ратовал за то, что необходимо изучать доклад этого корифея марксизма?» И он не смущаясь ответил – «То было вчера...»
Жутко, когда такой уровень порядочности сохраняется и у наших нынешних «корифеев». О Ким Ир Сене – молчим, о выживающем из ума диктаторе Кастро – глухо поварчиваем, но всеми силами поддерживаем его режим. Да и не успеваем поздравлять тех «коммунистов», что на волне народного гнева на какие-то дни приходят к власти, как это случилось в ГДР или Чехословакии, а через пару дней летят вверх тормашками прочь! Продолжаем играть в давно дискредитированную игру: лишь бы провозглашал себя вождь сторонником марксизма – и уже хорош. А вот гадкий убийца Пиночет не переизбран, и мы ликуем. Хотя кровавый чилийский диктатор собирается уступить свою власть демократически избранному президенту без особых условий, согласно закону... Или воем по поводу того, что американцы вторглись в Панаму и арестовали диктатора и торговца наркотиками Норьегу – ах, ах, нарушили суверенность государства! А этот Норьега не передал власти законно избранному президенту, аннулировал результаты выборов. Разве не так? Китайский Ли Пен беспрепятственно душит демократическую оппозицию, а мы молчим и шлем дружеские поздравления... Когда же в среде наших политиков возобладают моральные принципы? Или я слишком требователен? Забываю, что политика – грязное дело? Или слишком прекраснодушен? Пока не отправим «на пенсию» всю нашу прогнившую верхушку, всё в стране будет замарано ложью. И никогда не поверю, что Чаушеску или Живков смогли отправить в швейцарские банки сотни миллионов награбленных у народа долларов, а наши – чисты, как ангелы небесные. У них ведь куда больше возможностей было: и времени – семь десятков лет, и страна – не чета нищей Румынии или маленькой Болгарии... Восточноевропейские мандарины из наших рук смотрели, нам подражали... Пока не избавимся – все останется по-прежнему. Самое время помянуть слова великого пролетарского гимна: «...до основанья, а затем...» Только применительно не к исконным врагам тружеников – царям и буржуям, – а к своим кровососам. Ко всем этим Лигачевым, Гришиным, Романовым, Медуновым, Алиевым и прочей мерзости, как ушедшей в тень, так и до се выставляющей свои «принципы» в качестве примера для народной жизни. А мы даже брежневской семейки не можем тряхнуть, чтобы отобрать незаконно нажитое, а мы пойманных с поличным взяточников по суду обеляем – ах, несчастные, а то, что у них при аресте изъяты в доход государства миллионные ценности, так того наше правосудие видеть не желает, спросить, откуда сие, – не осмеливается... Еще бы – «правовое государство»! Не пойман – не вор. Разве сам взяточник признается, что брал? Позор! Все они повязаны одной веревочкой. Народа не обманешь. Как хочется верить, что удастся вывести на чистую воду всю эту камарилью. Сколько терпеть будем? Врага искать – жида, кооператора, мелочь аппаратную – бюрократа? Главный и основной враг народа – они, верхушка Политбюро, ГБ и армии, давно и накрепко усевшиеся на нашей шее. И все карабахские, все ферганские дела, если копнуть поглубже – дело их рук. Лишь бы отвести народу глаза, кинуть ему красную тряпицу, как разъяренному быку... Вот надеемся на Горбачева, верим ему, а почему он, при такой народной поддержке, при такой готовности масс – выжидает, не решается, боится кардинально дать по шее своим соратникам? Ведь и за рубежами у него столько адептов! Боится. Лигачева? ЦК? Может, у самого рыльце в пушку?
И как же больно, что отдирается от нас Литва – три десятка лет отдано ее литературе, в друзьях многие, земля ее мила. Но осудить не могу. Правы. Сколько же можно терпеть обман, глотать обиды и тешить себя обещаниями грядущего рая под рукоблудством КПСС? Даром, что ли, тысячи и тысячи честных людей возвращают партбилеты, просто рвут с партией и у нас, и за рубежом? Даром ли во всей Восточной Европе поставлен в повестку дня вопрос об объявлении компартии вне закона? Устрой сегодня референдум, спроси: как ты относишься к этой партии? Убежден – у нас в стране не собрала бы она и десяти процентов приверженцев. Вон в Польше – 5 всего. Официально...
Такое вот лирическое отступление... Боюсь, что множество подобных доведется встретить читателю этой исповеди. Дело в том, что пока писалась моя исповедь – шла жизнь, вторгалась в сюжеты, заставляла что-то переосмысливать... Думаю, все это закономерно.
В своей исповеди я сейчас крепко отвернул в сторону от того, о чем написано было мной уже много-много страниц, от (до какой-то степени) последовательного изложения событий собственной жизни и их осмысления на разных уровнях сознания. Эта исповедь – она же и покаяние. В грехах больших и малых. Надеюсь, что читатель и сам поймет это. Не буду вычеркивать своих гордых заявлений, дескать: «я есмь беспартийный большевик». Так было.
Впервые сии заметки прервала встреча Никиты Сергеевича Хрущева с деятелями литературы и искусства, дебош в Манеже, а вскоре и пресловутый «дворцовый переворот». Общественная жизнь возвращалась на круги своя. Началась эпоха Брежнева – как теперь именуют ее, «стагнации», попроще – застоя, а еще проще – гниения и разложения. От жизни стало совсем дурно пахнуть. Вонять. Покатились годы не кровавые, не героические, даже не кукурузные и целинные – годы тупого затаптывания ростков, выбившихся из-под земли в конце пятидесятых. Восторжествовали привычная для нас бездарность, конформизм, демагогия и просто, как теперь выясняется, бесстыдная уголовщина в самых верхних эшелонах власти, в кругах рангом пониже и до самых низов, до приписчиков, несунов и т. д. Говорю не только об окружающей жизни, но и о постепенной кончине, казалось, навсегда, своей задумки. Кому нужно? Молод еще был, едва на четвертый десяток повернуло. А тут пришло в жизнь новое, захватившее меня занятие – литературные переводы. Сначала стихов литовских, а там уж поднаторел, за прозу вместе с женой принялся. А главное – новая семья, вторая дочь. Не до крамольных записок. Сам считал их крамольными. Однако все последующие годы и мысленно, а нет-нет <да и> перышком по бумаге, возвращался к ним. Очень хотелось рассказать свое – ведь уже немало было видено, узнано, передумано.
Помню один разговор со своим главным редактором – я работал уже в журнале «Советская литература», просидел там тридцать два года, – завредакцией, литсотрудником, редактором отделов художественной литературы, искусства, критики, публицистики, секретариата. Обо всем этом ниже. Так вот, разговор с главным. Им тогда был в журнале прозаик Дмитрий Еремин. Конец пятьдесят шестого года. В ответ на мои радикальные высказывания по поводу венгерских событий, ратования за невмешательство, за свободу слова для литераторов и прочее, – <я> считал, что все мы – работники литературы – однозначно относимся к этому, – он заявил: «Дай нам свободу слова, и у нас начнутся подобные дела! Не кто иной, как писатели – закоперщики контрреволюции! Взбудоражили народ». Вот так. Добровольно желал быть рабом. Свобода слова ему, «писателю», как собаке пятая нога. А ведь вроде порядочный человек, да и XX съезд только в начале года прошел...
Господи, опять меня в сторону повело. Давайте считать, что вступление окончено, и затанцуем-ка от печки.
Легенды детства и моя родословная
Эта главка, вероятно, может быть интересна очень узкому кругу людей. Скорее всего, моим внукам и правнукам, которые, надеюсь, когда-нибудь появятся. Остальные читатели могут безболезненно пропустить ее. Хотя, как мне кажется, в ней корни многих последующих мыслей и дел моих.
Почему легенды? Потому что не совсем факты. Что-то случалось со мной, мною самим видено, пережито – считай, факты, а что-то именно так запомнилось, хотя полной уверенности в подлинности происшедшего нет. Что-то отложилось в памяти из позднейших рассказов родных и близких, а иное, может, и прифантазировано, не с тобой самим было, а с кем-то другим. Но вот заложилось, что вроде с тобой, и уже не отличишь – было, не было. Потому и легенды.
Отец автора, Павел Архипович Герасимов, в молодости
Самые первые впечатления, самые ранние, вероятно, таковы: высокий белый потолок, под ним матово-молочная полусфера абажура. Отец, это, конечно, он, носит меня на руках и, баюкая, напевает: «Сыдыть ко-озак на могы-иле, з витром роозмовляе: кажи, ви-итер, кажи, бу-уйний, де козачча доля?..» И мои вопросы: «А шо таке козак? А шо таке – на могыле?» Правда, вопросы уже позже, самое первое – грустный напев и понятно-непонятные слова. Сколько мне? Год, полтора? Родители с юга Украины. В доме наряду с русским полноправен украинский. Отец в начале века окончил Херсонскую учительскую семинарию. Он из большой крестьянской семьи, что жила в Нижних Серогозах – селе на левобережье Днепра, вернее, верстах в сорока от реки, на Крымском шляху, по которому «чумакы с Крыму силь возылы». Где-то неподалеку, в степи, известное на весь мир имение баронов Фальцфейнов – Аскания-Нова. Дед Архип Родионович – русский. Бабушка (а ведь я ее имени не знаю!) – украинка. Видеть мне их не довелось. Знаком только по рассказам. Ребенок я у своих родителей поздний. Ни с отцовской, ни с материнской стороны ни бабушек, ни дедушек не застал, задолго до моего появления на свет божий покинули они его. Мама – горожанка. Из Херсона, из уважаемой в городе еврейской семьи с не совсем обычной фамилией – Доктор (по семейной легенде, кто-то из далеких предков, еще в Германии, окончил университет. Отсюда и – «Доктор»).
На об.: "7. VII 1928 г. - без одной недели 5 месяцев"
Еще раз предупреждаю: несколько последующих страниц могут заинтересовать далеко не каждого читателя. Скорее всего – моих потомков: двух дочерей и внуков. Именно в расчете на их интерес я и пишу эту краткую родословную. Многого и сам не знаю или не помню, но о том, что держу в памяти, хочу сообщить им. Итак, рассказ о некоторых наших родичах. Если не я, то кто же сообщит им о них, поведает о том, что жили-были, оставили свой след на земле и ушли, как многие и многие миллионы других людей, особенных подвигов не свершивши,подлостей не творивши, добрые ко мне в моем детстве, самим существованием своим утверждавшие вечность на нашей земле человеческого рода. Потому и считаю нужным отметить здесь имена близких, кто наряду с отцом и матерью был мне воспитателем, чей пример учил по-доброму относиться к людям, их заботам, сочувствовать им в горе и радости. Без них, вероятно, не было бы и меня, такого, каким дожил я до своих шестидесяти.
На об.: "летом 29 г. Херсон"
Мало, ох как мало знаем мы, сегодняшние, о своих корнях. У простых людей испокон веку нет обычая составлять родословные и рисовать генеалогические древа. Чай, не дворянских кровей. Но век назад и в простых семьях было иначе – семьироды жили кучно. Внуки от дедов-бабок знали и про пращуров, основателей рода, передавались в семьях прадедовские заветы. А мы какие-то Иваны, не помнящие родства. Может, о дедах-бабушках знаем, да и то лишь те, кому довелось с ними жить. Ну, может, еще о дядьях-тетках родных. А уж о двоюродных-троюродных... Или о тех, кто прежде нас? Разбросало, раскидало людей по градам-весям, а то и по разным странам планеты стремительным бегом двадцатого века. Вы только задумайтесь: столетие назад все жители какой-нибудь деревеньки могли быть родственниками или свойственниками. Тут и на помощь ближнего можно было рассчитывать, и сам человек душевнее относился к однодеревенцам – играли вместе в детстве, глядишь, какая-нибудь тетка Лукерья, матери или бабке троюродная сестра, приласкает, сунет вкусный кусок, защитит... Дальше волости или уездного городка никто никуда носа не казал, разве что молодые парни, под рекрутчину угодившие, да еще мастеровые-хозяева, в отход по нужде отбывавшие. Но корней и они не теряли, не забывали дома родного. А теперь? Вот у меня два внука от двух дочерей. Двоюродные братья. А ведь в их крови весь евразийский континент. Смотрите сами: Алеша Радов, сын младшей дочери. Второй его дед, известный в свое время очеркист Георгий Радов, по <настоящей> отцовской фамилии – Велш. Рассказывали мне, что он сын то ли валлийца, то ли ирландца, попавшего в Россию после англо-бурской войны и осевшего здесь. То есть – с самого Запада Европы. Второй внук Володя Герасимов, сын старшей – Маши, со стороны отца – японец. С самого востока Азии. И оба они москвичи, русские. Вот и пишу для них. Пусть хоть что-нибудь про род свой помнят.
Юра в Херсоне с родственниками (на руках у тети Ани). На об.: "снимали 14/VII 1929 г. Юрику 1 г. 5 м. Дорошим нашим Танечке и Панечке от Саши, Ани и Анечки. Мамочка и папочка не забывайте сыночка Юрочку."
Отец рассказывал мне о прадеде Родионе, потомке уральского, яицкого казака Герасима. После поражения Пугачевского восстания упразднено было Яицкое казачье войско, как известно, «запятнавшее» себя участием в бунте. Кого-то казнили, рвали ноздри, ссылали на каторгу. Остальных, видимо, не поддержавших Пугачева, выслали в башкирские степи, под Уфу. Наш предок Герасим тоже попал туда. Его не лишили «прав состояния» – остался в казачьем сословии. Короче, сохранил свободу. Где-то в сороковые годы прошлого века его сына или внука Родиона Герасимова послали с Урала на Украину, где тогда шли «картофельные бунты». Уехал он туда с двумя младшими сыновьями Архипом (моим дедом) и Савелием. Двое старших остались в Башкирии. Семейные уже были. Еще в начале века, по словам отца, какие-то связи с уральскими дядьями сохранялись, подавали они весточки. Даже в тридцатые годы кто-то из троюродных появлялся в Москве. Но я их никого не помню. Мой прадед Родион назначен был уездным картофельным старостой. Мотался по селам, учил крестьян, как эту «чертову ягоду» сажать, как за ней ухаживать, как собирать и что «с той бульбы йисты». Подумать только: каких-нибудь полтора века назад не знали наши селяне картохи. Своего второго хлеба. Спасительницы в голодную годину. Что кормило народ в недороды, в войну? Она и поныне одна из главных на нашем столе. В Литве и Белоруссии – основа многих национальных блюд. Драники, блины жемайтийские, «цеппелины»... А котлеты картофельные с грибным соусом, а жареная на сале, а печеная в золе, а в мундирах – с селедочкой да лучком? А заморские чипсы? Кто откажется? Во время войны, помню, лакомством были и блины из крахмала, лепешки из очисток. За милую душу шли. Спасибо тебе, прадед Родион! Есть и твоего труда толика на сегодняшнем нашем столе. В семье Герасимовых бытовало предание, что дожил он до ста двадцати лет. Заболел, заблудившись зимой в степи. Лошадь Серко сама привезла полузамерзшего старика в Серогозы. А умер он, повествовали, весной, когда в саду зацвели яблони. Сам смертушку свою предсказал, созвал всех внуков-правнуков, попрощался и отошел. Красиво. Боюсь, правда, тут не без плагиата – в известном довженковском фильме «Земля» есть очень схожий эпизод. А вот легенда о том, что на девятом десятке сменились у Родиона во второй раз зубы – выпали и выросли новые, может, и имеет под собой какую-то почву. Почему, спросите? Вот ведь и у отца моего, и у меня, и у одной из сестер, да и у моей младшей дочери повырастало не по тридцать два положенных человеку – костяных, а по тридцать три. Откуда сие? Уж не Родионовы ли гены дают о себе знать?
П.А. Герасимов, 1910-е(?). На об. поздняя надпись шариковой ручкой: "Дорогой Юра! Посылаю тебе фотографию отца. Раз у тебя нет пусть будет память! Пусть Анечка посмотрит какой у нее был дед. Революционер Херсонской области, имя его выбито на мраморе, на доске в г. Херсона на здании Горсовета. В Революционномподполье его называли "Буревестником" (Очевидно, фотография прислана сестрой; Анечка в данном случае - это я).
У деда Архипа Родионовича было шестнадцать детей. У Савелия тоже более десятка. Из отцовых сестер и братьев знал я не всех: кто во младенчестве помер, кто на японской, кто в первую мировую да в гражданскую погиб. Отец – из младших в семье, а ему уж сорок четыре было, когда появился я. Знал и любил старшую папину сестру тетю Нилу – Неонилу Архиповну. Отец звал ее «ненькой». Как водилось тогда в больших крестьянских семьях, вынянчила Нила младшего (на шестнадцать лет!) братишку. За отсутствием законных бабушек и дедушек, почитал я тетю Нилу за бабушку, и она меня за внука держала. Хотя у нее и настоящие были, старше меня. От двоюродных моих Пети и Павла, в честь моего отца так названного. К слову, и сына младшего отцова брата дяди Афони в честь отца Павлом назвали, и еще кого-то из детей родственников и друзей. В семье рассказывали, что умел отец угадать пол будущего младенца. И предсказывал. Вот, к примеру, как обстояло дело с сыном Афанасия: знал отец, что тетя Феня – Хеония Павловна, жена дяди, на сносях. В то время, году в девятьсот восьмом, жили они далеко друг от друга, – дядя Афоня после первой революции был выслан на Урал, работал там на одном из заводов, а отец учительствовал на Херсонщине. И вот, как говорится, в один прекрасный день шлет он брату телеграмму: «Поздравляю рождением первенца». Только получили, а к вечеру тетя Феня родила сына. И нарекли Павлом. Про это слышал я в детстве и от дяди, и от отца, и от тети Фени. Обладал Павел Архипович и даром предвидения. Тетя Настя, сестра его, рассказывала, как в украинском селе, куда газеты доходили из губернского города на третий-четвертый день, он как-то сказал утром: «Умер Лев Толстой». Тогда вся страна жила слухами о его уходе из Ясной Поляны, никто не знал, где он и что с ним. А отец рассказывает сон: будто привиделась ему комнатка, полусумрак, простая кровать, на столе лампа со стеклянным абажуром. Два человека в комнате – седобородый и чернобородый. Старый прилег на кровать, а одеяло наползает от ног, он старается сбить его, а оно ползет, ползет и прикрыло. И замерло тело. Умер. А потом получили они газеты. И фотографии. На одной – комнатка, кровать, керосиновая лампа на столе со стеклянным абажуром... А вот то, чему я сам свидетелем был: в мае еще сорок первого года, когда немцы вошли в Югославию и вокруг вплотную заговорили о войне с фашистами, хотя кое-кто вслед за нашей пропагандой утверждал, что никакой войны не будет (как же – Договор!), отец сказал: «В конце июля будут за Днепром. Приснилось, что на шлях, ведущий к Серогозам с запада, валятся с неба спелые арбузы, колются, бьются и катятся к Востоку. Будет там враг, когда арбузы поспевать начнут». Так по слову его и вышло. Еще разные разности об отцовских вещих снах передавали в семье. А про определение пола новорожденного он мне, уже юноше, говорил так: это вещь тонкая, с налету, не вникнув глубоко, не зная досконально отношений между супругами в данное время, предсказывать не берись. Отношения эти меняются: то он семье голова, то она. И кто от кого на данный момент больше зависит, кто духовно сильнее, чей, может, на первый взгляд и незаметный, верх, – мужа – сын родится, жены – дочь. У меня на памяти несколько верных отцовых предсказаний. Сам я тоже пытался, но не всегда попадал. Однако про себя точно знал: у первой жены должен родиться сын. Да такое было время – молодые, неустроенные совсем. Жили врозь, я еще в армии служил... Родичи уговорили ее на аборт. Хоть я и очень не соглашался. И вот нету сына. А потом уже, конечно, дочь... И вторая – дочь. Ничего не попишешь – жена у меня в семье главная. Уважает, любит, верит, но главная. Сильнее характер. И про сестер своих знал, что сыновей народят. И старшая, и младшая. Мужики им попались настоящие. Крепкие. Хоть один и спился, а другой рано ушел из жизни. Но народили мне сестры четырех племянников. Вот так.
На об.: "Юрик спит. 12. I. 1930 г."
Вернемся, однако, к тете Ниле. Жила ее семья в Гайвороне, под Винницей, на Буге. Кроме сыновей, было у нее и две дочери, Маруся и Паша (тоже Павла!). Фамилия им Клавацкие. Сам глава семьи к тому времени уже помер, не видал я его. А в Гайвороне мы с отцом гостевали. И сама тетя Нила в Москве бывала, и дети ее наезжали, и внуки – почитай, ежегодно до войны. Потому и помню всех хорошо. Маруся учительствовала, Петя тоже, Павел – агроном, Паша, как и моя старшая сестра Муза Павловна – врач. (Ровесницами были три двоюродных: моя Муза, дяди-Афонина Муза и Паша). После войны, когда не стало уже тети Нилы, умер и отец, встречался я только с Пашей и Павлом. Петя погиб в войну, на фронте. А Паша все время проработала в госпиталях. После демобилизации заехала в Москву, разыскала нас. Водил ее в театры. Поразило меня, как плакала эта молодая, в орденах и медалях <женщина>, капитан медицинской службы, слушая «Евгения Онегина». Меня в те поры оперы еще не слишком трогали, мне драму подавай! А Павел заглянул к нам в начале пятидесятых. На ВСХВ приезжал. У него было несколько медалей выставки за достижения в сельскохозяйственной области. С тех пор потерял я Клавацких из виду. Рязань, армия, Чита, семья. Другие адреса, другие интересы. А жаль. Прекрасные люди. Да и вообще, большинство родичей растерял, дурень. У каждого своя жизнь. Сестер родных и то раз-два в году видел,хотя любил их и младшая все эти годы жила в Москве.
До войны ближе всех из отцовской родни была мне семья дяди Афони – следующего за отцом сына Архипа Родионовича. Жили они в Москве. Встречались часто – то мы к ним, то они к нам. Дядя – инженер, работал главным на каком-то заводе, на самой окраине (...)
<отсутствуют листы машинописи 19 и 20>
(...) и дружественности, и нежности, и верности. И стойкой неприязни к злобе и предательству. Каким-то шестым чувством умеют они распознавать человека. Иначе им и нельзя, ведь от него порой зависит собачья жизнь. Ну да опять я что-то очень в сторону забрал, но обещаю, что в моем монологе найдется место и для моих Динки, Лады, Урса, Бима и Бимки – ибо немало места занимали они в моей жизни.
У дяди была отдельная двухкомнатная квартира, по тогдашним временам – редкость. Свои кухня, газ, даже ванная, правда, на лестничной клетке, сразу для нескольких квартир. Меня там частенько купали. Был у дяди в большой комнате рояль. Играли тетя Феня и двоюродная сестра – Муза. Муза в моем младенчестве много со мной возилась. Видимся теперь редко. О ком еще следует упомянуть? О папиной сестре тете Насте, учительнице, о брате – дяде Володе и его жене тете Нине, тоже учителях. Вообще в отцовском роду все больше учителя – интеллигенты в первом поколении. Учительствовал и тети-Нилин Петя, и старший дяди-Володин сын Лева, и двоюродная сестра, дочь Савелия Мария Савельевна, и его же внучка, уже моя троюродная <сестра> и тоже Мария – Гавриловна, – хотя звал я ее тетей Марусей. И многие другие родичи, коих имена позабылись. Иных знавал только по рассказам, других видел в детстве мельком и не запомнил. В доме, когда наезжали родичи, обсуждались вопросы педологии, слышались имена Руссо, Песталоцци, Ушинского, Макаренко. В предвоенные годы тетя Настя жила с отцом в поселке Дзержинского под Москвой, учительствовала в той же школе, что и он. Долгожителем в отцовском поколении был дядя Володя, умер в начале восьмидесятых, девяноста пяти лет. Друзьями моего детства были его сыновья Слава и Саша, старший Лева жил уже отдельно от родителей. Саша старше меня на четыре, а Слава на шесть лет. Мои «браты». Слава еще до войны успел поступить в Ленинградскую военно-морскую медицинскую академию. Кончил году в сорок третьем, служил корабельным врачом. Живет в Ленинграде, уже на пенсии. Саша пошел было по стопам брата, уехал в Ленинград сдавать экзамены летом сорок первого. Погиб при обороне города. И Лева погиб на фронте. Из известных мне братьев отца назову еще Алексея, Анисифора и Тимофея. Все они старше его. Уникальной профессией владел дядя Тимофей – дегустатор винных подвалов то ли в Сухуми, то ли в Батуми. Женат он был на местной грузинке. Когда умер, папу вместе со мной, как представителей мужской родни покойного, вызвали на похороны телеграммой. Запомнились те похороны криками плакальщиц, огромным поминальным столом в саду, какими-то людьми в чохах, папахах, с кинжалами на поясах. А за год до того мы гостевали у дяди Тимофея. Водил он нас по сумрачным сырым подвалам, переворачивал бутылки на полках, слизывал капельки проб и все говорил отцу: «Нет, ты этого не пробуй, сейчас дойдем, я тебя таким угощу – семьдесят лет!» Сам не пил, но, как вспоминали в семье, умер от цирроза печени. Мне тоже тогда дали пригубить чего-то сладкого, пахучего и терпкого. Кружилась голова.
Большая была у отца семья. Жили дружно, помогали, старшие тянули младших. Удалось Архипу Родионовичу вывести всех детей в люди. Сам он познал грамоту, как рассказывали, только годам к двадцати. Но был книгочеем, большим поклонником Льва Толстого, даже, по слухам, писал ему. Но «непротивленцем злу» не стал. Дети пошли в революцию, и дед за ними. Верно, жил в Герасимовых вольный казачий дух. Недаром сожгли перед четырнадцатым годом черносотенцы архипову хату, а власти выслали его, уже старика, по этапу в Архангельскую губернию. Умер он в начале двадцатых. Восьмидесяти четырех лет, бабушка умерла много раньше.
До Великой Отечественной войны в Херсонском областном музее был целый стенд, семье Герасимовых посвященный – висели там фотографии моих дядьев и тети Насти во главе с Архипом Родионовичем. Участники двух революций. Своими глазами видел. Дядю Афоню в ссылку отправили, отец дважды в херсонской тюрьме сидел. Говорили мне, что и ныне на здании Херсонского обкома висит мраморная мемориальная доска с именами первых губернских большевиков. Среди других имен и отцовское – Павла Архиповича Герасимова – организатора большевистских ячеек на Херсонщине. Его даже «Буревестником» звали. До революции отец лет пятнадцать учительствовал по селам, руководил губернским съездом народных учителей, после революции был продкомиссаром Юга Украины, создал первую в тех местах коммуну «Нове життя». В первый раз угодил в тюрьму, как член партии эсеров, но удалось доказать, что он уже год как из той партии вышел, а что был уже большевиком, суд не дознался. Выпустили. Потом попал как большевик. Тюремным старостой был. Проводил голодовку политических, протестовавших против произвола тюремщиков. Интересно про все это рассказывал. Были дома и фотографии тех лет – группа арестантов во главе с отцом, сам он у зарешеченного окна – это после победы в голодовке пришел в тюрьму с воли фотограф и снял их.
На об.: "дорогому папочка" (дата отрезана), другими чернилами: "Мирра (Марина)" Херсон
И у деда с материнской стороны тоже немалая семейка была. Двенадцать детей. Дед Нахман (Наум) Доктор из купеческой семьи, его предки «платили гильдию», чтобы иметь право жительства. В Одессу они вроде из Германии перебрались. И раввины, говорят, в роду водились. К тому моменту, как родилась в 1887 году мама, семья обеднела. Нахмана, правда, уважали в городе, но никаких купеческих привилегий у него уже не было: мелкий строительный подрядчик. Бабушка Дина из семьи Резниковых – тоже из большого клана. У мамы с ее стороны множество двоюродных и троюродных. Кое-кого из них я знал. Но писать о них не стану. А вот про родных теток упомяну: Настя (Эстер), Клара и младшая – Анна. К теткам Насте и Ане мы почти ежегодно ездили в гости, в Херсон, там же тогда жила и папина тетя Настя и неподалеку, в Голой Пристани, учительствовал дядя Володя. Полно было и других родичей. Только у маминой сестры Насти четверо детей: Муся, Рая, Борис, Аня. О них несколько ниже. А сейчас о мамином брате Шмере (Шмерле), которого я ни разу не видал, но наслышан был основательно. Он, эсер-боевик, сидел в Херсонской тюрьме одновременно с моим будущим отцом. Отсюда и знакомство отца с матерью – по просьбе брата носила она передачи своему «жениху»: в городе тогда у него близких не было. Шмеру приговорили к ссылке в Сибирь, бежал он оттуда, эмигрировал во Францию. Как рассказывали, там, в эмиграции, и одолела его психическая болезнь – очень тяжело переживал издевательства тюремщиков. Но еще до этого переехала к нему из Херсона жена, родила сына Ику (Исаака?). А дядя Шмера после войны попал в психлечебницу при каком-то монастыре. И лет двадцать заботились о русском революционере – террористе да вдобавок еврее – сердобольные католические монахини. Он был не совсем помешанным. В периоды просветления переписывался с сестрами, собирался вернуться на родину. Я сам читал его открытки с ятями и твердыми знаками – по старой орфографии. Дядюшка наивно полагал, что его революционные заслуги будут приняты во внимание, что ему дадут возможность адаптироваться к незнакомой ему жизни в свободной России. Шел тридцать седьмой... Переписывалась мама и с женой Шмеры, и с Икой. Он ушел в маки и погиб. После войны уже получили мы фотографию и письмо от его жены и сына Клода. Сколько мне известно, этот Клод – единственный обладатель фамилии прадеда: Клод Доктор. Сын тети Клары Роберт, талантливый хирург, начальник госпиталя в партизанской армии Тито, тоже погиб. В самом конце войны. Его госпиталь находился в тихом словенском городке, у границы с Австрией. 14 апреля 1945 года на городок набрела прорывавшаяся на запад эсэсовская часть. Хирург Роберт Куковец организовал, защищая раненых, круговую оборону и погиб вместе со своими помощниками и пациентами. Посмертно ему присвоили звание Народного героя Югославии, в Любляне есть ему памятник. Так и лежат по всей Европе мои двоюродные братья: во Франции, под Любляной, в украинской Умани, где похоронен сын тети Нилы Петя, где-то в братской могиле у русской деревни покоится прах дяди-Володиного Левы, под Ленинградом нашел свою смерть Саша... На мемориальном кладбище, на горе Славин, что высится над Братиславой, лежит еще один папин племянник – младший лейтенант Евгений Герасимов. Недавно, будучи в Чехословакии, увидел я его могильную плиту. Самого Женю почти не помню. Он сын одного из старших отцовских братьев, и по концу войны был слух, что участвовал в освобождении Братиславы и погиб. Такая вот география... У меня со всеми этими солдатами общие деды и бабушки.
Почему Роберт оказался в Югославии? Потому что его мать, тетя Клара, еще в начале века, отчаявшись получить в России высшее медицинское образование – а она обязательно хотела стать врачом: не акушеркой, а настоящим врачом, – уехала в Швейцарию. Учиться. В России женщинам тогда не разрешали поступать в медицинские высшие учебные заведения. Еще на сестер милосердия – да, а уж доктором – никак! В Лозанне познакомилась она со студентом, будущим инженером Янкой Куковцем – словенцем (тогда Словения входила в состав Австро-Венгрии), стала его женой. И в Россию уже не вернулась. Поселились они в маленьком городке Мариборе, родили двух сыновей, Володю и Роберта. Мама, сама тогда еще гимназистка, бегала по урокам, добывала деньги на собственное учение и на помощь лозаннской студентке-медичке. Семья Нахмана Доктора к тому времени совсем оскудела. Он умер довольно рано, вроде бы году в девятом. Бабушка Дина – в двадцать втором, в Камышине. В голодный год... Вот, пожалуй, и все, что помню я о своих предках и родственниках старшего поколения. Мать у меня была храбрым и принципиальным человеком – не желая признавать «правил игры», всю жизнь переписывалась с сестрой, с двоюродными братьями Резниковыми, еще до революции мальчишками эмигрировавшими в Америку. И это несмотря на тридцать седьмой и на сорок девятый годы, не обращая внимания на то, что некоторые московские родственники порвали с ней из-за этого отношения. О них-то и не хочу писать! Так что вся жизнь семьи Куковцев, как и наша им, была нам известна и близка. Регулярно отсылались и получались фотографии: вот два молодых парня на мотоцикле – Роберт и его брат Володя, вот жена Володи в карнавальном костюме, получивши какой-то приз в Мариборе, вот тетя с дядей на фоне Эйфелевой башни... Дочь Володи – Невенка, сын Роберта – Петр... После смерти тети Клары, где-то уже в конце семидесятых – ей было за девяносто – все связи прервались. Володя еще прислал два-три письма, но мы друг друга не знали, и переписка заглохла. Невенка теперь, пожалуй, и сама бабушка, Петр работал шеф-поваром в одном из мюнхенских ресторанов. Мои «зарубежные связи». Тетя неоднократно бывала в СССР и до войны, и после хрущевского примирения с Тито. Звала к себе – у нее возле Дубровника на Адриатике был свой домик. Мама собралась было ехать, но ОВИР тянул с разрешением целый год, и когда я, не утерпев, лично явился туда за ответом, то мне было объявлено: «Мы считаем поездку нецелесообразной». Они «считают»! Две старые женщины, прожившие в разных странах семь десятков лет, но сохранившие живые сестринские отношения, дружившие, помогавшие друг другу, – не смогли повидаться. Я так разозлился на это малопочтенное учреждение, что много раз отказывался от поездок за рубеж, хотя меня и направляли туда в командировки: в ГДР, Венгрию, Чехословакию. Наш журнал выходил на разных иностранных языках, и в виде поощрения нас посылали за границу. Не желал я иметь дел с ОВИРом, пропади он пропадом. Лишь в восьмидесятые годы сменил гнев на милость, посетил Чехословакию. И все равно это – «нецелесообразно» – никогда не забуду, так обидно за маму. Тетка звала ее на два месяца, на полное свое содержание, даже билет обратный покупала... Обидно, горько... и стыдно. Вот, пожалуй, и все сведения о близких родственниках. Жили, трудились, растили детей, мечтали о лучшей для них доле. Воевали, гибли. Но не было среди них ни единого, кто сражался бы по ту сторону баррикад.
Теперь о самых близких. Мама, золотая медалистка Херсонской Мариинской женской гимназии, окончила первый выпуск юридического факультета Высших женских (Бестужевских) курсов в Петербурге. Как было записано, вернее, напечатано, в ее дипломе, тоже со сплошными «Весьма» – отлично – на большом листе веленевой бумаги, с водяными знаками, гербовыми печатями и подписями многочисленных профессоров – она получила право работать «помощником присяжного поверенного». Я в детстве гордился: «как Ленин». Похвастаю – у меня и жена с золотой медалью окончила школу, и дочь младшая Анка – золотая медалистка, получавшая в институте именную стипендию и недавно ставшая кандидатом филологических наук. У Анки и дедушка с материнской стороны – медалист, правда, серебряный, и тоже – кандидат наук. Вот они какие – три поколения подряд! Среди бестужевок всегда существовало некое братство, вернее, «сестринство». Незнакомые, в разные годы и разные отделения окончившие, они при одном слове «бестужевка» готовы были принять в свое сердце сестру по курсам. Я заметил, что есть это чувство и у уходящих уже из жизни предвоенных «ифлийцев» – студентов института философии, литературы и истории, этаком советском лицее, кузнице нашей элитной интеллигенции. Сохранились еще тогда «зубры» – старая, высокоинтеллектуальная профессура, работавшая не за страх, а за совесть, стремившаяся передать знания, научить, видевшая в каждом студенте – личность. Да и сами эти профессора были личностями, внесшими немалый вклад в гуманитарные науки. В конце сороковых их повыбили: космополиты безродные... хотя не все были евреями. Ох, какие же мы дурни – и сегодня можно услышать наскоки «памятников» на людей науки, основным негативом коих является пятый пункт... Стыдобина! Даже первые послевоенные выпускники МГУ как-то гордились своей причастностью к «альма матер». В них еще что-то было, какая-то преемственность культуры российской, традиции. Выпускники же конца пятидесятых и последующих годов в массе своей ничего подобного не ощущают. Сам такой. И уровень преподавания, и собственный человеческий и культурный уровень этих «высше-образованных» молодых людей стал так низок, личности так нивелированы, что оторопь берет. Конечно, и в их среде есть высокоталантливые, образованные, интеллигентные, но их меньшинство. И не они определяют гордое звание – выпускник Московского университета. Если я ошибаюсь, пусть хорошие люди на меня не сердятся, но ведь старшая моя дочь тоже кончала МГУ, слышал я о ее сокурсниках, вижу, что никакой общности, никакой «печати» на них нет. А уж о вечерниках и заочниках, поставленных на поток, и говорить не приходится: сплошная серость. Учившиеся ради «корочек», по известному выражению «без бумажки ты букашка, а с бумажкой человек». Такой серятины напекли, а ведь именно эти люди сегодня учат других – преподают, редактируют, судят. Говорю только о гуманитариях. Сколько лет пройдет, пока схлынет эта мутная волна, пока в университеты и школы придут настоящие учители, тонкие, авторитетные, умные, бескорыстные, подвижники и пророки?!. Без этого нет преемственности культуры, ее движения, развития. И никакая «перестройка учебного процесса» ничего не даст. Как говорил великий Крылов: «А вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь!» При назначении на должность преподавателя я бы завел анкету, где не было бы вопросов о национальности, о том, есть ли родственники за границей, не подвергались ли родители репрессиям – муть все это, – а вот <были бы> о том, кто тебя учил (не какое высшее заведение окончил, а именно, кого считаешь своими учителями!), какие у тебя любимые писатели, философы, художники. Чему собираешься научить своих подопечных?..
Многие из бестужевок ушли в революцию. И сами были ее деятелями, и подругами видных государственных и партийных функционеров. Большевичками, эсдечками, эсерками. Или просто учили детей, старались передать им то, что получили в наследие от замечательных людей – гордости русской культуры, представителей ее «серебряного» века, интеллигентов конца девятнадцатого – начала двадцатого. Господи боже, как же далеко ушли бы мы вперед, не повыбив – революцией, гражданской войной, сталинщиной, хрущевскими недодумками, брежневскими застойщиками и взяточниками, – этой «прослойки». Бестужевки были на виду, и, простите невольный каламбур, ввиду этого и получали если не пулю, то сроки на Соловках, в Магадане и на Колыме. В довоенные годы многие из них были уже беспомощными старухами, с мизерной пенсией, без мужей и детей – война и разруха сделали свое черное дело. Те из их однокашниц, кто был еще правоспособен, кто работал в Москве, Питере, других городах, – списывались, ежемесячно собирали какие-то суммы и помогали неимущим. Мама в этом деле участвовала очень активно, была казначеем, ей привозили и присылали трояки и пятерки, которые она регулярно отправляла старшим подругам.
В студенческие годы была она эсдечкой – социал-демократкой, ни большевичкой, ни меньшевичкой. С молодой задоринкой в голосе говаривала: «...и экспроприаторы – экспроприируются!» И упрекала меня, уже студента: мы, мол, тайком собирались, Гегеля и Фейербаха читали, «Капитал» конспектировали, листовки по заводам носили – а вам все на блюдечке подносят, но вы кроме «Краткого курса» ничего не знаете и знать не желаете. Позор! Не без ее влияния, я все-таки кое-что почитывал. Ленина, Энгельса, даже Гегеля, и, конечно, Ницше, Хейдеггера, Фрейда. Последних доставать было нелегко и опасно, читал не систематически, в голове – хаос. Но Плеханова проштудировал еще мальчишкой, до войны. И «К развитию монистического взгляда на историю», и «К вопросу о роли личности в истории». Книги эти были в домашней библиотеке, как и тома второго собрания сочинений Ленина. Стыдно признаться, но первый том «Капитала» до конца не осилил. В качестве «внеклассного чтения». Но все же, по сравнению с некоторыми своими приятелями, был подкованным марксистом, что многие и признавали.
Имя Георгия Валентиновича Плеханова пользовалось в нашем доме особым пиететом. Мама была с ним знакома еще до революции, на том столике, где делал я уроки, стояла скромная рамочка с портретом Плеханова и его надписью «Милой Тане Доктор». Позже этот портретик исчез, и особых разговоров по этому поводу в доме не было. Но так или иначе, а назвали меня Георгием в его честь и, начиная печататься в пятидесятых годах, я подписывался «Г. Бельтов» – этот псевдоним даже занесен был мной в билет Союза журналистов, который вручили мне в 1957 году.
С матерью Татьяной Наумовной. На об. кар.: "Юрику 1,11 мес. (около этого) - в начале января 1930 г."
Познакомились мои родители, как я уже писал, в Херсоне. После того, как отца «за недоказанностью обвинения» (бывало же такое в царской России!) выпустили, они с мамой продолжали дружить. К тому времени в губернский Херсон приехал папин младший брат-погодок дядя Афоня. И вот в доме патриархального еврея Нахмана Доктора дневали и ночевали отпрыски казацкие, на кухне, рядом с фаршированной рыбой, жарилась традиционная яишня со шкварками, в столовой аппетитно пахло салом и колбасой – дарами Серогоз. «Папа делал вид, что ничего этого не замечает», – рассказывала мне мать. А «Панька-Афонька», мало того, что кормили его детей «трефным», так еще пели украинские песни, уводили по субботам дочерей на всякие гулянья. И, кроме того – оба участвовали в дружине самообороны. В те годы по югу России катилась волна еврейских погромов, и честные русские люди, как могли, противились черносотенцам. Самые радикальные из них вступали в пятерки, всякими правдами и неправдами добывали револьверы и готовы были стрелять в толпу погромщиков. Горжусь, что и мой отец делал это. И, как рассказывали, их пятерка – двое русских и три еврейских парня разогнали в дни разгула черносотенцев готовую к погрому толпу. Потом отец учительствовал в разных селах Юга Украины. А будущая моя родительница уехала в Петербург на курсы. Пути их надолго разошлись. У меня от первого брака отца было две сестры. Ныне осталась одна старшая. В похвалу и моим родителям, и их матери Марии Сергеевне – они не препятствовали нашим встречам. Я сестер всегда любил и часто виделся, одно время сначала Муза, а потом и Мирра жили у нас в Москве, учились. А в начале тридцатых помню мамины вопросы: «Паня, ты отправил деньги девочкам?» Продуктовые посылки она посылала сама, на Украине был голод. Высылали, что могли, не только им, но и семье маминой тети Насти, и тете Ане. Как я писал уже, у старшей маминой сестры было четверо детей, муж ее, агроном Петр Крамаренко, погиб в годы гражданской войны. Старшая – Муся – профессор в Ленинградском институте им. Герцена. Ее муж художник, сын – Валя Невельштейн. Давно ничего о них не ведаю. Вторая сестра, Рая, тоже была замужем за художником Сашей
Булгаковым – у них трое детей: Дина, Саша и Ася, мои двоюродные племянники. Динка всего на два года моложе... Пережили блокаду в Ленинграде, Саша погиб при обороне города. С Булгаковыми мы были близки в пятидесятые-шестидесятые годы: Рая с детьми, а потом и внуками живала у нас на даче в Крюково. После очень помогла мне, когда осталась у меня на руках больная старая мать – приехала, жила с ней, а потом увезла к себе, в Ленинград, поменяв на ленинградскую квартиру ее московскую комнату. И похоронила маму в Питере. Умерла мама в ночь с 31 декабря 1972 на 1 января 1973 – на восемьдесят шестом году жизни.
Младшая дочь тети Насти, Анька, выскочила замуж очень рано – едва шестнадцать ей стукнуло. Она ровесница моей Миррке, учились в одном классе. У Ани двое детей: Алик и Дина (как и у Раи – в честь бабушки). Не встречался очень давно. Дина ее еще бывала у меня в Москве в середине шестидесятых, а потом потерял я их из виду. Жили они в Минске. Фамилия им – Мусарские, отец – полковник отставной, Мося – Моисей. С Раей иногда переписываемся, но давно не виделись. Ей уже за семь десятков.
На об.: "в начале августа 1930 г. в Алешках на даче"
Теперь о родных, или, вернее, единокровных сестрах – Музе и Мирре. Росли они в Херсоне. Мы ежелетне встречались. Я их любил и гордился тем, какие у меня красивые сестры. Самые красивые! Герасимовы «Архиповичи» в основном шатенистые, «Савельевичи» – блондинистые. Мы с Миррой в отца, а Муза русая, с огромной золотой косищей. Между прочим, дядя Афоня был рыжеватым. Старшая сестра в моем отрочестве была для меня олицетворением греческой музы, когда узнал я об Аполлоновых спутницах: прямой ото лба нос, огромные серо-голубые глаза, какая-то особенная стать, вероятно, от тяжелой косы, венчавшей голову, белейшая кожа. Помню ее фотографию – сидит па стуле и видно только лицо, все остальное, до самого пола, в волнах золотых волос. Она, пожалуй, первая женщина, которую я, мальчишкой лет восьми, увидел обнаженной. Валялся на ковре у окна в их большой комнате, читал, как сейчас помню, – «Принца и нищего», обо мне все забыли, чего-то там шебуршили, я и внимания не обращал, слышу вдруг, вода плещется, поднял глаза – стоит Муза в большой оцинкованной лохани, поливает себя из кувшина. Жара. Юг. И ни она, ни я не смутились. Увидела меня, улыбнулась и только сказала: «А ну, брысь, братишка!» И я пулей – из комнаты. Потом, когда читал рассказ Горького «Женщина» – перед глазами, как образец прекрасного обнаженного женского тела, которым без стыда можно любоваться, возникал у меня в памяти образ сестры. После десятилетки она приехала в Москву, поступила в медицинский, жила поначалу у нас, на Никольской, потом ее определили на постой к папиному и маминому приятелю, писателю Гавриилу Добржинскому, революционеру, ослепшему после ранения в баррикадных боях 1905 года. У него была квартира в районе нынешней улицы Калинина, возле Арбата, где жил он со своей женой и секретаршей тетей Шурой. После войны они получили жилье в одном из новопостроенных домов на улице Горького, в корпусе «Б». Гавриил Валерьянович, вероятно, еще появится на страницах моих воспоминаний, ибо сыграл какую-то роль в моей жизни. Ему принадлежит известная пьеса о Пугачеве, роман о нем же, брошюрки-раешники, которые в предвоенные годы частенько с дарственными надписями появлялись в нашем доме. Автор – Добржинский-Диез. По малолетству и неведению я считал, что он пишет вместе с соавтором, каким-то «Диезом».
Окончив мединститут, Муза уехала по распределению в Магадан, куда многие в те годы отправлялись не по доброй воле. Там она вышла замуж за Бориса Штерензона, инженера-горняка, возглавлявшего золотые прииски. Кажется, был он главным инженером Магаданзолота. Сколько, вероятно, человеческих трагедий, мерзостей лагерного бытия хранила его память, ведь добывали металл зеки. В начале войны Муза родила сына Игоря. И уже в Москве, осенью сорок пятого, – второго сына, Виктора. С Виктором мы довольно близки, бывая в Москве, племяш обязательно навещает нас – живут они в Днепропетровске. Иногда звонят оттуда. Как же переживал этот чистый парень, когда вынужден был идти на компромисс с собственной совестью: фамилия Штерензон не дала ему возможности учиться в аспирантуре, всячески прижимали молодого инженера и на работе. А он в Музу – русый, сероглазый. Умница и деятельный человек. Пришлось менять фамилию на материнскую – Герасимов. А ведь Борис Штерензон был из тех отцов, которыми должно гордиться: комсомолец двадцатых, талантливый инженер, отличный работник. В пятидесятые годы был директором горно-обогатительного комбината. Настоящий. Умер – еще и пятидесяти не было. «Сгорел». И сыну, любившему и уважавшему его, приходилось как бы отрекаться от отца. Наши правоверные расисты, деятели отделов кадров, вникали только в анкетные данные. Впрочем, перемена фамилии не повлияла на его карьеру. Еще в годы застоя Виктор, писавший стихи, интересовавшийся литературой, страстный поклонник Высоцкого, – ушел в «индивидуальную трудовую деятельность», сколотил какую-то маленькую артель, зарабатывал деньги, как он говорил. Имел даже неприятности, но, слава богу, криминала в его деяниях не обнаружили. Только прикрыли лавочку. Но, думаю, наше производство потеряло в его лице дельного инженера с явной изобретательской жилкой, мыслящего и инициативного. Ныне ему живется куда легче, однако на завод его уже не вернешь.
Младшая сестра Мирра – веселая и добрая хохотушка-хохлушка – по стопам старшей тоже приехала в Москву, учиться. Сначала жила у нас, потом, когда отец уехал в поселок Дзержинского, – с ним. Там, в бывшем Николо-Угрешском монастыре, где за десяток лет до этого организовалась Люберецкая трудкоммуна, был ВТУЗ. Поступила Миррка туда, но вскоре перевелась в Стоматологический институт в Москву. Кончить не успела – выскочила замуж за томилинского парня (есть такая станция под Москвой, Томилино, по той же, что и Люберцы – Казанской железной дороге) Алексея Новикова, – военного учлета. Вместе на учебу в Москву в электричке мотались. Алексей кончил, получил лейтенанта и увез ее в сороковом году в Луцк, где стоял полк. Уже в сорок первом, в эвакуации, в Казани, родила она сына Алешку. Несчастливая судьба выпала на долю моей младшей сестренки. Хотя, если на первый взгляд – куда с добром! Старший Алексей Новиков – один из кумиров моей юности, летчик-истребитель, Герой Советского Союза, внешне – прекрасный образец русского человека: крепко сбитый, сероглазый, русоволосый. Короче – плакаты с него писать. 27 немцев сшиб. С первого дня – в небе, войну кончил подполковником. Орденов, медалей – пруд пруди. Еще в сорок первом, когда в газетах печатались списки награжденных, позже-то их столько стало, что газетные листы не вмещали, мы нет-нет, да и находили среди других имен и имя Алексея Ивановича Новикова. В Москву мы с мамой вернулись из эвакуации раньше Миррки. Зимой сорок четвертого. Алексей часто бывал в Москве. В Томилино, к своим, ездить не всегда было с руки, – заходил к нам, на Никольскую. Таскал меня по концертам, театрам и ресторанам, – билеты, правда доставал я, он только «финансировал», а в коммерческие рестораны, которые к лету появились в Москве, у него была лимитная скидка – 75%... Как-то привез мне с фронта трофейный вальтер с двумя обоймами, часы-штамповку, подарил. Широкий был человек, не жадный, веселый. Правда, несколько по-своему, по-армейски. Но не обидно. И хохотал от души. В своем месте, я, наверно, припомню пару случаев общения с ним по концу войны. Потом Мирра возвратилась, получили они комнату – маленькому Алеше четвертый год. Очень я любил первого своего племяша, не паренек – картинка. Бегал к ним на Вузовский переулок, гулял с Алешкой, какие-то игрушки ему мастерил, игрался. А Новиков делал карьеру. Кому же еще было ее делать? Офицер, Герой, красавец. Вскоре после войны получил полковника, стал командиром дивизии, и, забрав семью, укатил на два года в оккупационную армию в Германию. Вернулся другим человеком. Нетерпимым, заносчивым и... алкашом. Без бутылки – за стол не садился. Вывез два вагона «трофеев» – очистил весь баронский особняк, где квартировал. Изменилось и его отношение ко мне и маме. Уже не свояк – младший братишка любимой жены, а какой-то бедный родственник да еще не очень желательных кровей. Антисемитизм, наличия которого я в Алексее раньше никогда на ощущал, расцвел махровым цветом – этакий непотребный, грубый. Так и перло из него. Уж чем там ему евреи насолили? У меня действительно жидовская кровушка наличествовала... А вот в Миррке и капельки не было. И назвали-то Миррой в честь Мировой революции. Но полковнику все казалось, что и от нее чесночным душком несет. И стала моя сестра – Мариной. На этой почве мы как-то с зятьком и поспорили – я ее Миррой, а он: «Марина!» Слово за слово, и выдал я ему: на кой, мол, черт притащил ты из побежденной Германии два микроскопа, альбомы с марками, пять сервизов, какие-то толстенные книги на немецком и других языках с золотыми обрезами, не считая мебели, ковров и прочего?! В общем, обозвал его мародером. С тех пор наши дорожки разошлись. Последние сорок лет почти не виделись. Даже не звонил я лишний раз Мирре-Марине, не желая нарваться на генерала, а он уже и генералом стал. Устраивал ей скандалы, если обнаруживал, что она со мной или мамой общается. У нее к тому времени еще один сын родился, Виктор. Его я почти не знаю, может, раза три и видел-то. А вот Алешу жалел, горько было, что не складывается у парня жизнь. Не доучился в медицинском, не стал офицером, хоть папаша и устраивал. Несколько лет работал телеоператором для какой-то американской телестудии, имевшей своего корреспондента в Москве. После похорон Мирры мы несколько сблизились. Очень Алеша горевал по матери, ненавидел отца, который не надолго пережил жену. Звонит Алеша редко. В душу к нему не лезу. А так вроде парень он честный, искренний. В мать. Жаль мне ее, доброй и славной была моя сестренка, готова была, как говорится, последнюю рубаху с себя снять ради ближнего. Невеселую жизнь она прожила.
Теперь несколько заключительных слов о самых близких: о папе и маме. Я уже немало о них поминал на предыдущих страницах, о тех двух людях, по милости которых явился на свет, о тех, чьи душевные движения, мысли, далее порой жесты, ощущаю в своем повседневном существовании. Ловлю себя: вот так подумал бы отец, а так – посмотрела бы мама... Их давно нет. Папа прожил шестьдесят два, мама – восемьдесят шесть. Хотя моложе его на три года.
Почти через двадцать лет после знакомства встретились они в Москве, где мама уже работала в статуправлении и «имела жилплощадь» в Четвертом доме Советов – бывшей гостинице «Славянский базар», заселенной совслужащими. Папа, у которого возникли нелады с первой женой, уехал по делам в столицу, в одной из компаний херсонского землячества встретился с Таней Доктор. Как шутили они при мне, отец покорил маму тем, что умел «все-все делать своими руками» – укрепить расшатанную табуретку, починить электроштепсель, забить в стену гвоздь и т. п., а она его тем, что утром, не разжигая примуса на общей кухне, напоила гостя горячим чаем – с вечера укрыла вскипевший чайник пуховой подушкой. Ко времени моего появления отец стал уже заправским москвичом, восстановил связи со многими былыми друзьями и товарищами по подпольной работе – они занимали в тогдашней Москве крупные посты и помогли земляку. Определился как парттысячник в инженерно-строительный институт и году к тридцатому, закончив его, работал уже заместителем начальника строительства московского аэропорта на месте нынешнего спорткомплекса ЦСКА – ЦДСА. Под его же руководством возводился дом, где ныне выходы метростанции «Аэропортовская». Получал партмаксимум, что тоже являлось предметом шутливых пикировок моих родителей – мама, к тому времени начальник планового отдела Щепетильниковского трамдепо, получала больше. Впрочем, у отца была служебная машина, возившая его на работу и с работы – в те годы район нынешней «Аэропортовской» был чуть ли не на самой окраине. Я в том автомобиле катался единственный раз – не с кем было почему-то меня оставить, и папа взял с собой на работу. Запомнилась поездка. Автомобиль. А так ездили на трамваях или, куда реже, на извозчиках, что тоже было большим удовольствием. Мама, кажется, так и не удостоилась чести прокатиться в служебной машине отца. С утра он заезжал кое за кем из сотрудников, а по вечерам в машину садились те, кому надо было ехать в центр... Все это помню я по разговорам и рассказам родителей. Очень в свободные их минуты любил требовать от них: «Расскажите, как я был маленьким?»
На этом, дорогие мои потомки и въедливые, терпеливые читатели, у кого хватило мужества прочитать предыдущее, очерк моей родословной заканчивается, и можно вплотную приступать к фактам собственной биографии. Все это я рассказывал для того, чтобы потомки мои не думали, что их деды и бабушки произошли непосредственно от обезьян, что и у них было в свою очередь множество предков, что много-много поколений жило на земле, прежде, чем появились на белый свет мальчишки, носящие фамилии Герасимовых и Радовых.
Начало биографии
Москвич я с червоточинкой – родился в Херсоне. Первый ребенок у матери, а ей к сорока. Смелая. Однако рожать меня все-таки поехала на родину, к детным сестрам. Через два месяца вернулись мы домой. Но метрику получил на двух языках – русском и украинском, и местом рождения указан Херсон. Южный город на берегу Днепра. По-украински я Юрко Павлович, по-русски соответственно – Георгий Павлович. Отсюда детское – Юра, Юрка. Отец называл Юрко. Фамилия, как тогда было модно, двойная: Доктор-Герасимов. В доме и первых классах школы – Юрка Доктор-Герасимов. Только уже в старших классах окончательно определился – Георгий Герасимов, в просторечии – Егор. Первый паспорт и все последующие документы называют именно так. Но место рождения Херсон, Украинская ССР.
До войны в семье у нас каждую осень и зиму гости с Украины: родственники, друзья, бывшие папины ученики с Броваров, Серогоз, Голой пристани, Алешек, Скадовска, Каховки... Сейчас люди порастеряли эти связи, землячество. А в те годы все еще держалось крепко. И переписывались, и гостевали друг у друга, и помогали друг другу в тяжелые моменты, поддерживали. А кроме того, московские родственники, что могли приютить, какой-никакой кров обеспечить – ценились высоко. Гостиниц-то и ныне не густо, а уж в то время... В Москву стремились и прибарахлиться, и в театрах побывать. Одно слово – столица. Комната у нас была огромная, постоянно года с тридцать шестого жили только трое: я, мама, и няня – папа приезжал лишь на выходные. Его диван, раскладушка, да пара всегда в боевой готовности матрацев могли дать ночлег двум-трем не шибко притязательным людям. И несмотря на грозные объявления, развешанные по всем стенам, о правилах проживания посторонних не свыше двадцати четырех часов без прописки, никто на них внимания не обращал. И у соседей в большом гостиничном коридоре тоже постоянно кто-то жил. А летом мы ежегодно на Украину – в папин или мамин отпуск. До самой войны. А иногда, когда был я поменьше, кто-то из дядьев и теток, бывало, забирал племяша к себе на все лето. Хотя родители почти всегда снимали дачу в Подмосковье, а в тридцать девятом можно было уже жить на своей собственной, в Крюково. Как я уже говорил, у своих родителей я ребенок поздний. У моих двоюродных дети – мне ровесники. Двоюродные племянники. Постоянное общение с ними, житье в стихии украинского языка и в Херсоне, и зачастую дома, – дает мне право считать украинский – родным. Этот язык – язык теплого солнца, раздольного Днепра, первой щуки, пойманной мною в четыре с половиной года с помощью дяди-Володиного Саши, язык ласковый, благозвучный, песенный – всегда во мне. Никогда специально не изучал его – написать грамотно по-украински, пожалуй, не сумею, но прочту всегда, и стоит лишь заслышать эту мову, как зазвенят в душе ответные струны. Уже шесть десятков лет человеку, всю жизнь – русский, всю сознательную жизнь – по-русски. И профессия в некотором роде – русский язык: актер, журналист, переводчик. И очень я люблю его, свой русский язык, какую хочешь мысль на нем выразить можно, и нежным, и гневным, и емким может он быть, богат неимоверно, столько речений вместил в себя, столько точных и глубоких слов, мудрости народной. А столкнешься невзначай со «щирым украинцем» – и пошел «гэкать», «розмовляты на ридной мове». После такой встречи, пусть и мимолетной, иной раз целую неделю лезут в мое чисто московское произношение, усиленное еще занятиями по орфоэпии в театральной студии, украинизмы. Ничего не поделаешь – первая любовь, первые слова: «тату, мамо...» Сам себя во младенчестве называл по рассказам, «нынку» – от обращения ко мне родителей «сынку». И первые яркие впечатления, сохранившиеся в памяти, – не московское житье, а летние украинские дни. Из московских лишь какие-то из ряда вон выходящие ситуации, к примеру – магазин-распределитель в Зарядье. Это, значит, еще карточная система, мы прикреплены. Вероятно, год 1932. От нашей Никольской улицы не слишком далеко: сначала в сторону Красной площади, потом по Старопанскому переулку, через улицу Варварку и вниз, к Зарядью. Очередь. Мы с няней Шурой толчемся возле входа. Заговорилась моя няня с какой-то подружкой. Скукота. Пошел домой. Комната заперта. Родители на работе. Но друзей и знакомых на всех пяти этажах нашего огромного дома – пруд пруди. Лестницы, переходы, коридоры и двери, двери... Сижу и играю у Левы-Бори (братья-близнецы с третьего этажа. Постарше меня. Один из них потом погиб на фронте. Мама дружила с их матерью. Меня в той семье любили), слышу истошный крик из коридора: «Юрик, Юрик!». Выглядываю. На няне Шуре лица нет, щеки красные, глаза зареванные. Схватила, прижала, плачет. А тут мама бежит, соседи. Ну и задал я им всем, как нынче говорят, шороху! Хватилась меня Шура – нету мальчика. Туда, сюда – нету! И никто не видел, куда делся. Украли?! Прибежала домой – нету! Звонит маме – пропал сын. Паника. Мама тогда уже работала в Щепетильниковском трамдепо, на Лесной улице. Полетела домой. Сообщили в милицию – исчез ребенок. Весь огромный дом перебулгачили. А я – вот он. Жив-здоров. Даже не попало мне на радостях. Как же ты шел? А так: посмотрю туда, посмотрю сюда: нету ли трамвая, машины или извозчика, и бегу через улицу... Этот мой «подвиг» довольно долго обсуждался и вспоминался в семье, потому, наверно, и запомнился. По всему выходит, года четыре мне тогда было.
Или вот еще такой эпизод помню: как крестили меня. Тогда, замыкая Никольскую, перед Лубянкой (ныне площадь Дзержинского) были ворота, а возле них, на пустом теперь пятачке, напротив известного всему Союзу «Детского мира», рядом с будущей станцией метро «Дзержинская», стояла Никольская церковь. Шура хаживала туда. И меня таскала. Очень она меня любила и потому страдала, что такой замечательный ребенок – и «нехристь». Вдруг что случится, и попадет невинная душа в ад?.. Даже обсуждался этот вопрос дома. Родители посмеивались: отец – партиец, мама – бестужевка, оба убежденные атеисты. Ну и сам факт общения с церковью мог принести в те годы неприятности. Тогда за это строго спрашивали. Вот Шура и внушила мне: никому не говори. Головку тебе водичкой помажут, попоет что-то батюшка – и все. Не бойся. И крестные у тебя будут и крестик, как у людей. Нашла каких-то знакомых. Я их не помню, хотя несколько раз заходили к нам днем, даже конфетки мне приносили. Короче говоря, шила в мешке не утаишь. Чуть не в тот же вечер похвастал я родителям, что бородатый дяденька на меня водой брызгал в церкви. Слово за слово – все и открылось. Шуру не ругали, только смеялись над ее «темнотой». А она успокоилась за меня.
К сожалению, описания к этой фотографии нет. Возможно, это дети из дома на Никольской. Автор, очевидно, взаднем ряду второй слева, уже с флажком.
Не могу удержаться и не рассказать немного о Шуре – все детство остававшейся моим верным другом, заботливой няней, старшей сестрой. Неграмотная девчушка из подмосковной крестьянской семьи, приехала она в Москву к родственникам – нашим соседям Капицыным – Степану Харлампиевичу и Марии Ивановне. В деревне – невмоготу, а в Москве по малолетству ни на какую работу не берут. Помыкалась, помыкалась – хоть бы в домработницы, а и в домработницы нельзя, групком не велит, слишком молодая, ей тогда лет тринадцать всего. Что делать? Обратно в деревню ехать – у отца семь ртов, а и за эксплуатацию малолетней могли быть неприятности. Все-таки мои родители решились, взяли в семью на правах приемной дочери, года три без прописки жила. Все это по ее позднейшим рассказам знаю. И о голоде в деревне – шел тридцать третий год, и о том, что групком не брал – были тогда в домоуправлениях такие организации домработниц – профсоюз. Мне уже четвертый год шел, она на десяток лет старше, но читать учились на пару. Папа погнал ее в вечернюю школу. Она долго отбрыкивалась. В первом-втором классе по два года сидела. Родители настаивали, помогали. Взялась Шура за ум, когда и мне пришло время учиться. Я в первом, она в третьем. Организовали мы «взаимопомощь» – втайне от родителей – математика ей не давалась, а я был развитой ребенок, все ее учебники лет с пяти читал, географию там, ботанику, арифметику. Почерк у нее был хороший, а вот у меня... Так мы скооперировались: я за нее задачки решал, а она мои домашние задания по чистописанию выводила. Всякие палочки и крючочки вырисовывала. Так и учились, пока Шура не начала сама соображать. Живя у нас, закончила семилетку, пошла в техникум, в общежитие переехала. Но бывала еженедельно. Перед самой войной замуж выскочила, хорошо помню ее Петю – курсанта, потом лейтенанта. Уехали они куда-то. Объявилась у нас Шура уже после войны, году, дай бог память, в сорок седьмом. Из Германии они с Петей явились. Он уже подполковник, служил в оккупационных войсках. Не чета моему Алексею Новикову, но тоже не без орденов и медалей. Шура – гранд-дама, прическа по последней моде – «спереди танк, сзади авоська» – надо лбом кок, а волосы на затылке в сеточку убраны. Комнату им в Москве дали. Двое детишек уже. Натащила мне Шура всяких одежек, белья, маму одела. Мы в те годы жили скудно. Папа умер, комнату нашу на Никольской отобрали, я уже учился, стипендия двести рублей, правда, карточка рабочая да еще Р-4 – обеспеченный обед. Жили в основном на мамину зарплату, накоплений у нас никаких. Она вновь работала в Мострамвае, но уже в Управлении, на Раушской набережной, в отделе труда и зарплаты. Не голодали, как в войну, но с одеждой было туго. Я в престижном месте учусь – школа-студия при Вахтанговском театре, там у нас такие фифы, такие парни – генеральские дети, актерские отпрыски... Со мной на курсе Дарья Пешкова – внучка Алексея Максимовича, Алла Потатосова, будущая жена Астангова, Левка Берлин – сын генерала, и прочая, и прочая. А у меня туалеты – едва срам прикрыть можно. А ведь и в сад Эрмитаж бегал, и в модный тогда коктейль-холл на улице Горького заглядывал. Надо держать марку! Посылки тогда слали из Америки – старое барахло советским детям – помощь. Досталась мне синяя курточка чертовой кожи, с воротником-капюшоном. Узковата, но шик-модерн! Нашил на нее какие-то неимоверные пуговицы... Ботинки на деревянном ходу купил, зубной пастой их красил, брюки-клеш тоже на толкучке приобрел... Ну да об этом в свое время, сейчас о Шуре. Уже после армии донашивал я клетчатое демисезонное пальтецо, которое подарила она мне, вернувшись из Германии.
Очень многое в моем детстве с ней связано. Если жива – ей теперь за семьдесят. Давно ничего не знаю. И фамилии не помню. Шура и Шура. А вот отчество – Ивановна. Александра Ивановна. Это точно. Потому что знал и помню ее отца, дедушку Ивана. И он к нам в Москву наезжал, и я у них в деревне пару раз гостевал вместе с Шурой еще до школы. Году в тридцать четвертом, пожалуй. В ночное ездил вместе с младшими Шуриными братьями, сено ворошил, полол огород по силам. С того времени живет в душе неизбывная жалость и любовь к лошадям, к их теплому дыханию, большим добрым глазам, к запаху лошадиного пота. И запрягать, и править, и верхом ездить тогда учился. Не все, конечно, умел, но для горожанина был достаточно подкован, когда в годы войны довелось иметь дело с гужевым транспортом – лицом в грязь перед местными не ударил, не то что мои одноклассники – москвичи и ленинградцы. И пахал, и на косилке работал, и телегу мне доверяли. Все, как заправский сельский паренек, делал. Не прошли даром те летние деревенские дни у деда Ивана, да еще жительство в Валентиновке, на строительстве дачного поселка, которым руководил отец. Не отходил я от возчиков и лошадей.
В деревне у Шуры случилось со мной как-то несчастье, запомнил крепко: разворошили старшие ребята гнездо то ли ос, то ли диких пчел, кинулись бежать. Я последний, по мне и пришелся их мстительный акт. Искусали вусмерть – помню, как на бегу смазывал ладонями жалящих лицо и плечи разъяренных летающих бестий. Потом весь в шишках от укусов, чуть ли не в горячке, лежал на холодных простынях, и дед Иван притащил с огорода большой огурец, чтобы прикладывал я его к ужаленным местам. Полегчало. У деда был свой пчельник, несколько ульев. Помню, как качали мед, помню вкус свежих сот.
Связан с теми моими впечатлениями и приобщениями к жизни еще один забавный эпизод. После того, как весной и в начале лета пожил я на стройке у отца, поехали мы с мамой в отпуск, в Херсон. Большая комната папиной тети Насти на Форштадте – или на Военной, как называли в Херсоне одну из окраин. Мамины сестры жили в центре, на улице Карла Маркса, возле Суворовского бульвара с фонтаном. Только мы приехали, собрались у тети Насти, – и мамины родные, и папины: дядья, тетки, двоюродные, приятели, – гости из Москвы прибыли... Сидят они за столом, а я уже вылез, соорудил из подручных средств – ведер, табуретов, стула – телегу, приладил веревочные вожжи и погоняю, как наслышан от валентиновских возчиков-грабарей. Застолье постепенно стихает. Наконец – гробовое молчание и в нем лишь мои выкрики: «Но, холява! Но... твою мать! Но!» Вот вам и столичный племянничек! Грамотей, газеты читает... Кинулась ко мне мама. «Сейчас же замолчи!» А что я такого делаю? Играю. Хорошо, дядя Володя подхватил на руки, выволок во двор, объяснил, что нельзя говорить плохих слов, «черных». Даже растолковал, что они означают. Но почему «плохие», я же их от хороших, добрых людей слышал?.. И еще, раз уж зашла об этом предмете речь. Летом сорок второго, в зауральской эвакуации, когда наш класс послали из райцентра – села Куртамыш – в один из соседних колхозов обмолачивать оставшиеся в поле прошлогодние скирды с хлебом, у огромного зарода – локомобиль, молотилка, ручная веялка, два-три инвалида – и мы, тридцать «вакулированных» с вилами и лопатами деревянными. Транспорт – две грабарки с впряженными в каждую парой волов. Я над своими – старший. Староста класса. Задача – возить зерно с поля на колхозный ток. Километра два. Рвем вилами слежавшуюся, прелую, кое-где уже проросшую солому, кидаем в ненасытный зев молотилки. Кто послабее – на веялке, а уж совсем не способные к физическому труду – возчиками на грабарках, здоровых ящиках на колесах, куда грузим отвеянное зерно. Приказано за день обработать весь скирд – метров двадцать длиной, пять шириной и четыре, не меньше, в высоту. Завтра молотилку перебросят к новому скирду. На одной из грабарок москвичка Света Визирова – тоненькая, славная девушка, с толстой косой, интеллигентная такая, много стихов знает. Мне она нравилась. Часа два, как отправили мы ее на ток, а ее все нет и нет. На широкой ряднине возле веялки уже изрядная гора зерна. Давно пора грузить. Хоть останавливай работу – не сыпать же на прошлогоднюю стерню: не подберешь. Решил сбегать в деревню. Где-то на полпути услышал мат. Тоненький голосок вперемежку со всхлипами выкрикивал всякие непотребства. За кустами, на повороте дороги, съехавшая с колей грабарка. Два вола в ярме щиплют травку, вокруг них с прутом в руках бегает Светка и костерит их, на чем свет стоит. Они – ноль внимания. Увидела меня – залилась краской. Глаза зареванные. «Не идут, и все тут! Никаких цоб-цобе не слушают...» – и смущенно объясняет – тянут к обочине и никакой палки не боятся. Лупи не лупи. Спасибо дяденька один еще на току посоветовал: ты, мол, их так и этак шугани. Пойдут. Приучены. Вот я и...» Смеху потом было!..
Все, что выше, так сказать, все-таки «доисторический» мой период, исторический, с причинами и следствиями, начинается с тридцать четвертого, когда я уже вовсю читал. Научился сперва читать вверх ногами и справа налево. Отец, приходя вечерами с работы, распластывал на столе газету, а я, устроившись напротив, тыкал пальцем и вопрошал: «А это какая буква? А эта?» Так и привык было. Правда, родители вскоре заметили, что все время верчу книжку – посмотрю картинку и переворачиваю, чтобы прочесть текст. Переучили. А писать начал латинскими буквами. Года два ходил зимами в немецкую группу – были тогда в Москве такие группы: какие-то старушки из «бывших» собирали десяток дошколят и возились с ними целый день, гуляли, кормили обедом, даже спать укладывали. Родители забрасывали нас к ним до работы, а вечерами разбирали. Этакий частный детский сад с языковым уклоном. Мне достались две старушки-немки. Годам к семи болтал я по-немецки на бытовом уровне и писал латинскими буквами. Даже русские слова, хотя читал по-русски. Немецкий впрок не пошел. К пятому классу, когда начали изучать немецкий в школе, кое-что еще помнил. Так и проехал всю среднюю школу на дошкольном багаже. Не учил, не читал, но исправно получал свои пятерки. Еще бы – кто другой в классе мог понять, что говорит учительница?! И даже – ответить по-немецки. Большой редкостью было такое тогда. Язык иностранный – в страшном забросе. Уж какую цель преследовало это лжеобучение? Верно, не хотели, чтобы кто-то умел калякать на чужом языке, – верная подмога шпионам?! Кое-что из грамматики да «эс лебе геноссе Сталин!» – и достаточно. Так что язык ушел. Напрочь. Иногда вдруг всплывают какие-то отдельные слова, фразы, или становится понятной прочитанная этикетка. И всё. Во всем этом есть еще и психологический нюанс. Тогда же, в раннем детстве, политически подкованный пацан заявил родителям: фашистский язык. Учить его не желаю! Категорически. И не стал ходить в группу. Несколько уроков пыталась дать нам давняя мамина приятельница тетя Тамара. Нам – это мне и приятелю моему Володе Соколову, известному ныне поэту, с которым выросли мы в одном доме и дружили с пеленок до юности. Помню, как в знак протеста стреляли из резинки, надетой на пальцы, «козюльками» – туго свернутыми бумажками – по черной тарелке радиорепродуктора, висевшего на стене над головой тети Тамары. Она вздрагивала от резких щелчков, не понимала, что происходит. Так и не удалось маме сделать из меня полиглота. В театральной студни изучал уже французский, правда, тоже несерьезно. Научился лишь шикарно грассировать и вообще произносить французские фразы с роскошным прононсом. Преподавательница Ада Владимировна млела от моего произношения и ставила пятерки. И в МГУ французский сдавал. К тому времени работал уже в редакции, бегал к нашим французам, даже «Юманите» почитывал. Они очень меня поощряли. Но, сдав положенные тысячи знаков и получив в зачетке нужную отметку, – забросил... Не было времени и стимула. А вот украинский – навсегда в сердце. И одна из любимейших книг, наряду с пушкинскими стихами, шевченковский Кобзарь. И Леся Украинка. И вот уже три десятка лет – томик литовского соловья – Саломеи Нерис. Но о своем породнении с литовским расскажу в ином месте. И вот ведь парадокс: три десятка лет занимаюсь переводами с литовского, говорю скверно, каждую фразу мысленно перевожу с русского, а при чтении – на русский. А вот украинский – самопонятен, но переводить с него органически не могу! Он во мне так же, как русский: читаю, Киев слушаю, с украинцем беседую – не перевожу на русский. Принимаю, как данность. А пробуешь перевести – слащаво, сентиментально, недостоверно. Сам по себе украинский такого впечатления не оставляет. Нежность, ласковость – его суть, не мешает, не претит, как слащавость в русском. Вот и не смею. Больно уж близки и такие разные эти мои родные языки. Кстати, благодаря украинскому, сербскому и церковнославянскому, которые пробовал учить в первые послевоенные годы, зачем, расскажу позже, я довольно быстро научился понимать на слух польский, когда пришел работать в «Советскую литературу» и несколько лет сидел в одной комнате с польской редакцией. По сие время могу слушать Варшаву. Очень богат мир славянских языков, разнообразен, разнозвучен, но стоит привыкнуть к огласовке, строю, ударениям одного из них, и из массы непонятного начинают выплывать, вылупляться общие корни, и уже значимые слова сами собой складываются во все более ясную тебе речь, обретают смысл. Чуждое становится близким. Жаль, что так и не выбрал времени основательнее заняться этими языками. Раньше все недосуг было, а теперь – поезд ушел. Не так восприимчив мозг, медленнее схватывает, труднее запасает. Ленивее передают информацию нервные волоконца. Всему свое время. Вон у младшей дочери литовский – как родной. С раннего детства слышала, в Литву с нами ездила, вместе с литовскими ребятишками играла. Теперь и говорит, и пишет, и переводит с него. И английский у нее с детства, и немецкий по собственной инициативе ухватила, начатки шведского, французского, латыни. Жена у меня по образованию германистка, одно время преподавала язык. Когда Анке стукнуло лет двенадцать (она в английской школе училась), стала заниматься с ней немецким и удивлялась: такое впечатление, что та не новый язык усваивает, а вспоминает нечто хорошо знакомое, позабытое... Способная девка! У нас в стране сегодня какая-то чертовщина с национальными языками. Объявляем государственными, требуем, чтобы изучали. А ведь сколько лет вольно или невольно русифицировали, загоняли национальные языки в быт, в семью. Шовинизм? Да нет, в массе – просто леность и убеждение, что тебя и по-русски везде поймут. Синдром большого народа. В Литве многие мои ровесники (меня это просто поразило, когда я впервые попал туда в начале шестидесятых) знали литовский, русский, польский, немецкий, еврейский. И не какие-то там интеллектуалы-полиглоты, – самые обыкновенные продавцы, официанты, горничные в гостиницах. А уж об интеллигенции литовской и говорить нечего, кто-то учился в Германии, Бельгии, Англии (в годы независимости Литвы). Маленькому народу, ценившему свой родной, необходимы были и чужие – для дела, для овладения культурой. Нам, высокомерным русским людям, все на блюдечке с голубой каемочкой подносят: переводчики в поте лица работают, а живой чужой язык не нужен – сквозь пресловутый железный занавес просачивались лишь единицы. Так зачем голову себе ломать, утруждаться? А литовцы не ленились, овладевали, пусть и на бытовом уровне. Это же позор, что тысячи и тысячи моих единоплеменников, четыре десятка лет прожившие в Вильнюсе, в литовской языковой стихии, – куска хлеба, стакана воды себе на языке литовца попросить не могут. Да еще обижаются, что ныне от них это требуют. Ну разве не стыдно?
Ладно, читай!
Дальнейшее возникает в памяти все последовательнее и большими блоками. Надо ужесточить отбор, чтобы не погрязнуть в тысячах мелочей, теснящихся в голове. Вот, скажем, газета. Читал уже и о челюскинской эпопее, и об убийстве Кирова, и о войне в Абиссинии. Для меня все это не история – факты моей жизни. Перед глазами до сих пор некоторые иллюстрации из тогдашних газет: бородатый Шмидт, которому на льдине, чтобы он умылся, сливают из ковшика, абиссинский воин, в перерыве межу боями отдыхающий, сидя на древке копья, как мальчишка верхом на палочке, большой, во всю ширину листа, утопающий в цветах гроб на наклонном возвышении... И горе домашних: «Киров... Киров...» Вот так, через этот трагический гроб, через книжку «Мальчик из Уржума», фильм «Великий гражданин», через обещание Хрущева съезду партии расследовать обстоятельства убийства Кирова, действительные его причины, до недавно прочитанных «Детей Арбата» – пятьдесят пять лет длится в душе горькая судьба Сергея Мироновича. Французы говорят – шерше ля фам – ищи женщину, ищи, кому выгодно. Что уж тут таинственного? Еще тогда, в конце тридцать четвертого, ни у кого не было сомнений, кому нужна была его смерть. А мы до сего времени шипим: доказательств нет, не пойман – не вор. Полноте! У нас еще тогда в доме говорили: настоящий революционер, настоящий коммунист. И как теперь выясняется – апологет своего убийцы – Сталина... Первая в жизни понятная трагедия. Сколько еще таких трагедий ляжет на душу, рассечет сердце...
С отцом, на об.: 26 VI 37
Боль Испании. Тоже навсегда с тех, детских лет. Сьерра де Гвадаррама, Теруэль, Гвадалахара, Мадрид, интербригадовцы, испанские дети... А Димитров? Разве забудешь? Разве забудешь, как на твоих глазах – мальчишки, забравшегося под рояль – два далеко уже не молодых человека (отец и дядя Афанасий) жаловались со слезами на свои райкомы. Ругаются и плачут – просились в Испанию, а их не пустили. Стары. «Да как же это? Там же дети гибнут! Там же фашисты...» Не забудешь. И тоже – на всю жизнь рана. Много спустя – в «Советской литературе» – там есть и испанская редакция. В пятидесятые годы в ней еще работали эмигранты-республиканцы. А возглавлял редакцию известный поэт-коммунист Сесар Арконада, друг и сподвижник Гарсия Лорки, Рафаэля Альберти. Борцы Испании, первыми попавшие в мясорубку фашизма: Мария Кановас, Хосе Сантакреу, Висенто Эстебан Санчес... Господи, какими же восторженными, обожающими глазами смотрел я на этих легендарных людей, как любил их, как верил им! А ведь уже не молоденький – тридцатилетний, прошедший через горнило XX съезда, разоблачение нашего фюрера... Сесар, Хосе Сантакреу, Эстебан – много старше меня, а вот Хосе Наварра – едва лет на пять. Офицер Голубой дивизии, перешедший фронт, воевавший с гитлеровцами в рядах нашей армии. Франкисты заочно приговорили его к смертной казни, как дезертира и изменника. А он страстно любил родину и при первой же возможности, еще при жизни каудильо, поехал туда, не страшась возможного ареста и даже смерти. Горжусь тем, что он считал меня другом, много рассказывал и о войне, и об Испании. Хосе Наварра. Чернявый, небольшого росточка, с горящими глазами. Веселый и честный. Всей редакцией провожали его, когда он, один из первых, собрался в Испанию. Там была объявлена амнистия, и эмигранты-республиканцы потянулись на родину, которую многие покинули два десятка лет назад. Поначалу Хосе на родину не пустили, не разрешили сойти на испанский берег – приговор суда оставался в силе, он ведь формально был «предателем», а не участником гражданской войны. Но Хосе не смирился, поселился во Франции и чуть ли не нелегально пробрался домой. Еще были живы мать и сестры. Его арестовали. И только после смерти Франко получил он права испанского гражданина. Не приняла Испания и журналиста – многолетнего сотрудника «Советской литературы», а прежде – испанских республиканских газет, коммуниста Санчеса Винсенте Эстебана. Красавец, любимец наших женщин – большой, седовласый, громогласный жизнелюб, прекрасный переводчик. Ему тоже не дали сойти на берег. Жил во Франции, ждал разрешения. Не только этих людей я знал, но и их семьи, их детей. Вот к примеру – Кармен Сантакреу, девочка-пионерка в том лагере, где мне довелось какое-то время быть старшим пионервожатым. Она – дочь Хосе Сантакреу, руководившего после смерти Арконады испанской редакцией журнала. Умница, с ярким общественным темпераментом, родившаяся и выросшая в нашей стране. Как говорится, заводная – любое поручение по плечу, безотказная: газету выпускать, самодеятельность готовить, поход организовывать. Помню ее и комсомолкой. Великолепно владела эта девчушка и русским, и своим родным испанским. В начале шестидесятых уехала с отцом на родину. Когда по нашему телевидению показывают репортажи из Испании, все смотрю – не появится ли на экране знакомое лицо. И то, что сегодняшняя Испания нам друг, считаю следствием многих нашедших у нас в стране вторую родину республиканцев и их детей. Они не могут быть врагами СССР, хотя им, как и нам, частенько приходилось несладко, и многие мерзости сталинщины они ощущали на себе.
Не могу забыть седую, всю в черном старую женщину, которая сидела сгорбившись на стуле в малом зале Центрального дома литераторов в Москве, когда мы хоронили Сесара Арконаду. Легендарная Пассионария. Долорес Ибаррури – одна из героинь моего отрочества, да и всей последующей жизни.
Думаю, что до смерти будет жить в сердце тот юношеский, пусть наивный, но искренний вопрос, которым определялась сущность человека, его верность идеалам революции и интернационализма: готов ли ты отдать жизнь ради спасения испанского ребенка? – это до войны. После нее – греческого. И ответ самому себе, восторженному и не нюхавшему пороха – ДА! Что ж, яблоко от яблони недалеко падает. И нечего цинизмом и неверием, грехами и преступлениями подлецов, определявших жизнь страны, зачеркивать то великое и гуманное, что воспитали в нас отцы. Хочу, чтобы и мои внуки смогли так ответить себе на этот вопрос.
Газеты вошли в мою жизнь рано. А книги? Вспоминаю себя в постели, зареванного: мама на сон грядущий читает мне «Мцыри». В семье любили Шевченко, Некрасова. Еще малышом полюбил «Сашу», «Русских женщин». С тех времен и «Арина – мать солдатская», и «Муза», и «Парадный подъезд». И, конечно, Пушкин. Сначала сказки, «Руслан и Людмила». А уже в войну, в восьмом классе – на спор – всего «Евгения Онегина» наизусть. Из прозы – прежде всего наши классические «Детства» – Лев Толстой, Гаршин, Аксаков, Алексей Константинович Толстой, Горький, Свирский. Рядом и одновременно – Шолом Алейхем, Марк Твен и, конечно, Диккенс. И Оливер Твист, и Дэвид Копперфильд, и Николас Никльби, и Крошка Доррит. Господи, сколько слез пролито, сколько бессонных ночей. По общему мнению, современные дети стали читать меньше. Кино, телевидение, детективы, фантастика. Пожаловаться на своих дочерей не могу. Книгочейки. А вот как будет со внуками? Алешке уже семь, а еще ни одной книги самостоятельно не прочел. Умеет, очень любит слушать, но сам – не рвется. Ни одного мультика не пропустит, ни одной детской передачи. Книг – полно. Дед и баба постарались: и Анкину библиотеку сохранили, и для него впрок добывали. Конечно, знает он и Алису, и Пеппи, и Буратино, сколько времени я убил, читая ему про Тома Сойера, про Гека, про Тома Кенти, про Маугли, про Роберта Гранта... Одна надежда, что все у него впереди. Володька – внук от Маши – моложе Алеши на год, а читать любит. Анка-то с трех лет читала.
На об.: "Лето 1936"
В моем детстве книга была менее доступна, чем для нынешних. Школьные библиотеки – бедные. Классика только начинала широко издаваться. Сколько книг сгорело в «буржуйках», погибло в очистительном пламени классовой ненависти темных людей к буржуа и интеллигенции. И в десять, и в двадцать лет не восполнишь тот урон, что нанесли книге за годы революции. В библиотеке нашей семьи, как и у многих наших знакомых – едва самое необходимое: томики Пушкина, несколько книг Толстого, Чехова, Горького, Ленинское собрание... У нас, правда, были полный Гюго, Шиллер, почему-то приложения к «Ниве» – Немирович-Данченко, Лажечников, Успенский. До сих пор в моей библиотеке, заполонившей квартиру, отцовский «Капитал» – 1-й том, и одна из любимейших книг моего детства – «Вольная русская поэзия», бесцензурно изданная в начале века Вл. Бонч-Бруевичем. Там и «Сакья Муни», и «Дон Кихот», и «Утес Стеньки Разина», и «Дубинушка», и Рылеев, и Полежаев, и Надсон, и безымянные песни революционеров, и «Буревестник». Я не хвастаю, просто констатирую, вспоминая все то, что наложило отпечаток на формирование моего мировоззрения. Основы закладываются, по глубочайшему моему убеждению, именно с детства. И если не легли они в душу годам к шестнадцати – очень трудно воздвигнуть их, а легли – не выбьешь. Что касается чтения, то мне очень повезло: у отца был друг, наш же херсонец, дядя Ваня Василенко, если не ошибаюсь. Мы частенько встречались. А работал он заместителем директора ОГИЗа – что такое ОГИЗ, я тогда не знал, а вот книг у него была прорва – целая стена стеллажей, где не в один ряд, прикрытые простыми фанерными дверцами, стояли книги. Чего только не было там! Всё. И Жюль Верн, и Конан Дойль, и Мопассан, и... Ну кто из моих одноклассников мог тогда похвастать, что знает все рассказы о Шерлоке Холмсе, что читал не только «Трех мушкетеров», но и «Двадцать лет спустя», и «Виконта де Бражелона», и столь широко теперь распространившуюся за макулатуру «Королеву Марго», и «Черный тюльпан»?! А такие шедевры, как «Квентин Дорвард», «Айвенго», «Ричард Львиное сердце»? И все это я читал, благодаря щедрости дяди Вани. Читал беспрерывно. Глотал страниц по двести-триста в день.
Вечер. Под матовым молочным абажуром – обеденный стол. Мне на ужин полагается молоко с хлебом. И пока ешь и пьешь, разрешается читать. Как же растягивал я эту дарованную мне милость – отщипывал крошки от целого батона за рубль сорок – они тогда были белейшими, – едва смачивал губы молоком. В результате приканчивал чуть не целый батон и выдувал пол-литра молока. Только бы не загнали в постель. Одно время и в постели приспособился читать – накрывался с головой одеялом, зажигал электрофонарик. Иногда мою хитрость открывали, а иногда – сходило. Если книжка была предельно интересная, просыпался со светом и до вставания успевал проглотить десяток-другой страниц. Запойный, говорила няня Шура.
Вспоминаю один из первых дней в школе, куда я попал вопреки строгому правилу – «Только по достижении восьми лет». До заветного рубежа мне еще почти полгода. Весной, когда записывались в школу многие приятели, уговорил маму сходить со мной туда, попробовать. Отказали. Канючил до тех пор, пока не упросил отца – ведь сам учитель. Не выгорело. Родители смирились, а я не мог успокоиться.
В тот год вернулись мы с Украины где-то к концу сентября. Занятия в школе в полном разгаре, чуть не все приятели – там.
Короче говоря, отправился лично. Явился к директору. Только позже узнал, что ее боялась вся школа: строгая. Помню, звали Мария Михайловна. Большая, толстая, лицо крупное. Диалог мой с ней неоднократно повторялся дома, поэтому могу привести его:
● – Чего тебе, мальчик? Ты из какого класса?
● – Я ни из какого. И это несправедливо. Фальку Казачка приняли, а он ни читать, ни писать не умеет... и в штаны писает.
● – А ты?
● – Я не писаюсь! С детства.
● – Я не про то: читать-писать?
● – Еще как! И считать до тысячи могу, даже больше.
● – Ну-ну. И в какой бы ты класс хотел?
● – В первый «Б»!
● – Почему?
● – А потому что там Ирка Мазина учится.
● Ирка – из нашего коридора. Моя первая любовь. Пожалуй, все шесть лет до войны.
● – А... Ну если Ирка Мазина...
Предложила мне что-то прочесть, усадила за лист бумаги – рисуй, – показала какую-то картинку – палочки, закорючки – убрала. Что запомнил, то и нарисуй. Нарисовал. И разрешила мне Мария Михайловна завтра утром приходить в первый «Б»! Горд я был чрезвычайно. Дома даже сразу не поверили. Все учебники, тетради, пенал, ручка-вставочка – еще давно заготовлены. И портфель тетя Аня подарила. Крепкий такой, синей кожи, вместительный. Утром чуть свет побежал в первый «Б». Учительница знакомая, тоже из нашего дома. И маму знала. Елизавета Абрамовна. Приняла, пересадила кого-то и, по моей просьбе, устроился я на одной парте с Ирой Мазиной. Учусь день, два, три... Мура. Скукота. Даже букв еще не пишут, какие-то палочки и крючки: нажим-волосок. Откинул крышку парты, навалился на нее лбом, а на колени – книжку. Не учел, что с Иркой на предыдущей перемене поссорились. Читаю.
– Лизаветабрамна! А Юра Герасимов взрослую книжку читает!
Всё! Пропал. Конец. Сейчас вытурят меня из класса и... прощай, школа. Похолодел от ужаса, руки-ноги отнялись. Сижу истуканом.
Елизавета Абрамовна подошла, взяла у меня с колен книгу, полистала:
– И что же ты читаешь, Юра? Жюль Верн, «Из пушки на луну»... Гм. Наверно, ничего не понимаешь?
И тут меня как прорвало, захлебываясь словами, принялся пересказывать приключения героев. И про пушку, и про заряд пороха, и про то, как сверлили в горе пушечное жерло... Снаряд, в снаряде трое людей! Бах – и полетели к Луне!..
Учительница послушала меня, послушала, положила книгу на парту и сказала:
– Ладно. Читай.
С отцом, на об.: "Дорогому моему сыну самому старшему,Милому сыну моему самому младшемуСнимал дядя Ваня 26/VI - 37 г. в г. МосквеПосылаю на Кавказ куда уехал ты из Херсона 1/VII - 37 г.Твой отец. <подпись: П. Герасимов>. 5/VIII - 37г."
Таким образом не только весь первый класс, но во втором, третьем и четвертом я частенько беззастенчиво читал на ее занятиях. Не думайте, никаким особенным вундеркиндом не был. У нас в классе немало других отличников было, а я иногда и «посы» хватал. Учились рядом ребята отличные, развитые, куда умнее и усидчивее меня. Фелька Алексеев, Ленька Дуб, Степа Мирский. И девочки – хоть куда. Только одна отличница, такая Маркина – тоже Ира, кажется, зубрила и ябеда. Класса до третьего тянула, а потом съехала. Забили мы ее. Класс был очень сильный... Если бы не война... Ленька из нашего дома, Фелька в «Метрополе» жил: из нашего двора к нему – раз плюнуть, соскользнешь в дыру китайгородской стены, куда полагалось лить смолу на головы нападающих врагов – и ты уже во дворе гостиницы «Метрополь». А Мирский вообще в школьном дворе жил. Он, я, Феликс Алексеев – головка класса: один редактор стенгазеты, другой староста класса, третий – председатель совета отряда, на другой год меняли нас местами. Иногда понижали до звеньевых, за какие-нибудь безобразия. Что там говорить. Когда перешли в пятый, к этому времени всех второгодников отправили в ремеслуху. В классе осталось двадцать семь человек. Не только ни единого отстающего – все лишь на отлично и хорошо. В классе – красное знамя школы, переходящее каждую четверть, а на учительском столе кожаный бювар – лучшему классу за успехи – итоги подводились каждую неделю. И так два года подряд. Вот какой класс был. Все пионеры, все «значкисты», кружковцы. БГСО, БГТО, Юный Ворошиловский стрелок, Юный моряк, Юный авиамоделист... Ни у кого меньше трех значков не было. Классная руководительница в почете. Галина Григорьевна Березницкая. Географ. Все проверяющие и гости – в наш класс, на все слеты во Дворец пионеров – из нашего класса. А мы особенно носа не драли, поэтому не упомню случая, чтобы нас, «бешников», кто-то обижал в школе или на улице. Даже наоборот, гордились нашими успехами. Слишком рано разрушился коллектив, все-таки еще дурачки-шестиклассники. А прожив вместе до десятого, может, и остались бы на всю жизнь друзьями? Сохранили связи... Общность... Не довелось. Лето сорок первого зачеркнуло.
С отцом, на об.: "Дорогому моему сыну самому старшему,Милому сыну моему самому младшемуСнимал дядя Ваня 26/VI - 37 г. в г. МосквеПосылаю на Кавказ куда уехал ты из Херсона 1/VII - 37 г.Твой отец. <подпись: П. Герасимов>. 5/VIII - 37г."
Не подумайте, что учеба и чтение книг составляли главное содержание моей детской жизни. Не был ни тихоней-отличником, ни книжным червем, ни хилым интеллектуалом. Фига! С не меньшей страстью играл в казаки-разбойники, в двенадцать палочек, в штандар, лапту, футбол, часами сидел с удочкой в надежде вытащить из любой лужи малявку, днями шатался по лесу в поисках грибов, орехов, ягод, дрался, поглядывал на девчонок. Все было. Как говорится: «и ничто человеческое»... Единственное, чего не делал, это подлянки, как я ее понимаю до сих пор. Старался избегать. Плохо умел врать. Не умел вовремя смыться. И каяться не умел: надо – не надо, считал себя правым. А уж неправ – тут же готов повиниться. Такой характер. Но все это уже в более взрослом состоянии. Единожды в жизни оболгал товарища, и та детская вынужденная ложь до сих пор занозой сидит в сердце. Вынужден рассказать об этом, раз уж начал. Не оправдываться собираюсь, не каяться, тем более, что тот инцидент в свое время разъяснился, и мы с этим моим приятелем остались в хороших отношениях. Но что было, то было. Из шуриного кошелька начали пропадать деньги, оставляемые ей для покупок. Сначала копейки, потом двугривенные, а вскоре рубли и даже трояки. Семь лет мне тогда было. Никаких особых запросов, требующих денежных вложений, я еще не имел: все, что нужно, у меня было. И на детский сеанс в «Метрополе», и на конфету «Мишка» или «Памир» – двадцать пять, тридцать копеек в неделю папа мне выделял. И вот, пропадают деньги. Первый подозреваемый – я. Весь день дома только мы с Шурой, да нет-нет заходит кто-нибудь ко мне – Володя, Котька, Ирка, Витька Рыжий. Мало ли зачем заходят, то спросить о чем-то, то книжку взять, то поиграть... Но я-то все время с ними, никуда они не лазят, нигде не шарят, тем более в отгороженном углу, где спит на сундуке Шура, висят ее наряды, стоит тумбочка. Что им там делать? Мои игрушки в больших картонных ящиках под диваном и кроватью, книги – на этажерке у окна, да и кто из них, да и сам я, знает, что у нее в кармане пальто кошелек с деньгами? Но деньги-то пропадают. «Ты взял?» – «Нет». – «Может, сама потеряла сдачу?» – это ее предположение. – «Не знаю». Раз, другой, третий. Раньше такого не бывало. А тут сразу трояк! Кто же, кроме тебя? – «Честное слово – не брал я ничего», – и в слезы. Сказала маме. Допрос. Скандал. Вечером серьезный разговор с отцом. Но мне не в чем признаваться. Через несколько дней опять пропажа. Ты! Ты! Ты! Что делать? Как докажешь – ведь когда Шура на кухне дома только я или сам, или со своими дружками. Они? Нет! В воскресенье с утра отец снова ведет следствие, логически доказывает мне, что кроме меня – некому. Признайся, не ври, ничего тебе не будет. Дошел я до края. Деваться некуда. Спасительная мысль: пусть я! – «Да, брал». – «Куда дел, что купил?» – А ничего я не покупал. Ни конфеты лишней, ни игрушки. – «Куда же девал деньги?» Три рубля. Капитал не маленький. – «Я их... я их отдал!» Одна ложь тащит другую. – «Кому?» Откуда я могу знать – кому, если на самом-то деле не брал? Кому?... Аникею. Жил в нашем доме такой парнишечка, Аникей. Мама когда-то с его отцом вместе работала. Аникей старше меня на год. Заглядывал к нам редко. Мы не дружились. Аникей? Пошли к Аникею. И что самое ужасное, после долгих допросов и Аникей признался, что брал у меня деньги, что потратил их на кино и сладости. Признался! На время все успокоилось. И кражи прекратились. Аникей даже не поддал мне, только смотрел исподлобья, когда сталкивались в коридорах или во дворе. Недели через две настоящий преступник обнаружился. Ближайшая соседка и даже дальняя шурина родственница Лидка Капицына, дочь Марии Ивановны. Ходила она к нам без стука, как к себе. Между прочим, и я к Капицыным ходил запросто. Почти родные. Лидка «большая», лет на пять старше. В наших играх – учительница: усаживала, заставляла писать в тетрадках, отметки ставила. У нас в комнате – телефон, по тем временам редкость. Поставили папе, как ответработнику. Все соседи ходили звонить. А Лидка – без спросу. Особенно днем, когда только мы с Шурой дома. А уходим гулять – на всякий случай, после того моего путешествия из Зарядья, оставляем у Капицыных ключ. Они у нас – свои. В тот час меня дома не было, гулял во дворе. Шура откуда-то вернулась – дверь открыта, а в ее закутке – Лидка, и у нее в руках кошелечек. Всё. Папа передо мной извинялся, к Аникею ходил. Потом мороженым нас угощал. Все прошло, вроде бы забылось, но я с тех пор не вру. Ни по-крупному, ни по мелочи. Не могу. Виноват – сразу признаюсь. Считаю, что не виноват – на части режь! Это качество здорово мне в жизни мешало. У нас ведь любят, чтобы принародно раскаивался. «Виноват – исправлюсь», и, глядишь, все прощено. А тут упрется, как: баран, и ни в какую. Наказать! Наказывали. И поделом, и зазря. Так уж получалось. И вот кажется мне, что как в капле воды можно угадать свойство океана, так в этом мелком случае из моей, да и только ли моей детской жизни, видится та страшная лавина «признаний», приведшая нас к тридцать седьмому, к сорок девятому, ко всему сволочному, что сотворилось с нашим народом. Ну да ладно, будем надеяться, что это дело прошлое, хотя еще ой как много начальничков и общественников осталось, готовых довести человека до принятия на себя несуществующей вины. И в милиции до сего времени практикуется: не раскрыто дело – возьми, подследственный, на себя, все равно уж... А тебе за это кое-какие послабления. И берут. Такой элементарный фокус.
Ладно, хватит об этом. Вернемся в середину тридцатых, возвратимся к моему детству, к его играм и друзьям.
Года три подряд самой главной нашей игрой были солдатики. Оловянные. Штука дорогая, не по карману. Каждое прибавление армий – праздник. Сэкономишь на завтраках, не сходишь в киношку, не слопаешь законной воскресной конфеты с лотка у Третьяковского проезда – глядь, два пехотинца или один конник. А то кто-нибудь из гостей, бегая по московским магазинам, вспомнит младшего братца, притащит целый десяток, или отец расщедрится. Росли наши полки медленно. А тут фильмы «Александр Невский», «Суворов» – каре, батальоны, немецкая рыцарская «свинья» – разве сгромоздишь из нашего воинства нечто подобное? А кроме того, «Кондуит и Швамбрания» Кассиля... Государство свое, со всеми вытекающими... Выход был найден – пластилин, бумажки серебряные от конфет, спички. Лепили, украшали фольгой – иногда и золотая попадалась! – вооружали пиками. Из одной пачки сразу сотня. Да и пластилин куда дешевле солдатиков, а кроме того, родители охотнее дарили его: ребенок лепит, творческий процесс... Мы с Володей Соколовым образовали два дружественных королевства, с принцами, герцогами, гвардией, маршалами, интригами, дворцовыми переворотами и прочим романтическим антуражем. Позднее появились при дворах дамы. Заключались тайные союзы, скреплялись кровью договоры, запечатывались теми же пластмассовыми печатями с оттисками гербов с царских копеек. Изо дня в день шла дворцовая жизнь, принимали послов, готовились к отражению вражеского нашествия, – создавались все новые и новые полки, их полковники и прочая и прочая. Враг – Котька Субашиев. Не очень мы его любили. Нагловатый, врун и на руку нечист. Воровал, бывало, наши войска целыми отрядами. Перерядит и выдает за свои. Что поделаешь. Надо же с кем-то воевать, заключать перемирия, даже составлять договоры о вечном мире, которые назавтра могли превратиться в пустые бумажки из-за коварства Кота. А какие династические свадьбы мы закатывали, какие балы и парады! Как бились наши верноподданные с псами-рыцарями или гвардейцами кардинала. В лепешку! (Даром, что ли, из пластилина).
К пятому-шестому классам наши государства начали выходить из мрака феодализма. Организовывались газеты, которыми мы постоянно обменивались, начинали выходить «литературные журналы» на четвертушках тетрадных листов, составлялись карты с обозначением городов, крепостей, столиц, гор, морей и рек. Возникала промышленность, выпускавшая разнообразные орудия, самолеты, гиперболоиды. Наступало время революций, свержение монархий. Шел постоянный обмен «зарубежной информацией» и разведданными, газеты разоблачали фашиствующего Котьку, ставшего уже не Субашиевым, а Орловым – по фамилии настоящего отца, который никогда с ними не жил.
На даче в Крюково, которую с большим трудом из списанных трамвайных шпал (напомню, что мама работала в Мострамвайтресте) года три строили родители, мною была создана уже не воображаемая, а вполне реальная страна: из обрезков досок, кубиков, камней, песка, травы, веточек еловых. Пашни, леса, замки. Вырыты реки, каналы, морские заливы, создан флот из соснового корья: фрегаты, бригантины, барки, корветы и т. п. Человек собственноручно творил мир. Все-таки в игре самое главное – подготовка к ней. Не фантазии, а реальная работа – вожделенное изготовление реальных атрибутов – солдатиков, кораблей, знамен, фортов, издание газет, рисование карт, придумывание названий. Когда все готово к игре – она заканчивается. Становится неинтересно.
В последний предвоенный год армии уже пылились в картонных ящиках под диваном. Оловянных солдатиков своих числом 425 штук я променял на фотоаппарат «Кодак» с раздвижной гармошкой, видоискателем и перевернутым изображением на матовом стекле. Кассеты, пластинки, проявитель-закрепитель, красная лампа – вот что стало занимать мысли, вот на что уходили теперь все мои мизерные денежные авуары. От прежней жизни остались только «газеты», но они уже потеряли строгую периодичность, выходили нерегулярно. И описывалась в них уже фиктивная, не существующая даже в модели жизнь. Мы взрослели, и отражающее подлинную жизнь слово все больше привлекало нас. Любопытство, а может, настоящая любознательность толкали нас к «взрослым» книгам, уже не <к> приключениям, не к занимательным фабулам. Ширился круг тем и сюжетов, все ближе открывающих нам человека. И, конечно, сопутствовали этому первые начатки любовных переживаний. Что-то тайное, разделяющее тебя и девчонок, с которыми прежде без всякого стеснения бегали со двора в один туалет. Кто-то заходил, кто-то дожидался очереди.
На об.: "Лето 1936"
Ирка Мазина начинала наделяться чертами героинь читаемых книг: она и Эсмеральда, и Мадам Бонасье, и ветреная Манон Леско... Пухлогубая, сероглазая, над пышной светлой челкой – белый шелковый бант. Ее мать была полькой со звучной фамилией Гостимская. И в этом тоже было свое очарование. Тогда нам в руки впервые попали романы Генриха Сенкевича, увидели мы в фильме «Богдан Хмельницкий» пусть враждебную, злую, но такую прекрасную и гордую полячку. Записки с мольбами о свидании, тайно подсунутые в Иркин дневник или портфель, когда можно было запросто, даже без стука открыть двери их комнаты и сей же час увидеть предмет своих воздыханий, какие-то непонятные томления, печали, взрывы буйной радости, ревность к тому же Косте Орлову – оказалось вдруг, что она отдает ему предпочтение – он на класс младше, но в смысле всяких любовных игр на голову выше нас, сопляков. Володька-то пока совсем сосунок. Даже теоретически. А Кот... Ого! Его одинокая мама, не успевшая окончить гимназии дворяночка – субтильная, светленькая, тоненькая и, как я теперь понимаю – глубоко несчастная женщина, жила трудно. Их комната – длинный, полутемный узкий пенал – один из дешевых номеров «Славянского базара» – служила пристанищем часто сменяемых «отцов». Так что Костя был докой по части «любви». И девочки на него клевали. Он и нас пытался обучить тому, в чем уже поднаторел сам. Володя как-то отошел в сторону, а я попал Коту в лапы. Тринадцать лет. Шестой класс. И не один Кот – учитель. Во дворе полно великовозрастных оболтусов. Неподалеку «Метрополь» с его вечерними девочками. Кое-кто водит кавалеров в наш садочек... Мы таимся по бойницам, регочем в самые ответственные моменты. Сексуальное воспитание, о котором только теперь начали говорить. А тогда – обнаженная женская фигура в какой-нибудь старой книге – и ты уже разглядываешь исподтишка запретный плод. И стыдно, и сладко. В школе – кафельные коридоры. Как-то раскатился, а из дверей класса в самый неподходящий момент вышла Иза Муравьева. С налету облапил ее – не мог остановить раскат, без всяких задних мыслей, – ощутил под ладонью небольшое твердое яблочко девичьей груди... и схлопотал по физиономии. На глазах у всего честного народа. Меня, старосту, девчонка ни за что ударила! Раньше бы такой сдачи дал. Позор. А тут сник. Замер. Молча уселся за свою парту. Наши мальчишки уже распускали руки, так что я получил пощечину вместо кого-то другого... Или вот: вернулся из школы, только перекусил – прибегает Кот. – Идем, что покажу! – Пошел к нему. На материнской двуспальной кровати полузнакомая деваха с нашей улицы. – Хочешь? У меня, сдается, кровь из ушных мочек брызнула... Да ведь оказать себя трусом, младенцем никак нельзя. Никак. Да еще перед курносым плюгавым Котькой. С серьезным видом выдавил, дескать, не в настроении что-то. Затеял общий серьезный разговор, уж не помню, на какую тему, посидел минут десять и смылся. И даже не корил себя. Уже впечаталось в душу: «Умри, но не дай поцелуя без любви». Оправдание? Или убеждение? Думаю – убеждение. Без этого – скотство. А Котьку стал после того случая презирать, хотя к весне Ирка таки-предпочла мне его, о чем заявила самолично. Страдал, но не терял человеческого достоинства. Найдем другую.
Так закончилась последняя весна моего детства. В июне началась война.
Мое поколение
В классе был я самым младшим. Рядом ребята на год, а то и на два старше. Упоминавшиеся уже Лева-Боря, тоже старше. И сестры, и украинские «браты» Слава и Саша. Им уже по 13-17, но я в свои восемь-десять в их компании – на равных. Многие уже комсомольцы, за девочками захлестывают. Мне пока не до девочек (хотя считалось, что влюблен в Ирку Мазину), но про бои в Абиссинии, про челюскинцев, а позже об Испании, озере Хасан, Халхин-Голе все знаю, имею свои суждения, прогнозы, пристрастия. И где-то, не на первом плане, но постоянным фоном – «враги народа», процессы, имена развенчанных вождей и маршалов, их фотографии, заштриховываемые в только что выпущенном учебнике истории СССР... Пропажа портрета Плеханова, Вера Григорьевна Корецкая, живущая у нас после того, как ее мужа «взяли»; какие-то разговоры папы и мамы об исчезновении друзей, знакомых: тети-Баиного мужа Иосифа – венгерского коммуниста, жившего с семьей в «Деловом дворе» на площади Ногина, майкиных родителей (Майка Кофман – дочь дальних родственников мамы, ее родители-коммунисты вернулись из Франции) – у всех этих людей мы бывали в гостях, они ходили к нам. Но это не главное, главное – фильмы «Чапаев», «Ленин в Октябре», «Если завтра война», «Карл Бруннер»... И, конечно, «Волга-Волга», «Трактористы», несколько позже – «Профессор Мамлок», «Большой вальс»... Театры – ГосЦенТЮЗ, Третий Детский – игравший в нашем же доме, с актерами Гушанским и Сажиным, мамиными знакомыми – она и тетя Аня работали с ними еще в Камышине, в театре, после революции... «Голубое и розовое» по пьесе Бруштейн – тетки Фельки Алексеева, друга и одноклассника, «Двадцать лет спустя» – Светлова, «Проделки Скапена». Протыривались, проникали мы в театр часто, знали все входы и выходы, знали актеров и билетерш, играли «в театр». И, конечно, книги, книги, книги. Так что на равных рассуждал я о многих животрепещущих вопросах со своими старшими товарищами.
Уже в сороковом заезжали дяди-Володины: Лева – с финской, Слава – курсант Ленинградской Военно-морской медицинской академии. Бывал Мирркин жених – кончавший летное училище... И в домовой компании перемены: пропал сосед дядя Адам, забрали отца Фальки Казачка – у него было по ромбу в петлицах, ушли служить Петька Живчиков – «астрахан» – его братишка учился пару лет в одном классе со мной, хулиган, второгодник и тоже «астрахашка»: у их отца – орден Красной Звезды. За Астрахань. Это мы узнали позже. Призвали Юрку Чуму, Валерия со второго этажа, Петуха – тоже Петьку, сына уборщицы тети Клавы, Витьку Шляпкина – эти ребята, вернее, парни, главенствовали в доме, во дворе нашем, да, пожалуй, и на улице. Юрка Чума – самый главный. Его слово – закон. Мне повезло. Одно время ухаживал он за Мирркой, когда она только приехала из Херсона и жила у нас. Так что я был «неприкасаемым», обижать меня никто не смел. Сам Чума меня признавал! Валерий и Витька – между прочим, Витькин отец, с пышными горьковскими усами, работал в двадцатые годы вместе с мамой в каком-то статуправлении, и мы были «знакомы домами», – так вот, эти парни играли один на гитаре, другой на мандолине, и частенько где-нибудь в тихих закутках огромного нашего дома сбивалась компания, задавались концерты, пели «Марусю», «Кирпичики», «Мурку», еще какие-то блатные песни, но сдается, и что-то свое. Играют они, поют, а мы, мелюзга, кучкой на полу, у ног. Не отсюда ли, не с этих ли музицирований наши послевоенные барды и менестрели? Не только в арбатских переулках звучали самодельные песни... Ни Валерий, ни Витька с войны не пришли... Все, о чем сказал выше, дает мне право считать, что поколение, в котором числю себя – не ровесники, <а> старшие. Комсомольцы тридцатых. Опоздал я с ними погибнуть, но их идеалы, их вера – во мне. Сверстники и те, кто годом-двумя моложе, вступили в сорок первый детьми – я подростком. Даже первый муж моей старшей сестры Музы Борис – комсомолец двадцатых еще, инженер-горняк, – человек моего поколения. И двоюродный Борис, сын маминой старшей сестры тети Насти, боевой херсонский комсомольский вожак, красавец и спортсмен – представитель моего поколения. Вернее, я – его поколения. Дата рождения значит многое, но не всё. Коминтерновец, подпольщик, политзаключенный Александрас Гудайтис-Гузявичюс – известный литовский писатель, с которым я близко познакомился в последние годы его жизни и книги которого мы с женой переводили, – тоже представитель того поколения, что считаю я своим, хотя был он старше меня лет на двадцать. Поколение – это общее мировоззрение, общий дух, общие беды, заботы и радости. Общие юношеские клятвы. Общий критерий всего окружающего. Вот почему, хотя получил я комсомольский билет только в ноябре 1942 года, считаю себя комсомольцем тридцатых годов, со всеми, как говорится, вытекающими отсюда последствиями: с гордостью и болью, с ошибками и преступлениями, свершениями и провалами, со стыдом и покаянием за содеянное.
В рыбаковских «Детях Арбата», в молодых героях Юрия Трифонова – вижу себя, пусть понимал куда меньше, знал куда хуже. Но чувствовал так же! Мы – дети революционеров, пережившие тридцать седьмой. Наивные, всему верившие, готовые и сегодня сражаться за свои идеалы не на жизнь, а на смерть. На этом стояли и стоим. С этим уходим. И потому 56-й – наш год. И 85-й – наш год. Поэтому – «Всегда готовы!»
Поэтому и тридцать седьмой, и осмысление его в последующие десятилетия, поэтому Сталин и отношение у нас к нему – свое, на особицу. Для нас – это наша трагедия, наш позор. Наши родители, пожалуй, знали всему цену, наши дети порой ни во что не желают верить. А мы? Мы свято верили и свято ненавидим, осознав, что это было за время, что это была за фигура, растлившая, распявшая революцию, наплодившая тысячи и тысячи маленьких тупых тиранов и палачей, уничтожившая миллионы простых, честных и благородных людей. Ныне в нашей прессе полно статей, тем дням посвященных. Пишут о Ягоде и Ежове, Берии и Абакумове, Кагановиче и Ворошилове, о сотнях «чего изволите», исполнителях и карьеристах, рядовых мародерах и предателях, растлителях душ и мелких мерзавцах (правда, почему-то в основном о тех, с кого невозможен спрос...) Говорят и о главной фигуре, главном убийце, главном палаче. И находятся еще личности, требующие воздавать ему за заслуги, которых он не совершал. Индустрию, видите ли, создал, войну выиграл! Вранье! Вопреки ему разгромлен фашизм, вопреки его бездарному руководству строилась держава. И лишь благодаря ему на десятилетия отстали мы от передовых промышленных стран, лишь по его милости перебивается наш народ с хлеба на квас, земля не родит, труженики разучились трудиться, недобитые интеллигенты превратились в трусов и подхалимов, а многие люди в Иванов, не помнящих родства, в пьяниц и воров. Если что-то и сделано, создано, построено – то только вопреки сталинщине, ибо все-таки оставались силы в народе нашем, совершившем революцию и веровавшем в нее. Похабно называть палачом народов Гитлера и умалчивать, умалять вину людоеда Сталина. Мерзко поддерживать миф о его гениальности и величии. Властолюбивый, мнительный, жестокий, хитрый негодяй и садист, на совести которого не только вымершие в начале тридцатых села, не только расстрелянные и замученные в тридцать седьмом – сороковом миллионы, не только старцы, дети и женщины, – калмыки, черкесы, крымские татары, немцы Поволжья, балкарцы, – но и полки, окруженные и плененные в сорок первом – сорок втором, дивизии и корпуса победителей, бросаемые в мясорубку войны – освобождать города в качестве подарков Вождю к определенной дате... Палач, лишивший наш народ десятков миллионов его самых честных, преданных сыновей, поднявший на поверхность подонков, создавший условия, в которых это дерьмо – безграмотное, карьерное, «лично преданное» – всплыло, захватило в свои загребущие лапы власть и шесть десятилетий отравляет воздух во всем мире. А что большее может творить дерьмо? Давно сгнил «отец народов», ушли в небытие его присные, а их последователи и последыши все еще смердят, и не только в нашей стране... Ничего не получится у нас с перестройкой, пока не разоблачим и не погоним прочь всю эту шушеру, до сих пор заправляющую нашей жизнью, клыками и когтями вцепившуюся в живое тело народа, сосущее его кровь. Полумерами, полуправдой развенчать «гениального отца» – не удастся. Его надо судить, судить по всем правилам: с прокурором и адвокатами, с допросом свидетелей, с преданием гласности всех документов его преступной деятельности, с приговором, который никто не посмел бы отменить. Если твоя вина рассмотрена судом, квалифицирована, если она доказана – можно ответить тем тысячам адептов Сталина, что и по сию пору поднимают голос в его защиту: «Все, приговор вынесен и обжалованию не подлежит!» Выносить, выкапывать его прах из-под кремлевской стены не нужно. Только на могильной плите указать – «Здесь погребен человек, чьи преступления против человечности превышают всё, известное роду людскому. Здесь лежит палач народов, садист, обладавший неограниченной властью, здесь – Сталин. Помните об этом, люди, и будьте бдительны!» Текст может быть и другим, но смысл его в назидание потомкам должен быть таким. А вот могилы его присных и жертв: Орджоникидзе, Калинина, Кирова, Куйбышева, Мехлиса, всяких Ждановых, Сусловых и прочих, вплоть до Брежнева и Черненко, – убрать. Перенести, но чтобы на их могильных плитах эпитафии тоже соответствовали истине. Пусть вновь созданный «пантеон» превратится в кладбище скорби и позора. Зачем нашему народу в свои праздники ликовать возле этой свалки, где лежат не только мерзавцы, но и действительно великие люди, составляющие народную славу и гордость? Пусть лежат рядом, они тоже виновны: они допустили Сталина. Но веселиться рядом с покойниками? На кладбищах тихо. А тут гуляния устраивать? Позор! Азиатчина. Фараоны египетские. Неужели не понимают? И может, придет время, когда народное праздничное ликование обретет здесь свою суть – память об освобождении от тиранов и палачей. А Мавзолей? Мавзолей... Все больше ощущаю противоречия и ущербные деяния Ленина. Непогрешимый? А может, поторопился Владимир Ильич взять власть? Больно уж не терпелось? Дать бы России фору в пару десятков лет, чтобы поразвивалась она, как буржуазная республика... А то ведь сыграли на не самых чистых помыслах народа, уставшего от войны, посулили рай земной, ввергли в ад гражданской, понасажали в каждой волости «волостителей», зачастую далеко не из самых светлых личностей... Да и широковещательно объявленные «свободы», почитай, тут же «временно» отняли... и с концом. Кивали на обстановку, объясняли насущной необходимостью момента, а потом забыли возвратить – и свободу печати, и свободу собраний, и добровольное служение в армии, и даже... землю, волю, человеческое достоинство... Ну, да будем считать, что не успел Ильич – война, разруха, безграмотность, голод, бегство и неприятие действий новой власти немногочисленной интеллектуальной прослойкой, отсутствие у народа – недавнего раба – демократических традиций. И всего-то какой-нибудь год без войны – ведь уже в начале двадцать третьего – инсульт, потеря речи, паралич... Трудно винить, хотя и можно. Но мавзолею тут не место. А вот его преемник пусть... Уверен, ни единому тирану, известному истории, не потребовалось столько жертв для утверждения своей власти. Ни в какое сравнение с ненасытностью Сталина не идут жестокости и бесчеловечность Нерона, Аттилы, Тимура, Ивана Грозного. На их счету тысячи, пусть десятки тысяч замученных, распятых, затравленных дикими зверями, а тут – десятки миллионов! И не только инакомыслящих, инородцев, вчерашних врагов, не только врагов внутренних, покушавшихся на власть и жизнь тирана, – под подозрением вся стосемидесятимиллионная страна, целые народы, объявленные «врагами народа», вся Восточная Европа, которую мы освободили от фашизма и передали в руки кровавым прихвостням Сталина. Не будь такого деятеля, как, скажем, Матиас Ракоши, возникли бы «венгерские события»? А все политические процессы в Чехословакии при Готвальде? А польские сталинисты, хапавшие миллионы, посылавшие детишек учиться в Кембридж, строившие себе роскошные виллы на Балтике? Перерожденцы, враги собственных народов, не за страх, а за совесть служившие московскому диктатору и его последователям – все они опирались на него, на его наследие, на косную силу Советской армии и более того – на коварные, антинародные силы советского Комитета Госбезопасности. Я не верю и никогда не поверю, что все эти люди, связанные личными шкурными интересами, бескорыстно служили идеям коммунистического строительства. Все они опирались на рожденную еще в двадцатые годы сталинскую практику клеветы, нарушения законов, безнаказанности, а главное – на массовое оболванивание людей, запугивание их, на тотальный обман. Практику очень деятельную, запечатленную в тысячах лозунгов, обещаний счастливой и свободной жизни не в раю, а на этом свете, вот только неизвестно, в какие сроки. Сколько поэм, славословий, писанных будто под копирку речей!.. И гибель миллионов. Законные же права тружеников, те лозунги социальной справедливости, за которые сражались они на баррикадах революционных катаклизмов XX века – подвергались анафеме, преследовались как инакомыслие, как буржуазные пятна на здоровом теле народа, как нечто куда более опасное, чем воровство, бандитизм, взяточничество. На очень многое смотрело социалистическое государство сквозь пальцы. Бюрократов, карьеристов, пьяниц, занимавших посты от самых маленьких, районного масштаба, до кресел в высших эшелонах власти, – журили, объявляли им выговоры, снижали в должности – и это лишь тех, кто попадался явно, преступления которых вопияли, тех же, у которых рыльце было в пушку, но сильная рука сверху – чаша сия обычно миновала. Так, дальний гром... А вот за анекдотцы – сажали, гноили в лагерях, расстреливали. Да что там анекдоты – просто по разнарядке: взять и «разоблачить» такое-то количество за такой-то срок. А то, мол, плохо работаете, не проявляете бдительности... На протяжение всей нашей истории тысячи и тысячи публицистов и ораторов с ног сбивались, и по сие время брызжут слюной и чернилами в поисках «врага» – у одних это номенклатура, аппаратчики, у других – жидомасоны, у третьих – русские... Поймем ли, что общий враг у всех наших предков только один, вернее, два: партийная верхушка и генералитет – армейский и Госбезопасности (высшие генералы старого и уже нового разлива, делавшие карьеру в годы застоя). Все эти бездельники, провокаторы, остервеневшие беззаконники. В их руках сила: оружие, демагогия, умение лгать и выдавать ложь за правду. Это они. Другого реального «образа врага» у нас нет. Пока не будет сломана, стерта, выброшена на помойку истории вся эта камарилья, пока карательный аппарат государства не развернет свое острие на сто восемьдесят градусов и не обратит его против того, что доныне еще стыдливо именуется «негативными проявлениями в жизни нашего общества», до той поры нам вряд ли удастся идти вперед. Так и будем топтаться на месте, будем повторять зады заложенной Сталиным государственности. То есть – бодряческой официальной лжи на всех уровнях, жестокости ко всякому проявлению несогласия с официальным мнением, пока не научимся уважать демократические права каждой отдельной личности. Без этого, без окончательного отказа от сталинистской идеологии и практики, их разрушения, полного и бесповоротного, вперед нам не двинуться.
Чувствую, что мои записки, моя исповедь, где собирался я сообщить читателю о пережитом, увиденном и передуманном, все больше превращается в злободневный дневник. Захлестывают меня сиюминутные эмоции. В то время, когда сел я за свод и перепечатку написанного и намечтанного в разные годы, совершаются гигантские подвижки в нашей социальной жизни. В частности, сегодня наше общество находится в эйфории по поводу только что состоявшихся выборов «с выбором», на которых волеизъявление народное сумело забаллотировать (утопить в болоте!) ряд до сей поры неприкасаемых и уверенных в своей непогрешимости аппаратчиков самого высокого ранга. Лед тронулся? Ой, боюсь, извернутся, ой, боюсь – выкрутятся! Уже есть к этому намеки. Вот и вписываю в свои давние наброски – сегодняшнее. Ругаюсь, стараюсь выбрать слова позабористей, чтобы донести до читателя все свое негодование, всю боль, все неприятие нашего вчерашнего бытия. Однако, возьмем себя в руки и «вернемся к нашим баранам».
Тридцать седьмой. Мне девять лет. Газетные полосы полны отчетами о процессах над «врагами народа». Недавние вожди и герои, чьи изображения (пусть по принципу портретирования египетских фараонов – меньшего размера, нежели – самого генерального) еще красуются в недавно изданных книгах об Октябре, о гражданской войне, еще пахнут свежей типографской краской в новом учебнике истории СССР... Скоро замажем мы их чернилами, вымараем в тексте, выдерем из энциклопедий, сожжем газеты и журналы с их речами и статьями. И сами кинемся искать фашистские знаки на просвет в ткани своих пионерских галстуков, на зажимах этих галстуков, где над поленьями костра вздымаются три языка пламени – «большевики, комсомольцы и пионеры»... И еще не очень соображая, что происходит, ежедневно слышать – к высшей мере! К высшей мере! Как бешеных собак! Кого-то из «врагов» – не к расстрелу, только к двадцати годам. Запомнилось имя Радека, которое впоследствии частенько будет упоминаться в анекдотах.
Мы, мальчишки с Никольской, своими глазами видели, как выводили и вводили под конвоем в двери Верховной коллегии военного суда, что была в конце нашей улицы, за аптекой Ферейна, напротив Лубянки (не так площади, как самого того мрачного кирпичного здания), как пихали в «черные вороны» бывших краскомов: в распоясанных гимнастерках, руки за спину, лица белые, неузнаваемые... Герои, любимцы народа, любимцы партии, легендарные, «верные ленинцы»... Друзья, соратники и помощники Ильича. Сегодня со многих, почитай, со всех, смыто клеймо врагов народа. Но ведь полвека эти творцы революции пролежали в безымянных могилах, были вычеркнуты из истории, прокляты, на их костях пировали и жировали всяческие псы – ежовской еще, бериевской выучки. Нет, не одному людоеду Сталину нужно было все это, чтобы утвердить абсолютную власть, чтобы убрать всех тех, кто мог знать или помнить о некоторых «грешках» его молодости. Тысячи рюминых и абакумовых делали на этих смертях свой бизнес, грели руки над кострами сталинской инквизиции.
Не могу удержаться и не рассказать здесь, в нарушение всех замыслов последовательного повествования о своей жизни, об одном потрясшем меня эпизоде.
Начало шестидесятых. Редакция журнала «Советская литература», где я тогда работал уже несколько лет, перебралась в новое помещение. В старом, на улице Кирова, в центре Москвы, у нас было несколько, пусть и больших, комнат, в кабинете главного сидел и он, и два зама, каждая языковая редакция тоже сидела в одной комнате, а Центральная – русская, готовившая тексты для переводов, – отделы художественной литературы, критики, публицистики, искусства, технической редактуры, секретариат и отдел проверки, – то есть столов пятнадцать – загнаны были в общий небольшой залец. Я, завредакцией, лицо административно-хозяйственное, обретался со своим столом в редакции польской. Короче говоря, сидели друг у друга на голове – ни принять авторов, ни поработать с переводчиком почти невозможно, гул, крик, звонки... Все помещение – бывший торговый зал, разгороженный стеклянными перегородками на клетушки. Правда, жили дружно и весело. Стоило какому-нибудь Арконаде чихнуть у себя в испанской редакции, как со всех сторон неслись пожелания здоровья... А тут дали нам новое помещение, на окраине, на Бутырском хуторе, в недавно отстроенном здании общежития Литинститута. Целый этаж, двадцать пять комнат-кабинетов. Можно было вздохнуть. Оборудовали, перестроили, выгадали даже кухоньку и помещение, где сотрудники могли перекусить... Склад, кабинеты каждому заму, ответственному секретарю... В общем, стали жить «как белые люди» – и иностранного гостя принять не стыдно, и самим работать. Одно скверно – «далеко от Москвы», как острили в редакции. «Далеко от Москвы» назывался известный роман нашего тогдашнего главного редактора Василия Ажаева. Переезд наш совпал с расформированием партийной организации правления Союза писателей, вернее, с ее раздроблением и передачей ранее входивших в нее групп – партячеек журналов – по территориальному признаку в соответствующие райкомы. Официально это объяснялось желанием «приблизить писателей к жизни народа». Глупость, конечно. Аппаратные игры. Разобщили людей, имеющих общие интересы. Боялись фронды? Кто их знает? Впрочем, как мне известно, это нелепое положение сохраняется до сих пор. Однако рассказ мой о другом: пока партийцы нашего журнала работали в общей для всех органов Союза писателей парторганизации, в одну из обязанностей сотрудников «Советской литературы» как членов КПСС, так и беспартийных, к числу коих принадлежал и я, входила во время избирательных кампаний агитация в группе домишек прошлого века, что стояли в конце улицы Герцена и выходили на площадь Восстания – рядом с Центральным домом литераторов и правлением СП СССР. Ну и воронья же слободка, скажу я вам! На фасаде выходившего на площадь домика – мемориальная доска, сообщавшая, что здесь в определенные годы живал великий русский композитор Петр Ильич Чайковский. Захламленный двор, покосившиеся черные лестницы, барские хоромы в бельэтаже в основном разгорожены на клетушки, а в служебных помещениях под чердаком, с косыми протекающими потолками, душных летом, промозглых зимой, в полуподвальных каморках – десятки семей. Тут и старые москвичи, и «лимита», оказавшаяся в столице после войны, и представители деклассированных крестьян, бежавших сюда еще в начале тридцатых, спасаясь от голода, раскулачивания... Пьяницы, тихие и агрессивные алкоголики, забитые интеллигенты, знававшие другие времена, уборщицы, дворники, учителя, мелкий служивый люд... Все прогнило, заплесневело, водопроводные трубы текут – дом еще со времен Генерального плана середины тридцатых – за красной чертой, то есть ремонту не подлежит, давно назначен под снос. Жуть! Сам я в то времечко жил не в ахти каких апартаментах: теща, жена, дочь, няня, – в пятнадцатиметровой комнатушке, в надстройке, в коммунальной квартире. Но с газом, кухней, даже ванной, нашими усилиями в начале пятидесятых возрожденной к жизни. А тут? И попробуй обеспечь обязательное стопроцентное голосование при таком-то «контингенте»! Ох. Бегали по ЖЭКам, пробивались в райжилуправление, в райисполком, просили, требовали, чуть не плакали. Из всех этих организаций приезжали в дом «представители», обещали, сулили золотые горы, даже иногда меняли несколько особенно проржавевших труб или укладывали на крыше пару кусков жести. И все оставалось по-прежнему до следующей кампании. Если и голосовали наши избиратели, то жалея нас, агитаторов. Из личной симпатии, не желая делать нам лишние неприятности. Особенно доставалось мне. По свойственной вашему покорному слуге общественной активности, назначали меня обычно «заместителем руководителя» агитколлектива. А я не умел требовать работы с других, все стремился сделать сам. Да и не напогоняешь людей после работы с улицы Кирова на Пресню. У всех, в основном женщин, семьи, свои дела. Вот и отдувался. Всех избирателей в лицо знал, все их нужды, а порой и семейные дрязги были мне известны.
И вот первые выборы на новом месте. Рядом с общежитием Литинститута – добротный трехэтажный жилой дом послевоенной постройки – пленные немцы возводили. В те годы появились в Москве десятки таких. Жилищной проблемы они не решали, но выглядели импозантно. Даже остановка троллейбуса называлась по дому – «Зеленый дом».
Зашел к избирателям. Чистые лестничные клетки, светло. Квартиры со всеми удобствами. Жильцы радушные, никаких претензий. Улыбчивые. Полы в прихожих навощенные, мебель добротная, во всем достаток – чай пить приглашают. Небо и земля. Собрал в редакции своих агитаторов – живем, говорю, быстренько уточните списки, да еще разок надо будет забежать – пригласительные открытки разнести. Плакаты я сам в доме повешу. Никакой мороки. Первое посещение было днем. Дети, домохозяйки. А второй раз заглянул после работы. Удивило наличие на вешалках в прихожих офицерских шинелей и фуражек с голубым околышем. Капитаны, майоры, подполковники. Но тоже доброжелательные, заверяющие, мол, не беспокойтесь, все как один явимся. До полудня проголосуем. И проголосовали. Но к этому времени я уже знал, кто здесь проживает. Служба охраны Бутырок. Надзиратели, канцеляристы, обслуга... Такие дела. Те самые. Вертухаи разных рангов. А на первый взгляд – люди как люди. Может, многие из них ничего предосудительного не творили, но ведь, как говорится: возле воды – да не замочиться?! Это к началу шестидесятых стали они респектабельными, а в пятидесятые, сороковые, когда и чинами были пониже, и чай пивали пожиже? Поверьте, трудно было мне, да и не только мне, отвечать на поклоны и улыбки жильцов этого дома. Соседи, на работу едешь, с работы – нет-нет и столкнешься. А чем виноваты их семьи, дети, внуки? Вот и думай. Вся эта армия пешек из правоохранительных органов, еще деятельная тогда, три десятка лет назад, ныне пенсионного возраста. Может, даже персональные получают. Верой и правдой служили. Назвать их поименно? Гной из нарыва лжи, злокачественная опухоль на обескровленном теле нашего народа, опора не только сталинщины, но и застойных лет, бюрократизма, кумовства, карьеризма, воровства, взяточничества... И не надо думать, что все это: горе, беды, трагедии и смерти миллионов – на совести лишь одного палача да десятка-другого его верных псов из высшего эшелона. Страшная, не имеющая решения проблема. Дети за отцов не отвечают? Отвечали! Справедливо ли это? Нет! Неужто мы ту несправедливость повторим? Простим, забудем, отпустим грехи? Ведь сладко ели и тепло спали, ведь учились играть на скрипках и фортепьянах в те времена, когда голодные зеки безвинно мерли, холодали и голодали под неусыпными глазами их сытых папаш. Ладно, простим. Но уж папаш все-таки следовало бы поприжать. Снизить им хотя бы пенсии до уровня, который полагается обыкновенным трудягам, отбарабанившим на стройках, заводах, а не в «правоохранительных канцеляриях» три-четыре десятка лет. Хоть таким способом восстановить справедливость. Пусть доживают, но пусть и помнят, что народ отпустил им страшный грех. А ведь не секрет, что именно из этой когорты до сего времени рекрутируются граждане, готовые вставать при появлении на экране облика любимого вождя, подонки, откровенно выступающие в защиту его, все еще со знаком плюс воспринимающие его деяния. Этого прощать нельзя! Безнаказанно считать гением и спасителем палача, параноика, садиста, губителя революции – никому в нашем обществе не позволено. Так же, как растлевать детей, восхвалять жестокость и бесчеловечность, натравливать друг на друга людей разных национальностей. Общество «Память» – где черпает оно своих адептов и последователей? Не среди тех ли, кому слишком хорошо жилось под рукою Сталина, Брежнева, кому нынешнее время недодает незаслуженных наград, кого перестают двигать вперед лишь за заслуги родителей или по анкетным данным? А вкус к этому воспитан, заложен в гены. Вот и ищут врагов-инородцев, жидомасонов, кого хочешь. Убирайтесь, дайте нам кусок пожирнее, а что касается идей, жизни народа русского и всех остальных, населяющих наш Союз, то нам на это начхать! Привилегий своих не отдадим. Не по уму, труду, способностям – потому лишь, что мы – русские. Какой позор!..
Существует такое понятие: «Российский интеллигент». Уникальнейшее явление последнего столетия. Это мог быть не только русский – великие грузины, украинцы, белорусы. Тот же Чохан Валиханов, Абай, Шолом Алейхем – разных народов дети, но объединяемые бесконечной преданностью своему служению, готовых за свои идеи в огонь и в воду, интернационалисты и одновременно ярчайшие представители сути своего народа. Революционеры, земские врачи, народные учителя, мореплаватели, изобретатели, военные и штатские, мужчины и женщины. Честнейшие, бескорыстные. Гении и таланты, а то и просто порядочные люди. Тысячи и тысячи. Где они, соль земли нашей? Вырубил, вытоптал, уничтожил их двадцатый век под мудрым руководством отца и учителя. Как же – осмеливались самостоятельно мыслить, «свои суждения иметь», возражать, брать на себя ответственность! Бей их! Любым способом. Такие – вне закона. И не важно, каково соцпроисхождение – крестьянский ли, дворянский отпрыск, на заводе ли работягой вкалывал или книги писал. Бей! Это отношение к интеллигенту очень наглядно нынче в высказываниях «памятников» – кто ты ни будь, но ежели не туп, ежели не согласен с дремучими их мыслями, – значит, жидомасон.
Великое завоевание Октября (как принято говорить) – стали мы страной сплошной грамотности: учителя, врачи, чиновники, журналисты, торговцы, офицеры, проститутки, наркоманы, музыканты, рокеры, артисты, официанты, повара, – все умеем расписаться, все умеем прочесть написанное на заборе, тиснутое в газетке. Догнали в этом и перегнали Европу. В космос первыми вырвались! А интеллигенты российские куда подевались? Гражданская война да голод ополовинили, тех, кто больше на виду, – в двадцатые годы прочь повысылали (к счастью, не догадались еще, что проще расстреливать). А потом пошел катком по их светлым головам недоучившийся семинарист: Соловки, тридцать седьмой. Остаточки подобрал сорок первый, когда эти профессора да беспартийные идеалисты, необученные, неприспособленные – в рядах ополчения грудью своей пытались преградить дорогу фашистским танкам, первыми поднимались в атаку, первыми считали, что плен – позор, что лучше «умереть стоя, чем жить на коленях»... Уходят последние могикане. Реликты. Святые. Кого в космополитизме обвиняли, кого топили в грязи, как Ахматову или Зощенко, кого, уже помоложе – наследников, – вновь ссылали или выгоняли из страны, как того же Солженицына, Сахарова. Где уж тут сохраниться популяции?! И чтобы вновь возродилось в России это гордое и чистое племя, необходимо открыть перед каждым юным сердцем их образы. Чтобы знали, «с кого делать жизнь». В нынешней – остались единицы. Лихачев, Каверин... Кого рядом поставим? Кто прорастет на вырубке? Чьи зеленые кроны прикроют прозрачной тенью израненную нашу землю в XXI веке? Ах, друг Аркадий!..
Впрочем, предыдущие страницы писались давно, а вот недавно шли сессии нового Верховного Совета... Господи! Есть еще порох в пороховницах. Есть честные, мудрые, молодые и бесстрашные. Дай им бог – во славу, честь и благо наших измордованных народов жить и трудиться. Если не они, то кто же?!
Что осталось в памяти моей, десяти-тринадцатилетнего мальчишки, о тридцать седьмом? Как ожили воспоминания о них в сорок девятом, как открывались у нас глаза в пятьдесят третьем – пятьдесят шестом? Вот об этом сейчас и поведу речь. Без ругани и выспренних слов.
Семью мою бог миловал. А могло бы... Отец, руководитель среднего ранга, не партийный – хозяйственный, еще в тридцать пятом переругался со своим непосредственным руководством. Был он тогда начальником строительства большого дачного поселка в Валентиновке под Москвой. Возводился городок для отдохновения высшего эшелона ВЦСПС. Дома-дачи с холлами, мраморными каминами, теплыми нужниками, ванными. Из завезенных материалов отец приказал прежде всего построить два двухэтажных дома-барака, с отдельными комнатами, общими кухнями, сараями для дров и свиней возле жилища. Поселил там плотников, кровельщиков, печников. Рабочая сила ютилась по частным избам окрестных деревенек. Дневал и ночевал на стройке, совсем почти не бывал в Москве. А секретарские дачи к летнему сезону готовы не были. Вот и начался скандал. Каких только собак на отца не вешали. Дошло и до политических обвинений. Дескать, и партбилет у него фальшивый, и сам он кулацкий сын. С треском уволили. Года два спустя итог был бы иной. А тут отец подал на руководство в суд. Удалось доказать, что он «не верблюд». Выиграл дело. Оплатили ему деньги и за вынужденный прогул, и за неиспользованный отпуск, восстановили на прежней должности. Признали правильной его первоочередную заботу о тружениках. Помог, конечно, фельетон «Дело завкома», появившийся на страницах «Известий». Писал его Евгений Кригер. Фельетон этот долгие годы хранился у меня, многажды с гордостью перечитывался и сгорел вместе с крюковской дачей в семьдесят шестом... Оттуда-то, из этого фельетона, знаю я о деде, дом которого в 1914 году сожгли черносотенцы, а его, уже на восьмом десятке, за революционную деятельность выслали по этапу в Архангельскую губернию. Оттуда знаю про тюрьмы, где сидел отец в пятом и двенадцатом годах. Правда, были дома еще и фотографии – отец и дядя Шмера сидят на подоконнике, а окно зарешечено, или: большая группа политических – в центре отец, тюремный староста. Это – после выигранной ими десятидневной голодовки, объявленной в знак протеста против незаконных действий тюремной администрации. В фельетоне же повествовалось о «кулацком сыне» – организаторе первых большевистских ячеек на Херсонщине, руководителе съезда губернских сельских учителей, продкомиссаре Юга Украины, основателе первой на украинской земле сельскохозяйственной коммуны «Нове життя»... И посыпались нам письма. От соратников отца, от его учеников, ставших в это время, к середине тридцатых, и секретарями райкомов, и военкомами, и учителями, и врачами... Звали к себе, предлагали важные должности, негодовали. Но теперь отец сам уволился и уехал работать учителем в школу взрослых подмосковной Второй Люберецкой трудкоммуны имени Дзержинского. Директором той школы был старый его товарищ и дальняя родня Николай Семенович Попков. Для тех, кому это неизвестно, могу пояснить: жили и учились в трудкоммуне «трудные подростки» – юные воры, проститутки, бандиты. Это о них фильм «Путевка в жизнь», это они сами строили железную дорогу от Люберец до Николо-Угрешского монастыря, где жила их коммуна. Это они создали завод No1 НКХП, там в годы войны работало десять тысяч человек и выпускали они ручные гранаты и дымовые шашки. Довелось и мне в 1944, по возвращении из эвакуации, несколько месяцев работать здесь, «начинать свою трудовую биографию». Отсюда моя первая трудовая книжка. Дурнем я был, когда, уже актером, после окончания театрального училища, определялся в театр: не сдал ее, завел вторую. В первой, по тогдашним моим представлениям, был вписан некий «унизительный для моей гордости» приказ с объявлением мне благодарности и «награждении за внеурочную работу по отгрузке фронтовой продукции... ордером на нижнее белье». Казалось, смеяться начнут – наградили «героя» кальсонами. Все-таки – театр...
Итак, отец уехал в трудкоммуну, получил там комнатку в широко распространенных у нас в ту пору жилищах – домах каркасно-засыпного типа, в просторечии – бараках, и начал преподавать математику бывшим уркам. Что им двигало? Любовь к учительству? Или предчувствие – в следующий раз так легко не отделаться? От его валентиновской эпопеи сохранился великолепный кожаный портфель с серебряной гравированной дощечкой: «Дорогому Павлу Архиповичу Герасимову от рабочих и ИТР строительства дачного поселка ВЦСПС за честный труд и сталинское отношение к людям». Это опальному-то, увольняющемуся начальнику! Вручили памятный дар, когда приехал он брать расчет. «Сталинское отношение к людям» – тогда, как вы понимаете, было высшим признанием человеческих качеств руководителя... Портфель я истаскал в послевоенные годы (одна из немногих доставшихся мне в наследство вещей отца), а потемневшая серебряная табличка с гравировкой сохранилась.
Так или иначе, но ушел отец с «ответственной работы», скрылся из виду. Посему, вероятно, и «не подвергся». Положение мамы было куда опаснее. Эсдечка, вероятно, примыкавшая к меньшевикам, хотя формально вроде не входившая в партию, бестужевка, да еще не только имевшая ближайших родственников за границей – сестру и брата, но и переписывавшаяся с ними регулярно. И подружек у нее, не внушавших доверия – легион, и мыслит самостоятельно, и в кружке Плеханова была. Друзья и приятельницы один за другим исчезают... Господи, сколько криминалов! А тут еще приняла в семью жену репрессированного папиного товарища. Того арестовали, квартиру опечатали, Вера Григорьевна оказалась на улице. Без средств к существованию, без профессии, без крыши над головой. Два года жила она у нас, раскрашивала на дому елочные игрушки для какой-то артели. Я иногда помогал. Зайчики ватные, Деды-Морозы, лисички. Работа шла конвейером: белое пятнышко на хвосте, красная точка на носу, потом ушки и спинка. На подоконнике выстраивались десятки одинаковых заготовок, постепенно расцветающих всеми цветами радуги. Такие вот пироги. А жили они – ого-го! Корецкий был большим начальником. Квартира, дача, автомобиль...
Взяли соседа – дядю Адама. Он и его жена дружили с родителями, чуть не ежедневно то наши у них, то они у нас чаи гоняли. Беседовали. Вообще у нас в доме всегда было людно. Бывшие мамины сокурсницы, папины соратники, ученики, сослуживцы, соседи, родственники и гости с Украины, не столь давно пережившие испытание диким голодом... Телевизоров не было, кино раз-два в месяц, да и не любители папа с мамой. Театр – да. Но театр – хорошо если раза три в сезон. Событие. МХАТ, Вахтанговский, Мейерхольда, Таирова. Споры, обсуждения. Основное же – книги и общение. Кипящий на электроплитке чайник, чтобы не бегать постоянно на общую кухню к примусу, нехитрое угощение на столе: печенье да конфеты-подушечки с повидловой начинкой. И разговоры, разговоры. Другой раз – заполночь. Меня давно угнали спать. Но занавеска между шкафами, отгораживавшая мою «детскую» – не дверь, прекрасно слышно, о чем говорят...
Что спасло маму? То, что была она хорошим специалистом? Дельным работником? Да кто на сие смотрел?! Не такие головы летели. Трудилась она тогда в Щепетильниковском трамдепо в должности начальника планового отдела, на улице Лесной. Сотрудники любили, начальство уважало. Помню, как торжественно вручали ей премии в клубе имени Зуева, как гордился я, сидя в зале, когда мою маму вызывали на сцену и вручали ей грамоты и ценные подарки – туфли, отрез на платье. «Моя мама!» Летом тридцать седьмого, это мне мама рассказывала уже через много лет, в пятидесятые годы, вызвал ее к себе в кабинет начальник депо Быков и категорически предложил: «Езжай, Татьяна Наумовна, в отпуск». – «Когда? Я лишь осенью собираюсь, муж с сыном на Украине...» (У отца как у учителя, был теперь двухмесячный отпуск, и мы укатили к родичам. Жили у тети Нилы в Гайвороне, потом собирались оттуда в Херсон, и к сентябрю – в Москву, в свои школы). – «Нет, надо ехать сейчас. Горящая путевка. На Кавказ, в Гудауты». Вручил ей путевку и добавил: «Выезжай немедленно. Опоздаешь. Тебе уже и билет через Моссовет заказан». Собралась в одночасье и отбыла на отдых. К ночи состав уже катил ее на юг. Подозревал он что-то или знал точно? Не спросишь. Но, наверно, спас. Выдвиженец из рабочих, старый член партии. Настоящий коммунист, как говорила мама.
А ведь у мамы наготове был маленький чемоданчик со сменой белья, мылом, зубной щеткой, мешочком с сухарями... И у отца – тоже. На всякий случай. Не было у них «рыльце в пушку», и революции они не предавали, и работали на совесть. А вот ведь думали, что и их может коснуться. И готовились, как могли. Спасибо тебе, товарищ Быков, за маму... А портретик Плеханова, семейная наша реликвия, пропал. И письма какие-то в мелкие клочки рвали, и небогатую нашу библиотеку – шерстили. А вдруг? Нет, что ни говорите, а мудрыми людьми были мои родители. Хотя, сколько таких «мудрецов» отправилось если не к праотцам, то в дальние края? А вот мне не довелось испытать горькую судьбу «сына врагов народа». Повезло. Почему-то вспомнился один случайный разговор с бывшим моим сокурсником по театральному училищу Юркой Сперанским. Встретились мы с ним на улице где-то году в пятьдесят седьмом. Как да что: он в ЦТСА работал, в театре Советской армии, а я уже в редакции, хвастается – еду с театром на гастроли в Чехословакию. Как же тебя взяли, спрашиваю, ведь у тебя отец с матерью?.. У нас на курсе знали, что родители Юрки были репрессированы, бабка тянула. А он мне: «Другие времена! Теперь в анкетах вопрос – не были ли репрессированы вы или ваши родственники? И если нет, то почему?..» Посмеялись.
Но вернемся к годам довоенным. В класс наш время от времени кто-то приходил зареванным, а вскоре почему-то переставал появляться на уроках. Мы догадывались: переехал. Появилась было новая учительница литературы – это уже в пятом. «Кандидат наук», – шептались ребята. Худая, черная. Имени не помню, но на ее уроках было безумно интересно. Преподавала она у нас месяца два... Арестовали мать Кости Орлова. Котьку прикармливали – пацан остался совсем один. И мои родители шефствовали, и мать Володи Антонина Яковлевна, и другие соседи. Отец, приезжая по воскресеньям из своей трудкоммуны, таскал его вместе со мной в Центральные бани. Мама давала с собой мое чистое бельишко. Несмотря на свой довольно пакостный характер, Кот был неглуп, нахален, втерся в доверие к Сергею Владимировичу Михалкову (я еще не писал, что мы – «группа молодых поэтов» – бегали в «Мурзилку»), даже иногда сутками пропадали у него. Уж не по совету ли и не без помощи С. В. написал он трогательное письмо Сталину – в стихах – о своей мамочке, одиночестве и глубочайшей вере в справедливость великого вождя Так или иначе, но Екатерину Модестовну Субашиеву месяца через три выпустили. Вероятно, столь уж безобидна была, что, кроме дворянского происхождения, ничего ей в вину поставить не могли. Мать Коту вернули. Случай редкий, почти уникальный.
Вера Григорьевна получала от мужа редкие письма. В одном из них, отправленном, как я теперь понимаю, «с оказией», не через официальную почту, Корецкий писал о том, как его пытали, как зажимал следователь его пальцы в двери, бил рукояткой револьвера. Она шепотом читала это письмо маме и давилась рыданиями. Предполагалось, что я сплю...
А жизнь шла своим чередом. Меня приняли в пионеры. Вместе с Фелькой Алексеевым мы верховодили в классе: не в смысле – самые хулиганистые, нет! – общественники. Ежедневные торжественные линейки в Актовом зале. Вынос знамени школы, которое вручалось лучшему по успеваемости классу. А наш пятый, а потом шестой «Б» пальму первенства никому не уступал.
А тут еще обнаружился у меня «талант» – не прошла даром возня с пластилином. Мама отвела в Дом пионеров учиться лепке. Моя композиция – «Руслан сражается с Головой» – даже выставлялась. Скульптор. И тогда же писались первые стихи. Редакция «Мурзилки» была рядом – в Малом Черкасском, где теперь Детгиз. С нами, начинающими, возились Михалков и Кассиль. В одном из номеров журнала даже тиснули хорошо кем-то обработанное мое творение, Сталину посвященное. У меня та «Мурзилка» не сохранилась. И слава богу. Даже вспоминать неловко.
Потом началась война. Сначала финская. Мы ее особенно не заметили. А затем настоящая, переломившая наши жизни, вероятно, главное ее событие. Налеты, эвакуация, первая работа, первая любовь, комсомол... Обо всем этом я расскажу обязательно, но несколько ниже. А сейчас, ради сохранения внутренней струны повествования, – о сорок восьмом, сорок девятом, о годах борьбы с космополитизмом. Не могу не покаяться в собственном идиотизме. Я тогда уже учился в театральном. Западную литературу читал нам один из самых блестящих профессоров – Александр Сергеевич Поль. Слушали мы его взахлеб. Умел он артистически по-английски продекламировать нам «Ворона» Эдгара По, по-французски – «Клер де ля люн», по-немецки – Гейне. Благороднейший, с прекрасным чувством юмора. И любил нас. Я обязательно потом познакомлю вас с одним связанным с ним эпизодом наших студенческих розыгрышей. Сейчас же – о «космополитах». Собрание. Все «горячо клеймят»... Куда конь с копытом, туда и рак с клешней. Комсорг курса, то есть я, взял слово и принялся витийствовать: не слишком ли много внимания уделяем мы изучению Метерлинка и всяких Шатобрианов? А создателя «Интернационала» Эжена Потье лишь слегка упомянули... Короче – бред сивой кобылы, но «в духе». Слава богу, на собрании хватало умных людей. Меня заткнули и тему эту не развивали. Обошлось. Александр Сергеевич перестал раскланиваться, а я ведь тешил себя надеждой, что хожу у него в любимчиках... Однако пятерки на экзаменах ставить продолжал, не переносил «личное на общественное». Вот такой дурной был я молокосос. Ведь многое знал, о многом догадывался, а все-таки... Слава богу, обошлось без последствий. Был у меня на курсе приятель – Коля Растеряев, наш училищный парторг, войну прошел, летчик. Он кое-что объяснил после. Дальше были «Вопросы языкознания». Сколько шпаг скрещивалось, сколько копий поломано. А ведь все из пальца высосано. Даром ли – Сосо?!
Декабрь сорок девятого. Национальный праздник. Мы еще в годы войны отмечали его. Пусть неофициально, но знали все: 21 декабря – день рождения Сталина. А тут – семидесятилетие. Трансляция торжественного вечера из Большого театра. «Все флаги в гости к нам» – Мао, Берут, Торез, Пассионария... – герои моей юности, вожди международного коммунистического движения, люди, с которых надо «делать жизнь». С нетерпением ждем выступления Самого. Уже года два не говорил. Но по такому-то случаю уж, вероятно, что-нибудь скажет! У всех на слуху его глуховатый гортанный голос, грузинский акцент, на тысячах экранов копируемый артистами Геловани, Диким... Голос, внушавший уверенность в годы войны, ставивший новые грандиозные задачи. Голос вождя, бога-судьбоносца. Помню, как на май всей Москвой шли на Красную площадь. Хоть мельком увидеть. Сподобиться. Уже на подходе к площади в рядах демонстрантов шумок: стоит или не стоит? Стоит! Это ощущалось уже по тому, как взрывалась вдруг площадь приветственными кликами: на мавзолее! Рев доносился до не вступивших еще на Красную толп. Ликование: там, стоит!
И вот – двадцать первое. Задолго до этого – приветствия в газетах, поток подарков со всего мира. Потом – музей. Помните? «Музей подарков товарищу Сталину». Офигинеть можно. Надо же дойти целому народу до такого... Роскошнейшие одежды, мебеля, шахматные столики, инкрустация, чеканка, фарфор со всего мира... А запомнилась детская распашонка, присланная одной француженкой, – единственная память о погибшем в маки сыне. Самое дорогое.
Все училище собралось в актовом зале. На сцене, на столе, покрытом красным бархатом, – приемник, врубленный на полную мощность. За столом – никого. Только приемник. Все мы – слушатели – воображаемые участники великого торжества. Вот возникает овация. И мы до остервенения бьем в ладоши. Грохот стихает. И вот мы вместе с теми, кто в зале Большого, вместе с миллионами и миллионами стоящих у приемников, рупоров, громкоговорителей, – запеваем Интернационал, уже не государственный, уже только гимн партии. Поем привычную и дорогую песнь, с которой шли под пули коммунары Парижа, которую пели, стоя над разверстыми ямами, герои гражданской, которую орали в лицо своим палачам подпольщики Великой Отечественной. Уже шесть лет, как ушел «Интернационал» в отставку. Он редко звучит, разве что по радио, и то не по нашему: китайскому, югославскому. Но в моем сердце, как и в миллионах сердец подобных мне юных и уже зрелых людей, эта песнь – неискоренима. Ее нельзя у нас отнять. Мелодия, заслышав которую – всегда встаю. Мой гимн. Гимн отца. Гимн Ленина. Гимн всех революционных пролетариев. И вот он вновь звучит. Тогда его еще все знали, помнили слова. Пели. Все пели. И чувство, что одновременно с тобой поют его сейчас бесчисленные единомышленники на всех языках планеты – потрясало. У многих на глазах слезы. Лица суровые и счастливые: «...Мы наш, мы новый мир построим...»
Позволю себе еще одно очередное отступление. Перескочу через десятилетие. Зал МЭИ. Студенты принимают гостей – Поезд Дружбы из Чехословакии. Торжественная часть заключается «Интернационалом», он звучит не из динамиков, как вошло у нас в привычку в застойные годы. Играет студенческий оркестр. Чехов человек триста, остальные – наши. Звучит пролетарский гимн. Зал поет. Торжественно, дружно. Стоим рядом с женой и тоже самозабвенно поем. Но у чехов только два куплета. А у нас – три. Отзвучал «Интернационал» по-чешски. Оркестр продолжает играть, а зал молчит! Господи, какой позор! Вопреки всем выкрикиваю слова последнего куплета. Белла, как может, поддерживает. Президиум стоит с закрытыми ртами. В зале всего несколько голосов. Но все-таки мы вытягиваем! Не замолчали. Из переднего ряда оборачивается пожилой чех. Седоватый. С мягким акцентом, выдающим его «зарубежное происхождение», обращается ко мне: «Возьмите на памьять, товарищ!» – и протягивает мне портсигар, на крышке которого выгравирован Пражский град. Первое, что попало в руки. Спасибо! Храню этот дар до сих пор. А наяву Прагу увидел совсем недавно. Злату Прагу с гордыми древними соборами и лебедями на Влтаве. Сейчас у меня несколько друзей в Чехословакии. И иногда мне трудно смотреть им в глаза, вспоминая о шестьдесят восьмом. Задавили. Теоретически я считал, что когда власть попадает в руки к прекраснодушным либералам, то в двадцатом веке им нередко на смену приходит фашизм: так было в Германии и Италии, так случилось в Испании и Греции, такое произошло в 1926 году – в Литве. Так в Чили Пиночет расстрелял Альенде. Может, есть в этом определенная закономерность? Может, диктатура передового класса должна быть могучей и строгой? Но не беззаконной и не бесчеловечной! Мы живем в двадцатом веке. Любое беззаконие плодит диктаторов и палачей, будь то фашисты, будь то сталинисты. Об этом тоже нельзя забывать! И о том, к чему привели «нeвмeшатeльcтвo» Лиги наций в Испании и пакт с Гитлером... И о том, к чему – наша «интернациональная помощь» в Афганистане. И Берлинская стена – позор дураков, и «спасение» Венгрии, и события с Пражской весной... Никто не имеет права диктовать свою волю народам, как бы кому-то этого ни хотелось. Их жизнь – их внутреннее дело. Так ли? А людоед Бокасса? А выживший из ума средневековый палач Хомейни? А диктатор Чаушеску? А «великий вождь» Ким Ир Сен? И со всей этой шушерой «мы» готовы дружить. С тем же свергнутым в Уганде Амином, с тем же Каддафи из Ливийской Джамахирии, с теми же террористами из ООП... А ведь перед глазами – вьетнамский позор Америки, ведь наплевал на советских египетский Саддам... Гордимся своей международной политикой. Борцы за мир... А сами утыкали Восточную Европу ракетами, а сами содержим самую огромную в мире в мирное время армию...
Все предыдущие строки написаны за два-три года до того, как перепечатывались они весной 89-го. Понятен их пафос. Что-то меняется. Из Афганистана, потеряв более тринадцати тысяч только убитыми, мы наконец ушли. Куба выводит войска из Анголы. Начинается процесс мирного урегулирования в Никарагуа. Но многие приоритеты застоя, а то и более далеких времен, ведущих еще к идеям «отца всех народов», живы в нашей политической жизни. Сказав «А», забываем сказать «Б», сделав шаг вперед, стремимся отступить на пару шагов назад. Сколько еще будет продолжаться такая бездумь?! Полуправда, полугласность – внутри, заигрывание со всякими подонками, лишь бы они грозились насолить Америке – вовне. Пора переходить к элементарной порядочности в политике. А мы зачастую выплескиваем из корыта вместе с грязной водой и ребенка, которого пытались там отмыть... (Вот уже январь девяностого. Социалистическая Восточная Европа берет реванш. Срывает с себя мертвую маску... Спасибо Горбачеву!)
Вернемся в март пятьдесят третьего. Служу в армии. Гарнизон на окраине Тамбова. Помкарнач – помощник караульного начальника. Ранним утром отправляюсь поверять посты. Снег – выше колен. Степь. Аэродром: КП, самолетные капониры, склад боеприпасов, склад ГСМ, от объекта к объекту узенькая тропиночка, утопленная в снег, наши казармы и весь военный городок километрах в полутора отсюда. Рассветает. С далекого плаца доносятся позывные радио и отдельные слова: «...с глубоким прискорбием... весь советский народ...» О болезни Сталина уже сообщали. А тут... Сел я в снег и разревелся. Вою побитой собакой. Ничего не соображаю. Стянул с головы ушанку, побрел обратно в караульное помещение. Не помню, как и добрался. Шапку по дороге потерял. Ребята потом принесли. Горе? Да, горе. И еще – как же мы теперь?! О, идиот! Начальник караула, замполит нашего батальона, пытается успокоить, уговаривает: ложись, отдохни, поспи. А я – в три ручья. Прибежали из гарнизонной школы – у нас только четыре класса, старшие бегают в городские школы. Ученики – офицерские детишки, отпрыски сверхсрочников, жены их – учительницы. А я – пионервожатый. «Отпустите Егора в школу! Не знаем, что и делать: надо траурный митинг провести, а директриса и учительницы не в себе...» Майор меня с караула снял: помойся, сдай автомат и беги. Прихожу. Малыши мои – второклашки, третьеклассники – растеряны, возбуждены, ктото тихонько подвывает, мордочки бледные, преподавательницы и все остальные взрослые в слезах и соплях, слова выдавить не могут. Вот-вот начнется всеобщая паника. Построили мы ребятню в небольшом зальчике, вынесли пионерское знамя, кто-то из девочек выплел из кос черные ленточки, повязали на верх древка. Стою перед строем, смотрю на дружочков своих и больше всего боюсь сам разреветься. Хорошо, что крепко вдолбилась в голову «Клятва Сталина», сколько раз читанаперечитана. Помните? – «Уходя от нас, товарищ Ленин...» Это и выручило. Покусал губы, сжал кулаки и заговорил. О Ленине, о Сталине, о непобедимой нашей партии, о нашем народе. Стандартный набор стереотипов, штампов, но ребята еще не настолько привыкли к ним, воспринимают, слушают, глаза становятся строже, осмысленнее. И вдруг в строю чье-то подавляемое рыдание – я обмер: если не перебить, не пересилить – сейчас разразится общая истерика, вой, плач. Офицерские детишки воспитаны в массе на поклонении «другу, отцу и учителю всей детворы». «В эти часы мы должны быть как никогда сильными! Пусть знают наши враги, что завет Великого вождя – построить коммунизм – мы выполним, обязательно выполним!» – выкрикиваю эти слова и чую: успокаиваются мои слушатели... Разошлись по классам. Конечно, ни о каких уроках и помину нет, заняли всех общим и «важным» делом: кто-то сбегал домой, натащили крепа, муара, кумача. Кто вьет черно-красные жгуты, кто обтягивает ими портреты, висящие в каждом классе, кто уже трудится над траурной стенгазетой, клеит вырезанные из журналов и газет фотомонтажи, разрисовывает траурными полосами листы ватмана... Все при деле...
Уже в эти часы понял я, что потрясла меня не сама смерть этого человека, а крах годами воспитанной уверенности, что бессмертен наш генералиссимус, что стабильность всего нашего бытия заключена в его мудрости и прозорливости. И мощь государства. И успехи народа. И великие стройки коммунизма, и лесополосы, и «нам нельзя ждать милостей от природы...», и борьба за мир во всем мире... Все это – в Сталине. Все осенено его именем...
Когда сегодня переписываю давние свои заметки, несмотря на гласность и перестройку, не очень верю, что кто-то прочтет их не в машинописных страницах, а книгой. Потому оставляю все как есть, как было. Стремлюсь оставаться до конца, до предела искренним, честным, ничего не соврать, нигде не покривить душой, не приукрасить себя. Не смешивать сегодняшних и тогдашних своих мыслей и ощущений, не рисовать себя более мудрым и прозорливым, чем был на самом деле. Взял на себя этот тяжкий и, может быть, никому не нужный крест и волочу его. Кому интересна твоя обычная, без особых подвигов и свершений жизнь, память о былом, мысли о сегодняшнем? Одно утешает: таких, как я – миллионы. Мы такими были, мы так прожили. Пусть никто, кроме близких, не будет листать этих страниц, да и те, может, по лености душевной не захотят копаться в груде пожелтевших листов... И все же, все же!.. Прожито уже шесть десятков лет. Не подличал, не лукавил, порой ошибался, порой творил глупости, стремился «показушно» выставить свою «правоверность», порой помалкивал там, где очень невтерпеж было молчать. Но всегда жил не только самим собой, не только мизерными интересами собственного мирка, благополучия, умел говорить и делать то, что отзывалось мне потом неприятностями, «недоверием» всяких начальствующих чиновников. Но смирить себя никогда не мог. Взрывалось, против воли выскакивало. И хамства начальственного не терпел, и глупости. Всякое бывало. Всегда любил ближнего, не смел оскорбить того, кто стоял ниже по социальной лестнице, не мог спустить тому, кто стоял выше. И прожил счастливую жизнь, ибо осветила ее настоящая, большая любовь. Такая, о которой, по-моему, многие мечтают тайно, но так и не встречаются с ней, пользуясь суррогатом. Дождался внуков. И не поведать им о том, как и чем жил, не могу и не хочу. А что до остальных – вдруг да и им поможет когда-то понять наше время этот мой «человеческий документ». Ради этого и утруждаюсь, горблюсь над столом. Уповая на это, и пишу. Время идет трудное, время переломов, надежд, крушения их, возрождения... Как уже упоминал на этих страницах, много лет вынашивал свой замысел, писал стихи и рассказы, сочинял повести, даже роман начал – «Идущие рядом». Еще лет сорок назад, совсем мальчишкой. Хватило меня тогда на описание предвоенного моего класса, на воспоминания о Москве тех лет. Но порох в пороховницах вскоре иссяк, хотя аромат времени, кажется, жил на тех страницах. Очень девочки-подружки по крюковским летним дням любили, чтобы почитывал я им написанное за ночь и утро на чердаке своей продуваемой всеми ветрами дачи... Но я уже тогда знал, что такое графомания, и больше всего боялся ее. «Сочинять» – это уже признак сего недуга. А опыта еще никакого не было... Однако и сейчас нет-нет, да и закрадется в душу опасение: a не она ли ныне толкает твое перо? Гоню. Пусть. Вот про стихи свои твердо знаю: внимания не стоят. Версификация. Ибо твердо усвоил, что есть Поэзия. Если в стихе хоть одна строка открывает тебе то, до чего сам не додумался, хотя много раз сталкивался, если зацепило за сердце, открыло что-то необходимое душе – значит, Поэзия. Остальное – туфта. Я не кокетничаю. Просто стараюсь осмыслить себя, жизнь своего поколения... Дважды терялись мои «архивы». Еще весной сорок пятого пропал портфель с дневниками и тетрадками юношеских, очень несовершенных стихов. В те времена посещал я литстудию, считался «ведущим; молодым, начинающим»... Однажды не мог поспеть на одно из заседаний кружка, где должен был читать свои опусы. Один из товарищей-студийцев выпросил портфель, мол, сами прочтут, раз уж собирались... И с концом. Больше того портфеля я не видел. Может, к счастью, а то, глядишь, царапал бы всю жизнь никому не нужные вирши. Набит был портфель черновыми набросками тридцать девятого – сорок пятого, всякими записями «для памяти» и прочей дребеденью. Почему, как позже я понял, пропал он, постараюсь рассказать ниже. Кто-то, вероятно, «интересовался» моей незначительной личностью. Однако это разговор особый. Сейчас лишь о том, что опять-таки связано в моей жизни со Сталиным, чтобы окончательно закрыть, если смогу, эту тему. Среди пропавших тогда записей и документов было и впрямь кое-что любопытное. Думаю, что это каким-то образом повлияло на определенных лиц, и они получили возможность оставить меня в покое. Там была копия моего письма Сталину и ответ на это письмо из пятого управления министерства обороны, в котором некий полковник «...От имени товарища Сталина» благодарил меня за высказанный в моем послании патриотизм, а на просьбу о добровольном и досрочном моем зачислении в действующую армию, «чтобы бить фашистов», сообщал: «...когда вы потребуетесь Родине, она вас позовет, а пока учитесь». Позвали меня через несколько лет, когда никакого желания служить в рядах у меня уже не было. Скорее наоборот. Об этом тоже после... То письмо написано было еще весной сорок четвертого. Призвали же меня в пятьдесят первом. Кроме того, хранились в портфеле заготовки к сочинявшейся в сорок четвертом – сорок пятом годах поэме «Человек». Были там и такие строфы:
Француз ты, китаец, словак или грек,
Но если ты совестью чист,
И если честный ты человек,
Ты с нами, ты – коммунист.
Пускай ты поляк, или чех, или серб,
В огне боевых годин
Сиял нам общий заветный герб
И лозунг нас звал один...
А заключительные строки звучали так:
Теперь я закончил поэмы бег.
Все строки на место встали.
Я назвал героя своего Человек.
Имя ему –
СТАЛИН.
Так-то вот.
И еще два сюжета, уже из пятидесятых годов, уже после смерти Великого вождя и учителя. В доме моей первой жены на этажерке с книгами стоял гипсовый бюстик Отца и Друга. Окрашенный под бронзу. Вручили его теще за успехи в юридической науке. И вот, сметая как-то с этажерки пыль, смахнула она на пол сие произведение искусства. Разлетелся Сталин в мелкую брызгу. Катастрофа! Зайдет кто-нибудь из соседей или приятелей по институту, как объяснишь исчезновение дорогого образа? Впрочем, не беда: можно купить новый, во всех писчебумажных магазинах навалом. Но вот как избавиться от осколков?! Юрист-криминалист, кандидат наук – теща долго ломала голову, пока не нашла следующее решение: каждый из кусочков, отдельно завернутый в газету, выносится ежеутренне по одному и на улице незаметно опускается в разные урны подальше от дома. С необходимыми предосторожностями... А ведь неглупой женщиной была моя первая теща, докторскую защитила по зарубежному уголовному праву, с английского переводила... Надо же! Как же въелся в души страх, как запуганы были люди! Случай почти анекдотический, но факт. И мы с первой женой вполне серьезно участвовали в той криминальной акции: «Уничтожение бюста вождя и препровождение остатков на свалку».
В той же коммуналке, где тогда обитала наша семья, жили еще несколько человек. Летчик-полковник с женой, какой-то майор с супругой и двумя великовозрастными девами – дочками, вдова военных лет с тремя детьми... Жили все довольно мирно, иногда даже выпивали вместе по праздникам. Майорская жена – средних лет московская обывательница – ничего особенного из себя не представляла, «званием» мужа не козыряла – на кухне обреталась молодая полковничиха! – но подчеркивать причастность свою к некоему высшему слою общества майорша любила и вела себя соответственно: ее безапелляционные суждения всегда бывали строго согласованы даже не с передовицами газет, газет она не читала, а с отрывочными сведениями, услышанными по радио, и некоторой информацией, доставляемой за семейный стол майором. Сталин в этой семье котировался очень высоко, ибо майор имел какое-то отношение к кремлевской охране. И вот представьте только себе, как ошарашен был я в феврале пятьдесят шестого, когда майорша, оставшись наедине со мной на кухне, как великую тайну, сообщила молодому соседу, озираясь и чуть ли не шепотом на ухо: «А Сталин-то, оказывается, враг народа!» Это дошли до нее отголоски закрытой хрущевской речи на XX съезде. Глаза растерянные, в лице непривычная бледность, но не поделиться такой захватывающей новостью сочла она невозможным...
А во второй раз мой «архив» с новеллами, дневниками и стихами элементарно сгорел вместе со старой нашей дачей. Больше всего жалел я комплекты «Нового мира», что хранились там, с 1954 по 1976 годы. Богатство. Туда же вывезли мы «дубли» нашей библиотеки, около тысячи томов. И все – в прах. Окружил дачный поселок Мострамвайтреста спутник Москвы, город Зеленоград, и в одну из весен развлекающиеся жители окрестных шестнадцатиэтажек взломали двери и развели на террасе костер. Вместе с крюковской дачей кончился, как мне кажется, один из периодов жизни и моей, и моей семьи. Тут рос я, росли мои дочери. С дачей связаны и воспоминания юности, и начало нашей жизни и любви. Здесь, весной шестидесятого, окончательно решилась наша с Беллой судьба, здесь мы поняли, что должны быть вместе и навсегда. Это было 21 мая. Наша дата.
И вот теперь, когда решил было восстановить пропавшие сюжеты из тех архивов – «Рассказы из сгоревшего портфеля» – начал записывать отдельные новеллы, но вскоре понял, что не новеллы самое главное, о чем должен я поведать людям. И возвратился к старому замыслу, все годы бередившему мою душу. Шла весна 1987 года. Весна новых надежд, весна возрождения Революции. Написалось много. Еще не кончено, но я надеюсь дописать. Силы еще есть. И время. Это мои «Люди, годы, жизнь» – без Маяковских и Арагонов, без Ланжевенов и Хрущевых, без Парижа и Варшавы, на куда более низком уровне значимости тех мест и людей, что населяют мою память. Но я имею право и должен рассказать обо всем этом. Ибо неповторим каждый миг жизни. И одновременно повторимы ее ошибки. В великом и малом. Трагические и смешные, мудрые и глупые.
Названа эта главка «Мое поколение». Что оно такое – мое поколение, в литературном смысле? Если откровенно, есть, живут и творят писатели, начавшие свой труд в тридцатые годы, есть прошедшие войну и вступившие в литературу уже после нее, есть поколение Оттепели – поколение пятьдесят шестого, давно пишет и публикуется поколение «сорока-», теперь уже «пятидесятилетних», – по классификации некоторых критиков. Вступают в жизнь молодые, подхлестнутые смердением застоя и начавшейся перестройкой. Я не смею отнести себя ни к одному из них. Я – между. Я – «ни в городе Богдан, ни в селе Селифан». Зародилось, зароилось что-то в душе в то время, как выступили первые послевоенные – в концесороковых, воспринималось и откладывалось на бумаге и в памяти – в пятидесятые-шестидесятые. Но воевавшие – старше, а поколение Двадцатого съезда – моложе. А уж теперешние властители дум – и того юнее. Я – между. До тех – не дорос, этих – перерос. Поэт Марк Кабаков, тоже не успевший повоевать, но еще в годы войны надевший погоны курсанта военной мореходки, лет тридцать назад жаловался мне: «Мы поколение, у которого украли романтику». Может, он и прав. Но романтику у меня не украли. Украли – Революцию. Вместе с куском сердца, веры и памяти. Вместе с ненаписанными книгами, недоделанными делами, несыгранными ролями... И свершили это люди, клявшиеся и божившиеся ленинскими лозунгами, на словах готовые в огонь и в воду за дело Октября. Люди, которых я с младых ногтей привык глубоко уважать и которым познал цену, лишь многажды обжегшись на их лжи и неправых деяниях. Всегда для меня высшей аттестацией человека были слова: «Он настоящий коммунист», «Он настоящий интеллигент», – не так много встречал я их на своем пути, но они есть, и до сих пор верю – за ними будущее. А те, что натягивают на себя их маски и политиканствуют под их прикрытием, – да будут прокляты! Во главе со своим духовным отцом и учителем. Sic!
Год сорок первый
О том, что война неотвратима, что она вот-вот начнется, что воевать мы будем с фашистами – об этом знали все. Лишь один, как известно, самый мудрый и гениальный, заключивший с Гитлером пакт о ненападении и ублажавший его украинским хлебом и салом, сибирским лесом и бакинской нефтью, считал, что битву удастся оттянуть, а то и вовсе избежать ее. Сам верил и от всего народа требовал. Памятная нам, не столь давняя позиция Мао – «Наблюдать с горы за тем, как дерутся в долине два тигра». Перехитрил глупых немцев. Свою армию, свой народ обескровил, своих естественных союзников – предал. И считал себя умнее всех. Было достаточно подпевал и восхвалителей – эту его веру в собственную непогрешимость утверждать, поддерживать и воспевать. И все-таки в массе народ наш, страна наша психологически были готовы к войне с гитлеровцами. Если не мы, то кто же? Кто протянет руку помощи томящимся в застенках и концлагерях тельмановцам, кто спасет разбитую и плененную Францию недавнего Народного фронта, освободит трагически преданную Чехословакию, кинутую империалистами на съедение берлинским палачам? Кто? Поэтому никакого ликования в народе не возбуждал пакт, поэтому никакой симпатии не вызывала жалкая улыбка Молотова, снисходительно похлопываемого по плечу фюрером. Хотя фотография красовалась на первой полосе «Правды». Для каждого, кто хоть малость сохранил в себе способность думать, все это было противоестественно, неприемлемо. Советские люди даже прощали Сталину аресты и расстрелы наших героев-военачальников – вдруг да они «пятая колонна», вдруг предадут в самый ответственный момент... Но как было сопоставить разгром недавних «немецких шпионов» с горячей дружбой, воспылавшей в тридцать девятом к тем же самым историческим врагам – нацистам? Нет. Народ не верил ни этим улыбкам, ни этой «дружбе». Правда, о том, как широко гребли сталинские грабли, о том, что к началу сорок первого замели они 85% (по утверждению Константина Симонова в его дневнике «Сто первых дней войны», верстку которой удалось прочитать еще году в шестьдесят пятом – в «Новом мире» так и не опубликовали его) наших военных руководителей от командиров полков и выше – никто тогда, кроме самой верхушки, не знал. Уверены были в могуществе и непобедимости Красной армии, хотя и получили чувствительный щелчок от маленькой и слабой Финляндии. Но та война как-то прошла мимо общества, не очень занимала и подростков. Никто не собирался бежать на фронт, чтобы воевать с белофиннами. А в неотвратимую битву с фашизмом верили все. Кроме официальных лиц. Предательство или безмозглость всесильного деспота? Скорее тупая и безграничная самоуверенность, привычка к тому, что никто не посмеет нарушить его «гениальных» замыслов, не осмелится не исполнить его предначертаний, что сумеет он всех перехитрить. Обескровил страну, обезглавил армию, понапихал в руководители людей некомпетентных, глядевших ему в рот. Мудрец. Вспомним только о Зорге. И находятся же граждане, смеющие утверждать: Сталин выиграл войну! Он проиграл ее еще в тридцать седьмом. Просто Революция продолжала жить в народе, и он не позволил Гитлеру задушить страну Октября. Общеизвестно, что в конце позапрошлого века полураздетые и голодные полки консула Бонапарта разгромили Пруссию и Австрию, прошли по всей Европе. Ведь в их сердцах тоже еще жила Великая революция. Приписывать подвиг народа Сталину – безнравственно. Вопреки ему, кровушкой народной и гением наших маршалов – Жукова, Рокоссовского, выиграна Великая Отечественная, их породил народ и подвига их никогда не забудет. Вопреки! То-то притих и затаился он в дни первых поражений, даже научился называть нас «братьями и сестрами». Научился выслушивать возражения Жукова, как тот сам свидетельствует в своих воспоминаниях.
Да, мы, народ, знали, что война неизбежна. На самом мальчишечьем уровне – знали. Самое бранное слово все предвоенные годы – фашист. Гордое, но почти тайное приветствие – «Рот фронт!» и вскинутый кулак. Любимая одежда – юнгштурмовка. Потому с таким волнением смотрели «Парень из нашего города», потому с воодушевлением пели «Роте фане», «Бандьера росса», потому помнили кадры из снятого с проката «Карла Бруннера». И еще пели: «Если завтра война, если враг нападет...» Верили: «Чужой земли ни пяди не хотим, но и своей вершка не отдадим», «...будем бить врага на его же территории!» И разгромленные, преданные будущим Генералиссимусом, отступали с западных границ, окруженные, корпусами сдавались в плен... И простить, забыть все это?! Продолжать поклоняться «гению всех времен и народов»?! Да полно! Хватит! Пора сказать об этом человеке всю правду – о нашем позоре, об истинном враге народа. Откройте глаза, очистите свой мозг от скверны, не верьте тем, кто после всего происшедшего осмеливается утверждать, что при сталинском режиме в стране был порядок. Не порядок это был, а страх и беззаконие, рабство, насилие, беззаконие и страх! От этого никуда не денешься. Должен состояться, необходим суд народов, наподобие Нюрнбергского, должны быть исследованы все факты, все документы, опрошены все живые еще свидетели преступлений Сталина и вынесен окончательный, не подлежащий пересмотру приговор. Чтобы никому больше не повадно было, чтобы при всей гласности и свободе слова никто не смел, как о призывах к войне, как о распространении самой наглой порнографии, даже мечтать о признании каких-либо сталинских заслуг. Это отпущение грехов сталинщине до сих пор разрешает властям силой подавлять народное волеизъявление, разгонять митинги, «тащить и не пущать», неправедно осуждать, совать в сумасшедшие дома... Все его действия должны быть объявлены ВНЕ ЗАКОНА. И все его присные, большие и малые, под страхом остракизма должны онеметь. Считать преступлением любое восхваление и оправдание Сталина и сталинщины. Только таким образом сможем мы избавить себя и потомков своих от позора и скверны...
Впрочем, опять меня понесло в сторону. Итак, война. Помню, еще в начале мая отец предрек: «Когда в наших краях арбузы поспевают, фашисты будут за Днепром». В те дни Гитлер оккупировал Югославию, помог Муссолини расправиться с непокорной Албанией, вошел в Грецию. А до этого была разгромлена Франция, захвачена почти вся Западная Европа. Препятствием к мировому господству остался теперь один Советский Союз. Англия еле дышала под бомбами фашистов, ее падение можно было считать делом решенным, на очереди были мы. Штаты – далеко, а кроме того, они хранили нейтралитет. Японцы – союзники... Кто еще? Только мы. Да и для того, чтобы покорить Альбион, следовало заполучить безмерные российские ресурсы. Чуть не по минутам запомнилось воскресенье – 22 июня 1941 года. Да и одному ли мне?! С кем ни воспоминаешь этот день – у всех то же. С утра ждем грузовик – переезжать на дачу, в Крюково. Отец уже в отпуске. Начало июня я провел у него в поселке Дзержинского. Много было разговоров о войне в Европе, много прогнозов... Сидим. Вещи уложены, а грузовика все нет и нет. Прибежали соседи: в двенадцать важное правительственное сообщение. Включили тарелку. Что? О чем? Речь Молотова. У нас и соседи – те же Марья Ивановна со Степаном Харлампиевичем, папина сестра тетя Настя, еще кто-то... Большая наша комната – полна народу. И непривычно тихо. «Вот и свершилось», – сказал отец, когда репродуктор умолк. Женщины заплакали. Чего это они? Через неделю – побьем!.. И все-таки настроение взрослых, помнивших еще ужасы первой мировой и гражданской, передалось и мне. Вышел во двор. Машины все нет. Во дворе свои настроения, свои стратеги. Побьем! Кто постарше, кому в армию – посерьезнели. Мои же ровесники в один голос: «К августу и памяти о фашистах не останется! Не на тех нарвался!» Действительно, «не на тех»... Только не к августу, а к маю сорок пятого. Ушел я со двора, хотя далеко отлучаться мне было не велено. Около Метрополя, внизу Третьяковского проезда всегда стояли разнообразные киоски: газировка, конфеты, папиросы... Впервые в этот день купил на свои кровные десяток «Дели» за рубль десять. Покуривал и прежде, но все больше в шутку, для эпатажа взрослых, для самоутверждения. Отец, услышав как-то, что видели меня с папиросой, открыл ящик своего стола – он курил «Бокс» – там у него всегда лежал запас, несколько коробок. «Вот, Юрко, хочешь курить – кури, хотя это и вредно в твоем возрасте. Но кури открыто, а не по-за углами, не чинарики. Узнаю – губы оборву. Не хватает еще какую дурную болезнь прихватить от тех окурков». Лет десять мне тогда было. И я гордо отказывался дымить с ребятами в «садочке» – мне, мол, отец и так разрешает. Многие видели сие собственными глазами и не приставали. Не вру. А вот когда собирались у нас гости, и мужчины выходили покурить в коридор (папа никогда не курил в комнате и мне это внушил), я с независимым видом лез в отцовский портсигар и присоединялся к мужской компании. Некоторые тетушки чуть в обморок не падали: ребенок, а дымит! Но мама относилась спокойно. Знала, что не курю. Балуюсь. Пусть повыпускает изо рта дым разок-другой в месяц – большой беды нет... А тут купил целый десяток. И вместе с дружками открыто высосали мы всю пачку возле нашего подъезда.
Грузовик все-таки пришел. И на дачу мы переехали. Поначалу текла вроде бы прежняя жизнь. Купались в озере, ходили по малину, ловили рыбу. А в июле уже таскались в лес за грибами. Но знакомые по Крюкову парни двадцать первого – двадцать третьего годов уходили в армию. Я, как уже писал, привык крутиться среди старших, принимал участие и в проводах... У нас на участке разрослась ирга – огромный куст. Папа еще несколько лет назад, когда дача только строилась, притащил его откуда-то, удобрил, обрезал, – сизая, как бы опушенная инеем ягода была обильной, крупной, с несколько странным вкусом. Как-то один из призывников зашел к нам, я позвал его к кусту, мол, угощайся! А он возьми и обломай ветку. Зачем? – спрашиваю, – ведь там еще столько зеленых. А он глянул на меня исподлобья и буркнул: «Может, зрелых и не дождешься...»
На сложенной из шпал стене террасы пришпилена карта СССР. Европейская часть. Как только попадает в руки газета со сводкой Информбюро, булавки переставляются, заново натягивается по ним толстая красная нить. Все ближе и ближе к Ленинграду, Москве, Киеву, Одессе... На огромной поляне, неподалеку от Ленинградского шоссе, где ныне построен спутник Москвы – город Зеленоград, готовят запасной военный аэродром. Все мы от мала до велика копаем капониры для самолетов и орудий. В нашем поселке создан истребительный отряд, подготовлены песок, ведра, лопаты, топоры, багры. Каждую ночь дежурим, ждем налетов. И вот, в конце июля – первый. Над далекой Москвой (сорок километров) – зарево, небо в разрывах зениток, прошито просверками трассирующих пуль, по нему бродят лучи прожекторов. Где-то над головами надсадно гудят самолеты. Мы уже научились по звуку определять: наши или фашисты. Ликуем, когда с одной из дач, с ее балкона, смотрящего в сторону Москвы, занятого нами под штаб истребительного отряда, видим, как вспыхивает и устремляется к земле взятая в перекрестие прожекторных лучей серебристая капля очередного «юнкерса».
Возвращение в Москву откладывается со дня на день. Отец очень занят. Уехал к себе в поселок Дзержинского. Там он на партучете. В армию его не берут. Уже за пятьдесят пять... На даче мы с тетей Настей. Мама приезжает только по выходным, привозит продукты. Они вроде бы еще без карточек. Уже август, подходит сентябрь, скоро в школу. А где та школа? По слухам, нашу московскую – заняли под госпиталь... Определяюсь в седьмой класс крюковской железнодорожной школы, что возле станции, А ну как придется задержаться здесь? До чего же наивным я был: и в мыслях не держал, что тут, в Крюково, через какой-нибудь месяц-полтора будут гитлеровцы. Всего-то сорок километров от Москвы... Пока еще идут поезда на Ленинград и оттуда. Составы, на платформах которых много накрытых брезентом и замаскированных ветками военных грузов. А то и без всякой маскировки – танки, орудия, телячьи вагоны с красноармейцами... Санитарные, с красным крестом. Встречаются и несколько уже побитые – с проломами в стенах. Часами торчим на станции. Первого сентября пошел в школу, но уроков не было. На следующей неделе приехал отец. Конечно, никакой машины для возвращения в город не будет. Собрали носильные вещички, кое-что из продуктов, и с узлами и чемоданами – на станцию. Электричек тогда на Октябрьской железной дороге еще не было. Возили людей паровички. Полтора часа в тесных, пожалуй, еще дореволюционной постройки вагонах с тремя ярусами полок, узкими проходами и свечным освещением. Как темнело, появлялся проводник, задраивал окна, вставлял в редкие фонари свечные огарки...
Снова в Москве. Город изменился. Школа не работает. Само собой понятно, что тут же включился в охрану дома – не в бомбоубежище же прятаться! Лазили ночами дежурить на крышу. Тушили зажигалки, которые щедро сыпал на центральные районы Гитлер. Песком засыпали или, прихватив клещами с длинными рукоятками, сбрасывали вниз. Есть одна и на моем счету. Даже благодарность мне по домоуправлению объявили, общим списком, вместе с другими дежурными. Герой... Четырнадцатый год парню. Почти взрослый. Прокантовался таким образом до середины октября. Очень крепко запомнился день паники – 16 число, день приказа: Москву не сдавать! Стоять насмерть. А служивая Москва бежала. Прямо на улицах жгли какие-то бумаги, кое-где поразбивали витрины продовольственных магазинов, начинались грабежи. Мы с приятелем, кто – не помню, крутимся на площади Свердлова, где сейчас сквер и памятник Марксу. В те дни там был выставлен для всеобщего обозрения немецкий трофейный самолет. Беспокойная толпа шарахается то в одну, то в другую сторону. Кто-то что-то кричит. Некий тип, размахивая руками, громко повествует о том, что вот сию минуту приехал на метро со станции «Сокол» – там немецкие танки! Прут к Тверской заставе! Шум, давка, плач... К этому человеку подошел какой-то дядька в кожане, худой, высокий. «Сам видел?» – «Сам!» – «Ах ты гад!» – выхватил из кармана пистолет и в упор – бах! бах! – провокатор – с копыт. Люди врассыпную. Мы тоже ретировались, благо дом рядом. А через пару дней меня вывезли в детский интернат Мострамвайтреста, в село Середняково Коробовского района, что на Рязанском шоссе. Где-то неподалеку от Егорьевска и Шатуры. Начались годы эвакуации. Поначалу не думалось, что все так затянется. До Москвы всего-то полтораста верст... В Середняково прожили месяц. Через село обозы, обозы, маршевые роты к фронту, к Москве. В интернате я из самых старших. Один мужчина в персонале – одноглазый директор – дядя Саша. Воспитательницы – женщины. Мальчишек некому даже в баню сводить: стесняются. Парням десять-двенадцать... Вот и назначили меня. Всюду и всегда был младшим, а тут попал в старшие. И колхозу надо было помочь – pепc дергать – кормовую брюкву. Правда, какие там из нас работники... Ботва повяла уже, копнешь лопатой, ухватишь, а она, брюква, из земли не лезет. Все-таки что-то собирали, стаскивали на край поля в бурт, а вот вывезли ли эту брюкву или заморозили, кто знает? Животы у ребят от этого репса пухли, хотя голодухи еще не было, кое-какие продукты в кладовой имелись, из Москвы подбрасывали, из треста трамвайного. Но уж больно заманчива была та брюква – холодила, хрумкала, сладила... Вскоре главной моей обязанностью стала работа подводчика. Людей в колхозе все меньше, а тут повинность – возить от села к селу нехитрый солдатский скарб, сидора маршевых рот. Вот и трясешься в скрипучей телеге, запряженной лядащей лошаденкой, километров десять в одну сторону и обратно. Подвезешь, перегрузишь и домой. Целый день в наряде. Обязанность твоя следить за вверенной техникой, за телегой, колесами, осями, добывать всякими правдами и неправдами деготь, урвать сенца, а то и отрубей для «двигателя», напоить его, дать передохнуть. В те дни и сдружился я с местным пареньком Васей, даже переписывался с ним из дальнейшей эвакуации. Жил он напротив того помещения, где расположился наш интернат. И наряжали обычно нас на пару: он постарше, ему уже четырнадцать, но должен был пойти, как и я, в седьмой. Так что мы вроде на равных были. В дороге делились харчем – мне в интернате давали печеный хлеб, сахар, – Вася угощал картохой, огурцами солеными, морквой, а то и салом. И самосад у него имелся. Крепкий! Дни все короче и холодней, дело к ноябрю. То дождь, то снег. Туда-обратно на открытой подводе – часов пять. Пока перегрузишься на следующей подставе, пока обратный груз получишь. Выезжали затемно, возвращались в полной темноте. А одежонка у меня «семисезонная» – какое-то пальтецо на рыбьем меху, кепчонка, полуботинки не первой молодости. Спасибо, кто-то ватник подкинул. А разживешься сенцом, сунешь в него ноги – и совсем хорошо...
Запомнилось, как отпраздновали мы с Васей двадцать четвертую годовщину Великого Октября. Почему-то в этот день в наряд нас не послали, дали передохнуть. От интерната я совсем отбился, всего раза два ходил на уроки в школу на другой край села, а у себя ужинал да завтракал, ну и спал, конечно. А так – всё в пути. А в этот день сидели мы у Васи на сеновале в сарае, дулись в подкидного. В интернате, не ведая о том, что я нынче свободен, выдали мне харчи на дорогу, да с кое-какой праздничной добавкой. Как-никак – труженик. И возник у нас план встретить праздник на всю катушку. К нашей компашке пристало еще человек пять середняковских – васиных приятелей, да пара моих интернатских, что постарше. К полудню отправились мы всей шайкой на промысел. На задах, у гумен, бродило еще много гусей, вот и решили мы изловить сей деликатес. Вася грозился изжарить на костре – пальчики оближете. Но как изловить гуся без шума? А ежели хозяева услышат? Гуси ведь такой гогот поднимают – не подходи! Часа два шатались по-за гумнами: только нацелимся, окружим, а они, гуси, крылья растопырят, шеи изогнут и с шипом и гоготанием в разные стороны. Орут благим матом, словно чувствуют наше намерение. Ой, кто заметит – сраму не оберешься! Мы скорее в кусты. Наконец, однако, отбили пару молодых, тишком отогнали к лесу, словили. Местные пацаны живо посворачивали им головы. Щипать не стали. Только большие перья повыдергали и закопали, чтобы следа не оставить. Забились в овраг, еще посветлу разожгли костер. Середняковские спроворили у матерей пару бутылок самогону, яичек, сала. Разложили на захваченном мешке наш припас: хлеб белый, масло, сахар, копченую колбасу... Костер прогорел. Вася потрошенных гусей яблоками нашпиговал, глиной обмазал – и в горячую золу. На ряднине лук, картоха печеная, огурцы... У костерка тепло. Ждем – слюнки текут. Нас ниоткуда не видать, далеконько забились... И такой пир у нас получился! Пожалуй, все последующие военные годы так вкусно и от пуза я не едал. В одном обмишулились – соли не прихватили. Ели пресное.
Сколько застолий за жизнь пережил, пересидел, перевидел, в каких только пиршествах не участвовал... Не гурман, но хорошо полопать никогда не отказывался. Однако тот середняковский пир нейдет из головы: очень уж вожделен был, сколько раз в голодное время поминался...
Лишь часам к десяти вечера вернулись мы тогда в интернат. А там паника. И нашей троицы весь день нету, и еще пара пацанов исчезла: братишки, одному одиннадцать, другому восемь. Воспитательница ревет – ей за ребят отвечать. Меня в полдень видели, знали, что у Васи пропадаю. И двух моих дружков у него заметили. Сбегали к нему, домашние подтвердили, что мы с Васькой куда-то отправились, сначала на сеновале торчали, а потом смылись всем кагалом. А вот про тех двоих братишек никто ничего толком не знал. После завтрака никто не видел. Правда, соседи по спальне проговорились, дескать, они уже несколько дней сухари сушили, сахар копили. И про то, что домой, в Москву, собираются, кто-то слышал. Начальник – дядя Саша – еще в начале ноября призван был на трудфронт, исполняла обязанности его какая-то женщина из треста – профсоюзница. Прислали ее с приказом подготовить интернат к дальнейшей эвакуации, шел слух – за Урал. А братишки за Урал не хотели. Собрались в Москву, к мамочке. Начальница из сельсовета по всем деревням звонит: не видали ли двух мальчишек, в сторону Москвы идущих? В соседних вроде не заметили. Только к вечеру из деревни, что километров уже за тридцать от Середняково стояла, сообщили: мол, вроде бы проходили такие, какая-то бабка водой поила.
Наутро новое сообщение: задержали голубчиков. Почти пятьдесят верст оттопали. И ведь до чего хитрый народ: близкие села обходили, только когда отошли подальше, пустились прямо по шоссе. Тут-то их и накрыли. День и ночь шли, малявки. Брюкву жевали да сухари. Что с ними делать? Отпустить? Велеть самим обратно добираться? Сопровождающего выделить возможности нету. Да и не пойдут добровольно обратно, в Москву двинут. Теперь – крадучись. А уже холодно, заплутают еще, совсем пропадут. Ни о какой подводе и речи быть не может. Да и кому нужны лишние хлопоты. Вам нужно, вы и вызволяйте. Скажите спасибо, что задержали. Короче говоря, в сидор мне буханку хлеба, пару банок консервов, и ноги в руки – приведи! Километров тридцать удалось подъехать на попутной военной машине, начальница договорилась в сельсовете с какими-то командирами. Но им в сторону. Два десятка верст отмахал на своих двоих и к вечеру восьмого ноября был уже в том селе, где застряли наши беглецы. Зареванные, голодные, ноги сбиты, сопли текут. Покормил, улеглись мы спать. А утром пошли обратно. Объяснил я им, как умел, что в Москве они сейчас никому не нужны, только обузой для матери станут. Отец на фронте, мать сутками на работе, да и голодно там, карточек у них нету. В общем, сладкие пироги их в столице не ждут. Сам бы, мол, с превеликим удовольствием домой вернулся, но ведь есть приказ Сталина всех детей из города убрать. Школы не работают, фашист к Москве рвется... Уговорил. Пошли они со мной. Кроме того, у меня были харчи, а они свой запас за двое суток смолотили без остатка, все до крошки подъели. С брюквы пучит, холодина. Коротко ли, долго, но к ночи девятого вернулись мы в интернат. Почти без остановок шли. Потом чуть ли не сутки отсыпались. Ребята оказались геройские – отошли, не заболели. Обошлось. А у меня прибавилось авторитету: начальница и весь остальной персонал не знали, как и благодарить. Спаситель, вроде.
Не могу не вспомнить здесь и про то, что крепко поддержало в те дни народ. Радио в Середняково не было. Газеты лишь на четвертый-пятый день появлялись. А мне в той дороге повезло: когда шагали мы с пацанами обратно, нагнала нас груженая военная машина. Мы голосовать – не посадили: под завязку набита. Но человек, сидевший рядом с водителем, малость притормозившим, приоткрыл дверцу и кинул мне газетку «Правда» – непривычного формата – в пол-листа. На ней лишь портретик Сталина в военной форме и его речь в метро на площади Маяковского. И сообщение о параде на Красной площади. Ох, и возликовало же сердце! Ведь всякие слухи ходили – правительство в Куйбышеве, а где Сталин? В Москве или тоже уехал? Выяснилось – в Москве! Этим многое он во мнении народном выиграл. Никто же не знал, что у него самолеты наготове были, чтобы немедленно удрать, если возникнет нужда. И вот ведь парадокс: известно, на фронте он не бывал, но многие убежденно рассказывали, что видели его на передовой, чуть ли не под пулями...
А вот слух, что повезут нас за Урал, оказался точным.
К середине ноября Середняковский колхоз выделил нам подводы, и Вася проводил меня в Коробово. Там уже ждали нас вагоны – два пассажирских и один мягкий – спальный. В спальном – сопровождающее начальство из Мострамвайтреста, в нескольких купе продуктовый склад, тюки с теплой одеждой, собранной у родителей. Так что трамвайщики в какой-то мере тоже транспортники, сумели отправить своих детей с определенным комфортом. К великой моей радости, среди сопровождающих оказалась и мама. Забрала меня к себе в купе. Не виделись мы целый месяц. Погрузился интернат, разместился, и больше двух недель мы то ехали, то в тупиках стояли. Грязные, обовшивевшие – спали не раздеваясь. Отапливались вагоны слабо... Но бог миловал – никто не заболел. Довезли нас до места живыми и здоровыми. По тем временам – дело довольно редкое.
Какой ужас обнаружить на себе вшей! До того и видеть их живыми не доводилось – только на картинках в учебнике зоологии, а тут зуд в паху, подмышками – ползают по телу белесые мерзкие твари, набиваются в складки одежды, везде гниды. Бей не бей, вычесывай не вычесывай – не избавишься. Видать, и сами вагоны, особенно мягкий, были ими основательно заражены. Только по приезде на место, да и то не скоро, удалось избавиться от этой напасти. Правда, когда прибыли на станцию Юргамыш, уже за Уралом, повели нас в санпропускник – баня, прожаривание носильной одежды. Было это уже в первых числах декабря. Из Юргамыша, на санях, запряженных волами, повезли нас к месту назначения, в районный центр – большое село Куртамыш, на два долгих года юности ставшее моим пристанищем. Тогда еще Курганской области не было, административно относились мы к Челябинской. Только в сорок третьем создали Курганскую... К чему это в годы войны было огранизовывать новую область, заводить при такой нужде на деятельных людей новую бюрократическую верхушку: облисполком, облоно, облпотребсоюз и прочее? До сих пор понять не могу, как не может понять моя жена, в зиму с сорок второго на сорок третий резавшая ножницами на погоны тысячи метров добротного сукна во время своей куйбышевской жизни. Административные восторги...
Куртамыш стоял в пятидесяти километрах от южной ветки Транссиба, между Челябинском и Курганом. Кутали ребят чем могли, в сено зарывали, время от времени стаскивали всех с саней, пересчитывали, заставляли топать пёхом – благо транспорт у нас был не шибко быстроходный, не отстанешь. Никто и не отстал, никто не поморозился. Часть руководителей и организаторов нашего переезда уехала на лошадях вперед. Готовить встречу. Мы добрались лишь на вторые сутки.
Куртамышское житье
Прибыли мы на место лишь на вторые сутки, к вечеру. Разместились в довольно большом доме, в одном дворе с двухэтажной деревянной, прямо по бревнам сруба побеленной средней школой. Прежде тут было общежитие для учеников из районных деревень: Куртамышская средняя – одна на всю округу. А район не маленький – километров сто в диаметре. Сибирские масштабы. Пёхом в школу не набегаешься. Местных переселили в частные квартиры. Каждый колхоз имел в райцентре свой заезжий двор, хозяевам начислялись трудодни. Останавливались тут и сельские власти, по делам прибывавшие в Куртамыш, и колхозники, приезжавшие в базарные дни. Дворы огорожены сплошными из толстых плах заплотами, навесы, сеновалы – есть куда завести телегу, лошадь поставить на ночь. По таким домам и разобрали учеников восьмых-десятых классов, а нам отдали их дом. Но прежде чем нам приехать, они все вымыли, выскоблили, сколотили новые топчаны, отремонтировали столы и шатучие скамейки, сенники набили. Уже с ноябрьских ждали нас. В Сибири есть такой обычай: скоблить полы добела и укрывать их толстыми половиками – ни один порядочный человек не зайдет в дом в сапогах или валенках, скинет в сенях, и в дом – только в теплых носках или босиком... Однако наши цивилизованные москвичи быстро навели в доме свои порядки, – как ни старался совет интерната во главе со мной поддерживать чистоту, удавалось нам это мало. Круглый день шныряла туда-сюда сотня гавриков: из школы, в школу, в туалет, из туалета, погулять на двор... Не уследишь. Пока зима, натащат снегу, можно притереть, а уж весной – глина, хоть лопатой греби.
Куртамышане приняли нас радушно. Мы – одни из первых «вакулированных», бабы жалели «сироток». А в школе был боевой комсорг Надя Максимова – певунья и плясунья, украшение всех наших самодеятельных вечеров, заводила всех хороших и добрых дел. Это она сумела так все поставить, что никакого антагонизма между нами и местными не возникло. И потом все два года, что прожили и проучились мы здесь, ни единого косого взгляда, дружелюбие, желание помочь, поддержать. Отличная деваха была Надя. Десятиклассница, гордость школы. И хотя к лету, сдав экзамены, уехала от нас на курсы медсестер, так что знакомы мы были всего какие-нибудь полгодочка, да и малявки – семиклассники, пионеры еще, а она выпускница, – запомнилась благодарно на всю жизнь.
В сентябре сорок второго секретарем выбрали Юру Шумкова – рослого и тоже русоголового десятиклассника, но он сразу после Нового года ушел, не окончив школы, год его призывался, и бразды правления перешли к нам, эвакуированным, довелось и мне побыть тут комсоргом, правда, недолго. Ну да обо всем этом позже.
Учительский коллектив собрался в школе крепкий. Прежних предметниковмужчин позабирали в армию еще к первой военной осени, нам о них лишь рассказывали, а заменили их прекрасные педагоги, приехавшие с ребятами из Москвы, Ленинграда, Тулы. Отличные учителя, добрые, мудрые, знающие. Я не лакирую, так действительно было. Старались передать нам все лучшее, что сами успели получить в богатых еще тогда традициями Московском и Ленинградском университетах, внимания нам уделяли много, любили нас, возились, гордились нашими самыми скромными успехами, из кожи готовы были вон вылезти, только бы оправдать нашу любовь и доверие к ним. Помню старушку-географа Софью Николаевну, пожалуй, еще из старых земских народных учителей, немецкий преподавала нам польская еврейка, выпускница Варшавского университета, молодая, неунывающая, хотя все ее родные остались в Польше, и она о них ничего не ведала... О других учителях я еще расскажу.
Уже через день по приезде распределили нас по классам, потом еще два седьмых добавили – трех седьмых на всех приехавших не хватило. Фактически мы в этом учебном году еще не сидели за партами, а уже кончалась вторая четверть. К каждому прикрепили сильных ребят из местных, занятия дополнительные наладили. И к середине января (каникул у нас практически не было) москвичи освоились, догнали классы. Местные отдыхали, домой ездили, а мы вкалывали. А после каникул меня сразу выбрали старостой седьмого «С» – по латинскому алфавиту – в редакцию школьной газеты... И пошло-поехало. Вскоре прибыл в Куртамыш еще один московский интернат, появились ребята из Ленинграда, Киева, Тулы. Тут уж мы сами превращались в «принимающую сторону». Новеньких, особенно ленинградцев, встретили очень душевно, если удавалось добыть сверх пайка что-нибудь вкусненькое – в первую очередь им. И не только наши учителя и воспитатели (во главе с москвичкой Софьей <Ивановной> Перстовой – она была начальником второго интерната, и нас вскоре с этим интернатом слили), но и сами ребята: напечет кто-нибудь картохи, огурчиком соленым местные дружки угостят – тащили блокадникам. И места в палатах им лучшие уступили, и обижать никому не дозволяли. А про их рассказы о блокаде и «Дороге жизни» лучше не говорить. До сих пор сердце кровью обливается.
Что ни говори, а где-то к весне сбилось в нашем интернате с полтысячи мальчишек и девчонок с первого по седьмой класс. И всех надо накормить, одеть, защитить от болезней. Пацанва с восьми до четырнадцати лет, оторванные от семей, от родного крова, привычного уклада. Пусть это и громкие слова, но разрешу себе их произнести: подвиг совершили наши опекуны. Не помню ни одной страшной болезни, тем более смертельного случая. Даже в самые тяжелые времена – в зиму сорок первого – сорок второго годов. Худо-бедно, но не голодали, оборванцами не ходили. А на всех – едва человек пятнадцать женщин, включая сюда и поварих, и ночных нянечек... И все нормально учились... Даже одежку кое-какую нам выбили: юнгштурмовки, телогрейки, ушанки. У каждого простыни, полотенца... А немец под Москвой и Ленинградом, немец рвется к Волге и Кавказу...
На об.: "Дорогому моему папке от его "самого старшего и самого младшего"11 декабря 1942 годаГерасимов Георгий Павловичс. КуртамышНа память от Юры".
Два года, прожитые в этом зауральском селе, в глубинке, за полсотни километров от железной дороги, стали для меня очень важным временем, стали годами становления, годами, которые закрепили в душе все те идеи и мысли, что заложены были в нее ранее. Здесь из мальчишки обратился я в юношу, впервые познал ответственность, тяготы и вкус самостоятельности. И хотя скоро полвека минет с той поры, перед глазами ясно стоят дела и мечты куртамышской эвакуации. Кому-то выпал Ташкент, кому-то Казань или Куйбышев, кому-то Новосибирск, а вот мне, как и сотням других мальчишек и девчонок – Куртамыш, большое уральское село, со своим бытом, поначалу не совсем понятным говором, традициями, людьми. И фамилии даже какие-то на московское ухо непривычные: Толстых, Пятых. Не обыкновенное Петя Васькин, а почему-то «Васькиных». И погреб здесь «голбец», и лепешка с картохой – «шаньга», и «смолку» ребята жуют. Про «чуингвам» американский мы хотя бы слышали, а вот коричневых лепешечек, с пяток по рублю на местном рынке, вываренных из березовой коры – не знали, ни видеть, ни пробовать не доводилось. И морозы здесь странные – на термометре за минус сорок, а ты спокойно бежишь по улице в легонькой куртке и не чуешь мороза, разве вдруг остановит встречный: «Эй, паря, ухи-то белые, три скорее снегом!» Мороз сухой, не наш подмосковный. Так что и до Куртамыша не сидел я сиднем в Москве, и Украину изъездил, и на Кавказе побывал, и Ленинград видел, Одессу, Новороссийск, в Днепре, Буге, Черном море купался, <но> Куртамыш стал для меня открытием широкого мира, нового края, новой страны, нового континента, если хотите – Азии, Сибири.
На об.: "Дорогому моему папке от его "самого старшего и самого младшего"11 декабря 1942 годаГерасимов Георгий Павловичс. КуртамышНа память от Юры".
Из местных ребят сдружился с Колей Пятых и Нюсей Фроловой, они до нашего приезда были в классе верховодами – старостой и председателем совета отряда, отличниками. Потом несколько сникли, но не ревновали. Нюся, между прочим, чем-то напоминала Ирку Мазину – русоголовая, пухлогубая, сероглазая, статная. Мы даже какое-то время сидели на одной парте, а мама моя поселилась в их доме, когда стала работать в куртамышском промкомбинате. Добротная изба была у Фроловых, полы выскоблены добела, застелены половиками, огромная русская печь, согревавшая весь дом, припечка, погреб-голбец прохладный, полный картошки, бочек с капустой, огурцами солеными, груздями. Тут и познакомился я впервые с шаньгами, которыми угощала нюсина матушка. Входишь в дом – в сенях разувайся. По избе – только в толстых шерстяных носках. Тут усвоил я многое из малознакомой мне сельской жизни – и что такое квашня, и загнетка, и как хлебы на поду пекут, и что такое полати, и как здорово можно угреться на печи после крепкого уральского морозца: в первую зиму, когда Нюся взяла надо мной «шефство», зазывала после уроков к себе, помогала делать уроки, особенно по математике, физике. Натаскивала. Жаль, что, окончив семь классов, ушла в педтехникум, и мы почти перестали общаться, да и мама переселилась поближе к конторе промкомбината. Встречались изредка в Доме культуры, даже танцевали, когда я научился. Но дружбе нашей пришел конец. Кстати, учиться танцевать меня осенью 1942 года обязали в порядке комсомольской дисциплины. В зале ДК с отодвинутыми к стенам рядами скамеек заводили патефон, и я под счет раз-два-три вышагивал в ритме фокстрота или танго: два шага вперед, шаг в сторону. И так от стены до стены. По усвоенной в довоенную пору идее, что «западные танцы» занятие буржуазное и мещанское – долго не хотел заниматься этим «разложением», сохранял свое пионерское первородство. Ну да чепуха все это...
Речушка Куртамышинка делила село надвое: на правом берегу вся «промышленность», школа, сельхозтехникум, педучилище, ДК, районные власти, на левом, холмистом – в основном домики жителей, огороды, а за ними поля и березовые колки.
Рыба в речке, конечно, была, но лавливать ее мне не доводилось: и не с руки всё, да и снастей никаких, даже элементарных крючков. И один мостик на ту сторону – зимой-то всё рядом, через лед, а в теплое время – пока до моста, а потом назад – здоровенный крюк, чтобы добраться до дому. Вот и пришлось перебираться. Уже в первое лето дали нам с мамой сотки две огорода, картошку мы посадили, там, на левом, километра три топать от дома. И ведь странная вещь – Зауралье, хоть и южное, но все-таки Сибирь, а в открытом грунте даже арбузы вызревают, не наши херсонские кавуны, помельче, но из-за этого не менее вкусные и желанные. Огурчики меня хозяйка научила выращивать прямо в навозе – вычистишь хлев, уложишь гряду из навоза, смешанного с соломенной подстилкой, сделаешь лунки, подсыплешь земли и туда – семена. Никакой нынешней пленки не требуется, никакие утренники не страшны – навоз, обильно поливаемый, преет, «горит», огурцы прут вовсю! По широте-то Куртамыш южнее Воронежа... Так на собственном опыте познавалось географическое понятие – «континентальный климат»... Первые свои каникулы на уральской земле отдыхать мне не пришлось. И в колхоз нас посылали, и даже в тайгу, на дровозаготовки, а самое главное, определила меня мама в столярный цех при местном промкомбинате, учеником. В той столярке я и проработал первое лето. У меня с малых лет привычка к инструменту, отец любил мастерить, у него весь набор: от фуганка до штифтиков и четвертушек, от лучковой пилы до лобзика. Всевозможные стамески, долота, киянки, угольники, рейсмусы... <То есть> дело для меня было не новое. Начнет, бывало, отец чтонибудь мастерить в выходной или в дни отпуска (он всё шкатулки из дубовых дощечек в хитрый паз ладил – в «ласточкин хвост»), а мне в руки молоток и горсть гвоздей: бей в табуретку. Лет с трех-четырех приобщался я. На той неподъемной уже табуретке живого места не оставалось – чуть не сплошь из шляпок вся поверхность и сидения, и ножек, и царг... Короче говоря, к осени, к тому сроку, как идти мне в восьмой класс, собрал я в столярке на клею и деревянных шипах свою первую оконную раму, и присвоили мне третий рабочий разряд столяра-краснодеревца, чем я до сих пор горжусь. При желании многое могу сладить из дерева, да, пожалуй, и из железа. Паять, лудить, рамы стеклить. Гайку или болт нарезать. В юности сам себе киянки мастерил, деревяшки для фуганка и рубанка, для зензубеля, ручки к долотам и стамескам. И точить инструмент как следует умею.
Рукастый вырос. Приглядчивый. Электричество, радио, позднее телевизор, часы, а нынче и автомобиль – вожу уже второй десяток лет – как-то интуитивно чувствую, что забарахлило: разберешь, сменишь или смажешь, и глядь, поехало, заработало. Жена порой спрашивает: что сделал-то? А я и сам не знаю. Не понравился в блоке какой-то конденсаторишка, вроде темнее, чем остальные, выпаиваешь его, ставишь идентичный, соберешь – и смотри телик. Правда, в последние годы обленился, да и техника бытовая стала куда сложнее. Схемы электронные. Тут уж мастер нужен, а не просто «умелец». Но электроутюги и сегодня не враги. Ладно хвастать-то! Если присмотреться к рукам литератора-интеллигента, каковым себя почитаю – все в шрамах: то косу бруском слишком неосторожно точил, то опасную бритву чересчур лихо на ладони правил, то стамеска сорвалась, то ножик перочинный не туда пошел. Живого места нет, как на той табуретке... Уже в шестидесятые, когда получили мы новую квартиру, сам ее обихаживал. И соседи-знакомцы (дом-то писательский) звали на помощь. Дочка даже возмущалась: мой папа журналист, а не водопроводчик!
Основы, конечно, заложил отец и тот старик-мастер, которого и поныне называю в памяти «Карлом Ивановичем», настоящего имени не помню, а Карл Иванович, безусловно, в честь толстовского, из «Детства». Высланный, из поволжских немцев. Как теперь понимаю, был он человеком добрым, знающим, возился с нами, несмышленышами, не за страх, а за совесть, лицо суровое, акцент, – и комплекс безвинно наказанного человека, почти бесправного. Никто ему, правда, не смел кинуть в лицо – немец! – но за глаза рабочие мастерской поварчивали: очень уж требовал работы и не признавал халтуры. Настоящих работников в столярке, почитай, и не осталось – пацаны, несколько женщин и старики, пошедшие сюда ради рабочей карточки. Делали мы табуретки, простые столы, козлы для топчанов, прикроватные тумбочки, редко и медленно – оконные рамы, навесные шкафчики, кухонные полки. Из механизации – поперечная и продольная электропилы со стершимися от заточки зубьями дисков да большое точило, которое надо было крутить вручную, под кругом корундовым – корытце с водой. Доводили инструмент на бруске, от руки. Но сам этот инструмент был еще терпимым, сталь неплохая, «со львом» или «Золинген». Нас, «учеников» – человек пять. Мы – на табуретках, потоком, кто царги строгает, кто сидения, кому уже доверено паз в ножках долбить, на клею деревянными гвоздями сидение прибивать к ножкам... Десятка два в день – наш план, когда несколько пообвыкли, научились сами размечать. Рабочий класс. Обещанный за успехи разряд и рабочая карточка. Стимулов, можно сказать, достаточно, но и мальчишества хоть отбавляй. Тайком, пока мастер не видит, мастерю «ТТ», маузеры, «Вальтеры». Довольно сложные сооружения – с резинкой, а то и вставленной хитро внутри пружиной, выжженным или просвер ленным стволом, казенная часть отводится, стрелка при спуске курка летит метров на двадцать. Отшлифуешь, покрасишь, отполируешь по лаку. Будь здоров игрушка! В базарный день на рынке цена такой вещи четвертной, а то и больше: стакан самосада, шерстяные носки, пяток шанег. Арсенал этот пользовался популярностью, мои поделки, изготовленные по чертежу, с точными размерами и залитым для тяжести в полую рукоятку свинцом, почти неотличимы были от настоящих и потому ценились высоко. Изготовил я их за три месяца штук десять, а кроме того, выточил из старого напильника кинжал, сделал и отшлифовал наборную из цветной пластмассы рукоятку. Сия поделка до сих пор валяется у меня, а вот пистолет Вальтер – остался через несколько лет в одном учреждении, чем здорово выручил меня. Но об этом ниже. Очень бранился мастер, обнаружив, что занимаемся мы посторонними делами. План, а тут детские шалости! Но сора из избы не выносил, а порой даже подсказывал, как лучше сделать какое-нибудь крепление. Где на шурупе, где на клею, как вырезать из твердого дерева нужную детальку, а то и к токарному станку допускал в неурочное время. Забыл я про него упомянуть. Стоял у нас в закутке допотопный, ножной, навроде точильного, с каким точильщики по дворам до войны ходили: «точить ножи-ножницы, мясорубки, бритвы править!» Помните? Мастер точил на нем балясинки для полочек, шахматные фигурки. Но последнее тоже было незаконно, и об этом никто не должен был знать. Мы знали. И не выносили сор из избы. Но табуретки делали прочные и добротно окрашенные.
В сентябре сорок второго я вернулся в школу. Мне было разрешили работать вечерами в столярке после уроков часа три-четыре, оставляли карточку, да и заработок какой-то, сдельно, однако дело не заладилось. Навалилась общественная работа.
Если седьмых классов в школе было четыре – «А, В, С, D», то восьмых осталось только два – «А» и «В». И если в первый год мы, эвакуированные, как бы растворялись среди аборигенов, то теперь играли уже первую скрипку. В нашем, например, восьмом «А» на сорок человек едва десяток местных осталось. Кто вообще из деревни не вернулся, ограничился семилеткой, надо было в колхозе работать, рук-то не хватало, кто на мехзавод в ученики пошел, кто в педучилище или сельхозтеникум подался. А нам – одна дорога – в восьмой класс.
Автор, очевидно, первый слева в третьем ряду. На об. полустертая надпись карандашом, можно разобрать: "4. II 1943 г. Куртамыш. В центре Елена Петровна", ниже чернилами: "Яковлевна", ниже: "И с рожею как от спаньяЗдесь сбоку втиснуля и я"
Педагогический коллектив, как я уже говорил, подобрался в школе сильный, в основном из столичных учителей, и не только женщин: директор школы – физик, фамилию его запамятовал, но учил он нас здорово, интересно. Старый, полуслепой, но полный замыслов и энтузиазма. Математик тоже из эвакуированных, чуть ли не кандидат наук. На фронт не взяли, хоть и не старый. Что-то там у него с внутренними органами не в порядке было: маленький, худющий, болезненный. Нас он не шибко гонял, но в свои алгебру, геометрию и тригонометрию был влюблен, знал превосходно, объяснял доходчиво... Но главное наше счастье – литератор Елена Петровна (а вот фамилию забыл – то ли Кононенко, то ли Кондратенко). Много восторженных слов посвящено ей в том дневнике, что пропал вместе со злополучным портфелем весной сорок пятого, уже в Москве. Ах, как же вела Елена Петровна уроки свои! Как заражала нас любовью и преклонением перед «Словом о полку Игореве» – я ей даже домашнее сочинение по «Слову» на целую тетрадку накатал, об авторе – княжем дружиннике и великом поэте. Это еще в седьмом, а в восьмом: Грибоедов, Пушкин, Лермонтов, Островский, Тургенев. Господи – ведь с тех пор живут в душе созданные этими гениями люди, живые, полнокровные, близко знакомые. Это она, Елена Петровна, была вдохновительницей литературного суда над Фамусовым, Скалозубом, Софьей и Молчалиным: Чацкий – прокурор, Лиза – свидетельница. Господи, какой успех имел этот костюмированный литературный суд! (Конечно, все мы уже читали «Двух капитанов»). Он состоялся в школе, потом был повторен в педучилище. Ваш покорный слуга был и одним из авторов сценария, и Молчалиным. Чуть ли не аплодисментами встречали мои манипуляции, когда, сидя на скамье подсудимых, мой герой «по привычке» снимал с фрака Фамусова невидимые пылинки... Судья, народные заседатели, секретарь, обвинительное заключение, речи прокурора и адвоката – все как полагается. Недаром мы с соавтором Колей Бесфамильным посещали народный суд, слушали какие-то дела и строили сценарий согласно его процедуре. В ответах подсудимых, в речах сторон и показаниях свидетелей звучали строки из «Горя», цитаты из высказываний Белинского, Добролюбова, Писарева, а значит, все это было необходимо проштудировать... От Елены Петровны пришел ко мне некрасовский «Современник» и герценовский «Колокол», Чернышевский и Салтыков-Щедрин, Глеб Успенский, Решетников, Толстой и даже Достоевский, хотя о последнем говорили мы не в классе, а на занятиях литкружка... Том за томом девятнадцатый век входил в меня со стеллажей довольно богатой районной библиотеки Куртамыша. Меня уже пускали в запасники, позволяли самостоятельно рыться в книжных богатствах. Нет, что ни говорите, а прекрасные люди окружали меня в годы моей юности. Под влиянием Елены Петровны выучил я наизусть всего «Онегина» в восьмом, на спор со Светкой, той самой, что подгоняла матерком волов, дочерью Софьи Ивановны Перстовой. А с какими надеждами и самолюбивым нетерпением ждали мы минуты, когда в классе зачитывалось лучшее сочинение – оглашались, помню, и мои: о «Слове», о «лишних людях» («Чувствуется влияние Писарева, но есть и самостоятельные мысли. Отлично»). Народ в классе был ого-го! Светка Златкина, Леша Коренев, впоследствии ставший кинорежиссером, Коля Бесфамильный, Вилька (Вилен – Владимир Ильич Ленин) Бруз – из Киева – душевный мой друг, земляк, мы с ним иногда беседовали на «ридной мове». В классе десяток круглых отличников, ни единого неуспевающего. А требования к нам – столичные. Крепкий класс. К началу сорок третьего – поголовно комсомольский.
Сколько же дел, кроме учения, на нас лежало: ежедневная школьная стенгазета со сменными редакциями – тоже с подачи Елены Петровны, школьная агитбригада, выступавшая и в районном Доме культуры, и в сельхозтехникуме, и в педучилище, и на предприятиях райцентра, и по окрестным колхозам... Дела комсомольские, интернатские – всё на нас. И всё успевали.
На об.: "8-й кл. Куртам.<ышской> Средней школы - май 1943 г.", а также: "<Лешкин(?) нрзб> Гагаринский дом №1. кв. №13". Автор - в середине нижнего ряда.
Осенью сорок второго я вновь столкнулся со своей «неудачной» датой рождения. Восьмиклассников еще в сентябре принимали в комсомол, а меня – ни в какую: нету пятнадцати. Устав. На школьном собрании решили принять досрочно, выбрали в комитет, а райком не утверждает. Спасибо ребятам: постановили считать меня комсомольцем и даже в комитете оставили. Культсектором заправлять. «До дня рождения». Но мне опять подфартило – именно в это время было принято постановление принимать с четырнадцати. Меня вызвали в райком и тут же вручили билет. Решение уже «состоялось», да и сам секретарь райкома знал меня. Вручает билет, жмет руку и спрашивает: «Понимаешь, Егор, в какое время вступаешь?» – «Понимаю. Оправдаю», а произошло это 11 ноября 1942 года. За неделю до Сталинградского перелома. Самые страшные бои, судьба страны на волоске. Сколько жить буду – тот день всегда во мне. Шел из райкома берегом Куртамышинки, придерживал ладонью у сердца билет с профилем Ленина, No 15330358, и, кусая губы, сдерживая слезы, шептал клятвы, клятвы верности Родине, Революции, Сталину. Наивно, глупо?! Но так было. Из песни слова не выкинешь. Сколько живу – не изменял этим клятвам. Вот только со Сталиным промашка вышла. Но я, ей-богу, в том не виноват.
Характеристика из комитета комсомола, Куртамыш, 5 июня 1943 г.
Пожалуй, стоит подробнее рассказать о тех делах, которые перечислял я выше. Вот, скажем, литературный суд. Перекрестный допрос, последние слова подсудимых, прения сторон, приговор именем Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, битком набитый зал... Взрослые, вероятно, ощущали некоторую пародийность происходящего: этакая гласность и состязательность сторон после всамделишного беззакония недавних лет... Но мы принимали все за чистую монету. Гражданский пафос прокурора, едкие реплики свидетелей, вопросы судьи и заседателей – все это волновало публику, да, пожалуй, и нас, «подсудимых». Сценарий давал большой простор для импровизации, пришлось крепко попотеть, стараясь извернуться, свалить с себя вину за предательство, за клевету на Чацкого – на разные обстоятельства. Молчалин, к примеру, беден и бесправен, но он добр и услужлив: «..мне завещал отец: во-первых, угождать всем людям без изъятья...», «...два награжденья получил...», «...ваш шпиц, прелестный шпиц, не более наперстка, я гладил все его, как шелковая шерстка...» Подневольный человек, что ж ему делать остается? Лепетал мой Молчалин свои оправдания, ссылался на то, чем жила чиновная Москва в двадцатые годы прошлого века, как трудно было, не подличая, пробиться маленькому человеку... Звучали и пушкинские, и лермонтовские строки, отрывки из крыловских басен, дескать, «у сильного всегда бессильный виноват...» Сценарий только намечал основные вехи, все остальное зависело от нас. Вот у Софьи – ленинградской девчонки Люды с довольно скверным вообще-то характером – дрожит голосок, когда она берет себе за образец Татьяну Ларину с ее правом любить того, кто нравится, с ее правом открыто заявить об этой любви, с ее «...но я другому отдана и буду век ему верна...» Честное слово, успех был потрясающий. Вот только приговора не помню, хотя сам его сочинял. Неделю ходили мы по школе именин никами. Потом в педучилище ездили, в сельхозтехникум. С этого и началась наша агитбригада, к концу учебного года ставшая знаменитой не только в Куртамыше, но и в его окрестностях. Придуманы были маски – местные парнишки Миша и Гриша, которые вели программу, острили, клеймили лентяев и несознательных, – этакие простодушные коверные, как я теперь понимаю. Не сами мы их выдумали, учителя подсказали, а уж развивать их подсказку, придумывать все новые и новые репризы довелось самим: мне – Грише – и Кольке Бесфамильному – Мише. Открывался занавес. На сцене в качестве конферансье появлялся Миша, запинаясь сообщал, что агитколлектив средней школы приветствует зрителей и собирается дать им серьезный концерт из произведений русской классики. Были у нас и свои гитаристы и пианисты, танцоры и чтецы... Разыгрывались сценки из «Теркина» и «Русского характера» Алексея Толстого, звучали фронтовые песни и памфлеты Эренбурга, стихи Симонова... Помню, какой ужас и хохот вызвала Смерть – бессловесный персонаж из сценки, написанной Твардовским про двух раненых, умирающих на поле боя солдат-врагов, советского и немецкого. «Смертный бой не ради славы, ради жизни на земле». В финале, закутанная в белую простыню, с косой в руке появлялась Смерть, щадящая советского бойца, который ей не сдавался. На длинной палке насажен был, тоже укутанный в белое, муляж из школьного анатомического кабинета: голый череп с выпученными яблоками глаз в глубоких глазницах, с обнаженными кровеносными сосудами, безгубым ртом с торчащими зубами... Смерть изображал я. Пока шло действие, надо было срочно закутаться в балахон, сунув за пояс, придерживать над головой палку с мертвой маской, да так, чтобы ее не сразу увидел зритель, а то терялся эффект. А в другой руке – косовище. И из-под балахона ничего не видно... Вплывало на сцену привидение, голова поворачивалась к зрителю, коса взмахивала над поверженным фашистом. Оторопевший вздох испуганного зала, а потом – хохот, ибо из-под балахона показывались мои валенки, а на уровне груди предполагаемого скелета высовывалось из-под балахона лицо «Гриши»...
В самом начале появлялся он в глубине зала и, шествуя между рядами, перся на сцену, к Мише. И напевал песню:
Я карту мира уважаю,
Но признаю на ней я лишь
Одно село в Курганском крае –
Наш славный, милый Куртамыш...
Вылезши на подмостки, Гриша заводил с Мишей разговор обо всяких местных неурядицах, клеймил лентяев, пьяниц, бракоделов. Некоторые остроты были дежурными, лишь за полчаса до выступления вставляли мы в них имена прохиндеев, по-быстрому выспрашивая, кого следует «продернуть», у представителей техникума, училища, мехзавода, промкомбината или хозяев той организации, где выступали. И конечно, импровизировали: все шло в дело – и последние сводки информбюро, и свежие стихи из газет, и сюжеты из последних боевых киносборников, и даже представление «живых» карикатур на Гитлера и его присных с замечательными, злыми и острыми двух-четырехстишиями Маршака... Прекрасно понимаю, что все это было наивно, несовершенно и порой просто глупо, но изголодавшаяся по зрелищам публика, да еще услышавшая со сцены знакомые имена и сюжеты, принимала нас «на ура». Невинная песенка Гриши, в куплеты которой тоже проникали кое-какие местные реалии, стала популярной в районе. Слышал, как пели ее ребята на пятачке, или гурьбой отправляясь куда-то после работы или учебы. Нехитрый запоминающийся мотивчик, веселые слова... Она, эта песенка, куплеты которой постоянно изменялись, вызвала и первое мое столкновение с «цензурой». Некоему райкомовскому инструктору не понравился один из куплетов, который я, Гриша, распевал, шествуя по залу и подмигивая зрителям:
Здесь, други, жизнь, как птичке летом:
И воздух свежий, и река.
Поешь пустяк – груздянки с хлебом –
И жизнь отлична и легка!
А сам себя при этих словах по горлу ребром ладони. Дескать – обрыдло. Груздянка – жидкий супец из соленых груздей, в котором редко-редко попадался ломтик картошки: дежурное блюдо и в пищекомбинатовской столовой, и в нашем интернатском рационе, и в буфетах местных предприятий. Зачастую не только дежурное, но и единственное. Не считая стограммового ломтика черняшки, за который выстригали из карточки талончик. Вызвал меня после концерта тот бдительный инструктор и запретил петь песенку о Куртамыше. «Груздянка, видите ли, ему не по вкусу...» А почему именно меня отозвал – считался я и основным автором, и заводилой в агитбригаде, хотя песенка – итог коллективного творчества. Но в комсомольском комитете школы отвечал за культсектор я, да и песню пел. Короче – больше некому было претензии предъявлять. Очень я обиделся – ведь в селе уже подхватили песенку – самолюбие взыграло. Наутро отправился в райком партии, к товарищу Иванову – первому секретарю. И ведь принял он мальчишку, сразу пригласил к себе в кабинет. Стою перед его столом и поношу того инструктора: как же мы, мол, теперь выступать будем?! Нам без песенки – зарез. А он и спроси: что за песня такая? Я тут же, в кабинете, запел. Первый улыбнулся (я, правда, от крамольного жеста удержался – главное ведь слова – слукавил сам перед собой...) «Ладно. Пойте. Скажите, я разрешил, если – зарез». Первая на моем веку победа гласности. Уж не знаю, что он тому инструктору сказал, но на очередном нашем концерте в Доме культуры, я, нагло уставившись на него, а он посещал все выступления аккуратно, вышел из заднего ряда и затянул: «Я карту мира уважаю» и, конечно, про груздянку... Ребята, знавшие обо всем, – ликовали.
Выходил я в люди. К двадцатипятилетию комсомола сочинил торжественную оду: «Ты четверть века буйно цвел, мой славный, мудрый комсомол...» и т. д. Еще, как вы помните, в Москве рифмами баловался, а тут осмелился показать свой опус Елене Петровне. И хоть уже тогда понимал, что стишата прескверные, но она приняла, гордо огласила сочинение в учительской, отправила в районную газету. Напечатали. Но у меня не сохранилось. Как-то стыдно было за голый пафос, холодные торжественные слова, хотя живое чувство к комсомолу еще как грело сердце.
Школа делегировала меня на районную комсомольскую конференцию, там избрали членом бюро райкома, ибо в школе был я уже секретарем комитета... Политическая карьера неслась на перекладных. Сняли с уроков, направили на три дня уполномоченным на весенние полевые работы в колхоз. «Специалист». Задание – как у них с весновспашкой, как перезимовали озимые, сеют ли яровые? А что я во всем этом понимаю? Проинструктировали, велели в случае чего звонить в сельхозотдел и отправили на попутном грузовике километров за тридцать от райцентра. Посмотри, проверь, доложи. С собою только карандаш да блокнот. Встретил меня хромой пьяноватый мужик, как потом выяснилось – бригадир-полевод. Их по телефону предупредили. Повел в поле: тут сто гектаров поднято, там клевера, тут яровые взошли, дальше – овсы... Травка и травка... Кое-где голо. Не взошло еще. Хожу, смотрю, записываю. Суммирую: весновспашка столько-то га, озимые кустятся, зеленя зеленеют. По телефону из правления колхоза передал в Куртамыш данные. На другое утро смотрел фермы. Коровенки тощие. Ничего, скоро на луга выгоним, наберут и молока сразу прибавят. Пока сечкой-соломой кормим, но и на этом по десять литров в день получаем, а летом – зальемся. Вернулся к вечеру на третьи сутки. Колхоз мой в районной сводке с десятого на третье место вышел: и посеяли много, и озимые в отличном состоянии... По моим данным... А через неделю – скандал: лапшу мне на уши бригадир вешал – приехал какой-то оголец, он и подшутил, раза в два данные завысил... Тянут меня в райком, я им свою тетрадку-блокнот тычу, с цифрами: суммы сходятся... Хромому – выговор, но меня больше не уполномачивали проверять сельскохозяйственные успехи. Разве определит городской мальчишка на глазок, пятьдесят там гектаров или сотня? Яровой ли это клин, озимые взошли или перелога, бурьяном зарастающая? Что делать – не хватало людей, второй год войны кончался. Вот и пришло кому-то в голову сунуть московского несмышленыша, авось что-нибудь усечет, а он всему поверил... Простили. Но все равно стыдно было, очень стыдно.
Вернулся подмоченный-уполномоченный в класс. Скоро экзамены. А мне новое предложение – ехать с геодезической бригадой.
Той весной очутился в Куртамыше отряд геодезистов. По реперам снимали они уровень высот для составления карт. Еще до войны, принимая за ноль уровень Балтийского моря, зашагали они по многим маршрутам, хитрым образом связывая в общую сетку территорию огромной нашей страны. Весной сорок третьего один из отрядов добрался до Зауралья. Война не война, а работа планомерно продвигалась к Тихому океану. Начальник отряда остановился в том доме, где снимали комнатушку и мы с мамой. К этому времени всех тех, у кого родители были в Куртамыше, из интерната вытурили, отчислили на вольные харчи. Иждивенческую карточку в зубы – и гуляй. Мама к тому времени работала плановиком в райпромкомбинате. Комнату поначалу снимала у матери Нюси Фроловой, но весной сорок второго река вскрылась, и из конторы, от которой до дома вроде бы рукой подать, приходилось тащиться километра три: до моста и обратно по берегу. Пришлось искать новое жилье, в «центре». Жили мы впроголодь: грамм по триста хлеба в день, прошлогоднюю картоху доели еще в феврале, вещей и каких-либо базарных ценностей у нас не было, зарплата мизерная. Что было, мама еще в первую зиму променяла на хлеб и бульбу. Пока я в интернате жил, кое-как перебивалась, а весной сорок третьего совсем скверно стало. Комбинатское начальство поддерживало, то разрешат полазить с веничком по мельнице, «бызу» намести – это мучная пыль с полов и балок. Наберешь мешочек, просеешь на мелком сите, глядишь, мама лепешек напечет. А то пару кило крахмалу подбросят или жмыха подсолнечного... Не мы одни так жили. Груздянка тоже поддерживала. Маме на обед полагалось лишних двести грамм хлеба, в столовке по блату давали ей горбушку, я из школы шел к ней, наливали нам по миске той пресловутой груздянки погуще, с картошечкой, обедали. Короче говоря, мне пятнадцать, самый рост, все время ощущение голода. А тут начальник геодезистов предлагает: пойдешь в маршрут, с бригадой, с голоду не помрешь, а дело несложное – вычислитель. Считать, полагаю, умеешь. У них в той бригаде мобилизовали вычислителя. Только надо ехать сразу, а то стоит бригада – некомплект. Обещал начальник отряда маме с огородом, вернее, с делянкой картофельной помочь – вспашут, посадят, а уж окучит как-нибудь сама. Раздумывать было некогда – самый лучший выход из положения: мне – рабочая карточка, приварок в поле, зарплата. Вот только как быть со школой? Бросился к директору, и все кончилось наилучшим образом – круглый отличник, перевели без экзаменов, выдали табель за восьмой класс – иди, работай. И уже на следующее утро покатил я в грузовичке геодезистов к месту назначения, прихватив кое-какие положенные бригаде продукты и инструменты. Бригада была уже в поле, километров за сорок от Куртамыша, на самой границе района, за деревней Таволжанкой. Начался новый этап моей жизни – четырехмесячные скитания по Южному Уралу и Северному Казахстану. Впервые я был так надолго предоставлен самому себе, впервые так надолго оторвался от мамы. Со свойственным юности эгоизмом, конечно, не понимал, как она волнуется, лишь одно грело душу: полегче ей будет – и в обед свои двести грамм съест, и из своего пайка уделять мне не нужно будет – ведь принимал как должное, а она отрывала от себя... Много позже сообразил это... А ведь не всегда внимателен был, грубил, скандалил с ней, отстаивая свою независимость. Милая моя мама, родная моя мама... Ничего теперь уже не исправишь. Пожалуй, лишь последние лет десять ее жизни стал я ей настоящим сыном, когда наладилась моя семейная жизнь, когда по-настоящему обрел я самостоятельность и смог как-то помогать ей... А ведь лет до тридцати, нет-нет, да помогала мне она, то купит что-нибудь, то деньжат подбросит. А какие у нее доходы были?..
В казахстанской степи
С родимой моей украинской степью зауральская не очень схожа. Впрочем, могу и ошибиться – украинскую-то помню по впечатлениям десятилетнего хлопчика, когда мы с отцом на волах, по Чумацкому шляху ехали по ней из Каховки в Нижние Серогозы. Потянуло отца в родные места, и захватил он с собой сына – показать. Из Херсона вверх по Днепру до Каховки, а там – в Заднепровье... Запало в душу медленное колыхание ковылей, столб пыли, вздымаемый ленивыми ногами волов, яростное солнце на белесом, выгоревшем небе – огромном-огромном. Только в редких балочках еще сохранялся цвет живой травы, а так – все серо: и укатанные колеи дороги, и спины волов, и ровная бескрайняя степь, и дальние курганы. Над землей, тоже серой и раскаленной, дрожит марево. И ни единого озерца, ручейка, колочка... Может, наложилось на мои воспоминания и очарование чеховской «Степи», прочитанной много позже, даже то обстоятельство, что героя повести тоже звали Егорушкой... Как знать. Полсотни лет не бывал на Херсонщине, полвека.
Между прочим, и отец к тому времени не бывал в Серогозах лет двадцать пять, хотя уже после революции еще некоторое время учительствовал в здешних краях. Никого из Герасимовых тут не осталось: дедову избу сожгли, Савелий умер, а род не пустил в Серогозах глубоких корней... Впрочем, отца узнали. Кое-какие старожилы-соседи еще помнили. Ни дома, ни огорода, ни сада, ни савельева подворья... И все-таки жила в селе память о деде. Долго стоял отец у «Архиповой криницы» – толстой шершавой бетонной трубы с колодезным воротом и гонтовым навесом над черным зевом, и до сих пор брали отсюда холодную чистую воду. Война, революция, нашествие германцев, гетмановщина, Петлюра, Махно, коллективизация – вот сколько всего пронеслось над этими степями за прошедшие годы, а колодец, выкопанный Герасимовыми – сохранился. Двадцать семь сажен, больше пятидесяти метров глубины, и не в деревянный сруб одет – в бетонные полукольца, которые они сами из гравия, песка и цемента отливали и на примитивной лебедке опускали вниз, подгоняли стыки, заделывали швы. К нашему приезду он уже почти сорок лет простоял. На века строили. Отец тогда еще мальчишкой был, в конце прошлого века. Архипу и Савелию старшие сыны помогали. Бригада! Целое лето возились. Вода-то в Серогозах на вес золота. Отец рассказывал, что его обязанностью было огород поливать – каждый день только на эту нужду пятьдесят ведер надо было выкачать – и не оскудевал колодец. Всем соседям служил. Сколько же песку и глины в недалекую балку вывезли, сколько волнений – а вдруг не доберемся до воды, тут ли идет жила? Но вот стоит и поит местных жителей «Архипова криница»... Теперь и мне уже за шестьдесят, а так хочется съездить, одним хоть глазком на отцову родину глянуть. А ну как и до се стоит тот колодец, поит народ? Думал, вот уйду на пенсию, осуществлю свою мечту. Да все недосуг. Нижние Серогозы – корень рода моего, почти незнаемая, но своя, любимая земля...
В Заднепровье стоят по окоему на ровной, как стол, степи редкие горбы древних курганов – «могыл», из балочек порой высятся свечи пирамидальных тополей и купы белой акации – видно, хутора когда-то стояли. Здесь, в казахской степи – гряды холмов, частые озера. Зелень и деревья только у воды, от деревни до деревни или от аила до аила порой два-три десятка километров, днями ни единого человека на дороге не встретишь. И озера странные: почти рядом, по обе стороны слабо наезженного проселка два озерка, камышами обросшие, но одно пресное, другое соленое! И солончаки – голые голубоватые растрескавшиеся плеши такыров. Верно, все не так там ныне, в Павлодарской и Северо-Казахстанской областях, где работал я тем летом. Именно здесь шла целинная битва, тут содрали со степи ее вечный ковыльный покров, распахали первые миллионы гектаров, именно над ними воют сегодня зачастую пыльные бури, унося с полей чернозем. Боюсь, что пейзаж крепко изменился, но небо-то и солнце наверняка те же самые, что и над Украиной. Это их и роднит. У меня всегда вызывает небо священный трепет. Заберешься в Москве на крышу своей двенадцатиэтажки – я весной, бывает, забираюсь туда позагорать – уставишься на небо и замрешь: ведь таким же было оно и тысячелетия назад, так же бежали по нему облака, так же парили высоко в его синеве птицы, и никакого каменного и бетонного леса внизу, никакого асфальта вместо буйных трав, никаких улиц вместо бесчисленных ручьев и речушек... Небо везде одинаковое... И целых четыре месяца стояло, висело оно надо мной в казахской степи – с середины мая до середины сентября сорок третьего года. Где-то далеко на Западе шла страшная битва, лилась кровь, горели города и веси, гибли тысячи и тысячи людей, а надо мной изо дня в день с восхода и до заката солнца распахивалось огромное, мирное небо. И неделями не ведали мы, что там на фронте – транзисторов тогда не было, да и простой приемничек для оперативной связи с отрядом в Куртамыше тоже был бы невероятностью. Изредка из какого-нибудь райцентра удавалось Саше связаться с начальством, а мне – бросить пару писем: маме, отцу в поселок Дзержинского, кое-каким довоенным дружкам. Получали же мы почту раз в месяц, когда, отыскивал нас очередной грузовичок с положенными продуктами и указаниями из отряда... Четыре месяца. Очень важные для меня месяцы. Как понимаю я это теперь, обратили они меня в самостоятельного человека. Там, в казахстанской степи, направив на гладком камне кухонный нож, впервые сбрил я со щек и подбородка пушок будущих усов и бороды, там, как потом выяснилось, подрос сантиметров на пять, прибавил в весе чуть ли ни на целый пуд. Недоедание, даже голод предыдущего сдерживали рост, организм словно замер, законсервировался, прозябал, как зерно в мерзлой земле, а тут – вдарило весеннее солнышко, отклёкла почва и свершился скачок... Диалектика... Важные и памятные мне времена. Поэтому хочу рассказать о них поподробнее.
Наверное, не очень многие знают, чем конкретно занимаются геодезисты. Они определяют высоту земной поверхности над уровнем моря, идут со своими приборами по специальным, заранее намеченным маршрутам-ходам от одной триангуляционной вышки до другой. Кто не видывал этих странных, похожих на нефтяные – буровые, но деревянных, из едва отесанных бревен сколоченных вышек, торчащих на холмах в самых неожиданных местах, кто не задавался вопросом: зачем они тут? И не удовлетворялся ответом: то ли карту с них рисуют, то ли за лесными пожарами следят. Если по жидким лесенкам взобраться на верхнюю площадку такой вышки, всегда с нее можно увидеть на горизонте две-три подобных. Внизу, в центре под вышкой, можно обнаружить холмик, а ежели его раскопать, то наткнешься на бетонный куб с металлическим штырьком. Это устройство называется «репер». Кроме того, геодезистам принадлежит и все остальное реперное хозяйство: такие же четырехугольные холмики, окопанные канавами, в центре, снова в ямке, бетонные кубики с железными штырьками, есть еще реперы и на стенах домов городских построек – металлические лапки с треугольной нашлепочкой острым углом вверх и обязательным номером, тоже репера. Если с мерными рейками, которыми пользуются геодезисты, «привязать» такой городской репер к стационарному, закопанному в поле, можно вычислить, не понизился ли уровень, не дает ли фундамент осадки, нету ли опасности разрушения фундамента. И такие сооружения по всей стране, по всему сухопутному миру. Гигантская работа, сделанная не в одночасье, не одним поколением. Существуют подробнейшие карты с сеткой геодезических высот над уровнем моря, с указанием всех реперов и их данными. И вот я в течение четырех месяцев сорок третьего военного года участвовал в этом деле. Может, за давностью лет что-нибудь и спутал в описании работы, но так запомнились мне уроки тех дней.
Дошли до определенного заданием репера, сориентировались и отправились к вышке. Сначала в одну сторону, километров десять (на полпути еще один полевой репер), потом назад для контроля, и с того же репера, от которого начали «ходку», к другой вышке. Таким образом захватывается полоса шириной километров в двадцать и связываются между собой высоты, расположенные на этой полосе.
Как мы идем? Сколько нас? Идти стараемся строго по прямой, зависит это от меня – у меня в руке обыкновенная мерная сажень – такой угол из реек с попере чиной, вроде огромного раскрытого под прямым углом циркуля, начальник бригады дает по компасу направление, я намечаю себе ориентиры и стараюсь строго им следовать: какой-нибудь куст, дальнее деревце, на худой конец холмик, если не видно вышки, а уж как завиднеется, тут прямо на нее. Отсчитываю двадцать пять шагов сажени и жду, когда основная группа подойдет ко мне с нивелиром – оптическим прибором на тяжелой треноге, поворачивающимся на сто восемьдесят градусов в строго горизонтальном направлении, причем площадочка, на которой нивелир укреплен, обязательно по уровню устанавливается тоже горизонтально. Рядом с нивелировщиком, он же наш начальник, на легком складном стульчике – записатор, вписывающий в маршрутный блокнот диктуемые нивелировщиком цифры, с ними один из башмачников – в его обязанности входит таскать зонт-тент – затеняющий прибор от яркого солнца, а то и от возможного дождя (хотя при дожде не работаем), но дожди редки. Бригадир несет треногу с прибором, а башмачник футляр от него, термос с водой, рюкзак с «перекусом». Есть еще два башмачника, называемые так, потому что несут тяжелые чугунные «башмаки» – этакие плоские чугунные штуковины, похожие на низ одно время очень широко распространенных керосинок, на четырех заостренных ножках и с откидной ручкой. Башмаки тяжелые, килограмм по шесть. Еще башмачник вооружен рейкой с нанесенными на ней делениями и цифрами. На площадочке башмака такой же, как на репере, штырек, рейка вверх ногами устанавливается на него, чтобы в окулярах, где изображение перевернутое, цифры гляделись правильно, хотя стоящий рядом башмачник – вверх ногами.
От переднего башмачника иду снова двадцать пять сажен, жду, пока в указанном мной месте поставят нивелир, и шагаю дальше. Сто метров позади, задний башмачник с силой вбивает в землю лапки башмака, а я отправляюсь вперед. Вечером, после маршрута, щелкаю на счетах, суммирую столбики цифр, результат обязательно должен сойтись миллиметр в миллиметр – прямой и обратный ход. В среднем двадцать километров. Называется это «привязать репер». Не сошлись результаты – пересчитывай.
Такая работа. Однообразно, жарко, солнце палит все сильнее и сильнее. Поэтому ближе к полудню – перерыв, марево мешает точности. Начинаем со светом, заканчиваем к закату. Всего нас в бригаде семеро – седьмой не постоянный, в каждом районе придают нам вместе с лошадьми и телегами нового сотрудника – возчика и повара, в обязанности коего входит варка баланды, собирание кизяка, сушняка, охрана наших палаток. Иногда он привозит нам в термосах обед на маршрут, иногда – если кончаем часов в пять – ждет в лагере. Лагерь – две большие палатки и одна маленькая, где живут начальник бригады Саша, техник-геодезист, ему года двадцать два, и его жена Люся – записатор. Поженились они осенью прошлого года, «молодые», Люся откуда-то из-за Волги. У Саши – бронь, картографы и геодезисты приравнены к военнослужащим. В башмачниках – мобилизованные на трудфронт советские поляки. В сорок третьем их еще не брали в армию, только осенью мобилизовали в польский корпус. Ребята эти попали на Урал перед войной, выселены были из пограничных районов Украины. Старшему, Стефану – к тридцати. Невысокий, коренастый. Обстоятельный человек – жена, двое детишек. Помню, как посылал он семье деньги и посылки. До войны работал трактористом. Средний – Яцек, лет двадцати пяти. Тоже женатик. Чернявый, худой, злющенький. Еще бездетный. Говорил, что был учителем, но мне не верилось: уж больно невысок у человека культурный уровень, да и в бога верит, какой же это учитель? Младший – Стасик, Стась, плотный, белобрысый, толстоносый. Он ближе всех мне по возрасту – ему девятнадцатый. Парень добродушный и недалекий, специальности особой не имел – пахал, сеял... Говорили они между собой по-польски, со мной по-украински, а в общем-то на смеси русского, польского и украинского. Что поразило меня, когда я сошелся с ними поближе, так это их несокрушимая вера в бога: все трое – ярые католики. До того времени знавал я верующих старушек, ну еще няню Шуру, которая особенно своей религиозности не афишировала, а к тому времени, как пошла в техникум, и подавно не заговаривала о церкви. А тут взрослые молодые мужики крестились перед тем, как поднести ложку ко рту, перед сном бухались поодаль на колени и шептали что-то, прежде чем забраться в палатку – такого мне прежде видеть не доводилось. Спорил я с ними яростно, всё, дурачок-атеист, старался доказать, что бога нет. Особенных аргументов у меня не было. Правда, имелся дома «Новый завет» – наследие деда, оттуда заучил наизусть «Отче наш», да знал Нагорную проповедь и какие-то отрывки из всяких «чудес», типа «пятью хлебами и двумя рыбами», «встань, возьми постелю свою и иди»... Но атеистом был убежденным и считал своим комсомольским долгом «воинствовать». Это уже после войны повадился ходить ко всенощной на Пасху... А в те времена чудно мне было, дико – какая душа, какой бог?! Где они? Нематериальная субстанция. Вон над нами небо огромное, свет далеких звезд доходит, как доказывает наука, миллиарды лет. Где тут место боженьке? Толковал им про их же Коперника, что поставил в центр вселенной Солнце, говорил о Джордано Бруно, о Галилее, всячески утверждал примат материи – ни в какую! Камень есть камень, пусть так, он «материя», а вот живая жизнь? Растение? Рыба, кошка, лошадь? И главное – человек. Ведь как все разумно устроено, как дано ему познание мира. Какая соразмерность частей. Но кто же такой этот ваш бог, если допускает он такую несправедливость: войну, убийство ни в чем не повинных детей, женщин, стариков?! – За грехи наши, ответствовали мне мои оппоненты, – или отмалчивались. Им-то лучше было знать, что такое несправедливость – разве не выгнали их из родных домов, разве не лишили родной земли, где веками жили их предки? А я не унимался. В один из вечеров так разошелся, что богохульствовать начал. Никогда прежде себе такого не разрешал, «уважал чувства верующих», как наставляли меня еще отец с матерью. Вывел меня из себя Яцек: «Неисповедимы пути его. Он все видит, все слышит, все знает. Каждый наш шаг ведает, каждый помысел». Ах, ведает?! Знает? Ну смотрите же! Вон над нами небо звездное – степное, бескрайнее – там он? – Тишина. Видит? – молчат. «Плюю я на него, вашего бога!» Задрал голову и плюнул вверх... Закрестились мои парни, головы в плечи вжали – ну сейчас шарахнет? Сейчас блеснет молния, покарает богохульника! Никакой молнии, конечно, не последовало, гром не грянул. В молчании залезли мы в палатку, угрелись, заснули.
Наутро – в очередной маршрут. Идем. Солнце шпарит как никогда. Добрались до репера, чувствую, у меня круги перед глазами и голова от боли раскалывается. Ткнулся в траву, подняться не могу, нету сил. «Что с тобой, Егор?» – это Саша, а я как онемел – губы запеклись, тошнит. Башка словно чугунная. Вырвало меня. Потом провал в памяти. Очнулся – Люся мокрую тряпку ко лбу мне прижимает, ворот рубашки расстегнут. Лежу навзничь, голова трескается. Солнечный удар. А поляки мои не подходят, косятся издали: божья тебе кара! Эк же не ко времени... Правда, довольно скоро пришел я в себя, пошатываясь отправился в указанном направлении... Однако лекции свои антирелигиозные прекратил. Не из страха наказания, не хотел больше настраивать парней против себя. То говорили, перешучивались, по-товарищески относились, а то сторонятся, отмалчиваются, смотрят косо. Боюсь, случай этот только укрепил их веру. К счастью, долго зла не держали. Раз уж господь простил, то и они отпустили мой грех.
Если к вечеру становились мы лагерем возле какой-нибудь деревни, Стась отправлялся «к девкам». Яцек со Стефаном не ходили, а он одевал чистую рубаху, надраивал кирзачи и намыливался туда, сманивая меня. Иногда и я тянулся следом. Не упомню, увенчивались ли его походы какими-то победами, я, во всяком случае, никаких успехов не имел. Телок телком. И долго еще в этом качестве пребывал, до самой женитьбы. Парни местные нас не трогали, да их, считай, и не было: два-три подростка на всю улицу. Девчонок-то куда больше...
Редкие эти деревеньки, часто со смешанным населением: казахами, русскими, украинцами, немцами Поволжья, служили нам базами дополнительного снабжения. Как я уже писал, раз в месяц находил нас грузовичок из Куртамыша, из отряда, привозил «паёк» – муку, крупу, консервы, сахар, постное масло, – снабжали нас по рабочей норме. Не слишком обильно, но прожить было можно. Вечером и утром варили на всех ведро баланды – каши-затирухи или просто муки, присоленной и заправленной банкой тушенки, выпивали полуведерный чайник чая, а вот печеный хлеб, картошку, другие овощи, а то и свежее мясцо, мед – добывали у колхозов с помощью наших «важных бумаг» – бережно хранились у Саши эти «мандаты» на фирменных бланках, с гербовыми печатями и размашистыми подписями. Сообщали они следующее: «По заданию Комитета Обороны предъявитель сего, имя-рек, согласно постановлению Совета народных комиссаров СССР, осуществляет... Просим все государственные учреждения, райсоветы, сельисполкомы, правления колхозов и т. д. и т. п. оказывать необходимую помощь транспортом, продовольствием и проч...» На основании этой бумаги выделяли нам лошадей и телеги, конюха-повара, посильно подкидывали продукты питания. Прибыв в какую-нибудь глухую степную деревеньку, мы с Сашей (я в качестве свиты, помощника и носильщика) разыскивали местное начальство и, предъявив грозную бумагу, требовали «содействия», особенно – съестного. Будем, мол, пять дней работать на вашей территории, семь человек, две лошади... Из расчета по положенной нам норме... Нам не отказывали. Где мешок картошки, где пару пудов пшеницы, а где и барашка или хороший оковалок свинины, пару ведер молока, глечик меда. Кое-что в колхозных кладовых еще оставалось, а бумаг с гербовой печатью и словами «Совет народных комиссаров» местные председатели отродясь не видели... Так что проходили мы как важные шишки, выполняющие особо ответственное задание... В одном из таких аилов председатель, разусердстовавшись, пригласил нас к вечеру на угощение. Не удержусь, расскажу подробнее о том нашем гостевании.
Поначалу, как почетных гостей, завели нас в избу, чувствовалось, что здесь не живут: ковры, кошмы, охотничьи ружья с насечкой и инкрустированными ложами, всякие медные блюда, кумганы, кувшины. За заплотом, во дворе, окруженном хозяйственными постройками – войлочная юрта. В центре ее очаг, над ним огромный котлище и варится в нем целый баран, женщины хлопочут, по стенам детишки жмутся, собаки. Тут же низкие комодики, свернутые кошмы, вероятно, постели. Барана при нас вывалили на большущее медное блюдо, а в котел кинули наш дар – большую плитку чая. Мужики, человек десять, сели вокруг барана, за ними – женщины, третий круг – детишки. Хозяин выколупнул из барана глаза – круглые белые яблочки, сантиметра три в поперечнике, и на ладони протянул мне и Саше. Сунул я сие угощение в рот, а оно как резина, не жуется, да еще и чертовски горячее, обжигает, и проглотить невозможно. Чувствую – совсем нёбо ошпарил, прикрыл рот рукой и незаметненько этот глаз – за пазуху, под рубашку, в расстегнутый ворот, а он, черт, горячий – невмоготу! Катается по животу, я его локтем то туда, то сюда. Просто Муций Сцевола, не выплюнешь, не вытряхнешь. Терпи. Смотрю, у Саши тоже глаза на лоб лезут, проглотить пытается. А хозяин уже режет куски и прямо на ноже подает гостям. Тут же стопа лепешек, тоже горячих. Принял я, положил на лепеху, от мяса пар, вкусный такой, а кусина с седла, кулака в два. Рвут мясо мужики, ножами у самых губ обрезают, потом не оборачиваясь суют назад, бабам, те свое отгрызут и ребятам, а уж самые обглодыши – собакам. Глаз – мучитель мой – поостыл, баранина жирная, уваренная, правда, запах от нее сильный, непривычный, но справился я с куском, а мне еще предлагают. И тот принял, освоился малость. А в котел – молока хорошо ежели не целое ведро плеснули, черпают, по пиалушкам разливают и подносят каждому. Горячий, соленый, жирный чай с молоком. Куда как непривычный вкус. Хозяин посмеивается – пей, пей – и байку рассказывает, как один бай другому отомстил: накормил жирной бараниной, а котел с чаем опрокинул, нечем было гостю кишки промыть, бараний жир быстро твердеет, у врага заворот кишок, так и помер, бедняга... Вышел я из юрты, выбрался со двора в степь, простите, присесть надо было, сижу, тужусь, а уже сумерки, гляжу, со двора еще фигура какая-то появилась, присела напротив меня... Баба! И внимания не обращает. Лопаточка у нее маленькая в руках. Зарыла и пошла себе обратно. Простота нравов. А что касается глаза бараньего, то я, лишь очутился за воротами, нашарил его за пазухой и со всей силы запулил подальше в степь... Может, что и приврал я, не так, как следует, назвал, да и не собирался смеяться над гостеприимными хозяевами, но минуло с той поры почти пять десятков лет, много раз под веселое настроение живописал я друзьям то наше пиршество, и, конечно, для юмористического эффекта привирал что-то, так что и сам уже не определю, что же было в действительности. Кстати, вспомню тут же и один отцов рассказ: дескать, заспорили они с одним приятелем, кто кого переест, купили барашка, бутылку водки, сели друг против друга и съели. Никто уступить, первым отвалиться не хотел, а уговор был: кто первый откажется, тому и платить. Вероятно, тоже байка. Отец мастак был на такие, я весь в него. Но вот как однажды, тому есть свидетели, перепил я одного нахала – чистая правда: это уже осенью пятьдесят девятого было, убирали москвичи картошку в подмосковном совхозе, среди прочих ваш покорный слуга и его будущая половина. В совхозной столовой давали нам по паре стаканов молока к ужину, обеду, завтраку... Как-то один хмырь подходит к нашей компании, о чем напишу в свое время, и предлагает на спор: выпью семь стаканов и съем семь тараканов (тараканов в столовой хватало). Эстетическое чувство не позволило нам принять его тараканьи заглоты, а вот насчет семи стаканов было выработано следующее условие: на стол устанавливают в два ряда по два десятка стаканов молока. С одной стороны длинного стола иду я, с другой он и переливаем их в себя один за другим. Кто первый сдастся, с того поллитра. Болельщики со всей столовой собрались, молока – залейся. Начали! Где-то на тринадцатом стакане у моего противника-соперника глаза на лоб полезли, на шестнадцатом – попёрло из него обратно. Выдохся. Я же отважно дошагал до последнего и в том же ритме выглотал двадцатый. Не посрамил «Союза писателей». Где ему было знать, что имеет он дело с молокопойцей, с раннего детства приученным к молоку. Трехлитровая банка и полбуханки хлеба – нередко заменяли мне обед. Ну а тут пришлось выдуть без хлеба – четыре литра. Нормально.
Однако, в полном смысле этого слова: «вернемся к нашим баранам». Такой грабеж колхозных кладовых мы за грех не считали. Иной раз, переходя за день с маршрута на маршрут, успевали «отовариться» в двух-трех хозяйствах. Кто нас будет контролировать: пять дней или ни одного проработали мы на их территории? Степь широкая... Теперь читателю должно быть понятно, каким образом при тяжкой ежедневной работе поправился я за лето на целый пуд. Уж что-что, а голодать не приходилось, даже кое-какие заначки делали. И еще один канал пополненияприпасов у нас был: у Саши – небольшая рыбачья сеточка, метров на двадцать, и бердан шестнадцатого калибра. А в озерах карасей видимо-невидимо, и утки непуганые, за два военных лета отвыкшие от охотничьих набегов и звуков выстрелов. Шарахнет Саша по дичи на одном озерце, а они на крыло и в соседнюю лужу, метров за сто. Идешь за камышами, внимания на тебя не обращают, словно домашние. Так что и утятинкой баловались, не скажу часто, но раз-два в неделю перепадало. А уж об ухе, крутой, янтарной, не хуже демьяновой, и говорить нечего. Рыбу даже впрок сушили. Поставим с вечера сеточку, на рассвете вместо умывания побродим, пошумим в камышах, погоняем карасей с четверть часика, и еле-еле сеть на берег волочим: кто помельче – гуляй, братва, дальше, а лапотков ведра три наберем, как правило. Тут же всей бригадой пластаем, потрошим – и в маршрут. Повариха присолит, нанижет на бечеву, на задранных оглоблях повесит – к вечеру уже сухая, солнышко-то дай бог! Это я к тому рассказываю, что когда в сентябре вернулась наша бригада в Куртамыш, мне сверх положенного пайка выделили мешок сушеных карасей, пуда три пшеничной муки, полмешка пшена, бутыль масла. По тем временам – немалое богатство.
Раз уж заговорил о рыбалке и охоте, разрешу себе еще один эпизод припомнить. Как вы знаете, дядя мой Афанасий был записной охотник. И отца подбивал. Так что была в нашем доме берданка и патронташ со снаряженными гильзами. До войны, в Крюково, отец пару раз ходил зоревать ближе к осени за Ленинградское шоссе, там среди леса, километрах в пяти от нашего поселка, были два ставка небольших, как-то даже селезня принес. Я с ним однажды увязался, так что дорогу знал. Всю войну бердан в чехле, с отсоединенным стволом и хорошо смазанным затвором, пролежал в большом, отцовской работы сундуке – московские соседи-друзья, когда в нашу комнату вселили погорельцев, а мы с мамой были в эвакуации, стащили часть наших вещей в угол слепого коридора, среди них и сундук этот, и там они пылились года два, до нашего возвращения в Москву. Так или иначе, но весной сорок шестого переехал этот сундук на крюковскую дачу, был мной вскрыт, и оттуда извлек я берданку и патронташ. Шестнадцать штук снаряженных картонных гильз в его гнездах – подарок судьбы.
И вот в одно из прекрасных утр, на самом рассвете, с вечера снарядившись, привязав на пояс вместо ягдташа авоську, куда сунул бутерброд и бутылку молока, отправился я на охоту. Стрелял довольно неплохо: военные занятия и в школе, и по своей охоте в тирах приучили к оружию. Добрался, перейдя шоссе, до первого пруда, глядь – на его зеркале, по-за камышами пара уток – метрах в двадцати. Приложился, бабахнул. Селезень вверх лапками, а утка серенькая забила крыльями и в камыш. Странно. Не взлетела, а пошлепала по-над самой водой. Ну да что там рассуждать, скинул я одежку и вытащил добычу. Гордо уложив в авоську, отправился к другому ставку, в километре от первого. Там никого. Посидел, покараулил. Пустой номер. Зашагал домой. Солнышко уже высоко. Иду мимо первого пруда, но если утром вышел на его левый берег, сейчас огибаю его по правому. И вдруг передо мной ограда из слег, а за деревьями крыша... Так это же я домашнюю выцелил! Господи! Согнувшись в три погибели, метнулся назад, обошел пруд, километра два крюку дал и скорее-скорее домой, да не по шоссе, ведущему к станции, а леском, по-за кустами. А ну как хватились хозяева своего селезня? Выстрел слышали? Беда! Года три потом в те места не совался. А охотничьи мои приключения кончились на следующее лето. Пошли с дружками в лес, прихватили берданку, один по сойке пальнул, не попал, другой сороку или кукушку пытался сшибить... А я и вовсе маленькую пичугу усмотрел на полянке, прыгает с ветки на ветку, посвистывает. Приложился, выстрелил, только перышки полетели да листочки посыпались. Кучно ударила мелкая дробь, в пух и прах разнесло мою добычу. И тут ошарашило меня: зачем? За что? Был-жил тепленький комочек, радовался, мошек ловил, деток кормил, а ты, идиот, лишил мир такого чуда. Ни за что, ни про что. Хотите верьте, хотите нет, но с той поры ни разу по живому, теплокровному не выстрелил. Берданку сменял на что-то одному из крюковских приятелей... До сих пор есть у меня духовое ружье, приобретенное уже в шестидесятых, но и из него – лишь по консервным банкам или мишеням бумажным, на фанерку прикрепленным. Что же касается рыбы, то тут особь статья. Об ней – позже.
Заканчивая главку о казахстанской степи, не могу не упомянуть еще одного примечательного факта, сыгравшего в моей жизни некоторую роль. Уезжая из Куртамыша в «дальние странствия», прихватил я две книги, по неизбывной привычке утыкаться в печатное слово в любое время дня и ночи, как только выберется свободная минутка. Библиотека моя состояла из «Краткого курса» и большого однотомника Маяковского, изданного перед самой войной и сопровождавшего меня в эвакуацию и обратно. Этот том до сих пор в нашей библиотеке, насчитывающей сегодня тысячи четыре томов, если не больше. По нему и младшая дочь приобщилась в свое время к «лучшему, талантливейшему поэту нашей эпохи», хотя есть у нас и полное собрание... И Белла, жена, любит и прекрасно знает стихи Вл. Вл-ча. Но к делу. Том Маяковского был у меня, так сказать, стационарным чтением, не потаскаешь его за пазухой. Дожидался меня в палатке, в моем сидоре, а «Краткий курс», заткнутый за пояс, шагал от репера к реперу, от вышки к вышке. Стоило устроить Саше перекур, как открывал я его и принимался штудировать. За лето раз пять от корки до корки прочел, а отдельные главы и того больше. Кто знал, что пригодится мне это чуть ли не дословное знание на всю предбудущую жизнь. На сем «историческом» багаже сдавались все курсы и в театральном, и в университете, на факультете журналистики, хотя кончал я его уже в те годы, когда официальный авторитет «Краткого курса» был в достаточной степени подмочен. Но экзаменаторы-то оставались «старорежимные», и мысли, изложенные в том гнилом источнике, принимали на ура. Этот же курс годами ранее давал мне возможность без особых усилий вести комсомольские политкружки в Рязани, проводить политбеседы в армии, блистать в Университете марксизма-ленинизма и на еженедельных политвечернях уже в редакции. Представляете себе, шпарит слушатель едва не наизусть, даты и имена от зубов отскакивают, а кроме того, вроде бы «Капитал» штудировал, первоисточники почитывал, а я действительно рылся в четвертом издании Ленина, еще в отрочестве понюхал Плеханова, да и брошюрками по философии марксизма не брезговал. «Чем хвалится, безумец!» Нет, нет, и Ницше читывал, и Хейдеггера, чего только не было в моей жизни. А уж периодизация, съезды, «Три источника и три составные части», и пр. и др.
А ведь летом сорок третьего читал без всякой задней мысли, исключительно по въевшейся в кости привычке втыкаться в печатное слово. И Маяковский с той поры вошел в меня – стоило назвать любую строчку, как тут же возникала в памяти последующая.
Мешало ли мне это в дальнейшем? Если говорить о бытовой пользе – сдаче многочисленных экзаменов – отнюдь! А вот что касается собственного мышления, собственных понятий и выводов – ох как навредила вбитая в память догматическая привычка мыслить готовыми формулировками, зачастую ложными категориями, неприемлемыми для моего сегодняшнего сознания. Как приходится преодолевать это, выдавливать из себя догматика-полузнайку, человека, некритически воспринимающего кое-какие постулаты, вдалбливаемые ему в голову сверху и сегодняшними «марксистами».
Последние куртамышские месяцы. Возвращение
Короче говоря, возвратился я той осенью в Куртамыш обогащенный и физически, и идейно, и материально. Жизнь налаживалась. Накопали мы мешка три картошки с наших соток, сколько-то моркови, капусты, свеклы, лука – позаботилось начальство отряда: посадили не только бульбу, но и несколько гряд овощей на наших двух сотках. Можно было безбоязненно входить в зиму. Быстренько собрал урожай, не слишком богатый: мама не шибко следила, не полола, всего один раз окучивала. Все заросло. Но где ей было взять сил? В сорок третьем ей уже перевалило за пятьдесят пять, да и никакого «сельского» опыта не было – горожанка, интеллигентка.
В школе уже шли уроки. Сразу навалились комсомольские дела, но уже без той ярости, без того горения, что полыхало в наших сердцах год назад. Дела на фронте шли отлично. Засветила возможность возвращения к родным пенатам. Районный Дом Культуры, памятуя мои прошлогодние успехи на сцене, зачислил меня в штат, дали какую-то зарплату, рабочую карточку. Теперь мне больше не приходилось бегать после уроков в промкомбинатскую столовку и делить с мамой ее скудный обед и горбушку. В те дни, что я вернулся, застал ее в больнице – возвратный тиф. Первый раз переболела она тифом еще в гражданскую, но и на сей раз было опасно. Случись это весной, не уверен, выжила ли бы... Но тогда особенно не задумывался со свойственным молодости эгоизмом. Правда, ежедневно заглядывал в больницу, носил уху, картофельные самодельные блины – драчены, пару ложек винегрета. Было чем поддержать больную. И она действительно довольно быстро оправилась, встала, а вскоре и вышла на работу. Жизнь налаживалась. Прибежишь домой с уроков, наскоро нашинкуешь добрую макитру овощей – взвод солдат накормить можно, плеснешь постного масла, отрежешь добрый кус хлеба, налопаешься и – в Дом культуры, до позднего вечера. Учебу, конечно, запустил, никаких домашних заданий, не тем голова занята. Да и в классе уже кое-кого недосчитался: уехала в Москву Светка с матерью Софьей Ивановной, в прошлом году работавшей директором интерната, а потом зав. РОНО. Елена Петровна была назначена на ее место, и мы потеряли любимого учителя. Леша Коренев тоже уехал в Москву – его отец работал главным инженером куртамышского промкомбината, и мать жила с ними все годы эвакуации. Отозвали. В общем, настроение у многих чемоданное. Мама написала в Мострамвайтрест – не пришлют ли вызов: без вызова в Москву не пускали. Отец все эти годы безвыездно работал в своем поселке под Люберцами, в Москве не бывал. Писал редко, так же редко присылал немного денег. Работал он уже не в школе взрослых, а на большом военном заводе, выстроенном еще до войны. Как человека опытного и старого члена партии назначили его начальником охраны и выбрали партсекретарём. Работало там тысяч десять разного народу. Забот хватало. Запомнилась, к примеру, отцова одиссея: поездка в Среднюю Азию. Подсобниками на заводе работали мобилизованные узбеки-декхане, ни к климату, ни к пище нашей, ни вообще ко всему строю здешней жизни не привычные. Голодали, холодали, болели. Бывали смерти. Несколько сот человек – не фунт изюму. Еще осенью сорок второго отец ездил в Узбекистан, связался с семьями мобилизованных, собрал теплые вещи, какие-то посылки, сумел доставить все это на завод. К моменту нашего возвращения тоже только что вернулся из дальних странствий после двухмесячного мотания по градам и весям Средней Азии. Добился демобилизации нескольких доходяг, отвез их домой, а оттуда пригнал два товарных вагона с посылками и вещами. Узбеки на него молились, сам тому свидетель. А легко ли шестидесятилетнему человеку недоедать, недосыпать, неделями не раздеваясь валяться на нарах теплушки, выбивать вагоны, встречаться с зареванными женами и детишками несчастных узбеков... Языка не знает, по дороге «зеленая улица» воинским эшелонам и фронтовым грузам. А тут два вагона и горстка сопровождающих узбеков с завода во главе с отцом... Сколько приходилось сражаться со всяким железнодорожным и воинским начальством, чтобы выбить эти вагоны, чтобы цепляли их к эшелонам, идущим в Россию. Вез оттуда отец, по его рассказам, мешка три урюка, сабзы, лука, перца и прочих даров узбекской щедрой земли. Довез едва пару мешочков небольших – то одному сунешь, то другому, хотя и документы в порядке и партбилет с большим стажем, и поддержка местных органов власти. Так что дел у отца хватало. И к себе нас он тоже вызвать не мог: вызывали только на работу. Да и были, как я потом понял, у моего Павла Архиповича некоторые обстоятельства, которые не очень-то толкали его на встречу с мамой. Уже в конце тридцатых они почти совсем расстались, только дача связывала, да я – «самый старший и самый младший», как шутил отец: старший сын и младший ребенок... Впрочем, в своем месте вы все поймете.
Вернемся пока в Куртамыш. Осенью сорок третьего даже меня, человека тогда правоверного и неискушенного, поразил акт административного восторга наших верхов: образование Курганской области. Идет жестокая война, людей не хватает, а тут вдруг возникает новая территориальная единица, со своим обкомом, облисполкомом и прочая, и прочая. Смех. Меня в числе других комсомольских активистов района делегировали на конференцию обкома ВЛКСМ. Честь, конечно... Пожалуй, уже в конце октября выехали мы в областную столицу. Городишко заштатный, в основном одноэтажный. Помню его плохо – два дня сидели и голосовали, не очень зная за кого, скучные, по бумажкам зачитываемые речи слушали, так что тоже ничего особенного не запало в душу. А вот что навсегда сохранится в ней, связанное с Курганом – пленные немцы. Тут я их впервые увидел в натуре, а не с экрана кинохроники. На третий день нам уезжать, в Юргамыше уже ждет грузовик и билеты нам раздали. Под конец наградили делегатов сухим пайком на дорогу: консервы, сахар, полкило давно не виданной колбасы и по целому пшеничному караваю. Большая пышная булка, сверху донельзя аппетитная корочка-шапка. Каравай еще теплый, прижимаю его к груди – через куртку греет. Вышел я из магазина, где выдавали нам эти блага, на улицу. По мостовой плетется колонна людей, странных каких-то, растянулись, нога за ногу заплетается, шинелки на них коричневатые, кое у кого веревками подпоясанные, на головах пилотки, какими-то тряпками сверху повязанные. В сторонке, возле тротуара, наши солдатики с винтовками наперевес – редкой цепочкой, всего-то человек пять на эту нестройную толпу. Немцы? Военнопленные фашисты? Меня как обожгло. В Куртамыше их не было. Остановился, глазею на них, автоматически отломал кусок корочки, жую-похрустываю, вкуса не чуя. Враги. А у меня почему-то никаких особенных эмоций в смысле «священной ненависти». Бредут себе и бредут. Худые, небритые, опустили головы. И никакой злой радости, мол, что, гады, получили, чего хотели?! Так и надо! Поотстав от основной группы, прихрамывает тощий белесый мальчишка, тоже в униформе. И глаз с меня не сводит. Встретились наши взгляды. Проглотил я разжеванный кусок, и вижу, у него на худой цыплячьей шее синхронно прыгнул острый кадык. Одновременно со мной глотнул... И такое вдруг в душе – и жалость, и омерзение и... сочувствие, и не знаю, что еще. Соступил я с тротуара, сунул немчику в руки свой каравай и чуть не бегом в сторону. Они же враги, убийцы, они же землю мою топчут, они же... А ты? Комсомолец. Сколько проклятий на их головы призывал, какие кровожадные мечты вынашивал: и стрелял, и танки их жег, и поезда под откос пускал... Как же ты, Егор?! А вот так. Кусаю губы, еле слезы сдерживаю. Всегда был сентиментален. Вот так, и всё. И стыдно, и горько, и хлеба ни кусочка не осталось, а дома только через сутки буду. Но где-то внутри ликующая гордая дрожь: знай наших! Мы такие! Мы – Рот фронт. Мы – люди. Правильно? Правильно! Все правильно. Только бы кто из своих не углядел: не объяснишь ведь – врага пожалел, фашиста. Слава богу, свидетелей не было, а местные особого внимания не обратили, вероятно – не впервой такое случалось. Никому я о том пареньке не рассказывал, но сам почему-то вспоминал, верил, что выживет этот немчик, вернется в свою Германию и тоже не забудет. Может, так и вышло? Кто знает. Мы – люди!
Лето сорок третьего, лето Курской дуги, первых московских салютов, громы которых доносились сюда к нам по радио, лето и начало осени, когда уверенность в близкой победе все ретивее будоражила душу, я, как вам известно, провел вдалеке от источников информации. Редко-редко удавалось заполучить какую-нибудь газетенку десятидневной давности, где подтверждались успешные действия нашей армии. Так что все наши прогнозы о дальнейшем строили мы задним числом. И радовались давно достигнутому. А ведь вопрос: как там сейчас? – не шел из головы.
В Куртамыше радиоточки работали исправно. Фронт как бы приблизился. Как же ликовали мы с Вилькой, когда вышли наши на Днипро, когда форсировали его, а уж особенно радовались подарку к ноябрьским праздникам – Ватутин взял Киев! Отец Вилена, авиационный генерал, шишка в наших краях невиданная – даже райвоенком был стареньким майором – выбрал время и прикатил в Куртамыш за женой и сыном. Остался я без Вильки. Увезли в Москву Колю Бесфамильного, уехал туляк Вовка Никонов, московский армянин Мирзоян – все мои ближайшие друзья и сподвижники. Совсем одиноко стало. Даже Мила Подгорная, в которую был я «официально» влюблен, уехала в Свердловск к тетке. Я той Миле первые любовные вирши писал, типа: «...Я не Руслан, но ты, Людмила, прими послание мое...» Любовь была выдуманная, для отвода глаз, чтобы не проведали, что нравится мне Светка... Это, между прочим, одна из загадок моей юности. Просто какой-то комплекс: стоило какой-нибудь дивчине задеть мое сердце, как тут же бурно и напоказ начинал ухлестывать за ее подружкой, как бы не открылся секрет. Вот ведь обалдуй. Так, пожалуй, продолжалось лет до двадцати. Нравилась одна, пользовалась вниманием – другая. Конспирация влюбленности. А может, всё из-за того, что несерьезно было и то и другое?
Отъезд Вильки меня больше всего расстроил. Мы ведь друг другу «сердечные тайны поверяли», и было мне с кем поговорить на украинской мове. Кое-какое время мы переписывались, даже в сорок четвертом, когда я уже был в Москве. Вилен – старше меня на год-полтора, ушел в авиационное училище, удалось ему полетать в военном небе. А в сорок пятом мы друг друга из виду потеряли. Жаль. Думаю: жив ли еще куртамышский мой корешок? Самая у меня добрая память о нем и тех наших годах за Уралом.
А учиться все больше и больше становилось невмоготу. И из учителей кое-кто уехал, и ребята убывали один за другим. В дневнике моем школьном то пятерки (по старой памяти), то двойки, особенно по тригонометрии, которая никак в голову не лезла: синусы, косинусы... В Москве, говорят, уже раздельные школы – мужские и женские, тоже одно из великих преобразований выживающего из ума нашего правительства. Армия надела погоны. Уже не «товарищ командир» – «товарищ офицер». Даже в нашей глубинке появились золотопогонники со звездочками вместо привычных петлиц, кубарей и шпал. Военрук наш, раненный капитан, прибывший на долечивание, щеголяет с четырьмя звездочками, позвякивает орденами и медалями. Герой. Училка биологии, местная весьма недалекая особа, млеет перед ним на виду у всей школы. Прозвище ей – Амеба.
Но военрук гоняет нас всерьез: винтовка, автомат, гранаты и РГД, и «лимонка» – запал, кольцо выдернуть, бросок... Наука сия не пропала даром, даже как-то жизнь мне спасла. Строем ходили, окапывались за околицей, пока земля совсем не заклёкла, марш-броски совершали. В противогазах и со всей положенной боевой выкладкой... «Тяжело в ученье – легко в бою!» – покрикивал на нас лихой капитан. Думаю, что кое-кому из моих куртамышских одноклассников эта наука впрямую пригодилась. Уже в сорок четвертом стали подбирать солдатиков двадцать седьмого года рождения. Многие к осени и зиме уже и на фронт подались с маршевыми ротами и учебными командами. А меня дата моего рождения вновь подвела. Короче говоря, было не до учебы. Кончалась стабильная жизнь эвакуированного, какой-то уже устоявшийся, как-то налаженный быт. Впереди – неизвестность, которая не могла же оказаться просто возвращением к привычной довоенной жизни...
В конце года получила наконец мама долгожданный вызов. Сборы недолгие – сидорок мой, еще довоенный портфель с «архивом», здоровый фанерный чемодан, обмотанный веревкой, взамен променянных в лихое время на картошку двух заграничных фибровых – довоенного подарка тети Клары. Пара мягких узлов с нашими нехитрыми шмотками. И мы готовы. До Юргамыша снова добирались в санях. Но теперь уже на лошадях. С какой-то реэвакуировавшейся семьей на пару подрядили. Переполненное зданьице вокзала. Наконец удалось затолкаться в вагон. До Свердловска. Там пересадка на московский, дорога запомнилась слабо, все как в тумане, – несколько суток ожидания в Свердловске, пшенный супец из жестяных мисок в пункте питания, мытье и прожарка одежды в санпропускнике, кусочек голубоватого глиняного со щелоком мыла... Кто-то один всегда должен находиться при вещах, никаких камер хранения. Благо, что скооперировались мы с нашими куртамышскими спутниками – их трое. Значит, остальные могут на часок-другой отойти. Спали под вокзальными лавками. Удалось пристроить маму сверху, на лавке, а уж я у нее под ногами. Мешки под голову, с одного бока туго набитый портфель, другая рука обнимает чемодан – в нем основное наше богатство – остатки муки, сушеная картошка, пшено, бутыль с маслом... Сплю и вдруг чую, как отъезжает в сторону чемодан, тихонечко так отъезжает – открываю глаза: на меня в подлавочном сумраке пристально смотрит какая-то рожа и тянет чемодан к себе. Лягаю ногой лежащее неподалеку тело, движение прекращается, рожа отворачивается, тело уползает в месиво других тел, набитых под лавками. Перехватываю веревку, подтягиваю к себе фанерный ящик, поглубже засовываю ладонь под веревку и сплю дальше.
Свердловска совсем не помню, хотя кантовались мы там с неделю и вроде выходил я в город. Запомнилась только встреча в каком-то зальчике с Новиковым-Прибоем, автором знаменитой «Цусимы». Каким ветром меня туда занесло, не знаю. Седенький старичок в морском кителе что-то нам рассказывал, что-то читал... Помню только факт встречи – так сказать, культурная программа для ожидающих поезда. И вот мы снова в вагоне, торчу у окна, жду Волги, когда ехали на Урал, пересекли ее ночью, проспал. А как не увидеть Главную реку России? Грохочем по мосту. Берега засыпаны снегом, засыпана и сама река. Никакого впечатления могучести и беспредельности. Сливается пространство реки и берегов, ничем не отличается от тех просторов, что уже миновали мы в тысячекилометровом пути от Урала до Волги. Перед Раменским, станцией возле Москвы, загоняют наш состав в тупик. Начинается «шмон» – проверка, кто что везет, не протырился ли без паспорта, билета и вызова, мешочников и зайцев высаживают. Правда, особых трагедий не возникает. К Раменскому ходят из Москвы электрички, туда попасть значительно проще, чем в наш пассажирский состав. И проверки там слабее. Знающие люди, спокойненько подхватив свои шмотки, высаживались из переполненных наших вагонов и цепочкой тянулись к недалеким платформам электрички. У нас с мамой было все в порядке, и после двух-трехчасового отстоя на запасных путях двинулись мы в столицу. Домой!
Москва-1944
Площадь трех вокзалов. Такое знакомое, привычное, пусть несколько потускневшее метро – «Комсомольская». За ней «Красные ворота», «Кировская» и... А вот на «Кировской» остановки нет. Платформа забрана побеленными фанерными щитами... Почему это? Наконец наша «Дзержинская». Лестница-чудесница! Поднялись, обвешанные вещами, на Лубянку, свернули на Никольскую: угловой магазинчик «У артистов» – в начале тридцатых здесь распределитель был для актеров – так и остался «У артистов», напротив аптека Ферейна, арка Третьяковского проезда... И вот он, наш, 1-17, «Славянский базар»! Парадное. В дверях вместо стекол – фанерки. И сам парадный вход несколько съежился, уменьшился в размерах. Бывало, мы тут и в салочки играли, и в прятки... Мама достает ключ – все годы был с нами, сохранился. Наша – No 11 на первом этаже, прошли знакомый коридор, спустились на два марша, повернули налево... У нас в комнате живут какие-то люди. Дверь не заперта. Ах, из разбомбленного дома?! А у нас, оказывается, никаких прав на эту жилплощадь нету. Два года не вносили квартплату. Но кто же знал, что ее надо вносить?! Отец совсем не бывал в Москве... В комнате кое-какие наши вещи: гардероб, кровать мамина. Но нам места нет. С этого и начались наши многолетние мытарства. На первых порах приютили соседи – друзья довоенные. Мама ночует у своих приятельниц, меня при няли в семью Володи Соколова, они уже тоже вернулись из эвакуации, но у них с квартирой все в ажуре – Николай Семенович, отец семейства, оставался в Москве. У него погоны капитана второго ранга, вернее, военного инженера, с двумя просветами, но серебряные. Нестроевик. Всё-то мы тогда про погоны, лычки, нашивки знали... А их изобреталось все больше и больше. И железнодорожники, и прокуроры, и финансисты, и гражданская авиация. Обмундировывал империю генералиссимус... Жена как-то вспоминала зиму сорок второго, они тогда в Куйбышеве – Самаре в эвакуации были, она в седьмом училась. И их всем классом, если не всей школой, послали на швейную фабрику – резать погоны... До сих пор без скорби не может рассказывать: «Народ оборвался, в какие-то тряпки кутаемся, а тут огромные рулоны прекрасного сукна раскатывают на полу, и мы большими, не по нашим рукам, ножницами кромсаем это богатство, лазим на коленках... Вспомнить страшно...» Нет, не было удержу нашим «административным восторгам». Под Сталинградом еще бои, а мы готовим армии к парадному вошествию в Европу: как же там примут нас без погон? Срам! Ненавижу!
Маму сразу же взяли на работу, правда, не в Щепетильниковский трампарк, а в Управление, старшим инженером отдела труда и зарплаты. Она подала в суд на «захватчиков» нашего жилища, а я уехал к отцу, в поселок Дзержинского, шел февраль. В девятый класс местной школы меня не приняли, у меня за девятый только за первую четверть несколько отметок, да и то одна двойка, а за вторую не аттестован полностью... На семейном совете решили, что надо мне до будущей осени поработать, ну потеряю год, не страшно. Тем более, что он у меня «запасной», «незаконный». И повел меня папа на свой завод. Приняли учеником в Пятый – подсобный цех. Начальник цеха Петровский, отцов приятель, встретил меня радушно. Цех у него был маленький – сколачивали тару для основной продукции, кое-какую «жестянку» делали, грузовые тележки ремонтировали, мебель, малярили. На третий день принес я Петровскому справку из Куртамыша, что у меня третий разряд столяра-краснодеревца. Меня сразу повысили, зарпла ту прибавили, карточку рабочую дали, а тут как раз шестнадцать исполнилось. Поставили на ремонт мебели, посылали замки врезать, стеклить, рамы-двери чинить. Но и в этом качестве недолго держали. К марту уже забрал меня начальник цеха к себе в контору – кладовщиком-нарядчиком. Перешел я в разряд ИТР. Столь быстрая карьера объяснялась, вероятно, не столько моими «выдающимися» способностями – ведь и на счетах, как заправский бухгалтер, щелкал – сколько авторитетом отца: как-никак парторг. Впрочем и образование мое восьмиклассное (неоконченное среднее, как тогда называлось) свою роль сыграло. В подсобном-то нашем все больше полуграмотные девчонки, парнишки с едва законченной начальной школой да безграмотные бабки, крестиками расписывавшиеся, из соседней деревни Гремячево. А всех «инженерно-технических работников» – Петровский да мастер. Был еще старик-жестянщик дядя Алексей – золотые руки. Все умел из обрезков железяк смастерить – абажуры, ящички под хитрый замочек, фляги с завертывающимися и не протекающими крышечками... Паять, лудить я у него научился. Дядю Алексея в армию по возрасту не брали, уже за шестьдесят было. А мастер – здоровенный, розовощекий, улыбчивый, – страдал, как выяснилось, падучей. Частенько, в самый неожиданный момент, в самом неподходящем месте его вдруг скручивало, бледнел, на губах пена – падал, круша все что ни попадя, вместо глаз – вылупленные белки, судорога бьет, выгибает – на него кидались все, кто был рядом, держали за руки, за ноги, чтобы не пока лечился. И надо было обязательно раскрыть ему рот и что-то деревянное между зубов сунуть: боялись, язык откусит или задохнется. Бабы наши очень его жалели. Такой мужик – и нá тебе. Побьется-побьется и отходит. Лицо снова розовеет, на губах виноватая улыбка. Добрый, тихий. А запомнился яростными припадками, когда в беспамятстве мог что хошь вокруг разнести...
Восседал я теперь в цеховой канцелярии, закутке, отгороженном от «производственной площади» застекленной стенкой. Стол Петровского с телефоном, мой – большой двухтумбовый, да простой – мастера, рядом с ним тумбочка под замком – сверла там, перки, стамески, ножовки, рубаночные железки и проч. На моем столе главный предмет – счеты. Папки с копиями нарядов, чистые бланки и множество нормативных справочников. И, конечно, как у настоящего бюрократа – письменный прибор со стеклянными кубами чернильниц, пресс-папье, бронзовым стаканчиком для ручек.
В курс дела вводил меня сам Петровский. Учеником, видно, оказался я понятливым. Кое-что подсказывал поначалу и мастер. А вообще-то все просто: опросишь, какую работу человек проделал, не только, что произвел, но и как – сколотил, скажем, тридцать ящиков, сам для них заготовки делал, к верстаку таскал, – вот все и учитываешь: сколько носил, да на сколько метров, – каждая отдельная работа копеечная, а набегают рубли, если, скажем, доски сырые надо было в цех с улицы таскать... Так выводился дневной заработок на всех сдельщиков. Наряды мастер подписывал. Главное – не обидеть работягу, дать заработать. Сперва и ошибался, но меня поправляли – того-то в наряде не учел, здесь упустил: кто-то разгружал, убирал, нагружал. Разве все упомнишь? И каждую позицию отыскать в справочниках надо, что стоит работа. Тут и тонкости: резал жесть на ручных ножницах. Сколько погонных метров, какова толщина жести? На все разные расценки. Наука! А меня почти сразу ввели в бюро цехкома ВЛКСМ, а там и в заводское, стенгазету и наглядную агитацию поручили, патрулировать в ОСОДМИЛе пригласили: смотреть, не горит ли где-либо свет по вечерам, не нарушена ли маскировка, не шастают ли недобрые люди. Военные объекты кругом. Хотя налетов давно уже не было, за светомаскировкой следили строго, не только на заводе, но и в поселке. Ловили и пьяных. В основных цехах как один из компонентов продукции использовался спирт. В Первом цеху было несколько обычных водопроводных кранов – отвернешь – течет «огненная влага». И никакого тебе особого учета... Следи не следи, а любитель обязательно словит момент, чтобы сделать глоток-другой.
Правда, на такое особенного внимания не обращали. У воды, да не замочиться! А вот уж тех, кто до положения риз допивался или с собой вынести норовил, тех прижимали покрепче. За хищение полагался суд. Время военное: лишат брони – и на фронт, а то и в лагерь загремишь. Основной-то контингент квалифицированных работяг, как вы понимаете, из бывших беспризорников, правонарушителей, кое-кому из них – море по колено... Короче, ругали, пугали, а до властей доводили дело редко – надо же было кому-то работать, декханам-узбекам катализов не поручишь... Да и наладчиками, станочниками их не поставишь. А план ежедневно дай! Фронтовая продукция: РГД (гранаты), мины, РДТ (дымовые шашки), – корпуса делали не мы, мы – только начинку, взрыватели, наполнитель. Так что закрывала администрация глаза на «художества» подчиненных, если они не выходили за рамки. Поорет, изругает и... «чтобы завтра как стеклышко! Понял? Последний раз»...
Попался как-то на жареном и наш дядя Алексей: клепал он из жести фигурные фляжечки вроде карманного блокнотика, облудит, заглубленная пробочка на резиновой прокладке, бока картонными корочками от настоящего блокнота оклеены – картинка, не отличишь! А двести граммов спирта запросто помещались. Через проходную смело иди: нельзя, что ли, рабочему человеку с собой блокнот носить? А на рынке пол-литра водки – четыреста рублей! Две буханки хлеба.
Сам-то он не выносил, на работе принимал. И не чрезмерно. За эти поделки заказчики ему спиртиком и платили. Не подумайте, что клепал он эти воровские фляжечки беспрерывно. Так, между делом – одну-две в неделю. И поставлял их не любому-каждому, а людям солидным, проверенным, еще довоенным приятелям, не только корешкам-работягам, но кое-кому из поммастеров и техников. И вот попался. Однако под суд не отдали. Не исчез из цеха: умелец - золотые руки. Клял его Петровский прямо при мне, в конторке, на чем свет стоит, сам директор завода на ковер вызывал, кулаками, рассказывают, по столу стучал... Очень мы в цеху за дядю Алексея переживали. Боялись – загремит. А он наутро снова у своего верстачка молоточком постукивает... Был тот спирт не только вожделенным продуктом для хищений. Использовало его начальство и в качестве награды и поощрения за доблестный труд, за отличную работу. Правда, неофициально, без записи в трудовую книжку и не афишируя. Сообщалось на проходную: такого-то сегодня выпустить без досмотра. И пропускали. Что уж он там несет – дело начальства. Человек три ночи подряд вкалывал, на двести процентов норму перекрыл, вот ему и премия – пол-литра спирта.
Я, кажется, уже писал о той премии – ордер на нижнее белье, – которая записана была в моей первой трудовой книжке, в силу чего я ее не предъявил, когда начал работать в театре. Но за четыре месяца работы на заводе No1 НКХП – а так мы официально именовались – получил я и вторую, куда более престижную и ценную: действительно трое суток с завода не уходил – срочно нужно было упаковывать и отправлять на фронт большую партию РГД. Горел план, вернее, обязательства. Нас, комсомольцев-активистов, бросили на прорыв. Таскали в цех доппаек – бутерброды, молоко, чай, иногда удавалось часок-два покемарить тут же возле груды ящиков, и снова за молоток. Справились. Главный инженер лично явился в кабинет начальника цеха, вызывал по одному, вручал литровую алюминиевую солдатскую флягу, жал руку, предупреждая: не трепись. Премия. И о каждом персонально сообщал на проходную: выпустить такого-то в неурочное время – последние ящики отправили мы в Первый цех к полудню. На ногах уже еле стояли... «Человек две ночи не спал».
Взял я ту флягу, сунул за пазуху и потопал домой. Отец знал, что я временно мобилизован, не волновался. Жили мы в двухкомнатной квартирке барака каркасно-засыпного типа, столь модного в довоенные годы временного жилья миллионов работников на всех стройках Союза. Кое-где и до се еще стоят эти полусгнившие дома, и живет в них чуть ли не третье-четвертое поколение «строителей светлого будущего». Правда, ныне уже редко увидишь. В первую очередь ломают... А ведь вся крестьянская Россия перебралась в тридцатые-сороковые годы из своих избенок в эти бараки. Та, конечно, кого минула чаша трехэтажных нар в одноэтажных бараках Гулага или снежные могилы Северной Сибири...
Эта отцовская квартирка была мне отлично знакома еще до войны, отец въехал в нее, когда работал учителем в здешней школе для взрослых. Одна комната считалась у нас вроде бы гостиной-столовой, тут на диване я спал. Во второй стояли две кровати – отца и его секретарши Сони, бывшей ученицы и фактической жены. Была та Соня лет на тридцать пять моложе отца, малость косенькая, но фигуристая и разбитная. Не вредная. Я ее еще до войны знал, но не подозревал тогда ничего, она в другом месте жила, с родителями в одной из келий Николо-Угрешского монастыря – той основе, на базе которой и была организована трудкоммуна: Вторая Люберецкая имени Дзержинского.
Когда приехал я сюда – бездомный, из эвакуации, приняла она меня тепло. Заботилась, кормила, обстирывала. Не было у меня к ней ни ревности, ни обиды. Тетя Настя, что жила с отцом, – одна из его старших сестер – умерла еще в сорок первом, и я папу ни в чем не обвинял. Впрочем, не особенно обо всем этом задумывался. Соня обычно приходила вместе с отцом, редко раньше. Но как-то пару раз пыталась со мной заигрывать, чего я тоже по своему телячьему разумению не понимал. И только прочтя «Фому Гордеева», ужаснулся... Но к делу!
Пришел я домой, по дороге выкупив в магазине свою пайку хлеба – семьсот рабочих грамм. Похлебал в кухоньке холодного супца, картошки жареной со сковороды похватал и задумался: стоит на столе фляжка. Два с половиной литра водки. Именно так полагалось разводить. Две тысячи рублей. Смогу купить маме туфли – у нее совсем обувка развалилась. Март идет. Как удачно – к женскому дню... Это тебе не ордер на «нижнее белье» – пять метров вискозного шелка, из которого Соня пошила мне пару рубах и кофточки себе и маме. Рубашки эти я и после войны еще дотаскивал – в синюю клеточку... Смотрю, значит, на фляжку, и вдруг ударяет мне в голову шальная мысль: а как это люди пьяные бывают? Что чувствуют? Почему разум теряют? До того ни разу в жизни такого еще не испытывал: ну если рюмочку-другую. Пару глотков какой-то сладости в винных подвалах у дяди Тимофея, потом еще отхлебнул как-то в Херсоне из бутыли, которая стояла под столом в комнате тети Ани, когда мы с отцом приехали летом в Херсон и она угощала нас обедом. Сполз я под стол, они заговорились, я и отхлебнул... И заснул там же... Памятный самогон в Середняках на нашем мальчишнике с печеным гусем, две-три рюмки в молодежной компании, уже в Куртамыше. Тут, в поселке, отец тоже раза два плескал мне разведенного спирта на донышко стакана. Вот и весь мой алкогольный опыт. Семнадцатый год парню, бреется уже... А ну-ка, испытай! Нацедил полстакана, долил водой, с отвращением высосал, присолил корку, заел... Сижу, жду, когда развезет. Ничего. Никакого результата. Прошелся по половице. Голова ясная, не шатает. И никаких особых ощущений. Мыслю нормально, давай еще! И еще стакан развел, вылил в миску, хлеба накрошил, посолил – слышал от опытных людей, что такая «тюря» крепче всего с ног валит. Слопал все, ровно лекарство принял. Снова – ничего. Взял книгу, как сейчас помню: первый вариант «Вассы Железновой» Горького, в желтенькой такой обложечке. Улегся на диван, дочитал... Разбудил меня грохот выламываемой входной двери. Выскочил в переднюю: отец с Соней. «Ты что? Спишь? Маскировку-то не опустил!» За окнами темно, лампа вовсю светит, давно пора шторы закрыть. Парторг завода демаскирует поселок! Уже десятый час. Подушка почему-то на полу, на диване отцова шинелка – укрывался. Сапоги стащил, когда не знаю. В брезентовых солдатских я тогда щеголял, ваксой черной их мазал «под хромовые»... А с маскировкой дело такое, мы света не выключали, его утром выключали во всем поселке, поднимешь шторы, и все. А к вечеру вновь включали – опустишь. Я не опустил.
– Ты что, пьяный?
– Да вот, попробовал малость...
– Наслышан о твоих подвигах, герой. Ладно, ложись спать...
И все дела. Утром уходили мы на работу вместе. Поднимешься в горку, а там вниз – и проходная завода. Опаздывать – дело подсудное. Выходили обычно все вместе, втроем, слегка перекусив. Обедали на заводе, ужинали дома. Встал я вовремя. Отец еще в спальне копается, одевается, Соня на кухоньке шебуршит, чай кипятит. Уселся у стола, жду. Есть совсем не хочется, пусть и не ужинал, вот только жажда замучила. Налил из графина стакан, потом другой. Отпился. Голова ясная, самочувствие отличное. Соня несет чайник, сахар, нарезанный хлеб. Нет, есть точно не хочу. Они наскоро позавтракали, оделись. А я не могу от стула оторваться. Ноги не держат. Ватные. Вставай, пора! Не получается – встать. «Воду пил?» – «Пил», – отвечаю. «Ох, дурень ты, дурень!» Подхватил меня отец, помог куртку напялить, поволок на улицу. Соня с другой стороны подпирает. Проходную миновали благополучно. Довели меня до цеха, до моего рабочего места. Отец что-то тишком Петровскому шепнул и ушел. Тот глянул на меня с усмешкой, снял со стола папки да бланки, на счеты шапку мою, собачью, по случаю еще на Куртамышском базаре приобретенную, уложил: «лезь давай, спи». Ушел и двери замкнул. Так я в тот день и не работал. Стыдобушка, но никто и словом не попрекнул, знали в цеху, что я трое суток безвылазно ящики колотил. Однако впредь «воспитывать» мне, групкомсоргу, тех комсомольцев, кто во время работы ухитрялся малость пригубить – было уже неуместно: а сам-то?
На выходной обычно ехал я в Москву – семь километров на паровичке той самой дороги из «Путевки в жизнь», а потом электричкой из Люберец. К этому времени уже состоялся суд, комнату нашу мама отсудила. Можно было вселяться и выселять жильцов. Имели мы право вызвать судебного исполнителя и безо всяких-яких выдворить захватчиков. Как уж там мама с помощью адвоката доказала свои права, не помню, но решил суд в нашу пользу. Конечно, никуда мы сожителей, по своей интеллигентской мягкости, не выселили. Куда им деваться? Муж – шофер, бронь у него, жена в какой-то столовке буфетчицей работала, на сносях уже... Разгородились шкафами, занавесками. Мама на своей кровати, для меня – отцов диван, еще столик у нас ломберный, на котором я когда-то уроки делал, буфет посудный, пара стульев. Остальные вещи как лежали в углу «теплого» коридора, куда вытащили их еще в сорок первом наши друзья, так и лежали. Вот, правда, книг не осталось – несколько связок и было-то. Пожгли их в буржуйках в холодную зиму сорок первого. А кто – мы не доискивались.
В это время узнал я, что в Москве летом будут открыты экстернаты. За год – два. Значит, можно было наверстать потерянный год. С завода уволился в конце мая «для продолжения образования», разрешили. Видать, тоже не без отцова заступничества. Подал в экстернат, в девятый класс. К весне сорок пятого – аттестат зрелости: их только-только ввели, вместо свидетельств об окончании средней школы. Наконец-то вернулся в Москву по-настоящему. В свой дом.
У мамы карточка – «Литер-Б», да еще «Р-4» – обеспеченный обед с хлебом, а у меня «иждивенческая» – всего четыреста грамм. Но нам хватало. И приварок был – отец картошки подкинул, сала, консервов. И Алексей, мирркин муж, помогал, приезжая в Москву. Жизнь налаживалась. Только недолго довелось нам радоваться. У соседки родился ребенок, люди они были по тем временам «богатые» – шофер да буфетчица. Исподтишка наняли адвоката, подали на пересуд, и к осени вдруг оказалось, что никакой жилплощади нам не полагается. Не в пример нам, лопухам, сосед тут же, как получил исполнительный лист, врезал новый замок, все наши шмотки выставил в коридор и... будьте здоровы! Сам выселил, безо всяких «исполнителей».
Снова ютились по друзьям и знакомым. Где я, где мама. Потом пустили нас в общежитие. Оно находилось на верхнем этаже того же дома на Раушской набережной у МОГЭСа, где было Управление Мострамвайтреста, где мама работала. Но и это счастье недолго длилось: один из ответственных работников треста развелся с женой, женился на молоденькой девице, и нам пришлось освободить помещение... Жили на птичьих правах. На этом же общежитейском этаже, рядом с общей кухней, была ванная комната – в предбаннике с окном парикмахерша брила и стригла местное начальство, а сама ванная – не работала. Туда нас и запустили. В каморке – метра четыре на полтора, без окна, с кафельными стенами и плиточным же полом стояла большая чугунная ванна. На нее положили мы топчан, матрас, сама ванна стала хранилищем и продуктов, и белья, и одежды. На раковину умывальника приспособил я кусок авиационной фанеры. Это был наш стол. Из «человеческой мебели» – табурет возле «стола» и мамина раскладушка. Дверь из парикмахерской заделали, нам прорубили отдельную. Так мы на целых два года обзавелись жилищем, на которое больше никто не претендовал... Лишь в сорок седьмом нам дали комнатку в доме-новостройке на окраине тогдашней Москвы – во Владимирском поселке, на Шоссе Энтузиастов. И это – несмотря на то, что добираться туда из центра приходилось с тремя пересадками: на метро, автобусе и трамвае, и тратить не менее полутора часов, – было здорово! Четырнадцать квадратных метров, большое окно, воздух, чистота, деревянный пол. В общей кухне – горячая вода, в коридоре – действующая ванная комната... Да о чем тут говорить!
Но пока два года предстояло жить на Раушской. В шестиметровой камере-карцере, даже без зарешеченного окна, в каменном мешке. Тут окончил я экстернат, встретил День Победы, сдавал экзамены в театральное училище. И всегда дико опасался, что кто-нибудь из друзей явится навестить... Многое, очень многое, что определило мою дальнейшую жизнь, произошло здесь: и писание стихов, и первые прозаические опыты, и запойное чтение классической драматургии и книг о театре... И мечты о первой любви, и долго угнетавшие меня обстоятельства одного дела, в которое по романтической неопытности и дурости я вляпался. Но об этом – следующие главы, следующий раздел моей исповеди.
Романтика, романтика
Тогда мне казалось, что я все могу: я уже умел пахать, столярничать, писать стихи, умел быть «душой общества» – меня <постоянно> таскали в разные компании, ибо мог тамадить, рассказывать бесконечные анекдоты, ненавязчиво ухаживать за девушками, не возбуждая ревности в их записных кавалерах... И главное, сам считал, что варюсь в самом центре театральных и литературных событий – все премьеры, все журналы, новые фильмы, книги были мне знакомы. Мог я и крепко выпить, почти не пьянея и нисколько не портя застолья какими-нибудь дурацкими, грубыми выходками. Благодаря этакой своей «популярности» вращался в разных, порой несовместимых молодежных кружках: от недалеко стоящих от шпанистого хулиганья до сынков и дочек элиты – академиков, артистов и прочее. Интересы мои простирались от бесконечного сидения в библиотеках-читальнях до такой же бесконечной, порой целыми днями игры в «кинга», входившего тогда в моду... И все это при очень ограниченных финансовых возможностях. Поэтому ночами ездил на товарные вокзалы разгружать вагоны, перекапывал землю под картофельные делянки, которые тогда тоже были «в моде» у многих москвичей...
В предыдущих главках этой своей исповеди в основном рассказывал я о какихто внешних, бытовых событиях прошлого, куда, правда, мощно вторгались реалии сегодняшнего времени, но мало говорил о том, что порой было скрыто от посторонних глаз, что являлось важным лично для меня и, как мне казалось, никого больше не должно было интересовать. И потом, многие факты подавал я с точки зрения восторженного мальчишки. Туда же попали кое-как и торопливо пересказанные сюжеты некоторых моих рассказиков из «сгоревшего архива».
Боюсь, что вся эта куча-мала, весь этот винегрет – не слишком интересен возможному читателю, поэтому в дальнейшем попытаюсь подвергать свои записки большему осмыслению – ведь и во времени, о коем повествую, – становлюсь взрослее. Однако стиль менять не собираюсь. Уж потерпите.
О своем письме Сталину я уже писал тут. И об ответе, который получил. Все это случилось как раз весной и в начале лета сорок четвертого. Мыкались мы без жилья, но не это обстоятельство больше всего угнетало. Все большие просторы нашей оскверненной врагом земли очищались от гитлеровской нечисти, все чаще, рядом с победными реляциями, попадали на страницы газет жуткие, снабженные фотографиями репортажи о зверствах, об уничтожении советских людей. Подавляющее большинство моих сограждан ничегошеньки не знало о том, как успешно действовали в этом же направлении сталинские псы, представить себе не могло, что через десятки лет многие зверства фашистов померкнут перед свершениями отечественных палачей. А тогда – вскрытые рвы с трупами изможденных детей и женщин, штабеля не успевших сгореть человеческих тел – потрясали и требовали – отомсти! Лозунг «Убей немца!», брошенный в наши души Константином Симоновым, воспринимался как не подлежащий сомнению императив. Необходимо было самому участвовать в уничтожении этих зверей. Я уже ощущал себя вполне готовым к мести, вполне зрелым, взрослым человеком. И силушки хватало, и стрелял неплохо. Верил – этого достаточно. Многие из тех, кто учился рядом, уже служили в армии, уже выполняли свой «священный долг». А как же я? Неужели не успею? После вежливого отказа из Пятого управления пришла в голову хитрая идея, подсказанная Котом Орловым. Он учился в средней военно-морской школе. К лету ее из Москвы передислоцировали в Ленинград. Курсанты, как любили они называть себя, мало того что носили форму, изучали кораблевождение и прочие морские науки, – принимали в шестнадцать лет присягу и становились таким образом настоящими военнослужащими. Как повествовал Котька, кое за какие провинности проштрафившегося морфлота могли списать из «экипажа» и направить юнгой в действующий флот! Не тут ли моя дорога к мести? Только бы зачислили! Приму присягу, потом извернусь, выкину какой-нибудь фортель – и отчислят! И пойду бить фашистов. Ну что вы хотите – всего семнадцатый годочек парню. Отправил я в Ленинград документы и заявление, отличное свидетельство об окончании неполной средней школы, табель круглого отличника за восьмой класс – и получил вызов. Военкомат оформил мне литер до Ленинграда, выдали на дорогу продукты – езжай! Немало съехалось туда подобных мне гавриков, мечтавших кто о море, кто о возможности в тепле и обеспеченном существовании пережить трудное время. Конкурс. Экзамены выдержал я успешно, Котька уже водил меня в «кубрик» девятого класса, где жил сам. Приняли меня хлопцы за своего... Можно было уже примерять бушлат и бескозырку... Ан нет. Медкомиссия. Сердце, легкие, слух, зубы – все в норме. Окулист, похвалив мое зрение – единица правым и левым – сунул напоследок альбом с россыпью каких-то цветных кружочков на страницах. «Что видите?» «Кружочки, мозаику». «А вот здесь – квадрат? А тут цифра восемь?» Не вижу. Пляшут кружочки в глазах , и все. «Дальтонизм. Не подходите для флота». Крах. Котька меня ругательски ругал: надо было кому-нибудь из наших к глазнику пойти с твоей карточкой! Подумаешь, дальтонизм. Красное видишь? Зеленое? Синее? Вижу. Но теперь поздно. Я-то про свой недостаток все шестнадцать лет и не знал. Всегда все нормально было. «Езжай домой». Снова литер и – на Московский вокзал. Кончилась моя морская карьера. С горя даже к родственникам не зашел, к двоюродным сестрам Рае и Мусе, которые с семьями жили в Ленинграде. И самого города почти не видел: запомнились какие-то островерхие крыши из окна кубрика на шестом этаже, стандартные надписи на стенках: «эта сторона улицы наиболее опасна при артобстрелах» и плакаты – задорная девчонка с лопатой и носилками призывает: «Восстановим родной Ленинград!». Да еще по дороге на вокзал какой-то дом – внутренностями наружу – без передней стены...
Мама, конечно, была очень рада, что я вернулся, хотя перед отъездом не шибко отговаривала. Сорвалось, и я смирился. Снова отправился в экстернат, прогуляв неделю. Снова начались книги, приятели, ночные разгрузки – по сотне за ночь можно было зашибить... Новые соученики, новые увлечения. В классе меня опять выбрали комсоргом. Так уж сложилось. Очень активный юноша был. А потом и в экстернатское бюро. Народ-то у нас все больше взрослый был, кое-кто уже и повоевавший, оккупацию переживший или проработавший два-три года на трудфронте. Опытные, почему не свалить на зеленого мальца? Комсомольская работа в экстернате шла ни шатко, ни валко – собрать взносы, политинформацию толкнуть, ну стенуху выпустить к празднику. И всё.
А тут пришло время влюбляться. Куртамышская моя привязанность – Светка – была малодоступна, жили они на Каляевской в большом угловом доме предвоенной стройки. Там имел квартиры всякий чиновный люд. Училась Светка в десятом, отличница, собиралась в университет. Заглядывал я к ней редко, хотя встречали и она и ее мама Софья Ивановна – радушно. Квартира в коврах, отец ее – директор какого-то издательства... Нет, не выходило мне влюбиться в Светку, хотя и имя нравилось, и сама – тоненькая, длиннокосая. Моя мать знала ее по эвакуации и не без удовольствия слышала, что я у нее бывал. Не выходило – так, чтобы ночей не спать, стихи писать, да и не осмелился бы я показать ей свои несовершенные опусы – слишком с большим литературным вкусом, интеллигентная «тургеневская девушка». И потом, неловко мне было, что в ее доме меня всегда сажали обедать, а я страх как стеснялся есть в гостях.
На том эти визиты и кончились. Кстати, Ирка Мазина тоже вернулась в Москву. Жила где-то в Узбекистане. Найдя ее через бывших одноклассников, еще из Куртамыша отправил ей несколько писем, даже ответы получал, но переписка наша скоро заглохла, а летом сорок четвертого она была уже взрослой, вполне сформировавшейся девицей. Гуляла с демобилизованным по ранению лейтенантом – Юркой Чумаковым, тем самым Чумой, который был до армии главарем всей никольской шпаны. Где уж было мне с ним тягаться. А когда уехали мы на Раушскую набережную, со всеми дружками из старого дома связи почти прекратились. С одним Володькой изредка виделся. Он заканчивал девятый класс, писал стихи и намыливался в Литинститут. Очень звал меня. Помните, поминал я старого приятеля родителей – Гавриила Валерьяновича Добржинского – слепого писателя. Съездил как-то к нему с отцом, показал я ему свои «опыты», вернее, почитал кое-что из куртамышских и уже московских стихов. Не знаю почему, уж не из расположения ли к папе и маме, он их одобрил, велел заходить, сказал, что поможет дать им ход. Но я всегда был убежден, что никакой не поэт, и больше к нему не показался... Так что и в Литинститут с Володькой не собирался идти. Мне – театр! Что касается Ирки, то где-то уже после Победы слышал, что родила она маленького Чумачонка, и совсем потерял ее из виду...
Ближе к осени (все в том же сорок четвертом) несколько раз встречался с бывшей своей соученицей по шестому «Б» Ренатой С. Хорошенькая, тоненькая. Сидела на парте передо мной, и я иногда ее за косу дергал. Встретил на улице – еще похорошела, выросла. Жила она через дом от Славянского базара, во дворе за Историко-Архивным институтом. Пару раз в киношку сходили, в театр ее сводил. На этом все и кончилось. Через год столкнулся с Ренатой возле Метрополя, сделала вид, что не узнает, шла с каким-то хмырем. А дружок, с которым мы собрались в кино, безапелляционно определил: «Дешевка. Ее тут все знают». Врать ему было без надобности, но я не поверил. А тут как-то дней через пять снова был на старом пепелище, уж не помню, по какой надобности. Кто-то из старых знакомцев встретил: «Егор! Айда в садочек! Ребята девку «на хор» повели!» И там, при сумеречном освещении из окон, узнал я бывшую свою одноклассницу.
Больше не встречал. Эвон когда еще появились в злачных московских местах проститутки, а нас все заверяли, что этой «язвы капитализма» у нас нет и быть не может...
И все-таки приходило мне время влюбиться. Избрать себе «объект». Парень вроде ничего, худой, правда, но видный. И сила есть, и ночами всякие сны снятся... Но застенчивый в определенных вопросах, или действительно так уж въелось: «Умри, но не дай поцелуя без любви»? Скорее всего. Вроде бы уже все дружки, если не врали, стали мужчинами. А я все телок телком... И одежонка для ухажерства – не ах. В моем кругу мальчики щеголяли в трофейных костюмах, бобочках, полуботинках с дырочками и на кожаных подметках, а я... Как-то, получив сотни три от отца, приплюсовав свои, честно заработанные, и мамин подарок, отправился на Зацепский рынок, где тогда был знаменитый московский толчок, купил себе там флотские клеши и мундир серого мышиного цвета, пошитый из явно трофейного сукна и потому не шибко дорогой. Перекрасил кубовой краской в черный, нашил медные с якорями пуговицы... Так что оделся под морячка. Модно. Вот только с обувью было сложно. Одно время ходил в брезентовых туфлях на деревянной подошве, красил их зубным порошком...
День мой к осени сорок четвертого складывался так: с утра – в экстернат, на Дегтярный переулок (и сейчас, проезжая по улице Горького, вспоминаю школу, до сих пор стоящую в переулке), часам к трем пополудни – домой. Уроков не задавали, а может, и задавали, но не помню, что делал я их когда-нибудь. Выкупал по карточкам хлеб, свой «иждивенческий» и мамин. В булочной знакомые продавщицы, а значит, удавалось взять два белых батона по рубль сорок, тут же, возле магазина, толкал их и на выручку приобретал буханку черняшки. Тот же килограмм. Разница – тридцатка. А тридцатка, красненькая – это возможный билет в театр, с рук, у перекупщиков, которые всегда вертелись у театральных подъездов. Барыги меня приметили, частенько отдавали подешевле, особенно если оставались не парные места, а одиночные. Зрителей в те времена в театрах – битком, очень соскучился народ по зрелищам, в любом самом завалящем театрике – аншлаг. Да и не так много их тогда в Москве было, а зритель – со всей страны: командировочные, с фронтов, с уральских заводов, раненые на долечивании, вернувшиеся в Москву реэвакуанты, изголодавшиеся по «культурному досугу»... Но почти каждый вечер я в театре. Из самых любимых – Вахтанговский, он тогда находился в Мамонтовском переулке, почти напротив Дегтярного, по другую сторону улицы Горького. Его здание на Арбате лежало в развалинах, еще осенью сорок первого туда попала бомба. А зал в Мамонтовском, или, как он теперь назывался, в переулке Садовских, принадлежал до войны Третьему Детскому, где тоже нередко доводилось бывать. На Малой Дмитровке, ныне улице Чехова, – Ленком – театр Ленинского Комсомола, Берсеньевский, это тоже рядом с экстернатом, на площади Маяковского – сразу два: Оперетты и в небольшом домике – Образцовский кукольный, начинавший свои спектакли на полчаса позже, чем остальные. В саду Эрмитаж играл еще один из любимых театров – имени Моссовета. На Тверском бульваре – Таировский, Камерный, с Алисой Коонен, а вблизи – Театр Революции на улице Герцена... Так что вся театральная Москва – если взять за центр круга мой экстернат, – в пятнадцати-двадцати минутах ходьбы. Самый престижный – МХАТ – подальше, да и попасть в него труднее, билеты у перекупщиков в два-три раза дороже, чем в другие, а «лишние» (за свою цену у честных людей) – редчайшая удача. И все-таки перевидал всех великих стариков: Москвина, Тарханова, Качалова... Вожделенный, но зачастую недоступный МХАТ... Малый в те годы был почемуто мне не столь близок. Играло определенную роль расхожее мнение, что там на сцене – «искусство представления», а мне подавай «искусство переживания», мхатовскую школу... – Глуп еще был.
Но как же любил театр! Самозабвенно, преданно, фанатично. До сих пор помню мизансцены, жесты, мимику многих славных наших актеров: Грибова, Мас- сальского, Яншина, моссоветовских Мордвинова, Марецкую, Оленина, Ванина... Кумирами были Берсеньев и Гиацинтова, Бирман, Плятт, Раневская, Свердлин, Штраух... Бывал я и в ГосЕТе, хотя ни слова не понимал по-еврейски. Помню Михоэлса в «Тевье» и «Короле Лире», Зускина во «Фрейлехс»...
Но самый мой главный, самый «великий» театр – Вахтанговский: Рубен Симонов, Анатолий Горюнов, Николай Гриценко, Мансурова, молодой Любимов, Осенев, Пашкова в «Мадмуазель Нитуш»... Наизусть знал и этот спектакль, и «Много шума из ничего», и «Сирано де Бержерака». «Поклонником» какого-то определенного артиста никогда не был (хотя это в те годы было модно), любил всех – Кольцова, Шухмина, Астангова – мои актеры, мой театр. Несчетное число раз видел все эти спектакли, всем действующим лицам подражал, пожалуй, мог один за всю труппу «сыграть» весь репертуар.
Ну и, конечно, друзья подобрались по интересам. Ронька – Арон Абрамов, мы с ним познакомились в экстернате, человек так же безудержно и бескорыстно влюбленный в театр, как и я. Тоже мечтал об актерстве, хотя не преувеличивал своих «данных». Так, к сожалению, и не стал, не приняли. Но многие годы играл в самодеятельности, в драмколлективе Дворца культуры им. Ленина. Даже после того, как окончил военное училище и стал офицером-автомобилистом. Ронька, пожалуй, самый давний и верный мой дружок юности, вот только разошлись наши пути, и давно мы не виделись и не перезванивались. А тогда, в сорок четвертом, были неразлучны, ходили вместе в драмкружок при одной из школ на Большой Молчановке. Руководили нами три студента ГИТИСа: Миша Дуэль, сын драматурга Вишневского, не помню его имени, и Коля Озеров – ныне известный спортивный комментатор телевидения. Ни много ни мало, а ставил наш драмкружок чеховского «Дядю Ваню». Мне поручили роль Астрова. Репетировали ночами. Все кружковцы из окрестных домов, один я с Раушской набережной – скорого хода до дома не меньше сорока минут. Ронька, он тоже жил на Большой Молчановке, часто затаскивал ночевать к себе. Хоть и в коммуналке, но занимала его семья две комнаты, одну огромную, в три окна, а другую маленькую, отданную старшему сыну. Прекрасная и добрая была у них семья: мать Ревекка Марковна, младший братишка и отец – полковник. Никогда не забыть мне их семью. Сколько раз ночевал у Арона, сколько подкармливала меня его мама – утром без завтрака никогда не отпустит, вернемся ночью – на малюсеньком столике в его крошечной комнатке (широкая тахта, книжный шкаф и один стул) – покрытая салфеткой снедь: пара бутербродов, два стакана, чай в термосе... Очень я неловко поначалу себя чувствовал, но так душевно-родственна была Ронина мама, так откровенно-радушна, что в конце концов победила мой комплекс. Привык, что на счету каждый кусок, а тут так щедро делятся со мной... Вообще многие годы и после войны с трудом садился за стол в гостях: где-то в подсознании всегда скреблась мысль – ведь от себя отрывают, ведь не изобилие у людей... Может, потому так люблю принять гостя, приветить, обязательно накормить самым лучшим, что есть в доме, поэтому всегда рад поделиться тем, что имею. Зная, что кто-то собирается к нам, засучиваю рукава и начинаю «творить», пусть домашние не всегда одобряют эту мою «гастрономическую» деятельность. Пока готовлю – ворчат, потом – похваливают... Впрочем, не о своих гурманских фантазиях хотел я сейчас писать, о другом, о добрых людях, на пути моем встречавшихся, делившихся теплом, кровом и пищей с худым, неприкаянным пареньком. Это и Ревекка Марковна, и Антонина Яковлевна – мать Володи Соколова, и мамы моих крюковских друзей и соседей – Ольга Антониновна Карпова, мама Юры Фандеева Татьяна Яковлевна и многие другие хорошие люди. Спасибо им, очень многое во мне от них, их бескорыстное участие, конечно, сыграло роль в формировании моем. Разве забудешь бабушку Марию Тимофеевну, мать читинского актера Агафонова, которая приняла в свою семью оставшегося в одиночестве молодого актера-москвича? Спасибо всем им, низкий поклон памяти их! В самые мрачные дни, когда на душе становится мерзко при виде злобы, чванства, тупого чиновничьего упрямства, тупости и жадности окружающих, память о хороших, добрых людях, уверенность в том, что их куда больше, чем гадов, снимает черные мысли, облегчает обиды, вливает веру и силы...
Но отсюда ли всегдашняя готовность пусть и по невеликим своим возможностям облегчить кому-то жизнь, поддержать, «подставить плечо», как следует из когдатошнего юношеского моего стиха: «...нынче ни строки не написал, но себя я тем не обесславил – сел в грязи груженый самосвал, я, чтобы помочь, плечо подставил». Не идеализирую себя и хвастать не собираюсь, но всегда и во всем первым моим побуждением было «подставить плечо». Это, как замечал, свойственно многим людям. Эх, кабы всем! Не равнодушие, не безразличие, не «моя хата с краю», тем паче зависть и злоба – а желание помочь, поддержать, понять. И вот ведь парадокс: чем ниже социальный статус, чем ближе человек к другим людям, чем проще он, тем скорее готов прийти на помощь ближнему. И в чем убежден: ежели кто-то на работе бюрократ, формалист, ощущающий свой начальнический пост как нечто дарованное свыше и навсегда, тот и в быту, в повседневной жизни сухарь, грубиян, самовлюбленный хлыщ. Такие вот пироги...
"Детские игры" и их последствия
Хочу поведать вам о том, что на протяжении почти двух лет моей юности отравляло мне жизнь, составляло кошмар моего существования. О том, куда по неведению и романтическому отношению к действительности вляпался я, как в коровью лепеху. Необходимо вернуться, пусть и не очень приятно вспоминать о том времени и событиях. Никуда от этой памяти не уйти.
Я уже намекал выше о некоем интересе к своей особе, что привело к пропаже портфеля с моим первым архивом. Правда, сообразил я это позже. В тот момент считал просто недоразумением, не слишком упорно обвиняя Марка в умышленном преступлении. Разгильдяй! Забыл в комнате Дворца пионеров... Найдется. Кому нужны мои разрозненные бумажки? С Марком Эткиндом (здесь и далее ошибка, см. фото 34: на самом деле Эткин – А.Г.) познакомились и сблизились мы в том же экстернате No1, учились в одном классе. Был он бездельником не меньше меня, учиться не хотел, но по настоянию родственников вынужден был посещать учебу. Мать умерла еще до войны, старшая сестра жила своей семьей, я был с ней знаком, отец – какой-то крупный инженер, чего-то начальник. Жил этот старший Эткинд, как я теперь понимаю, со своей секретаршей, женщиной не молодой уже, но царственно красивой. А ее отдельная однокомнатная квартирка в районе Красных Ворот была отдана в безраздельное пользование Марку. Секретарша опекала сына своего шефа, доставляла пищу, убирала и вообще «организовывала быт» семнадцатилетнего шалопая. Отца его мы, дружки Марка, видели мельком всего раза два. Сестра наведывалась чаще. Сегодня, по терминологии молодежной, именовалось бы марково жилище – «флэтом», не воровским же словом «хаза» – ничего уголовно-наказуемого здесь не происходило. Мы частенько собирались у Красных Ворот, читали философов-идеалистов, реферировали, спорили. Порядочная сборная солянка получалась: Ницше и Хейдеггер, Соловьев и Гегель, Бердяев и Макс Нордау... Подобных книг в библиотеке Марка было полно, именно таких, которых ни в одной официальной библиотеке достать тогда было невозможно. Запрещенная ли это литература, нет ли, мы не задумывались: читали, с серьезным видом обсуждали всяческие философские категории, казались сами себе чуть ли не кружком Станкевича-Грановского. Ныне называли бы нас «неформальным объединением», а в те годы – запросто могли бы приклеить ярлычок и не столь благообразный, который повлек бы за собой кое-какие далеко ведущие, именно «ведущие», выводы... Зима и весна 1945 года. Утверждать, что в те поры было не до нас, не могу, но того тотального интереса, что возник позже, кажется, еще не было.
Состав общества, наполнявшего квартирку у Красных ворот, был пестрым. Костяк его – сам Марк, его ближайший, еще школьный друг Витька Анамалянц, московский армянин, – и, пожалуй, я – жадный до всего нового. Кроме нас – подружка Марка, уже первокурсница Майка Шадрина, приятельница Виктора – Полина (бывала не часто), начинающий прозаик – все какие-то рассказы писал – Густав Кацман, его двоюродная сестра Ася Краснощекова, некто Федулов, по прозвищу «Федя», еще с десяток ребят и девиц, имен которых за давностью лет не помню... Диапазон интересов, как вы понимаете, был достаточно широк. Витала в воздухе мысль о том, что комсомол такой, как он есть, никого не удовлетворяет, что нужно создать молодежные кружки по интересам, объединяться не формально, хотя коммунистического содержания никто вроде не отвергал. Ронька Абрамов с нами не якшался, оставался только моим другом, так же, как и Володя Соколов. У него уже был свой круг – Додик Ланге, будущий психиатр, начинающий поэт Вл. Котов и прочие. Изредка общался и я с ними. С Марком же и Виктором объединяла не любовь к театру и литературе, хотя Марк был ей не чужд, это он затащил меня в литобъединение московского Дворца Пионеров, – но и определенная социальная активность, и даже, пожалуй, эротически-сексуальные вопросы, ставившиеся здесь на гораздо более интеллектуальном уровне, чем у Кота Орлова. Кстати, Викторова Полинка учила меня целоваться, а потом ввела в нашу компанию некую Фаечку, считалось, что она влюблена в меня, а я в нее. Без особенных результатов встречался я с Фаей года два...
Время шло к Победе. В быту проглядывали уже контуры того, как станет общество жить после войны. Раздельное обучение, от коего бог нас помиловал (в экстернате учились вместе) охватило все школы страны, разделило молодых по половому признаку. Нам сие было не по сердцу. Из идейных соображений. Как-никак, воспитывались на книгах Макаренко, читали «Дневник Кости Рябцева», «Республику ШКИД», повести Кассиля, смотрели спектакли по пьесам Светлова и Бруштейн... Все больше чиновников облачалось в форменные одежды, у каждого ведомства свои. Серебряные погоны, петлицы, вензеля, звездочки... Пожалуй, лишь у гуманитариев – артистов, журналистов, педагогов, писателей – еще не было своей униформы... Мундиры, кокарды... И это через какие-нибудь двадцать пять лет после разгрома всероссийской имперской бюрократии. Очень настораживало. А не столь давнее упразднение Ленинского Третьего Интернационала, отказ от гимна, который накрепко был впечатан в души нашего поколения! Более глубоких изменений еще не замечали, но и то, что лежало на поверхности, не нравилось. В моей комнатушке-камере вся кафельная стена над ванной заклеена портретами, которые добывал я всеми правдами и неправдами, даже тайком выдирал из чужих книг: Димитров и Сэн Катаяма, Торез и Грамши, Андре Мартин и Галлахер, Тито и Гомулка, Анна Паукер и Роза Люксембург, Тельман и Пассионария, Цола Драгойчева и Матиас Ракоши, Готвальд и Мао, Хошимин и Тольятти, Ким Ир Сен и Энвер Ходжа – мои герои, мои святые, вожди великого братства коммунистов планеты. И, конечно, Ленин, Сталин, Киров, Орджоникидзе, Коллонтай, Крупская. В их же рядах – Робеспьер и Марат, Желябов и Вера Засулич, Рылеев, Герцен и многие другие. «Иконостас» этот, как называла его мама, красовался на стене до весны сорок седьмого, когда наконец переехали мы во Владимирский поселок, получив там человеческое жилье. Попытался я было снять со стены свою коллекцию, но не тут-то было – отмачивай не отмачивай – не отставали бумажные портретики, часто вырезанные из газет. Вероятно, клей был очень хороший. Снять не удалось, а оставлять на память кому-то тоже было не с руки: к этому времени кое-кто из представленных здесь персонажей впал уже в немилость, был нашей официальной пропагандой объявлен врагом... Так что пришлось расставаться, сцарапывать острым ножом и потом оттирать стену тряпкой и горячей водой...
Витька Анамалянц жил в Красноказарменном переулке, неподалеку от Покровского бульвара, там же, но по другую сторону бульвара, получила комнату сестра Мирра с Алексеем и Алешей. Так что я совмещал иногда посещения, забегал и к Алешке, они еще не уехали тогда в Германию, только вернулись из эвакуации.
Квартира у Витьки – коммунальная. Одну из комнат занимал Витька Большой – старший лейтенант МГБ, в погонах с синим кантиком – представитель самого романтичного и таинственного, в нашем тогда понимании, рода войск. Шепотом передавались подробности: CMЕPШ, чекисты, разведка... Появлялся иногда в комнате Витьки Малого, как старший, снисходительный и многознающий товарищ, который не прочь был поучаствовать в наших беседах и даже делах. О себе, конечно, рассказывал мало, лишь намеками, больше нашу болтовню слушал. Но однажды вошел в наши замыслы и помог провернуть один задуманный нами розыгрыш, как я теперь понимаю, очень и очень скверного свойства. Тогда же приняли мы его восторженно. Дело заключалось в следующем: Майка Шадрина (подпольная кличка «Швабра»), дружившая с Марком и через него попавшая в нашу компанию, была уже первокурсницей института военных переводчиков. Девица остроумная, лихая, начитанная, на год, если не на два, постарше нас. Вероятно, интерес ее к зеленым юношам подогревался недостатком более взрослых представителей мужского пола в ее окружении, как-никак шла война, и они были в дефиците. У Майки была приятельница-сокурсница Маша. Мы о ней были много наслышаны, но еще ни разу не встречались. Майка пела Маше такие дифирамбы – и умница, и красавица, – что компашка наша загорелась желанием залучить ее в свой актив. Знали мы и о том, где она живет, и что есть у нее жених, и где он работает – военный инженер, подающий надежды. Где-то в марте сорок пятого долженствовало произойти празднование дня рождения Майки. Все мы были званы, конечно, а Маша все тянула со своим согласием присутствовать на этом торжестве. Чем уж там оправдывала свои колебания – не помню. Кажется, жених был занят и не мог ее сопровождать. Утром знаменательного дня возник план доставить ее силой. События развивались по плану, предложенному и детально разработанному Виктором Большим. Во-первых, он имел в своем распоряжении трофейную БMB, что в то время было большой редкостью, и сам ее водил. Это уже солидно. Во-вторых, он же дал несколько бланков, на которых было напечатано: «Протокол», в-третьих, бегло набросал сценарий допроса, о чем спрашивать, что пытаться выяснить... И главное, как увести с собой.
Майка позвонила подружке, узнала между делом, что та одна дома, но прийти на праздник не может. Без своего дружка – не согласна, а он в командировке... Вот мы и выехали «по указанному адресу».
«Группа в штатском» – в форме только настоящий старший лейтенант – подкатила к машиному дому. Виктор Большой остался в машине, а мы поднялись в квартиру. Предъявили наши «красные книжечки», Марк встал в дверях, Анушко-Малянский (подпольная кличка Виктора Малого), достав ручку и пачку бланков, расположился у стола и приготовился записывать. Маша, которой я предельно вежливо объяснил причину нашего визита: необходимое выяснение некоторых обстоятельств, связанных с ее знакомством с инженером Игорем З., стояла ни жива, ни мертва. Усадив ее, я начал допрос, предупредив об ответственности за дачу ложных показаний. «Знаком ли вам Игорь З.?» Как нам было известно от Майки, Игорь этот работал в каком-то «очень секретном ящике». «Что с ним?» – «С ним пока все в порядке. Известен ли вам характер его деятельности? Чем он занимается?» – «Игорь – инженер...» – «Что рассказывал он вам о своей работе?» – «Н-ничего... Просто работает инженером, еще до войны кончил Бауманский...» – «А почему он, инженер-майор, не на фронте?» – «Ну... работает он где-то... Секретно...» – «Так... – уже несколько зловеще произнес «следователь». – И давно вы знакомы? Каковы ваши отношения?» – «Я его еще девочкой знала, наши родители... Хотели мы пожениться...» – «Так неужели вам неизвестно, чем он занимается?» – «Ну... говорил, что секретная работа; на оборону». – «Отлично. Значит, рассказывал?» – «Он же мой жених!» – «Бывали у него дома?» – «...Бывала...» – «Кульман у него есть?» – «Какой кульман?» – «Ну, такая чертежная доска на специальной подставке». – «А-а... Вроде есть...» – «Какие-нибудь чертежи, рулоны кальки вы у него в квартире видели?» – «Чертежи? Рулоны? – губы у Маши дрожали. – Может, что и было, только я никогда...» – «Значит, видели? И никогда не интересовались, что там начерчено?» – «Нет. Мне это все непонятно... Какие-то линии, формулы, расчеты... Не интересовалась». – «Значит, гражданин З. хранит дома секретные материалы и вы их видели? Так? – и к Витьке, – Записали, товарищ лейтенант?» – «Так точно». – «Прошу вас подписать протокол. Вот здесь». – Протянул ей вечное перо. Маша прочла страничку, подписала. «Ну что же... Придется поехать с нами». Представляю себе, что пережила девушка в эти минуты. «За что?.. Я же...» – «Не волнуйтесь. Вы близкий человек и свидетель. Ничего вам не грозит. Можете оставить родителям записку, что скоро вернетесь. Собирайтесь». Оделась, Марк даже пальто ей подал. Спустились вниз, сели в машину, задернули шторки на боковых окнах и заднем стекле. Маша в середине, мы с Витькой по бокам, Марк на переднем сидении, рядом с настоящим, в форме! – старшим лейтенантом.
Мы были очень горды и веселились вовсю, когда Маша, узнав подъезд, неуверенно вошла в лифт и очутилась в Майкиной квартире. Впрочем, особенной радости не получилось. Как выяснилось впоследствии, с того времени задушевные подруги раздружились, хотя мы очень извинялись и старались обратить все происшедшее в розыгрыш и шутку.
С этого-то момента и началось у нас, идиотов молодых, новое увлечение. Серьезные материи побоку, превратились мы в разведчиков, изобретали всяческие ситуации, за кем-то следили, кого-то подозревали. Асе Краснощековой вешали на уши лапшу по поводу наших особых секретных заданий, намекали на то, что ее кузен Густав (так они говорили) совсем не тот человек, за которого себя выдает, некоторым девочкам из класса демонстрировали «оружие» и «документы». Роли распределились следующим образом: я утвердился в чине старшего лейтенанта СМЕРШа, Виктор Анушко-Малянский – сотрудник разведки дружественной Югославии (и совсем-то он не армянин, а серб!), Марк – двойной агент – он хоть и наш, но завербован Гестапо. У него задание выкрасть какие-то важные документы у собственного папаши – главного инженера важного оборонного предприятия (старший Эткинд действительно был главным инженером... московской табачной фабрики «Дукат», почему нам зачастую перепадали роскошные папиросы «Герцеговина Флор», что также производило на одноклассников определенное впечатление. В то время и «Дели» казались верхом шикарной жизни, а тут... «Сталинские»...). В красные корочки какого-то довоенного наркомата вклеены были наши фотографии с несколько смазанными печатями, рисованными на собственных ладонях. Такие были и у меня, и у Федулова, и у Марка. Я же из авиационной фанеры вырезал какой-то бельгийский браунинг, наган, ТТ и вооружил всю нашу группу. Сам таскал свою, еще куртамышскую, поделку. Правда, «новоделы» были не столь идеальны, как мой Вальтер – ни верстака под рукой, ни набора инструментов нужных, но если показать метров с двух – производили впечатление. Кроме того, ослепленный тщеславием, я осмеливался предъявлять кое-кому настоящий Вальтер, привезенный с фронта и подаренный мне Алексеем Новиковым. Получил я от него и две обоймы. Ну как можно было удержаться!
Игры разворачивались вовсю, фантазия кипела и бурлила. По экстернату ползли всякие слухи, которые мы сами же и распускали. Одной из намеченных жертв стал Густав Кацман. Федя-Федулов пристал к нему на уроках с просьбой отвезти Марку к Красным воротам рулон старых чертежей, мол, очень срочно нужно, а Густав живет неподалеку, у Кировской. Марка в тот день в экстернате не было. Марк и Витька сидели дома, ждали сообщений. Как только Густав взялся исполнить поручение, им по телефону немедленно было сообщено. Я крадучись сопровождал Кацмана до метро «Маяковская», и не успел он спуститься вниз – доложил штабу, дескать, отбыл. Виктор полетел ждать его на пересадке, возле «Площади Революции». А я двинулся следом, бегом бежал, пересел, выскочил возле Красных ворот. Густав не торопился. У метро меня уже встретил Федулов, доложил, что ехал с преследуемым в одном составе, только в другом вагоне, заметил, что Густав сошел на Кировской, а двери уже захлопнулись... И Витька пропал. Операция срывалась. Звоним Марку. Виктор сообщил ему, что Кацман пошел домой – жил он в огромном доме общества «Россия» возле Тургеневской площади у Кировских ворот. Было решено, что я еду к его подъезду и меняю Виктора. Уже совсем стемнело. Витька вылез из-за угла, сообщил, что пока никто не появлялся, Густав дома. Понесет или не понесет? Может, что-то заподозрил? Отправил Анушко-Малянского в штаб. Сам жду. Поднял воротник, нахлобучил шапку на лоб. Детектив. Через несколько минут из подъезда появился парень с бумажным рулоном под мышкой. Он! Пошел по Кировской. Я – с предосторожностями – за ним. Явно что-то не по себе ему, оглядывается, плетется медленно. Вероятно, приметил «хвост», возле дома Корбюзье – стеклянной махины на Кировской, уже вблизи от Красных ворот, вдруг резко повернулся и быстро пошел мне навстречу, я метнулся в улицу Грибоедова, на другую сторону Кировской, завернул в ближайший подъезд. Выглядываю – нету, выскочил на Кировскую – нету... Тогда двинулся снова к его дому. Из автомата звоню Марку. Договорились, что он позвонит Густаву, спросит про чертежи, якобы ему звонил Федулов и сказал, что тот должен принести. Снова звоню – Густава дома нет... Топтался я, топтался, потом зашел в его подъезд, поднялся на этаж, где была их квартира. Жду. Хлопнула внизу дверь. Кто-то шагает по лестнице – я вышел на пролет. Густав? Остановился около своей двери и вдруг бегом вниз! Я за ним – выскочил – нету нигде, и след простыл. Потащился к Марку. Рассказал все как было. Густав не появился, рулона не принес. Во гад!.. Наконец мы разошлись.
Назавтра Кацмана в экстернате не было. Марка тоже. Виктор у нас не учился... А дня через два... Дня через два во время урока меня вызвала из класса секретарша экстернатской канцелярии: «Герасимов, тебя там из райкома какой-то товарищ спрашивает». Заглянул в учительскую – стоит незнакомый дядька. Мне и ни к чему – райком рядом, на Малой Дмитровке, не раз приходилось бывать... Могли бы и позвонить. Ну да какое это имеет значение? Вышли на улицу – до райкома метров двести влево, а он поворачивает вправо, к Ленкому, где трамвайная остановка к центру. Тогда еще и по Малой (улица Чехова), и по Большой Дмитровке (ныне улица Пушкина) ходили трамваи. Поманил за собой. Вскочили на площадку. Вижу, у него из-под воротника пальто, прикрытый белым шарфиком, выглядывает синий кант кителя. Только тут закралось в душу сомнение. Тревога. Куда это меня?
Лубянка
И сегодня не вызывает это название у подавляющего большинства русских, да и не только русских людей добрых эмоций. А ведь кажется, такое невинное и старинное словцо: торговали на сем месте у Китайгородской стены лубяным товаром, потому и «Лубянка». Да вот заняла большой мрачный кирпичный домину ЧК и семьдесят лет, все расширяясь, расползаясь по соседним домам и улочкам, живет «Страхом на крови» Лубянка, облицевавшись гранитными плитами, мрамором, глядя в спину своему шефу Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому. И ведь уж сколько лет называется площадь его именем, и метро рядом, и Сретенка – все его имя получили, а народ все «Лубянка» да «Лубянка»... Вон про параллельную Мясницкую давно уже забыли, и метро Кировская, и улица Кировская... А крепость ЧК, ОГПУ, НКВД, МВД – так и осталась Лубянкой...
Для нас, мальчишек предвоенных лет, название это всегда было понятно без комментариев...
Сопровождающий подвел меня к одному из боковых подъездов, предъявил дежурному пропуск, и мы сели в лифт. Вышли в длинный темноватый коридор. Ковровые дорожки и двери, двери. Наконец распахнул он передо мной один из кабинетов. Сказать правду, особого страха я не испытывал, ничего за собой, как говорится, не чувствовал. Твердо знал, семнадцатилетний глупец, что честный комсомолец, советский человек, преданный Родине, партии, Сталину, что никогда ни в чем не покривил душой, что враги моего отечества всегда были моими врагами... Однако... Однако, фрондируя, ворчал что-то о раздельном обучении, недоволен был погонами, жалел об Интернационале. И частенько высказывал эти свои крамольные мысли. Прекрасно понимал, что очутился здесь в связи с недавней нашей «акцией» по слежке за Густавом Кацманом, а может, и по поводу всей нашей «игры». Впрочем, и тут мне не в чем было себя упрекнуть – ну трепал, что офицер СМЕРШа – так ведь не Гестапо же! «Свой», что ни говори! Чего же опасаться?
Сопровождающий с рук на руки сдал меня сидевшему за столом полковнику и, четко развернувшись через левое плечо, удалился.
Беллетризировать нашу «беседу» с хозяином кабинета не стану, длилась она, пожалуй, часа полтора. И кабинет в деталях не запомнился: большая квадратная комната с зашторенным легким желтым шелком окном, вроде бы широким, но почему-то сохранилось впечатление полумрака... Полковник – моложавый, русый, с приятным интеллигентным лицом, умные, даже добрые глаза... Голос ровный, со скрытой порой иронической ноткой. Вопросы ставит четко, хорошо и внимательно слушает. Сейчас я буду рассказывать о том, о чем права рассказывать не имею – в конце беседы дал подписку «о неразглашении». Впрочем, думаю, это пустячная формальность, которую вынуждены были исполнять все посетители подобных кабинетов, если их после беседы не провожали с охраной совсем в другое место, меня же доброжелательно отпустили, выписав предварительно пропуск. И все-таки «нарушаю». Надеюсь, «за давностью» мне это простят. Рискну, более сорока лет минуло. Тем более, что уже осенью того же сорок пятого не утерпел и, когда мы с Витькой провожали Марка в армию, завел с ними разговор на запретную тему. «Давай не будем об этом», – буркнул Анамалянц, глядя в сторону... И после не раз болтал с дружками в веселую минуту, а в начале шестидесятых написал рассказ – из тех, «сгоревших в портфеле».
Не помню ни имен, ни фамилий людей, «работавших» со мной, ни адресов, куда вынужден был являться по их вызовам, помню только давящее грудь омерзение, что не решался наотрез отказаться от этих встреч... Ну да обо всем этом ниже. И никаких особых «тайн» не было. Просто кем-то очень серьезно была воспринята наша детская шалость, глупые наши розыгрыши. А может, специально нас провоцировали? Кто знает? Случись такое года три спустя, я бы столь легко не отделался. Повезло. В конце сороковых и не за такие «криминалы» отправлялись мои сверстники «в места не столь отдаленные». Как я после узнал, отсидел свое двоюродный брат Марка – Толя Сендык, старше нас на какой-то год, раза два появлявшийся в сорок пятом на наших «философских беседах». Уже в шестидесятые встречал я его в Доме Литераторов. Недавно он умер. Все хотел поговорить с ним, да как-то не собрался. Он стал переводчиком. Попал в Казахстан Роман Сеф – ныне известный детский поэт и переводчик. Лично я его не знал, но имя его в тогдашней нашей компании слышал. Запомнилось своей необычностью. Вроде аббревиатуры: Сеф. Загремел, уже после училища, мой сокурсник Андрюша Крюков – человек умный, парадоксально мысливший, хотя актер слабый. Впоследствии видел я его в каких-то телевизионных передачах... Вроде бы играл в Театре Сатиры. Так что кое-кому из нашего круга не повезло. Пристальное внимание длилось не один год, и результаты бывали вполне драматические. Все эти ребята «не вышли» из лубянских кабинетов, которые посещали не по своей воле, уже года через три-четыре после описываемых событий. Тогда же, в сорок пятом, кто-то еще понимал, что мы просто «шалуны», что наша фронда – чепуха, романтические игры в серьезные дела. И даже наш «философский кружок» – не заговор с целью ниспровержения властей, не «идеологическая диверсия»...
Сидевший передо мною полковник как-то сразу расположил к себе. Как мне тогда казалось, знал он обо мне «всё»: и про отца, и про маму, и о том, где и как мы теперь живем, и о моей активной комсомольской деятельности... И даже о моих стихах – «начинающий поэт», об увлечении театром, кое о каких подружках... Короче говоря, обо всем том, о чем говорил я лишь с самыми близкими приятелями... И вдруг – о ужас! –
– Откуда у вас Вальтер?
Тут уж запахло жареным. Если до сих пор я, как на духу, отвечал на любой его вопрос, откровенно рассказывал обо всем, что бы он ни спросил, то последний вопрос – ошарашил: я ведь и раньше знал, что «незаконное владение огнестрельным оружием» дело не слишком поощряемое. И Алексея, оружие это мне подарившего, мог подвести под монастырь... И все-таки – секундная заминка, и тут же нашелся: «Какой там Вальтер – деревяшка. Самоделка. – (Благодарю тебя, куртамышская столярка!) – Я и кое-кому из ребят такие муляжи сделал», – стараясь никак не выдать свое смятение, доложил я полковнику. Вероятно, про мои изделия он уже знал, и потому ограничился только одним указанием: «Завтра же принесете и покажете». В моей записной книжке появился телефон «Саши Семенова» – его имя-отчество было Семен Александрович. По его же подсказке телефон был записан с прибавлением единицы к четным и двойки к нечетным цифрам. «Завтра же позвоните по этому телефону». Пронесло? Дальнейший разговор шел уже совсем в дружественных тонах. Выслушав мои объяснения об обстоятельствах наших розыгрышей, отечески пожурив, Семен Александрович (я действительно не помню, как его звали, так что имя – условно) доверительно заговорил об особом положении, в котором оказалась наша страна накануне победы. «Отступая, фашисты оставили на нашей территории множество своих замаскированных агентов, которые под видом мирных граждан, переживших оккупацию, должны внедриться в нашу жизнь. Среди них и сотрудничавшие с врагом предатели, и прекрасно подготовленные шпионы. Все они до поры до времени затаились. Но в нужное время эта нечисть может активизироваться: совершать убийства, диверсии, передавать врагу разведданные. Наша задача выявлять их, пресекать. Очень нелегкое дело». Ну как было не посочувствовать заботам такого милого человека? Как не возложить на алтарь отечества свою пылающую патриотическим пламенем душу? Это уже не игры, это уже серьезное, настоящее дело! А подумать о том, что враг уже при последнем издыхании, и никакие шпионы ему уже не помогут, да и ненужны – разума не хватило... По-моему, дальше разъяснять побудительные причины моего порыва – ни к чему. «А не могу ли я как-нибудь участвовать в этом деле?» Полковник чуть заметно улыбнулся. Уже тут у меня мелькнуло: а не затеяно ли все это, чтобы услышать от меня такой вопрос? Не ради ли этого валандался с нами Виктор Большой? О нем, кстати, в нашем разговоре не упоминалось, как и об аресте Маши. Меня не спрашивали, я и не говорил. И никаких имен не называл полковник, ни Густава, ни Марка, ни Витьки Анамалянца. Кто же все-таки стукнул? Кто меня «заложил»? Я был склонен считать, что перепуганный Густав. Это же ему как-то хвастанул я своим настоящим Вальтером. Правда, в руки не дал. И сестренка его двоюродная Ася видела. И удостоверением перед ее глазами помахивал... Она тоже в нашем экстернате училась и какое-то время была объектом моего внимания. Очень уж имя нравилось «АСЯ». После тургеневской повести... Вот и пытался произвести впечатление. Плел невесть что, провожая пару раз с уроков на улицу Фрунзе, где она жила. «Землю нашу красят девушки, как Ася...» – пытался рифмовать... Так кто же? Марк? Нет, не Марк. Он, конечно, тоже побывал тут. Кто, кроме него, о моих поэтических опытах ведал? Кто у меня портфель со стихами выпросил и до сих пор не вернул? И одновременно Марку было известно о пистолете. Он его, настоящий, в руках держал, мы даже собирались ближе к лету смотаться за город, куда-нибудь подальше в лес, пострелять. Однако то, что Семен Александрович быстро поверил моей версии о «деревяшке», внушало уверенность, что парень не проболтался. Он и самоделку мою видел неоднократно, именно у него возникла идея вооружить такими всю нашу опергруппу. У него в комнате я те наганы и браунинги изготовлял. Витька? Витька настоящего не видел. Только слышал о нем. Федулов деревяшкой игрался, а про настоящий не слыхал. Я ему из фанеры что-то похожее на ТТ вырезал, покрасил, отлакировал. Значит, или Витька, или Густав. Скорее всего – Густав.
Обо всем этом размышлял я, торопясь по проезду Серова мимо Политехнического, вниз к Устинскому мосту, к себе, на Раушскую.
Только много лет спустя, анализируя вышеописанные события, понял, что дело не в Густаве. Дело в Викторе Большом. Ну и, конечно, в исполнителе его замысла Витьке Малом. Нас проверяли. А ну как клюнул бы Густав, которому намекнули, что Марк – «не наш человек»? Отнес бы ему чертежи? Но Густав на следующий день притащил рулон в экстернат, сунул его Федулову и сказал, что никак не мог, не с руки было... И после этого стал всячески сторониться нашей банды. К Марку – ни шагу. После уроков сразу смывался домой, хотя до того частенько ехали мы в метро вместе и заваливались в квартиру Эткинда.
На следующий день после визита на Лубянку, явившись в экстернат, я все поглядывал со значением на Марка. А он хранил безразличное выражение и как бы взглядов моих не замечал, делал вид, что ничегошеньки не случилось. Молчал. Молчал и я. Продолжали мы встречаться, танцевали то у него, то у Майки с нашими подружками. Но игра в разведчиков незаметно сошла на нет. Первое место заняли девушки: Майка, Полинка, Фая. Танцевали, целовались, трепались о событиях на фронте, о книгах, но все больше мысли наши занимали грядущие экзамены на аттестат зрелости. Расписывались всякие зверства экзаменаторов, делались «шпоры». У меня было слабовато с тригонометрией, хотя остальные математические дисциплины, а тем более гуманитарные, особого волнения не вызывали. А вот синусы, косинусы, тангенсы, логарифмы – темный лес!
Но вернемся на несколько минут на Лубянку и в те часы, что последовали за ее посещением.
Беседа наша с Семеном Александровичем закончилась к полному моему удовольствию. Предложение мое было благосклонно принято. Мало того: мне кое-что посулили, открыли передо мной кое-какие перспективы. Доверительно перейдя на ты, полковник сказал, мол, человек ты способный, в актеры хочешь, кончишь свои десять, глядишь, и в специальное училище направим. Языки будешь изучать, радиотехнику и прочее. Мы тебе верим. Отец у тебя хороший человек, да ты и сам сомнений не вызываешь. Посмотрим. Позвони завтра с утра, встретимся, для очистки совести предъявишь свой пистолет, а там... Короче, подписал я «О неразглашении» и со всех ног понесся домой. Он мне пропуск выписал и отпустил безо всякого сопровождающего. «Подойдешь к лифту, больше никуда не суйся. Предъявишь дежурному и все. Завтра жду».
Вроде бы все серьезно, дальше некуда, а в глазах полковника все время улыбка умного, все понимающего человека: «мальчишка ты, дурачок-мальчишка». Все завершилось, как теперь говорят, «о кей!», но летел я домой не без некоторой оторопи душевной: а ну как сделали у нас в ванне обыск, нашли мой Вальтер? Обернутый в промасленную бумагу, замотанный в какие-то тряпки, лежал он на самом дне ванны, под моим ложем. Чтобы мама часом не обнаружила его в нашем «гардеробе», завален был он старыми тетрадками, газетами...
Совсем свечерело, когда ворвался я в свою камеру. На улице, правда, было еще светло. Мамы нету, но может появиться с минуты на минуту. (Она ведь работает в этом же доме, иногда задерживается – ее начальник просит составлять какие-то протоколы, он секретарь местной парторганизации, но человек не шибко грамотный...) Извлечь из схрона свой пистолет я бы при маме не смог, потому торопливо сдвинул топчан, вытащил сверток и сунул за пазуху. На бегу ухватил кусок хлеба – не лопал с утра, – и выскочил в коридор. Никого. Спустился вниз, во двор. Еще очень светло. Апрель уже. Восьмой час, а светло. Выбрался на набережную. Все время озираюсь. По тротуару бредут редкие прохожие. Возле парапета – пусто, но где гарантия, что никто мной не интересуется? Нога за ногу поплелся в сторону Устьинского моста. Москва-река уже вскрылась. Полна-полнехонька, урез воды в полутора метрах от меня. Светло! И люди снуют... Миновал Устьинский, доплелся до следующего моста. Идут! Пошел дальше. Лишь бы подальше от дома. Километров пять отмахал, почти до самого Автозаводского моста. С независимым видом оперся о парапет набережной – чего особенного? Отдыхает человек, на черную бегущую воду смотрит, воздухом дышит. Вот вроде и совсем темно. И никого вокруг не видать. Вытащил сверток и что есть силы запулил его в реку. Булькнуло. «Прощай, оружие»... Постоял, руки-ноги дрожат. И освобождение, и одновременно – жалко до слез. Вы только представьте себе – семнадцать лет – настоящий Вальтер. Это тебе не пугач, не самопал, не игрушечный пистолетик. Оружие. Повернулся, доплелся до Канавы. По ее набережной дошел до улицы Осипенко, петляя через какие-то проходные дворы, выбрался на Пятницкую улицу и лишь тогда, у Каменного моста вновь вышел на москворецкие набережные. Конечно, никакого «хвоста». Все чисто. Домой явился только в двенадцатом часу. Чтобы уж закончить этот сюжет, поведаю еще об одной своей несбывшейся мечте. Всю юность хотелось мне иметь настоящего, на всю жизнь, друга. Прикипал душой то к одному, то к другому... И не получилось у меня Огарева. С Ронькой развело его военное автомеханическое училище, куда определил наследника папа-полковник, Володя подался в Литинститут, встречались редко, хотя и до сих пор рады друг другу. Кота недолюбливал с детства, Марка потерял с помощью «Лубянки». Ответь он мне тогда, осенью, откровенно, может быть, и не разошлись бы наши дорожки. А так, без полного доверия... Подробно пишу обо всем этом, потому что – первое наиболее серьезное переживание. И, пожалуй, следует рассказать, как развивались события дальше.
"Секретный сотрудник"
«Сексот» – так звучало в народном произношении это понятие, так презрительно и уничижительно называют и до сих пор этих людей. Слова «филер», «доносчик» как-то ушли из нашего лексикона, «добровольный помощник» – пытались именовать представителя этой категории в органах внутренних дел. Но народ звал их – «сексотами». «Сексот» – это даже не «легавый», как именовали приблатненные милицейских, это куда хуже, это мерзее – «сексот». Существовали «топтуны», «воротники» – к этим малопочетным профессиям мои ровесники относились с презрением, но без ненависти. Ну тупица, ну бездельник, ну держиморда в штатском – топчется на улице, по которой проезжают правительственные машины, или возле подъездов, где изволят проживать всякие шишки, поглядывает по сторонам. У всех этих «топтунов» определенная униформа: черные глухие пальто с мерлушковыми воротниками, такие же шапки, а летом – черные костюмы и шляпы, идущие многим из них, как корове седло. Зимой, когда холодает, воротники подняты, поэтому и «воротники», деятели эти сразу заметны. Бродит такой лоб, а чаще всего они крепкие, высокие мужики, по тротуару, косится по сторонам, поглядывает на снующий туда-сюда городской люд, но никого не трогает. Ну и бог с ним. Топтун. Существует еще «стукач» – этот поподлее, доносчик. Но и про стукачей окружающие, как правило, знают. Такие особи внедрены в каждое учреждение. Они несут определенные обязанности, хотя в большинстве люди некомпетентные, работники аховые... Но подлее всех «сексот». Это страшно, это подло. Это провокатор. Ты с ним, как с человеком, а он...
Но по порядку. Как мне было указано, я на следующее утро набрал «зашифрованный» номер, Семен Александрович дал адрес и попросил зайти вечерком. Та же улица Горького, но ближе к центру. Конечно, сегодня ни этажа, ни квартиры не помню, а вот дом частенько вижу. Вход со двора. После уроков пошел вниз к Манежной. Ближе к спине заткнут за пояс двойник моего утопленного Вальтера. «Семен Александрович здесь живет?» – «Проходите, пожалуйста». Обыкновенная прихожая обычной московской квартиры, висят какие-то пальто, стоит велосипед. Дверь открыла девушка моих лет.
– Папа, к тебе! – и довольно радушно проводила меня взглядом, когда двинулся я к распахнувшейся двери одной из комнат.
– Заходите. Даша, поставь нам чайку. Черт знает что... В домашней куртке, расположенный, вежливый.
– Вот, вы просили... – залез рукой за спину, под китель, вытащил пистолет. Протянул. Полковник взял его, взвесил на ладони, усмехнулся.
– Гляди-ка! Сам делал?
– Сам.
– Мастер. Ну садись, – опять перешел на «ты». – Хорошо сработано. – Открыл ящик стола, сунул туда. – Тебе больше не потребуется. Конфискую. С таким можно на улицах грабить... Не пробовал? – пошутил он. И перешел к делу. – Значит, так. Сейчас у тебя начнутся экзамены. В июне кончишь? – Я кивнул. – Адрес твой у нас есть. Когда потребуешься, дадим знать. А телефона нет?
Очень не хотелось мне рассказывать, где именно я живу. Но в общем коридоре висел телефон. Уж лучше, чтобы звонили. Позовут. Записал мой номер.
– Как у тебя с языками?
– По-немецки в детстве болтал, в немецкой группе до школы был.
– Добро. Чайку выпьем? Пошли.
Я было стал отказываться. Очень неловко себя чувствовал. Но согласился. Пошли в уютную кухоньку. Кипящий чайник, на столике вазочка с печеньем, конфеты.
– Может, есть хочешь? Даша!..
– Да нет, что вы! Я сыт...
Появившаяся в кухне дочь разлила чай, присела сама у стола. Слово за слово, выяснилось, что она тоже театралка. Хочет поступать или в Камерный, или в Вахтанговский. Разговорились... Короче говоря, просидел я в этой кухоньке добрый час. Отец ушел, а мы продолжали непринужденно болтать. «А этот спектакль видели? А какой Берсеньев – Сирано!..» Даже не хотелось уходить. Но распрощался. «Может, встретимся. В Вахтанговском уже документы принимают...»
Ушел я из этого дома успокоенный, даже гордый тем, как приняли меня, как говорили. И Даша – ничего себе. Не выставляется. Может, действительно, побоку актерство? Тут серьезное дело предлагают. Разведка – раз про языки спрашивал. И что зять у меня герой, знает... И про отца...
Не уверен, так ли потекла бы моя дальнейшая жизнь, не будь эта встреча с Семеном Александровичем последней. Больше я его никогда не видел, а по известному телефону звонить не решился. Не было повода. В толпе абитуриентов, возле подъезда театрального училища пытался высмотреть Дашу, но ее нигде не было. Так все и закончилось – пшиком. Да и обстоятельства моей жизни круто изменились. Отпраздновали мы Победу, сдал я документы в Вахтанговское и в числе немногих – двадцать пять из полутора тысяч желающих – во конкурс! – был принят на первый курс. Три тура по специальности, а потом еще конкурсное чтение, конкурсные этюды – перед всем синклитом вахтанговцев... Летом приняли нас условно, осенью еще один поток поступающих, и всех, кто пробился, еще раз на конкурсные этюды... Только тогда утвердили. Один на сто человек! Во! Как тут было не задрать носа, как не возгордиться? Значит, талантливый! Признали. И не только в Вахтанговском признали – мы тогда одновременно еще в два-три училища пробовались: при Камерном, при МХАТе, в МГТУ – было такое среднее театральное «Московское городское»... Но и при Камерном театре, и в студии Завадского при театре Моссовета диплома о высшем образовании не давали. Только у вахтанговцев (в Училище имени Щукина) и при МХАТе: они были «на правах вуза». Куда как хлопотное было лето. Экзамены на аттестат еще не начались, дали мне в канцелярии экстерната несколько экземпляров справки, дескать, прошел курс десятилетки. В театральных – принимали и такие, экзамены-то не совпадали. А там, мол, сдам и заменю. Таким-то образом и удалось в четыре сразу подать заявления. И надо же – в училище Камерного прошел, в МГТУ. Вот только во МХАТовском поперли с третьего тура... Но все равно. Явно способный человек. А Володька Соколов звал в Литинститут! Тоже мне конкурс – двое парней на одно место, остальные – девицы. В сорок пятом-то не вернулось еще из армии фронтовое поколение. И попасть в институт мало-мальски пишущему москвичу, да еще такому, которому не требовалось общежитие, да была гарантирована поддержка кое-кого из «крупных» писателей, а нас знали и Сергей Владимирович Михалков, и Лев Абрамович Кассиль, и Елена Благинина... а меня еще Гаврила Валерьянович – было не очень трудно. Нет, брат, ты попробуй в театральное пробиться! Ну да обо всем этом ниже, а поканеобходимо кончить заявленную тему.
В треволнениях экзаменов как-то совсем вылетело из головы предложение, вернее, предположение полковника. А ведь, продолжись наше знакомство, кто знает... Очень он мне понравился, этот Семен Александрович. Обстоятельный человек. И добрый. И ко мне по-доброму отнесшийся. И дело-то какое заманчивое: пусть жить не своей жизнью, но помогать Родине бороться с коварным врагом! Разведка! Романтика! Дальние страны... И, хоть в какой-то мере, осуществление мечты – месть фашистам и буржуям за поруганную отчизну... Да видно – не судьба. Честное слово, чуть ли именно не такие монологи роились в голове, когда приходило вдруг на ум то последнее свидание... Однако, видать, не судьба. И так хорошо! И так все – здорово! Знать бы, как оно еще обернется... После летних борений, волнений, надежд, в круговерти которых я было совсем позабыл о своем опрометчивом заявлении на Лубянке. В начале осени мы, свежеиспеченные вахтанговцы-первокурсники, не успев еще приступить к учебе, отправлены были в подсобное хозяйство театра, в Плесково, где находилась и база отдыха вахтанговцев, убирать картошку. (Это какое-то проклятие советской жизни – стремление использовать, пусть малопроизводительную, дармовую силу на самых тяжелых и непрестижных работах: копке канав, уборке урожая... И все это под лозунгами – поможем стране!.. Когда же кончится этот позор? Ведь каждый должен заниматься своим делом, отвечать за него и получать за него... Бесплатный энтузиастический труд субботников – ленинская выдумка – хорош и нужен единократно, для восстановления чего-либо быстро и необходимо, но когда это «восстановление» идет год за годом, когда за месяцы в печати поднимается «кампания», когда тысячи и тысячи служащих собираются для того, чтобы сгребать на скверах палую листву, грузить в машины сгнившие овощи из вонючих закромов сотен бездельничающих баз... Это позор... Как-то еще в конце пятидесятых слышал частушку: «Я с миленком целовалась от утра и до утра, а картошку убирали из Москвы инженера!» Ладно, об этом тоже потом...) И лишь когда мы в конце сентября вернулись в Москву и начали заниматься, то есть месяца через четыре после той памятной встречи на Лубянке, когда все это уже основательно забылось, я обнаружил под дверью своей кельи запечатанный конверт, адресованный Георгию Павловичу Герасимову. В записке было всего несколько слов: просим срочно позвонить по указанному телефону. Я даже не сразу сообразил, от кого и зачем.
Набрал номер. Мне назначали встречу. Место. Час. Значит, не забыл. Пошел без особой охоты. Однокомнатная пустоватая квартира в старом московском доме. Хотя и меблированная, но полное ощущение нежилой. Пыль, застоявшийся воздух, ни единой приметы того, кто здесь спит, ест... Тахта, старые, обитые бархатом кресла – мертвый дом.
Человек, приведший меня сюда, назвавший при встрече имя Семена Александровича, не запомнился, безликий какой-то. Туповатый. Принялся расспрашивать о моем житье-бытье. Никак не мог поначалу я взять в толк, что ему нужно. И не очень вроде заинтересованно спрашивал, так, для проформы. Несколько оживился, когда разговор зашел о моих новых сотоварищах-однокурсниках: кто такие, с кем из них дружу, о чем говорят, встречаюсь ли с прежними товарищами. Меня это насторожило. На кой ему такие «сведения»? С былой компанией я как-то раздружился, встречались все реже. Изредка позванивал Марку. В высшее он не попал, устроился фотографом в каком-то ателье, хвастал, что прилично зарабатывает. Витька учился в Нефтяном институте. С Фаей летом еще несколько раз виделся, провожал ее в далекое, за Соколом Михалково, где жила она с матерью в дачном домике. Как-то прогуляли мы целый день в Тимирязевском парке, целовались и так захороводились, что опоздал я на последний трамвай, и хотя предложили мне переночевать на терраске, отправился пешком через всю Москву домой. Пришел к рассвету. Мы тоже постепенно, не ссорясь, перестали видеться, она поступила в Финансовый, а потом я на целый месяц почти уехал в Плесково. С Володей встречались редко, Кот служил в Ленинграде, кончал десятый класс. Остался один Ронька. Жил он на Молчановке, рядком с Вахтанговским училищем, и мы частенько общались. Аттестат зрелости он получил, ни в одну студию не прошел и потому целые дни торчал дома, а вечерами ходил в ДК Трехгорки – клуб Ленина, там был неплохой драмкружок. Бескорыстно гордился моими «театральными» успехами, горячо интересовался всем тем, чем я занимаюсь в студии. И мама его по-прежнему тепло ко мне относилась... Дом Роньки стал совсем родным, меня здесь всегда ждали. Ревекка Марковна познакомилась с мамой, они перезванивались, даже встреча лись. Работала она дежурной по этажу в гостинице «Метрополь», там, где проживали иностранцы, хорошо говорила по-английски... Вероятно, она считала, что я «оказываю на ее сына доброе влияние». Мы, правда, читали много литературы специальной: Станиславского, мемуары, Историю театра... Но и в «кинга» играли, и вообще трепались обо всем. Заходили сюда и другие приятели, но, по мнению хозяйки дома, я был самым «добропорядочным». «Талантливый мальчик», считала она. Хотя особенно «добропорядочным» я к этому времени уже не был. Приобщился к коктейль-холлу, что открылся на улице Горького, шастал в сад Эрмитаж, вошел в компашку богемной молодежи, собиравшейся там. И Арона несколько раз таскал с собой... Но, пожалуй, все это было наносным, шелухой, особенно крепко к душе не пристававшей. А Ронька меня любил и всегда был верным другом... Бывал я с ним и в клубе Ленина – на правах некоего мэтра – почти профессионал! – студент Щукинского училища! Там к моему слову прислушивались, даже сам руководитель кружка, неудавшийся актер, советовался... Главным же нашим хобби оставалось посещение театров. Теперь у меня появились некоторые возможности: по негласному уговору администраторы, ежели были места, давали нам контрамарки. И не только в «свой» – Вахтанговский, но и в другие театры. Сунешься перед началом спектакля, протянешь студбилет и, глядишь, выклянчил. И гордо прошмыгивают два гаврика мимо билетерш «на свободные места» или стоят в ложе, а то и у стен в партере, хотя нас и галерка не смущала – усаживались на ступеньках, лишь бы не мешать никому. Про Арона с моими «друзьями» с Лубянки я никогда не разговаривал. Я о нем не поминал, они и не спрашивали. Сразу усек, что и мама его, и отец могли бы заинтересовать их куда больше, чем мои сокурсники. А что мог поведать я о сокурсниках? Ровесники, с которыми был я поближе, их не волновали. Такие же охламоны, как я. Нужны им были сведения о тех, кто постарше. На курсе были такие, кто уже прошел фронт: Максим Селескериди – играл он потом в театре под фамилией Греков, Коля Прокофьев, Холодков, Ян Березницкий, Алла Потатосова... Взрослые, думающие, по-настоящему преданные театру люди – у всех были ранения и награды, с театром связали они свою судьбу еще до войны – скажем, Макс играл в легендарной Арбузовской студии, в столь известном спектакле «Город на заре», Алла добровольно ушла медсестрой с первого курса... Ни Грекова, ни Саши Холодкова, ни Коли-Пушка, как любовно звали у нас на курсе Прокофьева – уже нету. Саша и Коля играли несколько лет в театре Маяковского, Алла стала женой Астангова... Все эти взрослые люди относились ко мне хорошо, но особенно всерьез не принимали, хотя я был тут же избран комсоргом курса. На лбу, что ли, было у меня написано: активный, правоверный, заводной? К ним же относился я с обожанием. Фронтовики, смерть в глаза видели. Максим даже в партизанском отряде воевал. Кровь пролили за отчизну. Вот именно о них и выспрашивали меня. И, конечно, кроме как сведений о том, что это самые расчудесные, преданные, героические, талантливые, – ничего не получали. Очень мне претили эти «беседы», и я довольно скоро избрал тактику: ни о ком ни одного плохого слова! Притворялся этаким дебилом, восторженным лозунговым комсомольцем. Не только был им на самом деле, но и играл – валял дурака. Продолжалось такое до лета сорок седьмого. Понимал: откажусь – может плохо кончиться... Раз в два-три месяца обнаруживал под дверью запечатанный конверт. А то они и просто по почте приходили. Дата и место встречи. Чуть ли не каждый раз принимали меня другие люди, передавали из рук в руки. Свидания, как правило, происходили в каких-нибудь глухих переулках, вели меня в какую-нибудь, всякий раз новую, но как две капли воды похожую на первую, нежилую квартиру, усаживали и задавали все те же набившие оскомину вопросы. Получали столь же обычные ответы. Все собеседники на одно лицо. Рослые, туповатые, с рыхлыми дряблыми щеками, пустыми рысьими глазами. Эти пустые глаза до сего времени остаются для меня главной приметой людей подобного сорта: холодные, светлые, жестокие, зачастую совсем не согласующиеся со словами, которые произносят губы. Не глаза – визитные карточки. Господи, как же боялся, ненавидел и презирал я их уже в те годы, как мерзко чувствовал себя, общаясь. А ведь они порой пытались войти в мои беды и заботы, предлагали даже помочь с жильем, мол, им это не трудно. Отказывался: нам с мамой обещают комнату. Строится дом. И к лету сорок седьмого действительно дали... Интуитивно чувствовал: воспользуюсь благодеяниями ведомства – еще глубже увязну. Тяготился встречами ужасно. Настроение надолго портилось, с души рвало, но твердо уже знал: заявить «не желаю» – себе дороже. Крутил, вертел, последним дураком и тупицей притворялся. Потягали они, потягали меня, вероятно, при каждом докладе начальству аттестовали самым наихудшим образом, и, видать, махнули рукой. Что с такого возьмешь? Только время терять. Опять мне повезло. С лета сорок седьмого вызовов для встреч уже не было. Вероятно, сыграл роль и наш переезд во Владимирский поселок – это же на край света тащиться! Но я еще долго с содроганием вспоминал о возможности их появления. Повезло! Не такой уж дурак был. Сразу сообразил, что из меня хотят сделать обыкновенного сексота, но на эту роль согласиться не мог. Не получилось из меня «секретного сотрудника». Слава богу!
И чтобы уже совсем закрыть эту тему, расскажу поподробнее о том эпизоде, о коем поминал уже в предыдущей главке. То обстоятельство, что проходили мы – я, Марк, Витька, другие мои экстернатские кореша – по одному делу и не смели о том заикнуться, разбило, разрушило нашу юношескую дружбу, наше доверие к товарищу, вычеркнуло из жизни желание общаться, разговаривать, спорить, просто встречаться в одной компании. Уже осенью сорок пятого Марк должен был призываться. Разыскал меня: встретимся, попрощаемся. Приехал я к Красным Воротам, поднялся в ту, столь памятную мне квартирку. За столом Марк и Виктор. На столе бутылка, какой-то закус. «Ухожу, братцы» – смурый Марик, печальный. Нам это не грозило, а если и грозило, то не скоро. Подняли – «За счастливую службу! Защищай родину!» Потом по второй – «Чтобы попались тебе хорошие начальники!» А разговор не идет. Так, перекидываемся словами о каких-то мелочах. И в глаза друг другу смотреть муторно.
– Слушайте, ребята, – решился я. – Ведь уже полгода прошло. Как у вас все это было? Неужели так и отмолчимся? Водили на Лубянку? – Витька набычился, глядит в стол.
– Водили, – выдавил Марк.
– Какого же лешего мы это друг от друга скрывали? Ведь верили, ведь друзьями считались. Про многое одинаково думали. Значит, с Семеном Александровичем беседовали? Не забыли? А мне он тогда очень даже понравился, человек, по-моему...
– Не надо об этом, – пробурчал Виктор.
– Не надо, так не надо, – согласился Марк.
– Эх, мы! Большевики беспартийные. Революционеры... Просто честные люди... И не доверяем друг другу. Ладно, Марик, счастливо тебе служить. А я пошел. Бывайте! – и хлопнул дверью.
С тех пор никогда Витьку не встречал. С Марком году в пятьдесят шестом столкнулся как-то на улице. Остановились. Оба женаты, у обоих дочки. Работает фотографом. Ничего зашибает. Свои три куска имеет. Есть левый доход. Семья, что поделаешь. И тоже навсегда канул в прошлое дружок моей юности. Я тогда едва тысячу зарабатывал, но не в деньгах, считал, счастье. Обещал звякнуть как-нибудь – телефон-то прежний у Марка остался... Но не собрался, а своего ему не дал... В семидесятом, к двадцатипятилетию Победы, получил по новому адресу (мы уже получили квартиру, переехали из барака) открытку, подписанную Майкой Шадриной, Марком и Федуловым: «Приходи с женой, вспомним молодость». И адрес. Колебался, но не пошел. А ведь один из самых ярких дней жизни провели мы вместе – день, помнящийся по часам, – день Победы. 9 мая 1945 – длинный, начавшийся еще на рассвете, ликующий, горько-радостный. Все кругом уже ждали, и вот Левитан объявил: Победа! – в нашем коридоре, в общежитии Мострамвай треста взорвалось – «Победа!» – выскочили из дверей, чуть не в исподнем, плачут, целуются, каждый тащит к себе – «Чем бог послал!» Одевшись, наскоро выкатился я на набережную, а там уже толпа, прут к Каменному мосту, на Красную площадь. Завертело меня, закружило, кого-то качал, с кем-то пил. Через Никольскую добрался до метро, доехал до Красных ворот, позвонил: собираются у «Швабры» – у нее действительно уже человек десять из нашей обычной компании. Наскоро «отметили» – и на Садовое, потом по Кировской к центру. Прямо по мостовой, демонстрация! Подсаживая друг друга, вытащили из флагштоков несколько флагов, успели дворники повесить на стенах. Размахиваем кумачом, орем «Интернационал». Что-то слишком громко у нас получается. Обернулся, а за нами валит народ. Серьезно, истово, со слезами на глазах поют опальный гимн.
До чего же долгий и суматошный день! До чего же счастливый! Казалась – укажи сейчас – и пойдут люди куда угодно, как там в стихе: «На жизнь, на подвиг и на смерть!» Самое трудное свершат, горы свернут. Ловят военных, качают, кричат. Мы победили! Мы – победители! Конец войне. Машины еле ползут в толпе, на багажниках, на крышах легковушек, а то и прямо на капоте – люди. Орут, смеются, плачут. Какой день! Какой день! И солнце. И небо – чистое-чистое. Весеннее. День Победы. Куда идти? С кем еще разделить переполняющую сердце радость? На Дзержинскую не пробьешься – толпа – масса. Ухватившись друг за друга, чтобы не разбили, не разбросали в разные стороны, обнявшись, сворачиваем по Комсомольскому переулку на Сретенку, бочком, у стеночки, чтобы не мешать мощному потоку, льющемуся навстречу, пробираемся к Садовой, идем снова к Майке. Девчонки еще утром успели чего-то приготовить. И вино там есть. Вот ведь не сговаривались, а собрались вместе, сбились. Все здесь. Перекусили и снова на улицу. К центру. Толпа разбивает, теряем друг друга, снова находим, сцепляемся. Кучкой. А на улице, еще светлой, зажглись фонари! Уже несколько дней горят по вечерам. Никакой светомаскировки. Ах, какой день! Кажется, не только друзей милых, всю улицу, всю Москву, весь мир готов принять в сердце – распахнуть грудь и принять, вместить ликующую Вселенную. Победа! А рядом самые близкие, так же думающие. Единомышленники. Самые дорогие и верные люди. Друзья. Но друзья и те, кого видишь впервые, которые готовы петь с тобой, беситься от радости, танцевать, плакать...
И вот через двадцать пять лет – не пошел. Они не виноваты, но простить не мог. Не мог забыть того, как предали мы нашу дружбу, как чем-то холодным и мерзким плеснули в наши души и погасили яркие огоньки, горевшие в них. Не смог переступить через это.
Родительский дом
Крюково, конец 1940-х
Отчизна, Родина, родной город, родной дом... Сколько дифирамбов воспето всем этим понятиям. И патриотизм, и национальная общность, и любовь к родине, и верность отеческим заветам, и дедовские могилы, и наконец – «Малая родина» – та пресловутая «чета белеющих берез»... Нет, нет, я не иронизирую, все это действительно существует в сердце каждого человека, не до конца утратившего память о своем детстве, о первых словах языка, которыми ласкала его мать, качая в колыбели или баюкая у груди. У каждого он свой, этот родительский дом, то малое место на огромной земле, где делал он первые шаги не окрепшими еще ногами, где учился говорить, обретал первые радости и первые беды переживал. Что же для меня – «родительский дом»? Комната и бесконечные коридоры бывшей гостиницы «Славянский базар»? Жилища херсонских родственников, где в раннем детстве проводил я многие месяцы? Пожалуй, нет. Мой родительский дом появился и угнездился в душе несколько позже, году в тридцать шестом, когда в лесу под Крюковым, в сорока километрах от Москвы, начала строиться «дача» – свой кусочек земли, грядки с клубникой, запах свежих стружек... Только летом тридцать девятого жили мы там первое лето, а потом, после начала войны, до сорок четвертого – не бывали. Летом сорок пятого и еще года три подряд мама сдавала чудом уцелевшую коробку из шпал, покрытую щепой, какому-то детскому саду (не под жилье – под кухню). Учреждение, которому принадлежал садик, выезжавший в наш поселок на лето, по договору отремонтировало двери (разбитые любителями бесхозных домиков в сорок первом – сорок четвертом годах), вставило и застеклило вырванные рамы, восстановило на террасе сорванный пол... Дача, строившаяся по собственному проекту отца, должна была быть двухэтажной, с двумя балкончиками и двумя комнатушками на верхнем этаже, отсюда солидная ломаная крыша. Размеры невелики – шесть на шесть – 36 квадратных метров внизу, 18 метров – терраса. Верха, конечно, закончить еще не успели – лишь на «черный пол» из толстого горбыля насыпали слой шлака да забили к осени сорокового года весь чердак стройматериалами – досками, фанерой, тесом... Дубовые столбы и слеги, с таким трудом добытые отцом для забора и вкопанные в землю по периметру участка, летом <сорок первого> спилили и сожгли. На задней двери дома долгое время сохранялась надпись, сделанная рукой отца, посетившего «родовое гнездо» чуть ли не весной сорок второго: «Не ломайте – не заперто. Стыдно грабить бедняков» – ни мебелишки, ни вещичек каких-нибудь, ни, конечно, стройматериалов – ничего уже не сохранилось. Отец умер, я еще мальчишка, денег нет, кому было заниматься? Вот мама и нашла выход – сдавала дом за восстановление, за ремонт. Летом сорок пятого мне было не до дачи... Абитуриент.
Не уверен, интересна ли будет кому-нибудь вся эта писанина, но «слова из песни» не выкинешь. Память хранит так много обыденного, и нелегко отобрать существенное, решить, что важно, что нет. Театр, влюбленности, стихи, которые все-таки продолжали порой появляться то на отдельных листочках, а то и между конспектами лекций... Из этих времен и строки: «...Бывает Болдинская осень, Бывает в Крюково весна, Пусть я у Музы – недоносок, Но все же матерь мне она...»
Итак, дача, которую с такими трудами возводили родители, выстояла. Сохранилась. И почти тридцать лет подряд – по семьдесят шестой год – оставалась не только летним прибежищем, но и «родительским домом» и для меня, и для моей дочери, да, пожалуй, и для жены, полюбившей ее. Осели венцы на смоленых столбах, подгнивали полы, краснела мхом дранка на крыше. Но, спасибо, стены крепкие, застекленная терраса служит столовой, крыша, перекрытая шифером, – не течет. В сорок седьмом полдачи и пол-участка мама вынуждена была продать. Дешево, почти, по тем деньгам – задаром. Но на разницу «сосед» подвел кирпичный фундамент, переложил печь, сделав из детсадовской плиты две шведки с общим дымоходом, перегородил пополам дом, а главное, достроил второй этаж: там образовалась небольшая комнатка, чуланчик, достался нам и один из балконов. В сорок шестом от отцовских «сельских» затей почти ничего не осталось: две одичавшие яблони, куст ирги, заросли дикой малины. Взлелеянный папой парник давно завалился, сгнил, из него торчали будылья мощных бурьянов. Грядки одичали, заросли – сорняки очень любят ухоженную землю. Травка-то на целине растет, там им не очень разгуляться, а на удобренной – самый смак... На месте туалетной будочки в самом дальнем углу – помойная ямища, залитая водой. Все кухонные отбросы сливались туда... Однако нет худа без добра – через несколько лет та, заваливаемая палой листвой, сгнившим сеном и другими отходами яма превратилась в холмик, где роскошествовали крепенькие шампиньоны – чуть не каждый день на целую сковородку! Еще летом сорок шестого обнаружил я под домом четыре ржавых трехлинейки, без затворов – память о том, что Крюково было под немцем, – и почему-то связку содранных когда-то электросчетчиков, тоже ржавых. Видать – последнее, чем пытались поживиться грабители, – сняли в соседних домах, да раздумали тащить, закинули под дом... Винтовки, памятуя свои приключения с Вальтером, снес и сдал в крюковскую милицию, счетчики – на свалку, в овраг. Вишни, сливы, тоже отцом посаженные, сгинули, как не было их. А ирга – роскошествовала, ее обильную ягоду никто не ел – привкус специфический. У меня от ирги каждый август – весь рот черный...
Крюково, стройка
Нет, что ни говорите, а в первые послевоенные годы, да и в дальнейшей моей жизни крюковская дача играла огромную роль, пусть и не всегда я это осознавал. Судите сами: война, два года Куртамыша, скитания по Южному Зауралью, московская бездомность с двухлетней камерой-одиночкой – два года в комнате на далекой московской окраине, во Владимирском поселке, Рязань, армия, а после демобилизации – два года в Чите, пару лет на Спиридоньевском переулке с женой, дочкой, тещей, няней – в коммуналке, потом года два на улице Фрунзе в проходной комнате (теща поменяла свою на две крохотных во дворе дома ВИЮНа (кажется, так он назывался) – Юридического института, где она работала). Потом полгода скитаний с киногруппой в Киеве, Пицунде... С мамой, получившей новое жилье – комнату уже не в общежитии, а в коммунальной квартире на три семьи, возле ВДНХ, – тоже почти не жил, не считая полугода осенью сорок девятого и нескольких месяцев зимой пятьдесят девятого, когда вынужден был уйти от первой жены... Где уж тут до «родительского дома»! Временный жилец. В шестидесятом мы поженились с Беллой. Дом ее родителей – две комнатки в бараке каркасно-засыпного типа далеко за Сокольниками, на границе Лосиноостровского лесопарка. Только в шестьдесят шестом обрели мы наконец стабильное жилье, получили трехкомнатную квартиру. Но тут уж не «родительский», свой, сам «родитель» – Анке уже пять лет... А Крюковская дача все эти годы – живой кусочек чего-то постоянного, твоего, не в смысле частного владения, просто того, куда постоянно возвращаешься, место, где многое сделано твоими руками: гряды, парник, яблони, вишни, орешники, выкопанные кустиками в лесу и посаженные вдоль забора, разросшиеся, одаривавшие тебя зрелой лещиной, да не помалу! На ползимы хватало, все зубы на тех орехах потерял... Помоложе был, возникало иногда желание: бросить все к черту, перестать копаться, перестать ломать себе голову над проклятыми вопросами: где добыть штакетник, слеги, столбы для сгнившего, валящегося забора, доски, кирпичи, как переложить дымоход, заменить пошатнувшееся крыльцо... Особенно бесился после долгого отсутствия – Рязань, армия, Чита... Обработать и удобрить пять гряд клубники – себе, да три маме – это не так уж легко, когда одни руки, работа, заочная учеба, дочка... Но вот в одно из лет увидел, как едва начавшая ходить Анка забралась в гряды с клубникой и лопает ягоды одну за другой, спрашивая тоненько: «А эта – готовая? А эта?» И взыграло. На следующее лето как-то утречком посчитал: шныряя в грядках, дочь улопала больше сорока штук огромных «викторий» – глубокую тарелку с верхом! За столом ни в жисть столько бы не усидела. Не зря копал! Такие плантации разделал: клубника, малина, парник с ранними огурчиками. Ежеутренне бегал с тележкой на выгон – три-четыре ведра коровяка, лесная подстилка, палая елочная иголка для мульчирования. Никакой химии! Вишни посадил, яблоньки... «И воздалось ему!»
А второй этаж, комнатушка, чулан и балкон – наши с женой апартаменты – тут и ложе, и архив, и библиотека с тысячу томов книг-дублей, и все журналы за прошлые годы. Дочь внизу, с бабушкой и дедушкой. В саду, в глубине разделенного участка, своими руками поставил домик, правда, с помощью плотника, но это уже тогда, когда стропила надо было ладить, крышу крыть... Две комнатки, застекленная терраска – мама жила, тетя Аня – ее сестра, ленинградская племянница их, а моя двоюродная сестрица Рая, с детьми, а потом и с внуками – каждое лето. И еще очень важный момент: стабильные, ежелетние, давние дружки, сначала девчонки и ребята, чуть помоложе меня, потом уже юноши и девушки, уже сами родители... В Москве встречались редко, чаще перезванивались, а уж на даче – ежедневно вместе... Вот это и получается «Родительский дом» – до скончания века – «Родительский дом».
Летом сорок четвертого мы с мамой лишь мельком заглянули сюда, можно считать – случайно: как-то даже не ощутили, бездомные, что тут часть нашего «недвижимого имущества», действительно принадлежащего нам, откуда никто нас не может выгнать. Но жить здесь было невозможно, а как-то подправить, приспособить пустую, крытую дранкой коробку – ни сил, ни средств. В пустые оконные проемы залетали ласточки (а окна-то были запланированы широкие, «венецианские»!), в углу, под потолком , серый комок осиного гнезда, на крашеном полу – слава богу, успел папа покрасить, а то сгнил бы – слой слежавшейся листвы, веточек, хвои. Посмотрели мы с мамой, погрустили, дверь с террасы с выбитыми филенками, задняя – сорвана с петель, но почему-то не унесена, стоит, как «прилагательное» – если по «Недорослю»... Вымели мы сор, кое-как притворили двери – позаимствовал я у соседей (кое-кто уже жил в поселке) молоток и пару гвоздей, заколотил... А окна-то не только без стекол – без рам!
Добрались мы в Крюково без заранее обдуманного намерения: на соседней станции – Фирсановка – трест выделил маме две сотки под картошку. Туда-то и ездили сажать, рыхлить, окучивать. Возили обычно коллективно, из Мострамвайтреста – на автобусе, а тут поехали паровичком, ну и проскочили до Крюкова, до родных Палестин...
Между прочим, на том общем картофельном поле вполне могло бы завершиться мое пребывание в сей «юдоли слез». Дело было так: по краю картофелища – лесок, к которому примыкала наша делянка, заросли ольхи, малины, крапивы. В зарослях петляет маленькая речушка Сходня, берущая начало из нашего Крюковского озера. Летом она обычно пересыхала, стояла отдельными бочажками. Еще до войны лавливал я в ней пескарей, гольянов, бычков, как-то даже щуренка вытащил. В Сходенке никто, конечно, не купался – воробью по колено, но при моей любви ко всякой вольной воде умудрялся я, чуть ли не плашмя укладываясь в одну из лужиц, окунуться и здесь. Беpeгa высокие, крутые, они террасками спускались к воде, из чего можно было заключить, что когда-то была наша Сходенка куда полноводнее. Помахав на жаре тяпкой, вздумал я освежиться. Добрался до речушки. Стою над водой, на одной из террасок и вижу: торчит в полуметре от моих ног из травы что-то красненькое. Присмотрелся: рукоятка гранаты, нашей – РГД, у нас их на заводе выпускали. Ухватил, выдернул, что-то щелкнуло, успел еще поднести к глазам в рифленой свинцовой рубашке, обыкновенная РГД. И сработал инстинкт – отшвырнул, вернее, оттолкнул ее от лица, она скатилась в бочажок, а сам я плюхнулся ничком на траву. Все это произошло в две-три секунды... Бax-бабах! Взвизгнули над головой осколки, посыпались на меня листочки и веточки, срезанные свинцом... Крик, шум. На взрыв бегут с поля люди. А я лежу ни жив, ни мертв. Ни царапины. Вот и пригодилась военная наука: «После срабатывания взрывателя граната разрывается через три-четыре секунды»... Успел чуть ли не подсознательно сообразить, вспомнить. Оттолкнул верную смертушку. Сколько потом находили мы в здешних лесах подобных гранат, и наших, и немецких, с рукоятками и лимонок, неиспользованных снарядов, целыми штабелями валявшихся возле покалеченных зарядных ящиков... Сколько трагедий, бессмысленных смертей, изуродованных пацанов... Потом это назовут «Эхо войны»...
И хотя был я осторожен и приятелей остерегал, ничто не могло отбить желания приобщиться к оружию, хотя бы добыть тол или бездымный порох из чугунных чушек. Вот вам домашняя картинка из тех времен: вернулась с работы мама, а я сижу и курочу гранату. Запала нет, разгибаю молотком свинцовую рубашку смертоносного предмета. Мама в ужасе. Объясняй, не объясняй, что все абсолютно безопасно, что тол – вроде куска мыла, что без детонации он не взорвется – в ответ один крик: сейчас же выброси эту гадость.
Но вернемся в Крюково. Еще весной сорок пятого изыскала мама возможность хоть как-то привести дачу в порядок – соседи сдавали лучше сохранившиеся дома, или уже отремонтированные, подправленные, в аренду детскому садику, вывозив шему на природу своих питомцев. Свой дом мы сдали под кухню. За это нам вставили рамы, застеклили, починили крыльцо и двери, сложили внутри огромную плиту... В счет «аренды» меня согласились кормить обедом. И сразу после первых экзаменов в студии, в конце сорок шестого, зажил я робинзоном на недостроенной мансарде, взбирался туда по сколоченной из двух слег легкой лесенке, втаскивал ее за собой и чувствовал себя в полной безопасности. Вроде как в крепости с подъемным мостом. На засыпанные шлаком горбыли черного пола натаскал сена – устроил себе царское ложе – здесь же хранились нехитрые мои припасы, книги и удочки. Несколько банок консервов, сухари в мешочке, кое-какая посуда, стеклянные банки с запасом воды, карандаши, бумага... Ну чем не Робинзон?! Мой первый «рабочий кабинет», всем ветрам открытый – это тебе не камера-ванна, в которой прожили мы зиму...
очевидно, там же и тогда же
Следует отметить, что выглядел я тогда довольно скверно: бледный, худющий. И самое плохое – открылось у меня весной... кровохарканье. Не знаю, чахотка ли начиналась или какая-то другая хворь, но перепугался я изрядно. Тощий, длинный, вечно голодный... И какой-то сухой кашель донимает... Никому ничего не сказал, только сразу после сессии уехал в Крюково. Мама наезжала по воскресеньям, привозила хлеб, сахар, баночку масла. Детсад выдавал тарелку супца, порцию каши. Но главное – каждое утро и каждый вечер жившая через дом от нас соседка тетя Нюра (местная крюковская, дом у них сгорел в сорок первом, они уже через год купили полдома в нашем поселке), имевшая корову, громко звала: «Егорушка! Подоила!» Я опускал лестницу, прихватывал литровую банку и бежал на зов. Так что ужины мои и завтраки состояли в основном из теплого парного молока да краюхи хлеба, к концу недели достаточно твердого. И сытно, и вкусно, и, вероятно, целебно. Кашель прекратился, и кровь горлом никогда уже не шла. Сработал, конечно, и свежий воздух огромной моей зеленой квартиры – ни дверей, ни окон, только крыша над головой, – да довольно большой объем легких, унаследованная от дедов-прадедов широкая грудная клетка. Когда в ту же осень меня, допризывника, обследовала военкоматская медкомиссия, один из врачей пошутил: «Тебе бы парень, не в актеры, а в духовой оркестр: больше шести тысяч кубиков выдуваешь»... Там, на мансарде крюковской дачи, сгоревшей весной семьдесят шестого, жил я до самого окончания учебы, до отъезда на работу в Рязанский ТЮЗ. Сюда же, правда, в куда более комфортабельные условия, отслужив в армии, поактерствовав в Чите, вернулся летом пятьдесят пятого – уже самостоятельным семейным человеком: жена, дочь Маша... Это было совсем другое существование. Сосед, которому уступила мама половину участка и дачи, достроил верх, подвел под дом кирпичный фундамент. Теперь с террасы на балкон вела обыкновенная лестница с перилами. Террасу застеклили, балконная балюстрада разрешала загорать там хоть нагишом, в комнатке на мансарде стоял стол, кровать... И вообще жизнь переменилась. Не писал я, как бывало, с раннего утра свои «сочинения», не читал допоздна книги, не бегал с друзьями по утрам купаться на озеро, не верховодил в компании, где в конце сороковых был признанным заводилой. Ни дальних походов за грибами, ни костров, ни вечерних танцулек на пятачке под патефон – все ушло в прошлое, девчонки выросли, парни пооканчивали за эти годы институты, кое-кто успел обзавестись своими семьями. Мы, конечно, встречались, снова иногда сбивались в тесный кружок, но тoгo, что было раньше – преданной дружбы, безграничного доверия друг другу, – уже не было. А как же я тогда гордился в душе, что родители моих приятелей всегда во мне уверены, что они спокойно отпускают своих тринадцати-пятнадцатилетних отпрысков в походы с ночевкой, зная, что их веду я, что они со мной. Дачная наша компания была невелика. Соседские Люся-Муся (не сестры, подружки-одноклассницы), Наташа – дочь соседа, которому продали мы полдачи, Юрка Фандеев, года на два моложе меня, его московский приятель Дима, рано умерший, знавший о своей неизлечимой болезни, но несмотря на это жизнерадостный, заводной, у его родителей – наследственный бытовой сифилис, как мы потом узнали, им нельзя было иметь детей... Еще Сюзанна, моя ровесница, знакомая по довоенным годам, ее братишка Алик и младший брат Наташи – Павлик – это костяк нашей группы, сбивавшийся каждое лето. Примыкали к нам временно и другие – мои родственницы Майка (я уже упоминал о ней), троюродная сестрица Марина (Мариша) со своей приятельницей Мусей, гостившие у нас летом на даче. Но они всегда были чуточку не совсем «свои», как-то «сбоку припеку». Жили мы неподалеку друг от друга – или за соседним забором, или через улицу. Связь, как говорится, осуществлялась визуально или голосом. В семь утра с моего балкона раздавались призывные свисты – фраза из «Итальянского каприччио» – и тут же появлялись Люся-Муся, заспанные, растрепанные Наташка, Юрка, Сюза, Алик, и мы бегом отправлялись на недалекое озеро. Гимнастика, купание. Потом разбредались завтракать, помогать по хозяйству родителям: кто таскал воду из колодца, кто полол грядки, кто, как я, заваливался с книгой или строчил очередной «опус» (я тогда писал «роман» – «Идущие рядом», главы из которого ежевечерне читал восторженным слушателям...) Но после обеда – шабаш. После обеда мы принадлежали самим себе. Второй поход на озеро, рыбалка, или в лес – грибы, малина, к осени – орехи. Вечером чтение, анекдоты, байки, споры... спиритические сеансы, опыты гипноза (кстати, никогда, нам не удававшиеся) и, конечно, танцы под патефон, до самого темна на пятачке, выбитом нашими босыми ногами на поляне за поселком, чтобы не мешать сну и отдыху населения... Уж поверьте мне, весело и полно мы жили. Встречались и в Москве, покупали абонементы в консерваторию, сбивались, чтобы сходить в кино. К сожалению – не часто. Встречались и на днях рождения друг у друга. Связи не прерывались, хотя в городе у каждого шла своя жизнь. На даче же – общая! Веселая и чистая. Конечно, не без «любовей», порой выдуманных, но шибко возвышенных и романтичных. Считалось, что Юрка влюблен в мою сестру Маришку, а я в ее подружку Мусю-старшую. Люся-Муся – козявки, они были не в счет... Муся – Маша Каверзнева – одноклассница Маришки, из прекрасной семьи потомственных русских интеллигентов. Немного взбалмошная, но умная и добрая. Училась она после на медицинском, и наша переписка заглохла лишь в первые годы моей армейской службы... Не потому ли и первую дочь назвал Машей, и героиню своего первого «романа»... Пожалуй, первая девочка, к которой относился серьезно. Да и она вроде поначалу отвечала взаимностью. Не задалось. А вот помню, вижу. Нет, никаких романчиков с поцелуйчиками по углам, никаких игр «в бутылочку» в компании нашей не водилось. Может, еще слишком молодыми были? Или на порядок выше интеллектуальный уровень? Или столь затянувшееся мое мальчишество, вера в идеальные отношения, убеждения Веры Павловны? Так или иначе, но уверен, что все это разделялось до поры до времени всеми моими дружками крюковскими, хотя в другой, городской жизни, с иными приятелями, в других компаниях были уже у меня девицы, готовые целоваться и так далее. И целовался. Однако крюковский «синдром» уберегал от «и так далее». Какая-то атмосфера трепетной влюбленности, дружбы всех друг к другу, мальчишки – «рыцари», девочки – «прекрасные дамы». Не обманываюсь ли? Не выдаю ли желаемое за действительное? Нет. Было именно так. Мы не притворялись. Нам было хорошо. И жизнь страны, и жизнь всего мира волновали наши сердца. Серьезнейшим образом обсуждались вопросы построения коммунизма, борьбы угнетенных, становления народных демократий, в сердцах жила постоянная готовность помочь тому, кто нуждался в этой помощи. И одновременно все знали, что я влюблен в Машу, а она в меня, что, когда она уезжает в Москву, мне принадлежит право проводить ее на станцию. Что Сюзанке небезразличен я, а Маришке – Юрка Фандеев. Но все это было не главным, по-детски несерьезным, не особенно занимало наше воображение, не захватывало внимания. Никто никого ни к кому не ревновал, не дулся, не обижался, никто никого не обижал. Потому в московские зимы так мечтали о лете. Что ни говорите – прекрасно мы жили!
Крюково, на об.: "1950"
Как-то, в одно из лет, серьезно заболела Сюзанна. Очень скверно ей было. Что-то с печенью, что ли... Выхаживали всем скопом. Чуть не круглосуточно дежурили возле ее постели. Лекарства, грелки... Лучшие земляничины и первая клубника с наших грядок. Выносили из дома на раскладушке и роились вокруг больной. Читали, спорили, кормили свежей рыбой собственного улова... В общем, выходили мы ее. Конечно, такое утверждение слишком самоуверенно – ездили к ней и врачи из Москвы, и семейство немалое, целый, как сейчас говорят, клан: их дача принадлежала двум братьям Бейлиным – ее отцу, часовому мастеру, и дяде – маминому сослуживцу, главбуху того же Щепетильниковского трамвайного депо. У Сюзанны два родных брата: Алька, о котором я уже поминал, и младший – Сёма, он тогда еще совсем сопливой малявкой был, лет пяти-семи. Мать семейства, болезненная и добрая еврейская женщина, много моложе мужа, со следами былой красоты. Ну прямо чувствовалась в ней какая-то генетическая связь с несчастными героинями Шолом-Алейхема, которого я тогда запоем читал. Этакая мечтательная местечковая красавица, выданная за богатого мастера. И у бухгалтера Бейлина двое детей, но жена уже совершенно иного плана: современная «эмансипе», острая на язык... На бейлинской даче всегда полно родичей: дядя Захар со своими детьми, тетя Нюта и ее сын, Марк Кабаков – двоюродный брат Сюзанны, военный моряк и поэт, Нетта – будущий врач, еще какие-то родственники и родственники родственников... Немало раз встречались мы и в Москве, на днях рождения Сюзы и ее братьев, они учили меня петь еврейские песни... Большая, безалаберная, дружная и крикливая семья. И очень интересная. Я до сих пор люблю этих людей – Сюзанну, Алика, Сёму, хотя мы почти не встречаемся, так, редкие звонки или случайные столкновения где-нибудь на улице, даже далеко от Москвы, в Литве, как бывало, скажем, с Аликом и его женой Лидой – русской девахой, удивительно вписавшейся в эту семью... Эти дружки юности стали мне как бы родственниками, их беды, заботы и радости всегда небезразличны и, пусть годами не видимся, близки мне. И их, и их детей, и уже многочисленных внуков. Память о том, какими были мы молодыми и беззаботными – жива в нас... Семья Бейлиных дала мне живое представление о местечковом еврействе, о тех, кто когда-то бедовал за чертой оседлости, подвергался погромам, кого зверски убивали фашисты и всякая иная сволочь и русских, и литовских, и украинских кровей, но кто умел сохранить душевную доброту, любовь к людям, какой бы национальности они ни были, кто всегда готов был протянуть руку помощи любому обездоленному, сирому и убогому... Это от них в памяти мелодии «Фрейлехс», от них какие-то специфические шутки, характерный говорок, на котором рассказываются смешные и мудрые анекдоты «из еврейской жизни». Тот самый, коверкая который, злобные антисемиты пытаются выразить свое презрение к умному, доброму, в массе порядочному народу, не желая видеть в нем брата по страданиям, а стремясь оскорбить, унизить. Господи, как же ненавижу я этих своих русских братьев! Да и любых расистов, не могущих ничего путного предъявить человечеству, кроме «чистоты» собственной крови...
С другом Юрой Фандеевым и радиолой в Крюково(?), нач. 50-х
Нет! Не удержусь, сегодня, сейчас, в феврале девяностого года, когда перепечатываю я свою исповедь, свои воспоминания, писанные в разные другие годы, должен, обязан, хочу сказать все, что думаю по этому поводу. Если кому-то из антисемитов доведется читать эти страницы, пусть не ухмыляется – мол, заговорила в авторе «еврейская кровь». Да, есть она у меня, да, и жена, и много друзей моих носители ее. Но я русский. Понимаете? Русский. По языку, по образу мышления, по своей принадлежности к этому великому народу. Я горжусь нашей историей, не меньше «русофилов» переживаю то, что клика захвативших в моей стране власть монстров многие десятилетия уничтожала мой народ, рушила его древние культурные ценности, убивала «национальную гордость великороссов», воспитывала ублюдков, палачей всех народов... Нет никакой «русофобии» в душе моей, да и не может быть. Невместно мне! Но признать правоту голодных волчьих стай, желающих отбить только себе, только для себя загнанного оленя, готовых ради этого разорвать особей из другой, столь же голодной стаи – не могу и никогда не признаю. Великие гуманные слова: «нет бо ни еллина, ни иудея» – живут в душе. Армяне или азербайджанцы? Мой армейский корешок Тер-Манукян или московский друг Чингиз Гусейнов? Тимур Пулатов или незнакомый мне мальчишка – турок-месхетинец, сгоревший в родном доме в Ферганской долине? Фазиль Искандер, книги которого мне бесконечно близки, или прекрасный грузинский интеллигент-писатель и, смею надеяться, большой друг нашей семьи Кита Буачидзе? Нодар Думбадзе или почти родной мне югоосетин Нафи Джусойты? Стасис Науседас из рыбацкого литовского поселка Русне или Марукас – прозаик, рыбак и приятель наш? Лилли Промет, Сильва Капутикян, Юстинас Марцинкявичюс, Леонид Панасенко – украинский фантаст и доброй души человек? Кирилл Ковальджи – молдавский болгарин или Лев Эммануилович Разгон? Немец Лео Кошут и словак Иван Махала... – это лишь малая толика людей планеты Земля, которые накопило мое сердце за шесть десятков лет жизни. С гордостью числю в нем и башкир, и татар, и японца Куроду, и испанца Сантакреу, и француза Жана Шампенуа, и англичан Сьюзен и Алана... Разве по национальному признаку проникали они туда? Нет и нет! Никакой «Памяти» не выбить. Опомнитесь, что это за «протоколы сионских мудрецов»? Почему никто и никогда не приглашал меня ни в какие «жидомасонские ложи»? Откуда вы их взяли? Как можете верить в весь этот бред? Зачем возводите напраслину на евреев, рядом с вами воевавших против фашизма? Отсиживались в тылу? Кто отсиживался? Мой двоюродный брат Ика Доктор, погибший в маки? Роберт Куковец, о котором я уже писал? Борис Крамаренко, сын тети Насти? Зачем лжете? Зачем нагнетаете страсти? Неужели века и века ничему не научили и логика голодной волчьей стаи – главная логика вашего мышления? Опомнитесь, не позорьте мой народ. Не позорьте свой народ , армяне и азербайджанцы, узбеки и месхетинцы, молдаване и гагаузы. Да, изверились мы, да, провозглашая чистейшие лозунги интернационализма, всякие сталины, брежневы, лигачевы, всякие гереки и хонеккеры, чаушески и живковы, хошимины и полпоты загнали человечество в средневековье, в кошмар расовых и смертоубийственных идеологических распрей. Но ведь мы люди! Люди. Мы не разные виды пусть и близких по своим генам животных, от брака коих могут происходить нежизнеспособные гибриды вроде мулов, – мы один вид «Гомо сапиенс» – потомство негра и белой, сиамца и русской, эвенка и украинки, литовца и татарки – это многие и многие миллионы особей нашего вида, населяющего сегодня Землю. Вырождается, погибает замкнутое в себе племя, деградирует. Скажете: евгеника, мракобесие? Ой, нет! Славяно-великороссы, ответьте-ка, куда подевались хазары и печенеги, весь и меря, будины и ятвяги – еще на исторической памяти человечества жившие рядом с нами? Берендеи, аланы, другие народности и племена, имя им легион? Не их ли гены в нашей крови? А разве трехсотлетнее татарство не оставило своих следов в ваших потомках, православные? Только в последние два века прошлись по Великой Руси французы и немцы, армии двунадесяти языков, румыны и венгры, поляки и итальянцы... Пролито много крови, но много крови и влито! Неужто кто-то посмеет отрицать это? И не эти ли вливания позволяют русскому человеку сохранить динамичность, мудрость, молодость? Ах, расисты, ах, доморощенные фашисты, ах, иваны, родства не помнящие, кичащиеся своей русскостью... Позор! Человек является представителем того народа, чьи колыбельные ему пели, чей образ жизни, система ценностей исторических и культурных заложена в него воспитанием, чью природу, язык, верования, да порой амбиции считает он своими. Кровью и формой носа их не отстоишь. Да и кровь, и форма скул, и цвет волос и глаз столь разнятся даже в каком-нибудь небольшом городке, в глубинке, что уж тут говорить об огромной многомиллионной стране... Не все, конечно, еще я сказал, но пар выпустил и могу идти дальше.
Вернемся к семейству Бейлиных.
очевидно, там же и тогда же
Глава семьи Исаак Аронович Бейлин – часовщик, оптик, гравер, не знаю, кто еще, один из последних обломков НЭПа в Москве, пусть и работал от какой-то артели. До конца пятидесятых сидел он в каморке, в одном из подъездов в начале улицы Кирова (Мясницкой), напротив «Лубянки», принимал от многочисленных граждан заказы на всевозможные мелкие поделки. В артели был на хорошем счету, но вероятно, и себя не забывал. Семья. И не маленькая... В жизни, несмотря на внешнюю суровость, был Исаак Аронович человеком добрейшей души, расположенной к людям. Семейка, не слишком главу рода уважавшая, особенно когда дети подросли – разрешали себе иронизировать и посмеиваться, умела весело и беззаботно транжирить рубли, нелегким трудом добываемые отцом. И вот этот гравер-часовщик, в конце двадцатых годов еще перебравшийся в Москву с Украины с молодой красавицей женой, угнездился, выписал младшего брата, устроился на окраине тогдашней столицы, на Хуторской улице, в старом деревянном домишке. Пиликал он по своим еврейским праздникам на скрипочке пронзительно-грустные и бесшабашно-веселые мелодии, и при этом плакал и так бывал счастлив, что и рассказать невозможно. Что жило в душе этого человека? Ни разу не удалось мне поговорить с ним по душам, хотя и любил он меня, может, и прочил в мужья своей старшей... Домик их с какими-то пристройками, клетушками, сенями, с запахом гнилого дерева, сырости, с кадушками солений и банками варений, был очень характерен для московских окраин, возникших, вероятно, еще в конце прошлого века. Я всегда с удовольствием бывал тут, много чего рождало в душе бытие их семьи. Теперь на месте их халупы многоэтажная громадина, у детей свои квартиры, а стариков давно уже нет на свете. Не могу не рассказать один анекдотический случай, связанный с этим семейством. Вернулись они из эвакуации, пожалуй, лишь в конце сорок пятого. Весной сорок шестого уже переехали на дачу и привезли с собой двух козлят. Сколько же надежд возлагалось на этих милейших сереньких жителей Хуторской улицы! Как ждали Бейлины лета, как мечтали: вот поедем на дачу, сена заготовим, станем пасти козочек, а главное, дети будут вволю козьего молока иметь! Перебрались...Тут мы и встретились – я тоже впервые после войны поселился на своей мансарде. Козлята росли. Как же их пестовали, как чистили, травку им свежую рвали, хлебушком делились, ключевой водицей поили... Подошла осень. Всю зиму возились, отгородили в сенях для них закуток, гулять, словно собак, выводили на поводках... К весне вымахали козочки в здоровенных задир-козлов. А с козла, как известно, молока не получишь. Но старик не желал видеть очевидного. Снова привез на дачу, километра за два от поселка, в селе Гремячьем, нашел им «жениха», привел, получилась у них веселая драка. Обманули, всучили вместо козочек двух козликов. Почти два года терпели, от себя отрывали, чтобы вырастить, привязались. А понять, что воспитанники их не того рода – не сумели. Резать? Кто, когда, как? Уж и не помню, каким образом свершилось это действо... Слёз в семье было пролито предостаточно. Мальчишки ходили зареванными, а серо-белые шкурки, выделанные скорняком, долго еще украшали интерьер бейлинского жилища.
Памятно для меня Крюково не только первой и последней моей «охотой», о ней я уже писал, но и рыбалкой – вероятно, главной моей мужской страстью на всю жизнь. Мне бы удочку, червяка для наживки и любую лужу, где есть головастики и осока. Часами готов смотреть на поплавок... А ежели еще и клюет!.. В крюковском озере в те поры еще водился карась, белый и красный, линьки, окунишки, гольяны... Потом всех их извел бычок-ротан, как говорили, завезенный в наши водоемы из Китая... Но я и на того ротана согласен. Хотя три последних десятилетия отводил душеньку в Литве, на Куршском заливе и в устье Немана. До сего времени каждое лето кормлю свою семью свежей рыбой, а то и соседям перепадает. И уху варю, даже тройную, рыбацкую, и жарю, и копчу по всем правилам. Может, есть в этом некая непоследовательность? Лишить жизни живое, теплокровное – нельзя. Внутреннее табу. (Впрочем, и его нарушал, когда завели мы на даче вместе с Сюзанной цыплят; наши старшие дочери – ровесницы. Нужен был девочкам нежный куриный бульончик... Сделали вольер, пустили туда пару десятков пушистых комочков... Женщины их кормили, а вот... головы рубить приходилось мне. Было. Поймаю петушка, суну ему голову под крыло, покручу, покручу, цыпленок дуреет, вроде в транс впадает, тут его на чурбачок и – острым топориком. Потом держишь, пока кровь стечет. Занятие не из приятных, но делать нечего. Преодолел). А вот что касается рыбы... Их почему-то не жалею. Другие они, холодные, из иного мира. Помню, как-то лежал в маске на поверхности спокойного моря и смотрел на дно, дыша через трубку. До дна метров пять – каждый камушек виден, песок – барханчиками, слабо колышутся веточки водорослей... Интересно. И вдруг ни песка, ни камешков – течет подо мною косяк – рыба-игла, «стрёгалac» по-литовски. Все закрыла, куда ни покосись – рыбы. Миллионы, миллиарды особей. Текут и текут. Минут двадцать лежал, а они все прут куда-то. Даже оторопь пробрала. Так и не дождался конца. Не наш мир. Ну а потом, помните, первая щука?
Театр
Следует напомнить тем, кто жил в те годы, и рассказать более молодым, какая удивительная тяга к театру бушевала в человечьих сердцах в конце войны и в первые послевоенные годы. Залы каждый вечер набиты под завязку, причем кидалась публика на любые спектакли, в любые, самые захудалые театрики. Однозначно сказать, что именно столь властно гнало людей на эти порой примитивные зрелища, не смогу. Думаю, немалую роль играла здесь усталость человека от пережитого, от миллионов смертей, унесших ближних и дальних, от бесчеловечья времени. Тянуло сюда и то, что театр нес праздник, напоминал о мирных довоенных радостях, давал возможность отвлечься от трудного быта. А главное – в каждом отдельном человеке-персонаже спектакля – утверждал его самоценность, его индивидуальность, стертую, снивелированную бесправием лихолетья.
Москва сорок четвертого – сорок шестого была переполнена военными и гражданскими со всех краев огромной страны. Многие впервые, пусть ненадолго, на дни, короткие недели, попадали сюда по неотложным делам: кто-то проездом на фронт, кто-то долечиваясь в столичных госпиталях, кто-то направляясь в родные места из эвакуации. Полнили залы и возвращавшиеся москвичи, истосковавшиеся за годы вынужденной разлуки по ярким огням, музыке, веселью. Конечно, определенная дифференциация была и среди зрителей. Большинство, огромное большинство тянулось в оперетту. Опереточные барышники ломили за билеты самую большую цену. Но почти недоступными оставались и «серьезные» театры – МХАТ, Малый, Большой... Рестораны (уже работали «коммерческие») многим не по карману, новые фильмы – редки, это позже стали катать трофейные... Да и у себя, в дальних перифериях, можно было их посмотреть, а вот «московский» театр!.. Так что скоротать свободный вечер – только театр. Господи, что тогда творилось у театральных подъездов!
За право провести вечер в уютном светлом зале, пусть слегка и обшарпанном, посмеяться и поплакать – не казались слишком большой суммой и сотня, и две, заплаченные за «лишний билетик». А ведь в кассах довоенные цены: рубль – три... Я не завидовал барыгам, даже не задавался вопросом, как они достают эти билеты, принимая как должное – носил им свою дань, и всё. Заветная красненькая – тридцатка, и... как повезет. Иной раз уже и третий звонок отзвенел, и жаждущие зрелища стали расходиться, а ты стоишь, веришь, что повезет. И везло! Местные жучки, вероятно, приметили меня. Глядишь, и сунут – «Иди!» Изворачивался я, как мог: таскался вагоны разгружать, хлебную пайку толкал у булочной, весной копал сотки под картошку: поднять сотку бывшего огорода – полторы сотни, целины – двести пятьдесят! За долгий весенний день удавалось и две сотки перелопатить. Иногда подкидывал кое-что Алексей, приезжавший с фронта по делам в Москву и останавливавшийся у нас, когда мы еще жили на Никольской... Деньги имели двойную цену. По карточкам – одну, на «черном рынке» совсем другую. Писал уже – водка до пятисот, хлеб – двести буханка...
Пусть несколько не по заявленной теме, но поведаю вам об одном занятном случае. У Алексея Ивановича Новикова, как у Героя Советского Союза, была для коммерческих ресторанов лимитная книжечка, по которой полагалось аж семьдесят пять процентов скидки. А денег у него, по моим тогдашним понятиям, всегда полно. Миррка с маленьким Алешей жила еще в Казани, получала по аттестату, вроде не нуждалась. Вот он и таскал меня с собой то в «Асторию» – теперь «Центральный», то в «Савой», то в «Метрополь». Пообедаем и – в театр. Туда, конечно, билеты добывал я, он лишь финансировал. В один из весенних дней, война, кажется, еще не кончилась, были мы с ним в «Астории» – на улице Горького, с двумя его приятелями-летчиками, сели за столик у окна часа в два пополудни. А у меня уже билеты на всех. Во МХАТ! Выпили, поели. Приятели Алексея ушли, я им отдал билеты, у них еще дела, а мы решили досидеть часов до шести и прямо из ресторана в театр... Сладкая жизнь! Вдруг мой зятек поднимается, надо, мол, отлучиться. Ты сиди, жди. Скоро вернусь. А то займут столик. Сижу, доковыриваю вилкой салат, дохлебываю боржоми. Время к пяти, официант на меня поглядывает подозрительно, а Алексея все нет и нет. У меня, может, какие-то полсотни в кармане. Билеты? Так тут не возле театрального подъезда. Это там, еще с утречка, добыл я их, заплатив сотни две, а здесь они «по госцене» – пятерка... Начинаю попсиховывать. Наели-то и напили не меньше чем на полтысячи, а то и больше. Лихорадочно соображаю, как буду расплачиваться. На руке у меня часы, швейцарские, «Мозер», тоже алешин подарок. В крайнем случае оставлю в залог, они на тысчонку потянут. А если не согласится? Мой «морской китель»? Ерунда. Самописка? А тут официант подходит: «Рассчитываться будем, или еще что закажете?» С перепугу прошу принести сто грамм и пожарские котлеты – самое дешевое, что есть в меню. Как раз на те полсотни, которыми располагаю... Выпил, через силу жую котлету с жареной картошкой, не ощущая вкуса... Столик наш у окна, и слышу, кто-то в стекло постукивает. Глянул и обмер: стоит на улице Новиков с приятелями, на металлическую полоску, огораживающую окно, навалились, Алексей машет рукой, пошли, мол... Смывайся!.. С ума сойти! Снова подходит официант. Несет на блюдечке счет. Ну все. Пропал я. Зыркнул в окно – гаврики мои слиняли. Нету. Сердце в пятки ушло... А на блюдечке – листок со счетом и несколько сотенных: «За вас расплатились, а это сдача...» Ну, гады! Сгреб я деньги с блюдечка, беленькую – «на чай» отделил, и на ватных ногах плетусь к выходу. Вояки ждут у подъезда, чуть со смеху по мостовой не катаются: купили...
Оперу я тогда еще не очень уважал. Не понимал, что ли. Поют, руки воздевают, а то выстроятся в одну шеренгу и тянут каждый свое, кто во что горазд... Никакого у меня музыкального опыта не было. Балет еще куда ни шло, а опера нет, не по мне. Мне драму подавай, реализм, правду переживаний, а тут... И вот, пожалуй, той же весной получил я урок. И на всю жизнь запомнил. Понял, что и здесь, в опере, есть правда, что и оперные арии, когда исполняют их большие, настоящие артисты, и созданы они великими композиторами, – могут потрясать, вызывать катарсис. Возвращалась с фронта демобилизованная двоюродная сестра, младшая тети-Нилина дочь – Наташа. Капитан медицинской службы. Ждала ребенка. Ехала к себе через Москву, разыскала нас. Попросилась в Большой. Повел ее на «Евгения Онегина». В ложе мы сидели, на первом ярусе. Козловский Ленского пел. И вот: «Куда, куда, куда вы удалились...» Наташа – в три ручья. И у меня защемило. А уж к последней сцене, к «...когда б вы знали, как ужасно томиться жаждою любви...» – и сам разревелся. Ведь меня «Онегин» – все главы наизусть – всегда волновал, а тут такая музыка, такое горькое-горе любви... И в балете, правда, уже позднее, в пятидесятые годы – Золушка-Уланова, она же – Джульетта... Никогда не мог вообразить, что балет может тронуть душу – признавал неимоверную трудность всех этих пируэтов, плие, шанжманов, любовался отточенностыо, выверенностью, легкостью движений, прыжков, поддержек, но чтобы душу?.. А тут поверил, понял, на себе испытал... И в толстую уже Барсову – Розину в «Севильском» влюбился, и Пирогова в «Русалке» готов был вызывать бессчетное количество раз, и в консерваторию бегать начал. Правда, приятие большой музыки все пятидесятые-семидесятые годы застыло у меня на уровне композиторов восемнадцатого-девятнадцатого века, как и художников – где-то до Серова и Кустодиева, а что после, то от лукавого. Лишь теперь начал как следует ощущать величие Шостаковича, Прокофьева, Гершвина. Но самыми великими остаются Бетховен, Чайковский, Моцарт, а в живописи – фламандцы и передвижники. Так уж устроен человек, чего не дали ему в юности (а авангарда мы не получали), то и не занимает его в зрелости. Так и с поэзией. Гении русского девятнадцатого, кончающиеся на Блоке, а из наших – Маяковский, Твардовский, полузапретные в юности Пастернак, Ахматова, Есенин... Модерн в прозе все-таки больше проникал, но и доселе Джойсовский «Улисс» – за семью печатями. Может, опубликуют, прочту на старости лет, полюблю... Ну да пора вернуться к театру.
Оперетта, веселая, каскадная, со всякими Яронами и Качаловыми – не захватывала. Ходил, конечно. И «Сильву», и «Марицу» не по приказу слышал. Однако – не мое. А вот та же оперетта в Вахтанговском: «Мадемуазель Нитуш», «Соломенная шляпка»! С Пашковой-Нитуш, Кольцовым, Горюновым, Понсовой, с блестящим Флоридором-Осеневым, Николаем Плотниковым – унтер-офицером Лорио... Так весело, так в характерах, так захватывающе остроумно! Я даже поэму по поводу «Нитуш» накатал и как-то, по концу спектакля, осмелился передать Понсовой. Помню строки: «Ликует сердце – есть билет, оркестры, бейте туш! Прекрасней нету оперетт, чем «Мадмазель Нитуш». Мадемуазель – в строку не ложилась... Спустя пару лет довелось мне кое с кем из вышеназванных артистов стоять на одних подмостках, а Кольцов и Понсова были в числе любимых учителей... Правда, мы, студийцы, играли в массовке, но все-таки! Главными моими кумирами были Рубен Николаевич Симонов, Цецилия Львовна Мансурова и тот же Кольцов – в «Сирано», в «Много шума из ничего». А Симонов еще в «Олеко Дундиче», Осенев и Пажитнов в «Шляпке», Иосиф Моисеевич Толчанов, или, как звали его в училище, «Толчан», в «Великом государе»... А какие достоверные, до колик смешные и трогательные полицейские в «Много шума...» – Шухмин и Кольцов – вроде бы герой-любовник, а тут... Поэт Сирано в исполнении Симонова был мне куда ближе, чем бретер Берсеньев. («Сирано», правда, в другом переводе, шел тогда и в Ленкоме.) Крупный, победительный, разве что с большим носом. Но куда ему до маленького, остроумного, язвительного, любящего, преданного и такого трогательного Рубена Николаевича?.. «Вся Москва» спорила, кто из них лучший Сирано, какой из двух спектаклей. Больше сорока лет прошло, а я до сих пор голоса помню, монологи, мизансцены, декорации... А ведь повезло, и в этих декорациях играл... Мушкетера – в массе других в кондитерской Рагно, мавра в той сцене, где после гибели друга Сирано взрывает окопы, в которых сидим мы, закутанные в бурнусы, и время от времени, держа над головой в каждой руке по шпаге, – яростно фехтуем ими, а когда раздается взрыв пороховой бочки – взлетаем над брустверами и падаем «мертвыми» в живописных позах. Не поверите, но и для этой роли гримировался, хотя вряд ли хоть на секунду публика видела мое лицо – другие ребята просто заворачивались в бурнус, а я тщательно мазался морилкой – «под мавра»... Любимый театр. Вы же понимаете, каким счастьем, какой гордостью переполнялось сердце, когда осенью сорок пятого он стал «моим театром». Я уже писал, кажется, сколько было желающих, – в общей сложности – две тысячи пятьсот соискателей, и лишь двадцать пять студийцев, принятых на первый курс.
Автограф О.Л. Книппер-Чеховой, 3 апреля 1950
И ведь не только сюда – в студию Камерного, в МГТУ... В МХАТовскую не прошел, с третьего тура отчислили, а в студию Завадского на третий тур не явился, уже знал, что зачислен в Щукинское – Вахтанговское. В студию Малого, куда сдавали кое-кто из знакомцев и приятелей, даже бумаг не подавал, мне, видите ли, «искусство представления» – претит, я – адепт Станиславского, вернее, Вахтангова с его «единством времени, актера и зрителя». Теоретик... Дурак-дураком еще был, но отстаивал свои мнения с пеной у рта. Не могу не сделать маленького отступления для восстановления истины. Году, вероятно, в сорок шестом я часто бегал в ВТО – в Дом актера, где перед нами, театральной молодежью и студийцами, выступали самые выдающиеся деятели театра: Книппер-Чехова, Тарханов, Михоэлс... В один из вечеров на эстрадку небольшого зала ВТО – вышли три великие артистки Малого театра: Рыжова, Турчанинова, Пашенная. В обыкновенных платьях, с современными прическами, такие же, какими только что ходили меж нас в длинном фойе.
Вышли, уселись за столик, перед каждой чашка с чаем. Стали они пить из блюдечек и разговаривать, просто разговаривать – играли сцену из «Правда хорошо, а счастье лучше»... И очутился я вдруг черт-те где, в прошлом веке, в старомосковском житии. И пропали куда-то пыльные, желтого бархата драпировки, жидконогий столик, современные канцелярские стулья, испарился низенький помост эстрадки, растворились стены с барельефами былых гениев российской сцены – остались лишь три несчастных, обижаемых мужьями-самодурами женщины, с такой певучей, такой точной и теплой, с такой мелодичной, акающей московской речью, что дух захватывало... Вот тебе и «Малый театр», вот тебе и «искусство представления»! Какое уж там «представление», сама живая, без прикрас жизнь. Бесхитростная, искренняя. Завораживающая.
А с тем поступлением в разные студии я чуть было не погорел: завуч Щукинского училища, милая и добрая женщина Галина Григорьевна Коган, еще летом, еще до окончательного утверждения состава будущего первого курса, как-то и спроси меня – «А что, Герасимов, вас, кажется, и в Камерный, и в МГТУ приняли. У нас-то ведь еще только после осенних этюдов будут утверждать. Не боитесь?» Вот попал! Забормотал что-то нечленораздельное, мол, Вахтанговский для меня – всё, я без театра – не могу, главная мечта моей жизни – быть актером... Галина Григорьевна успокоила: «Гарантировать не смею, однако думаю, что вас мы примем... О вас хорошо говорили и Борис Евгеньевич (Захава – директор студии), и Анна Алексеевна (Орочко – она набирала курс и вела его до окончания учебы)». Надо было рисковать, ждать конкурсных этюдов... А ведь и у Таирова, и у Готовцева – мхатовского актера, руководителя МГТУ – приняли не условно. Но надлежало честно предупредить администрацию этих студий, чтобы из-за меня не лишился места кто-то достойный. И я рискнул. И там, и там сказал, что принят в Щукинское. Очень неловко, но иного выхода не было. Завучи перезванивались, прекрасно знали о наших уловках, а мы-то, хитрецы, считали, что все хранится в глубокой тайне...
И вот начало сентября. Конкурсные этюды после прослушивания второго потока абитуриентов. Вечер. Репетиционный зал под самой крышей дома на улице Вахтангова, близ еще лежащего в развалинах театра на Арбате. Полукруглый потолок, никаких подмостков – занавес и ковровая дорожка отделяют «сцену» от длинного стола, за которым синклит экзаменаторов, и несколько рядов стульев, где собрался весь актерский состав вахтанговцев да еще старшекурсники и выпускники сорок пятого – Жарковский, Смоленский, Игельстром, Федоров, Женя Рейхман – уже принятые в труппу. Нас, допущенных до конкурсных этюдов – считай, до послед него порога, – человек сорок – сорок пять, значит, полтора-два десятка останутся ни с чем. И это – пройдя такой длинный и сложный марафон! Мы, первый поток, начали сдавать еще в июле... Разбили нас на две группы, поровну. Дают каждой установку – «предполагаемые обстоятельства», а там уж действуйте по своей фантазии, кто во что горазд, кто на что способен. Анна Алексеевна подзывает меня и говорит: «Будете секретарем райкома комсомола. Остальные приходят к вам со своими делами, заботами, требованиями. Импровизируйте. Время действия – первые дни войны. Все ясно?» Закрыли занавес, зажгли софиты. На сцене стол, несколько стульев. За одной из кулис предполагаемая дверь. На столе какие-то бумаги, газеты, папки... и я. Коленки дрожат, губы дергаются. Моим партнерам хорошо, они могут подумать, сговориться, а я абсолютно не знаю, с чем придут, кто такие. Занавес еще закрыт. Сел, рассматриваю газету, сложил в стопочку папки. Тут подходит из-за кулисы ко мне Людмила Целиковская (сама Целиковская! – «Сердца четырех», «Антон Иванович сердится»... Господи!). «Да не волнуйтесь, юноша! Все будет отлично. С чем придут, про то и скажут», – улыбнулась. Спасибо! Готовая вот-вот прихватить судорога – отпустила. Углубился в газету и не заметил, как распахнулся синий занавес, только вдруг светлее стало. Целиковская нырнула за кулисы. Так. Если начало войны, то первым делом – сводки Информбюро. Они всегда на первой полосе, слева. Вытащил ручку, что-то отчеркнул там. Попытался вникнуть в передовицу вчерашней газеты... И тут пошло-поехало. Впорхнули две девицы: «Нам направление на курсы медсестер!» – «Девочки, так вам, наверно, в военкомат надо». – «А характеристику райкома?» – «У вас же билеты есть! Ежели потребуют – дадим, а так, зачем же писанину разводить, не на бал же проситесь?..» Спровадил. А тут следующая партия – трое парней: «На фронт!» – «Я же не военком. Повестки получили? Ты, Ваня (какой там Ваня, имени не знаю), токарь, классный рабочий. Надо же кому-то и оружие делать. А вообще-то мы при райкоме истребительный отряд организуем, приходите в девятнадцать ноль-ноль. Разберемся». – «Нет, на фронт!» – «Тогда к военкому». Меня все Егором зовут, кто-то уже знал, что действительно – Егор. А я кое-кого впервые вижу. Но ведь они – друзья, ведь не один день со мной дело имели. «Ваня, ты же на на номерном вкалываешь. Не отпустят». – «Все равно давай рекомендацию, давай направление...» Что делать? Писать? Отфутболивать? Уговаривать? Какая-то бюрократическая канцелярия, а не райком! Неужели все с одним пойдут – «На фронт!»? Только ушли парни – впорхнули две девицы: «Егор, у тебя же с потолка каплет!» – «Что каплет?» Еще того не легче. – «Дождь на улице». А... «Бомба вчера в соседнем переулке взорвалась, вот и прохудилась крыша». Смотрю на потолок. Стоп! Если это «первые дни войны», то никаких бомбежек еще не было. Только в конце июля. А если конец июля, то зачем такая горячка – ведь уже больше месяца война идет... Фу-y! – «Какая бомба? Ерунду городите. Немецких бомбардировщиков до Москвы наши ястребки не допустят!» «Диверсия, наверно, была», – смущенно бормочет одна из посетительниц. Решаю поддержать девочек: «А ведь и точно, капает. Правда, никто не говорил мне о взрыве». Облегченно вздохнув, одна из них метнулась за кулисы, что-то тащит в вытянутых руках, «ставит» на пол возле стола. «Мы тут таз поставим...» Это вроде называется «на память физических действий»?.. Вот не было печали... Таз. Другая тащит из-за кулис тряпку – «Ты не беспокойся, я подотру...» Ушли. Значит, слева от меня стоит на полу таз... Не забыть бы. Появляется еще одна девица. Глазища огромные и в них слезы. «Ты что, Маша, что с тобой?» Молча сует мне листок бумаги, а там какие-то каракули. «Вот», – и опять молчит. Встал, пододвинул к столу второй стул: «Сядь, успокойся и объясни все толком, в чем дело», – снова беру в руки листок. «Володю убили на границе». Володя? Муж, брат, любимый? Ах, Володя! – «Откуда знаешь?» – «Товарищ его прилетел в Москву, звонил». – «Сбили? Может, еще на парашюте спасся?» – «Нет, он с ним в паре был, ястребок в воздухе взорвался, от прямого попадания». Что-то проясняется... Мальчишка я против этой трагедийной глазастой девахи. Губы кусает, молчит, а слезы катятся. Градом. Наконец выдавливает: «Я должна отомстить, я снайпер, знаешь ведь». – «Хорошо, Машенька, все что могу, сделаю... Ах, Володя, Володька... Как же это? Я бы и сам за него... Три раза из военкомата выгоняли...» Что-то черкаю на ее листке, протянул. «Иди, возьмут». Встала, обняла, прижалась и... поцеловала. «Спасибо. Прощай». И величественно удалилась за кулисы. И такое наваждение, такой от нее нервный заряд, что чувствую, у самого закипают на глазах слезы. Закусил губу, зло утерся ладонью, носом шмыгнул. А зал словно провалился – тихо-тихо там. Кинулся было за «Машей» и тут вспомнил, что предыдущие девы установили прямо у мена на дороге свой «таз». Чертыхнулся, якобы споткнувшись, глянул вверх, подхватил «на память физических действий» этот несуществующий таз и оттащил за кулисы, чтобы больше не мешался. Зал оживился и вдруг... зааплодировал. Встал я столбом и совсем не знаю, что дальше делать. Слава богу, вкатился кто-то следующий, и поехало дальше. А «Машу», хотя звали ее Женей, так все годы и именовали на курсе Машей... Короче, приняли меня. И сразу же выбрали комсоргом курса, памятуя мое «секретарство» на этюдах. Судьба. Ведь был я самым младшим на курсе.
Так подробно описал предыдущее не из желания похвастать, что-то присочинить, просто очень уж врезалось в память.
И начались наши студийные будни. Экзамены по «общеобразовательным предметам» были проформой, никто не обращал на них внимания: сочинение, литература, история, география. Многие забыли про это и думать. И с языком то же самое – я вроде бы должен был сдавать немецкий, а в студии «изучали» французский, так немецкий даже некому было принимать. Француженка, Ада... отчества не помню, Владимировна, кажется, – молоденькая тогда была, только-только ИнЯз окончила. От нее у меня умение ярко артикулировать, французский прононс. Совсем недавно, в 1989 году, праздновали какой-то ...летний юбилей училища, и по телевизору показывали старейших преподавателей, среди них мою «француженку». Очень было приятно.
Студиец
Предыдущую главку назвал я «Театр», а эту, вполне обоснованно – «Студиец». Это не значит, что собираюсь здесь вспоминать лишь о перипетиях своей театральной учебы. Отнюдь. Следует и самому разобраться, какую роль в жизни моей сыграло приобщение к лицедейству. Ведь – пять лет учебы, да три театральных сезона – в общей сложности восемь лет сознательной деятельности отдано сцене. Разве малый кусок? Как повлияло это на меня? Что дало, чему научило, что отняло? Кроме того, театральная моя судьба прервалась было армейской службой, а потом и вообще закончилась. Ушел в совершенно другую сферу, отбился от романтического отношения к театру, от служения ему. Жалею? Индифферентен? Рад, что так вышло? «Жизнь дается человеку только один раз...» Помните? Моя начиналась совсем в другом ключе. Теперь-то, в шестьдесят с хвостиком, уже ничего не изменишь. Доволен? Пожалуй, да.
На об.: "зима 48г."
Не обольщаюсь известным высказыванием Нерона: «Мир потерял в моем лице великого артиста» – кажется, так. Нет, не потерял. Мир ничего не потерял. А я? Потерял ли? Возможно. До сих пор, как задумаешься об этом, бывает достаточно больно, что переменил профессию. Ослабла какая-то струна, какой-то стержень внутри сломался. Наступило разочарование, пришло неверие в свои силы и возможности. Ну и, конечно, условия бытия, даже элементарного быта подтолкнули. Не получился из меня актер. А ведь и до сих пор, правда, все реже и реже, приходит ночами один и тот же сон: стою в кулисе, на выходе, сейчас будет нужная реплика и – на сцену. И вдруг ужас – не помню ни единого слова из роли. И тут же успокоение, уверенность: выйду, посмотрю в глаза партнера, и все тут же придет в норму, включится какой-то механизм подсознания, он все знает, все помнит... И еще об одном, прежде чем вернуться к хронологической канве своего повествования, скажу: лет пять после ухода со сцены не мог посещать спектакли. Не завидовал – горевал... И еще – видел все огрехи, оговорки актеров, накладки, несерьез, то, чего непрофессионал обычно не замечает или на что не обращает внимания. И с режиссерской концепцией новой не соглашался, и с тем, как вылепил на данном тексте свой образ актер... Мучительно было сидеть в театральном кресле. Теперь это совсем ушло.
«Театральные» мои успехи – невелики. Особого таланта, как выяснилось уже в процессе учебы, я не обнаруживал, плыл по течению, не особенно задумываясь над природой творчества, конечно, собственного. Детский свой разум не умел поставить на службу тем, пусть небольшим, способностям, которыми, наверно, обладал. Не могли же мои экзаменаторы так дружно во мне ошибиться?! Жаль, что лишь много позже, уже окончательно уйдя со сцены, понял я это... Кроме того, актерский труд, как и всякий другой настоящий труд, предполагает не только умение, но и все то, чему могут тебя научить. Не только внешние данные, требуется еще любовь, подвижничество, необходим своеобразный, доверчивый ум и постоянная готовность тащить все в копилку своей памяти... Вот писательству, уверен, выучить нельзя. Актерству, к сожалению, можно. Вполне приемлемому лицедейству, чем и пользуются сотни и сотни плохих актеров, ежедневно выходящих на подмостки.
Если к актерскому труду подходить рационально – не получится. Театром нужно заниматься постоянно, изо дня в день, не прерываясь ни на минуту, не отвлекаясь ни на какие другие заманчивые дела... И фантазировать, и ставить себя в предлагаемые обстоятельства, и постоянно импровизировать, подглядывая в жизни любые нужные тебе черточки образа. Знать и применять не только разработки Станиславского, не только верить и молиться на его систему, не только понимать и принимать великое триединство Евгения Вахтангова, – актер, зритель, современность, – но и ощущать их в собственном сердце как глубочайшее убеждение, как десять заповедей, хранящихся в душе верующего. И неукоснительно следовать. И еще – актеру необходим наставник, учитель, которому ты безоговорочно веришь, режиссер, способный не только увлечь тебя своим замыслом, но и заставить работать над собой. Как и всякий иной творческий труд, актерский требует всего тебя целиком, все твои мысли, все чувства, все мечты и способности. Но успех его зависит далеко не от одного тебя. Мало владеть своим телом, голосом, мало быть способным верить в «предлагаемые обстоятельства». Гример выдал тебе неудобный парик, рабочий сцены неточно установил фурку, и зритель тебя не видит, осветитель плохо прицелился в тебя лучом «пистолета»... да мало ли еще компонентов спектакля, от тебя не зависящих: дрянной текст, отвратительная акустика зала, бездарный режиссер, не умеющий или не желающий общаться партнер... Но в ответе лишь один ты – актер...
Кто знает, повернись жизнь по-другому, может, и вышло бы из меня что-то путное. Человек я эмоциональный, доверчивый, фантазер. И двигался прилично: фехтовал, танцевал, акробатикой занимался, вертел сальто, делал кульбиты. И ритмика давалась, и наблюдательностью бог не обидел. Но не получилось. Винить могу только себя. Если поначалу своей театральной жизни стремился следовать всем тем требованиям и канонам, которые изложил выше, то впоследствии, в силу разных причин, отошел от них, стал жить так, как живут и ныне тысячи «работников сцены»: вызубрил текст, усвоил мизансцены, затвердил интонации, напялил костюм, приклеил, если надо, усы и бороденку – образ готов. А души не вложил, и потому никого твоя игра особенно не волнует, хотя вроде бы все грамотно, все на уровне, никаких претензий ни у режиссера, ни у рецензентов... А зритель... не ходит... И все сильнее крики о «кризисе театра», о конкуренции кино и телевидения. Вранье все это. Никакой экран, ни голубой, ни полотняный – не заменит общения творца-актера и зрителя, чья заинтересованная поддержка, чье неподдельное волнение, ощущаемое актером, поднимает планку творчества на недосягаемую высоту, позволяет отыскивать и реализовывать в ходе спектакля такое, что не снилось ни автору, ни создателям сего театрального действа на репетициях... Примеров тому и сегодня достаточно, как достаточно примеров и прямо противоположному: разгримировался, сбросил костюм – и до следующего спектакля. Ни одна струнка не задета, ни единая «фибра» не дрогнула. Легкая жизнь, ни особых моральных, ни больших физических затрат не требующая, дающая возможность в свободное от репетиций и спектаклей время (а то и во время их!) заниматься чем угодно, от пьянства до донжуанства, от трепа до элементарного безделья. А ведь у каждого амбиции: как же, ведь он – «творец», он – «божьей милостью», посему подавайте ему обожание благодарной публики, лестные отзывы в прессе, соответствующую зарплату... Нет, что ни говори, а скверно быть «средним» актером, куда хуже, чем средним грамотным журналистом, даже литератором или художником. Там схалтурить труднее – нашел нужное слово и идешь с ним к народу сам, один. Случается, конечно, что потреплет тебе нервы тупой редактор, неумеха, догматик или приспособленец. Ну так не выйдет в результате твой опус на читателя. А если сам плохо сработал и не удается опубликовать – то и еще лучше. Но главное: все это ты сделал, сам создал, сам за себя и отвечаешь. А в актерстве? О первачах, о «ведущих» – не говорю. Им легче – и роли, где можно развернуться, и ореол любимцев публики... У таких людей уже наработано специфическое обаяние, талант их помножен на тщеславие, примелькалась счастливая внешность. Не отрицаю и таланта, совпадения твоей сущности с тем образом, который играешь... А бывает и «случай» в начале театральной карьеры, когда заметили тебя, не обошли ролью... Да мало ли что еще... А вот средненький, посредственный, может, и не портящий спектакля, тот, о котором пишут: «...и другие», тому скверно живется. Ролишка незаметная, драматургический материал оставляет желать лучшего, режиссеру на тебя плевать – лишь бы разборчиво реплики подавал. А сам еще не умеешь зацепить партнера, смотрит он на тебя пустыми плазами, чувствуешь всю фальшь ситуации, загнан на второй, а то и третий план, и никому до тебя дела нет... Ой, скверно! Пусть из поколения в поколение передаются в актерской среде анекдоты, как потрясающе сыграл «Дядя Костя» – великий Варламов – бессловесную роль одного из гостей Лауры на бенефисе Веры Федоровны Комиссаржевской. Тогда бенефициант сам распределял роли, а для Дяди Кости ее не оказалось, кинулась Комиссаржевская к нему, извиняется, чуть не плачет – ну как играть бенефис без «любимца публики»?! Без Варламова? Он успокоил: «Я гостя сыграю, не волнуйся, Верочка». Открывается занавес, поет Лаура великий свой романс: «Ночной зефир струит эфир...» А публика гогочет, ничего не слушает. У самой рампы, лицом к зрителю, развалясь в кресле – гигантская фигура Варламова в трико и буфах. Достал он из необъятного гульфика огромное яблоко и кусает, грызет его одним зубом – все остальные зачернены. Пыхтит, наслаждается. Ну, конечно, хохот. Но это же великий дядя Костя, это же Варламов! Потрясающий, любимейший. Ему можно. А попробуй-ка ты. Из театра вылетишь...
К чему я все это пишу? Оправдаться хочу? Найти причины своей неудачливости? Свалить на обстоятельства тот факт, что не получилось из меня актера? Возможно. А может, просто потенций не хватило, может, действительно бездарен был? Тоже возможно. Все-таки три сезона появлялся на сцене. Кое-какие рецензенты местных газет даже отмечали: «...в роли комсорга Виктора Ромейко... или там – Саула в «Пряничном сундучке» органичен и обаятелен был молодой актер Георгий Герасимов...» Спасибо и на этом... Молодой, с каким-никаким темпераментом, вот и тянули меня режиссеры на героя-любовника, а я все о характерных ролях мечтал, с наслаждением купался в образе какого-нибудь Жевакина из гоголевской «Женитьбы»... Однако это все было уже после учебы, уже в театре. А в студии? В студии тоже не блистал, хоть и очень старался. Что ни говорите, как ни предавайте анафеме «амплуа», «типажность», но только редкие актеры, настоящие большие артисты, выбиваются за их рамки, решаются нарушить каноны, с внешностью типичного «характерного» берутся за «героя-любовника» и убеждают, побеждают, завоевывают зрительскую симпатию. Так на то они и Таланты. А середняк – знай свой шесток... А ведь было желание, было стремление. Из студийцев не всех посылали в театр, играть массовки. Мне повезло. Был я в Вахтанговском и мушкетером, и мавром в «Сирано», и слугой, воином и боярином в «Великом государе», солдатом и рабочим в спектакле «Неугасимое пламя», который едва один сезон удержался на сцене. Приходил за час-полтора до спектакля, гримировался (какие носы клеил!), одевался, с верой и любовью смотрел на всяких полководцев и ораторов, обращавшихся к нам – бессловесной массовке. Кому было дело до позы убитого мавра, лежащего на бруствере окопа? Кому нужен был его «африканский» грим, ежели в эти мгновения шел занавес и все внимание зрителей сосредотачивалось на раненом, опирающемся на шпагу герое-поэте, оплакивающем своего погибшего друга? И все-таки, все-таки! Как-то замечательный Сергей Лукьянов (герой «Кубанских казаков», он тогда играл в Вахтанговском, потом ушел во МХАТ) обратил внимание на раненого, с рукой на перевязи солдатика, на пожилого рабочего, в толпе других восстанавливавшего «гигант на волжских берегах», заглянул к нам в гримуборную, посоветовал сменить парик, даже несколькими штрихами поправил грим на моей мальчишечьей физиономии. И на сцене, произнося свои зажигательные речи, частенько смотрел на меня, обращался ко мне. Спасибо вам, Сергей Владимирович! Как же я тогда старался. Ради него. День и ночь готов был вкалывать на «сталинградском тракторном». С каким восторгом аплодировал и орал «Ура!» вместе с остальн
Друг - Арон Абрамов. На об.: "Лучшему Другу и Товарищу дорогому Егорушке Г. от Арона А. Москва 1947 г."ыми рабочими и солдатами...
А как-то случился со мной в театре один казус, не очень-то замеченный другими, но меня просто чуть не убивший. Идет спектакль «Великий государь» Соловьева. В роли Ивана Грозного (один из самых «модных» образов в последние годы сталинщины) Иосиф Моисеевич Толчанов – солдат Иван Шадрин в «Человеке с ружьем», достойный партнер великого Щукина – Ленина. Меня отец на этот спектакль еще до войны водил, я до сих пор помню, как из глубины сцены шел по коридору Смольного живой Ильич, и зал с громом оваций поднимался, встречая его. Значит, играл Иосиф Моисеевич – Ивана Грозного, а у нас в училище вел он третий курс (я тогда уже был на втором и в качестве добровольного помрежа помогал старшим товарищам). Знал он, короче говоря, меня. К чему я все это рассказываю? А чтобы было понятно дальнейшее. Начну с того, что у дружка моего Арона Абрамова была подружка Фирка, а у той младшая сестренка Ирка. Познакомились мы, когда этой Ирке было лет тринадцать, и мы в нашу «взрослую» компанию ее не очень-то допускали. Было сие еще году в сорок пятом. К описываемому времени Ронька с Фиркой встречаться перестали, мы с ней года полтора вообще не виделись. А жили сестры на улице Алексея Толстого, т. е. в районе, очень близком к переулку Садовских, где играл тогда Вахтанговский. Именно в это время ходил я из студии, с Арбата, на вечерние спектакли, когда в массовках участвовал, когда просто так, провести вечер свободный, благо никаких билетов или контрамарок мне теперь не требовалось: хочешь – иди через «артистический», хочешь – через главный подъезд, контролеры, билетеры и сторожа уже знали: свой.
И вот в один прекрасный вечер сталкиваюсь у театрального подъезда с Иркой. Уже «девица». С подружкой. «Егор, а не достанешь ли билетика?» Гордо сунулся в окошко администратора, дали мне пропуск на два лица... Как-то еще раз провел эту парочку... и еще. Уж не караулят ли они меня у театра? В те годы повальная болезнь шла по Москве – «поклонничество». В Большом воевали «козлихи» и «лемешихи», у нас безумствовали поклонницы Надира Малишевского, Анатолия Горюнова... После финалов подносили цветы, орали, встречали возле «артистического», провожали домой. Визжали, хлопали, кажется, даже до драк доходило: чей кумир талантливее... Конечно, вызывали и Толчанова, и Абрикосова, и Кольцова... И вот финал «Великого государя», на сцене апофеоз: царь Иван Васильевич в окружении бояр, дьяков, рынд принимает у Ивана Кольцо – ермаковского есаула – «Царство Сибирское». Аплодисменты, крики, занавес. На первое открытие занавеса должны были оставаться все участники сцены, потом – только главные персонажи. Массовка смывалась разгримировываться. Представьте лишь себе мой ужас, когда в разноголосице восторженных вызовов, в грохоте овации различил я вдруг визг – «Герасимов!» Сомкнулся занавес. Я зайцем за кулисы, а Иосиф Моисеевич – цап меня за рукав: «Постой! Тебя вызывают». Ни жив ни мертв стою рядом, а два девчачьих голоса орут: «Ге-ра-симов!» С ума сойти. Мое имя даже в программке не указано: «В ролях рынд, служек, бояр, монахов – учащиеся школы-студии имени Б. В. Щукина...» С тех пор добирался к театру крадучись, проходными дворами, оглядываясь, и чуть ли не бегом нырял в артистический подъезд... Но за «поклонниц» мне не попало. Никому Иосиф Моисеевич о моем позоре не рассказал.
Учился я в студии с радостью, с наслаждением. Самозабвенно. Какие у нас педагоги были! Как обожали мы их! Кроме Анны Алексеевны Орочко – трагической вахтанговки первого призыва – Зельмы в «Турандот», работали с курсом острый комедийный актер Липский, Зоя Бажанова – жена поэта Антокольского, первая красавица Москвы тридцатых годов, женщина и актриса трагической судьбы – Вагрина, Понсова, Алексеева, Русинова, Львова, Владимир Иванович Москвин – самый любимый мой учитель, сын Ивана Михайловича, – цвет вахтанговцев старшего поколения, учеников самого основателя Евгения Багратионовича Вахтангова, тех, кто в двадцатые и тридцатые годы были признанными кумирами театральной Москвы... Историю театра, а был у нас и такой предмет, читал студийцам Хрисанф Херсонский – автор книги о Вахтангове, зачитанной нами до дыр, западную литературу – блистательный Александр Сергеевич Поль (о котором я уже упоминал), русскую – профессор и театральный критик Павел Иванович Новицкий. Человек большой эрудиции, знаний, но... до ужаса занудный. Так тяжело и замысловато формулировал свои мысли, что следить за ними было предельно трудно. На нашем курсе лекции его почти никто не мог слушать внимательно. Не воспринимали, щипали себя, чтобы не заснуть. Я садился на переднюю парту, вернее, за передний стол, прямо перед его кафедрой, и глядел ему в глаза, каким-то шестым чувством понимая, что ему необходим слушатель, внимательный слушатель. И он, как мне казалось, с благодарностью ловил мой взгляд и читал «для меня». Но и я лишь минут десять-пятнадцать сосредоточенно выдерживал поток его длиннющих периодов, а потом, безмолвно извинившись, на минуточку отводил глаза, устраивая себе «передышку» и лишь после вновь возвращаясь на лекцию. Чему только не учили нас – и фрак носить, и грассировать, и вообще правилам хорошего тона: как вести себя с дамой, как и в какой последовательности здороваться, входить в дверь, какими ножами и вилками пользоваться во время званого ужина... На богато сервированном столе рюмки, бокалы, фужеры, несколько разных ложечек, ножей и вилок, а «блюда» – кусочки нашей пайковой черняшки. Некий Галаган, как считали наши ребята, умудренные опытом, не без свойственных некоторым балерунам «моральных отклонений», учил нас и средневековой «паванне», и парижскому канкану, и, конечно, классическим <балетным> позициям, станку, народным па. Фехтование вел актер театра Немеровский, мастер спорта по этому виду... На шпагах и рапирах, с кинжалами и фонарями, с плащом, намотанным на кисть левой руки так, чтобы в нужный момент можно было швырнуть его в лицо противнику, на саблях... На уроках ритмики учили не только чувствовать «восьмушки и шестнадцатые», не только двигаться в различных ритмах, но и тому, как имитировать игру на фортепьяно, гармошке, когда мелодия звучит из-за кулис или <из> оркестровой ямы... Уроки дикции и орфоэпии, где тебя заставляли говорить правильно и в то же время учили заикаться, пришепетывать, учили акцентам разноязычным...
Конечно, самым основным, самым главным, самым любимым было «мастерство актера». Тут и манипуляции с отсутствующим предметом «на память физических действий», и задания подсмотреть и в характере показать увиденную походку, и показ «профессиональных навыков» – какого-нибудь повара, парикмахера, слесаря, пианиста... Несть им числа. А этюды на «органичное молчание»? Это когда двое-трое действуют на сцене без слов, и молчание их оправдано определенными обстоятельствами. Думай, студиец, думай! Развитие ассоциативной памяти, мгновенной реакции на неожиданные движения партнера: ап! – и летит вдруг к тебе мяч, а то и палка – успей поймать... Сценическое движение, падения, прыжки... Занимательная, бесконечно интересная игра. И как радовались наши преподаватели, когда в такой игре возникало что-то непредвиденное, высекалась искра правды в твоих действиях, элемент образа. Великая учебная сцена. Моя бы воля, я бы во всех общеобразовательных школах ввел это «мастерство актера».
Будни учения
Думаю, что для полноты картины, раз уж стараюсь я последовательно изложить факты своей биографии, стоит рассказать и о годах учения. В этой главке не будет особых излияний по поводу моей любви к театру, и так уже ясно, что я его любил. Поведаю просто о некоторых порой смешных, а порой и драматических случаях, иногда и о малозаметных происшествиях, оказавших однако влияние на мою дальнейшую судьбу. Как вы понимаете, в основу сюжетов, излагаемых мной здесь, как и во многих предыдущих и последующих главах, положены те самые «Рассказы из сгоревшего портфеля», которые ныне, зачастую конспективно, восстанавливаю я по памяти.
Немало уже говорил я о каких-то своих мыслях, рождавшихся в годы ученияв студии, о том, как воспринимал я актерский труд, театральную профессию. Тут теоретизировать не стану. Тут о буднях тех пяти лет юности, что отданы были театру, вернее – театральной учебе.
Первый курс закончил я довольно прилично. Правда, по основной «профилирующей» дисциплине, «мастерству актера», получил не пятерку – четверку с плюсом, но такая оценка давала право учиться дальше, – тех, кто схватил двойку, отчисляли, троечникам советовали «подумать», стоит ли им заниматься дальше, ну а четверка, да еще с плюсом – сомнений в твоей профпригодности не вызывала. Хотя, конечно, царапала самолюбие и самомнение. Впрочем, где-то весной сорок шестого, уже во втором семестре, мне был выдан приятный аванс – я получил в числе немногих «плюс» за показ «самостоятельного отрывка». В те годы (не знаю, сохранилась ли сейчас эта практика) щукинцы обязаны были ежегодно, уже с первого курса, готовить и показывать «самостоятельные отрывки». Что это такое? По собственному усмотрению и разумению должен ты был отыскать, выбрать в океане мировой драматургии или прозы какой-нибудь отрывок, сценку, драматический диалог на пять-десять минут. Играй кого хочешь: Гамлета, Гришку Отрепьева, Аксинью из «Тихого Дона», какого-то Тита Титовича или Любима Торцова из Островского, Скапена или Сида, Тартюфа или Электру – твоя воля. Из сокурсников подбери партнера или партнеров, сам отыскивай необходимые элементы образа, решай мизансцены, выдумывай «выгородку», костюмы, грим. Сам находи время и возможности репетировать. Никто ни в ычем тебе не препятствует. Где-то во второй половине учебного года назначался день «показа», в репетиционный зал собирались актеры театра, студийцы других курсов, педагоги студии – и лицедействуй. Покажи, чему научился, что усвоил, как оцениваешь собственные возможности. Единственная помощь, оказываемая студией – ее довольно богатая костюмерная – к твоим услугам. Тебе задолго до показа подберут нужный костюм: фрак, мундир, хитон, вечернее платье, – и выдадут на руки: носи, привыкай, обживай...
С последним обстоятельством связано у меня несколько курьезных случаев, не удержусь и хоть коротенько расскажу о некоторых. Галя Когтева – впоследствии многолетняя дикторша центрального радиовещания – я всегда узнаю ее голос – теплый, грудной, ее великолепную дикцию, – упросила меня подыграть ей в отрывке из «Женитьбы Белугина»: она – героиня, я, соответственно, жених-провинциал, явившийся делать предложение московской львице... Не очень мне хотелось Белугина играть, да уж больно хорош был исполнитель этой роли в филиале Малого театра Анненков... Получил я фрак, манишку, брюки со штрипками, лаковые штиблеты, цилиндр, крылатку... Жутко непривычная одежка – спина фрака тянет плечи назад, узкие панталоны не дают свободно ногу в колене согнуть, цилиндр норовит съехать набекрень. А ведь для моего будущего героя это – привычное одеяние, правда, не поддевка с шароварами, но и не совсем уж нечто экзотическое. Белугин, хоть и провинциал, а уже пообтершийся... Все эти мелочи надо учитывать, вплоть до белых нитяных перчаток и хризантемы в петлице... Как же – свататься едет! Короче говоря, напялил я фрак и хожу в нем по училищу, и на лекциях сижу. И никто на тебя особого внимания не обращает, все однокашники невесть во что вырядились, кто в гусарском ментике, кто в венгерке или офицерском мундире, кто в бальном платье, с веером из перьев, кто-то даже в кимоно семенит... Должен чувствовать себя в непривычном, как рыба в чешуе. Глядишь, кто-то из педагогов или старшекурсников кинет: фалды, мол, откидывать, садясь, нужно легким движением кистей рук... А колени, когда ногу на ногу закидываешь, почти не сгибать, а то начнут пузыриться панталоны... И все на ус мотаешь...
Конечно, появляться вне студии во фраке не рекомендовалось, а вот в мундире русского предреволюционного офицера – с золотыми погонами и парой крестов на груди, в фуражке с кокардой, – я рискнул. Вылез как-то в перерыве на Арбат. Тогда по Москве еще много шаталось зарубежных вояк-союзников: англичане, французы, поляки, чехи... Царская форма как две капли воды походила на болгарскую. Никто и внимания не обращал, хотя Арбат – улица «режимная». Тянешься перед военными старших чинов, отдаешь честь, прикладывая два пальца к козырьку, тебя приветствуют младшие по чину... Только не зевай, будь внимателен. И патрулю лучше на глаза не лезть. Идет поручик, в левой руке белая перчатка, правая – приветствует, шаг четкий, спина прямая – иностранец. Чудное ощущение себя как не себя... Однажды вылез я на улицу в мундире реалиста – не гимназиста, с поясом, «золотыми пуговицами», в фуражке с гербом и номером гимназии на погончиках, а именно реалиста – реального училища, уж и не помню, кого тогда изображать собирался (мы ведь не по одному отрывку играли – какой-то свой, основной, а в каких-то подыгрывали). Мундир был серого мышиного цвета, запахивался наискось через грудь, однобортный, на крючках. Выскочил я в нем на улицу, и тут же окружили любопытные. У нас в стране тогда мания шла – всех в мундиры обряжать... «Это что же за форма?» – спрашивают. – «Да вот, студентам университета, – говорю. – Не точно еще. Испытываем...»
Что касается белугинского фрака, то он подсказал нам тему довольно веселого розыгрыша. Как я уже неоднократно писал здесь, особых туалетов у меня в то время не было. Даже костюма приличного. Из полученной по распределению курточки с капюшоном – из «американских подарков» – я вырос, ходил в перекрашенном кителе из немецкого сукна и клешах – «под морячка»... А тут Ронька приглашает в одну незнакомую компанию, Новый год встречать. Вот фрак и крылатка и дали мне возможность произвести фурор. Разработали мы с Ароном некую малоправдоподобную легенду: дескать, я совсем не знаю русского, всю жизнь провел... в Англии, хотя сам русский, советский. Родители еще в конце двадцатых в качестве резидентов засланы были туда, а так как им не очень было с руки заниматься малышом, то воспитывался я в закрытом пансионе и до последнего времени даже не знал, кто такие мои предки: бывал в их доме только на каникулах – так, мелкие бизнесмены, говорили со мной только по-английски, – конспирация. А после войны их отозвали, так что я только-только приехал. Надо сказать, что умел я имитировать звучание чужого языка – читал чеканные строфы Руставели по-грузински, с цоканьем, с горловым «кх» и т. д., читал «Гайавату» Лонгфелло, основываясь на ритмике бунинского перевода, натурально грассировал и артикулировал, произнося с шиком несколько известных мне французских фраз... И вовсю «болтал» по-английски, вплетая в речь огласовку слогов и некоторые всем известные слова типа «плииз», «хау ду ю ду» и прочее. Английского, как вы понимаете, тоже совсем не знал, так – несколько словечек. Но не знали его и остальные, хотя кое-кто лет пять долбил в школе... А вот по звучанию могли определить. На этом убеждении мы и построили свой замысел, мою легенду, подкрепленную фрачной парой конца девятнадцатого века, белоснежной манишкой и искусственной хризантемой в петлице. Ронька заранее подготовил хозяйку дома, что приведет «гвоздь вечера», парня, который ни бум-бум по-русски, но зато прекрасно знает Англию, где прожил всю жизнь... Звали меня «Джордж», а фамилия так и осталась: «Герасимоф», правда, сам я узнал ее недавно, а до этого был просто «Смит».
Появились мы, когда все гости были уже в сборе, даже сели за стол. Встретили нас торжественно, Ронька «по протоколу» представил меня присутствующим, я церемонно раскланивался, вернее, кивал головой и твердил свое «Джордж», «хау ду ю ду», «вери гуд» и прочее. Во все плаза смотрит на меня одна деваха – не обратить на нее внимания просто грешно. Рыжая-pыжая, с конопушками на белейшем лице, голубыми глазами и черными бровями. «Рэд, рэд, – восторженно забормотал я, – мисс Рэд!» и далее невесть что. Она смотрит на меня, на Арона, он, как было договорено, начинает переводить. А надо сказать, что Арон единственный в этом обществе действительно кое-что знал: как вы, может, помните, его мама Ревекка Марковна работала в «Метрополе» и говорила по-английски. В детстве пыталась кое-чему научить сыночка. Ронька вольно переводит мои комплименты «мисс Рэд», она заливается краской. Нас усаживают рядом. Майка-рыжая, как зовут здесь эту девицу, млеет, ухаживает за мной, подкладывает на тарелку вкусные кусочки, играет радушную хозяйку. Хотя все уверены, что и вправду не знаю русского, выясняется, что могу произнести «спасибо, карашо, счастливого Нового года – хэппи нью йир...» Завязывается беседа. Пытаюсь что-то рассказать про «Ландн, Пикадилли, Ист-сайд... Черчилл, Бевин, Гайд-парк, Веллингтон, Нельсон, Монтгомери...» Хрен знает что болтаю. Арон, сидящий по другую руку от Майки, усердно «переводит», но, сдается, у него еще меньше сведений о современной Англии, чем у меня, а вопросы сыпятся со всего стола. Перехожу к Франции, где якобы неоднократно бывал еще до войны, о Париже, который посетил летом этого года. Восхищаюсь Эдит Пиаф – отец привез Арону ее пластинку, и мы неоднократно слушали... «Прозит, прозит!» – рюмка за рюмкой, но чувствую, Арон совсем зашивается. Вдруг Майка открытым текстом выдает через стол хозяйке дома, что «этот мальчик» ей безумно нравится: вежливый, мир повидал и совсем не дерет носа. «А до чего же хорош!» Хорош? Вот уж никогда о себе такого не думал: худой, гривастый – волосы, правда, густые и волнистые. Глаза сидят глубоко, в общем – ничего особенного. А тут слышу: «Парень что надо. Люкс. Интересно, умеет ли он целоваться?» Целоваться я уже умел, Полинка научила, да и Фая занималась со мной этим предметом. А Майка хозяйке – я бы, мол, не прочь... Как там в Англии целуются? Не дожидаясь Ронькиного перевода, повернулся к ней, обнаглев, забыв весь свой «европейский имидж», приобнял за плечи, привлек к себе и... прямо в губы, при всем честном народе! Застолье замерло, а я, оторвавшись наконец от горячих майкиных губ, на чистом русском выразил ей свое возмущение, как это могла она усомниться в моем умении! Во, хохоту было!.. А с Майкой мы потом несколько раз встречались... Меня вообще любили таскать в компании. Не знаю уж откуда, но умел я вести стол, «тамадить», травить анекдоты, острить. Сия способность сохранилась до сих пор. Но в те годы очень ценилась в наших кругах: «с ним не соскучишься» – одна из самых лучших рекомендаций. А я и правда умел сыпать анекдоты и прибаутки длинными сериями: модными тогда были «об офицерских женах», «о сумасшедших», «о пьяных», «еврейские», «французские» – на грани приличия, но все-таки не переходящие за эту грань, «английские»... Ей-богу, был такой случай в моей жизни, что рассказывал я анекдоты двенадцать часов подряд без перерыва. Повел вечером двух подружек, одна из коих мне нравилась, на берег пруда под Новодевичий монастырь. Тогда там доживали свой век огромные, еще петровские ивы, некоторые совсем уже склонились над прудом, и я несколько раз проводил там теплые весенние ночи, встречал рассвет, сидя на могучих, почти горизонтально простершихся над водой стволах. Рассказал девчонкам о своих «романтических» переживаниях, о коротких уже ночах под стенами древнего монастыря, видевших и Петра, и Софью, и повешенных после бунта стрельцов, и о солнце, встающем над Москвой-рекой... Они и выразили желание провести там ночь... Отправились мы с Арбата пешком часов в восемь вечера, и пока шли, рассказывал я анекдоты, а потом сидели на полюбившейся мне иве, ждали рассвета – я все не умолкал. Рассвело, а я все говорил и говорил, потом проводил их домой, жили они в одном из арбатских переулков, и долго еще стояли мы у подъезда, а трассирующие серии анекдотов все вылетали из меня, словно из крупнокалиберного пулемета... Трепач был – будь здоров. После этого рандеву сразу отправился в училище на занятия. Так-то.
Хочется включить сюда еще один рассказ, связанный с моим «умением» развлекать компанию. Летом сорок седьмого Алексей с Мариной-Миррой вернулись из Германии после двухлетней службы Алексея Новикова в оккупационных войсках. Он уже был полковником и командовал отдельной авиационной дивизией, жил в каком-то чуть ли не графском особняке, покинутом хозяевами, и вывез оттуда два вагона «трофеев». В Москве назначили его в один из отделов ВВС, и одновременно, а может, и несколько позже, стал он учиться в Академии. Очень ему хотелось стать генералом, что позже и произошло. Но не о том речь. Осенью сорок седьмого страна отмечала грандиозную дату – 800-летие Москвы. Повод для еще одной великой пьянки. Как я уже писал, полковник Новиков пристрастился к бутылке, и даже мои посещения служили оправдательным поводом, чтобы на столе появлялась белая головка. А тут «восьмисотлетие». В их отделе намечался великий вай. Не помню уже ни имен, ни фамилий его сослуживцев, буду называть их по званиям. Во главе стоял некий генерал-лейтенант, тоже Герой Советского Союза, было несколько генерал-майоров, полковники, подполковники, даже пара молоденьких шибко орденоносных майоров. Все они с чадами и домочадцами составили внушительное общество – человек под сорок. Герои-летуны, как правило, не старше coрока пяти, а то и едва за тридцать переступившие, могутные, хорошо откормленные, холеные, с бычьими шеями, и их драгоценные, в полном смысле слова увешанные трофейными побрякушками дородные жены, расфуфыренные, многие давно знакомые меж собой. Кое с кем я встречался у Миррки, и в их среде возникла мысль залучить на праздник и меня, хоть и был я инородным телом, но мирркин брат и к тому же молодой и веселый. Что ждать от своих кавалеров, они уже знали – налижутся и «поминают былые подвиги», про что слышано уже не раз... Да песни ревут... А тут «свежий кавалер». Короче, попал я таким макаром в их тесный круг.
Праздник замышлялся широко. С полдвенадцатого и до следующего утра. Сдав маленького Алешу на руки бабушке – Марии Сергеевне, приехавшей из Херсона к младшей дочери блюсти полученную ими еще до отъезда в Германию «жилплощадь» – две огромных комнаты в барской квартире на Петровском бульваре, мы – Алексей, Миррка и я – в персональной машине Новикова отправились в полдвенадцатого к генералу – начальнику его отдела. Квартиру генерала описывать не стану, поверьте на слово – она ошеломляла. Огромный холл, шесть-восемь комнат? – запомнились лишь зал-столовая, кабинет-библиотека, гостиная... Это при нашей тогдашней московской скудости на жилье...
Приехали. Компания в сборе. Но хозяйка объявляет, что стол еще не готов (как потом выяснилось, в кухне колдовал «шеф» из какой-то генеральской столовой, а обслуживал «мэтр» оттуда же, ему помогали «вестовые». Ух...) Генерал сделал с восторгом встреченное заявление: в пивбаре «Иртыш» (там, где сейчас «Детский мир» на проспекте Маркса) заказан им зальчик, так что пока дамы хлопочут, можно совершить туда экскурсию. Загрузились мужики в несколько машин – и наши «эмки», и БМВ трофейные, у каждого свой водитель, – и поехали в центр. День праздничный, у входа в погребок толпятся жаждущие, но нам – зеленая улица. Зашли, уселись. «Ну что, по полдюжинки для начала?» И раков. На столе тут же кружки с пивом, блюдо раков, еще не виданная мной соленая хрустящая соломка. Больше трех кружек пива зараз я еще в жизни не принимал. Смотрю, мои коллеги всосались, и кружка за кружкой пустеет, только затылки краснеют. Выцедил я кружки четыре, разломал несколько клешней раковых. Больше не лезет, а кто-то уже предлагает: может, еще по паре? Ладно, ребята, обед ждет, там добавим. Какой-то час и посидели. У нас с Ароном был кое-какой опыт, заглядывали мы в бар на Пушкинской – пара пива тридцатка. Это вместе с закуской. И сидишь, развлекаешься часа два-три... А тут... Повылазили, погрузились, поехали.
Столько раз повествовал я в веселой компании про сие застолье, писаный рассказ у меня был о нем же, а вот сейчас вспоминаю и не могу выделить главного, что поразило меня тогда. Если хорошо подумать, – то впечатление чего-то нереального, фантастического, не имеющего быть, фантасмагоричного. Во-первых, в квартире было... два туалета, так что очередь приехавших быстренько рассосалась. А туалеты? Зеркало, умывальник, совсем тогда неизвестный рулон мягчайшей бумаги и... два стульчака. Один пониже. Для детей, что ли? Впервые в жизни увидел биде... Вообще многое увидел здесь впервые в жизни. Скажем, на огромном блюде целый поросенок – пуда на два, батареи бутылок, хрусталь, три сорта тарелок, вилки, вилочки, ножи, ножички, спасибо урокам хорошего тона в студии, кое-что уже знал... Кавалеры чинно ведут дам к столу, отодвигают им стулья, усаживают, мэтр из-за спины наливает в рюмочки, а их у каждого прибора штук пять разнокалиберных, и объявляет громогласно: хрен к рыбе, горчица к мясу. На столе жареные куры, гусь печеный, огурчики-помидорчики, салаты... Стол огромный, овальный, персон на сорок. Поначалу все так чинно, тост за любимого вождя, «Вам положить?», «Может, ветчинки?», «Спасибо», – высший тон. Бомонд! Окинул я взглядом этот стол и, ей-богу, в голове мелькнуло: да разве можно все это съесть и выпить? Ведь только что приняли по полдюжине пива... И покатилось застолье. Сначала мэтр и вестовые из-за спин подливали, тарелки меняли, а потом пошло-поехало: водку в фужеры, свинину – руками, гвалт, хохот. Малость я осмелел, какие-то анекдоты стал сообщать, а потом обнаглел и серию про «офицерских жен» выдал. Ничего, смеются. Какой-то полковник с противоположной стороны стола: «Вот тебе, парень, задачка, как реку взводу в брод перейти, только чтоб главное место не замочить? А?» – знал я, конечно, эту нехитрую солдатскую покупку, но вида не подал: «Не знаю», – говорю. «А вот в цепочку построиться и каждый впереди идущему...» Тут должен последовать недоуменный вопрос несведущего: «А первому как же? Кому?» Задаю. «А тебе!» – и гогот. Купили... А что рядом жены, что все тут поначалу этаких джентльменов изображали – совсем забыто. Морды красные, жир течет, горки костей на скатерти перед каждым. Появляется кто-то из вестовых с аккордеоном. Хозяйка: «Гости дорогие, может, в гостиную перейдете, пока стол сменим?» А стол действительно – как Мамай по нему прошел – все сожрали. Ну и горазды! Поплюхались в гостиной в полукреслица, на диваны. «Петька, сделай цыганочку!» – молодой, чернявый, в ладно подогнанной гимнастерке, получив из рук «хозяина» стакан, опрокинул в себя, пошел с выходом. Потом попели «Стеньку Разина» да «Шумел камыш» – слаженно пели, верно, не впервой. Снова к столу зовут. Блюдо с осетром, бок белужий, икорка черная и красная, паюсная и зернистая, водка со льда. Неужели и этот стол прикончат? А ты сомневался?! Дело к ночи. Народ на кучки разбился, кто как развлекается: некоторые допивают, рыбкой заедая, кто-то уже выбрался из-за стола, порыгивает, кто-то, явно облегчившись по методе римских патрициев, несколько побледневший, возвращается за стол. Как говорит поэт: «...и раздается женский визг...» Я тоже покинул застолье. В холле полутьма, из одного угла доносится: «Чего ты, сука, с ним обжимаешься? Не видал, что ли?» – я скорее шмыгнул в туалет и уже не вернулся в столовую – в глубине коридора, за полуоткрытой дверью слабый свет – все стены в книгах: энциклопедии, словари, альбомы, собрания сочинений еще в дореволюционных изданиях. Чинно, в шкафах под стеклом. На письменном столе два телефона, модель ЯКа на взлете, замысловатый чернильный прибор. Кабинет хозяина? Потихоньку прикрыл за собой дверь. Кто-то сзади обнял меня, прижались к спине горячие груди. «Егорка! Да ну их, пойдем к нам, посидим? Миррка говорила, что ты у нас артист. Расскажешь чего». Кто-то из молодых дам тянет за собой в хозяйкин «будуар». Там девишник – в вольных позах сидят – переваривают обильную трапезу несколько женщин. Смесь запаха пота и французских духов. О том, что происходило далее этой ночью, история умалчивает. Правда, ничего уже не помню. Где-то ближе к утру очутился я у себя, во Владимирском поселке. Доставили. Да не одного: большой бумажный пакет для мамы, – вероятно, Миррка расстаралась, – пара бутылок, икра, фрукты... Больше в этой компании я не бывал. Вскорости мы с Алексеем вусмерть разругались и перестали встречаться. Жаль только было сестру и маленького Алешку. Ему, правда, уже восьмой год пошел, и становился он эгоистичным, заносчивым, обидчивым... Трусливым. Как я тогда считал, плохо его воспитывают, но, верно, немалую роль играли «невидимые миру слезы» матери, пьяные скандалы и слишком большая вседозволенность, выпавшая на долю привилегированного отпрыска Героя и генерала. Очень проигрывал первый мой родной племяш по сравнению с Игорьком и Витькой – тогда еще двухлетним, – детьми старшей сестры Музы. Эти мне нравились, смелые, бесшабашные, родственные. Жаль, к этому времени уехали Штерензоны из Москвы, Борис получил назначение на Украину, и я с тех пор видел его лишь раза два – во время служебных наездов его в Москву, а в конце пятидесятых его не стало. Тоже, как вспомню, – сжимает сердце. Не хватало мне тогда старшего друга, а Борис мог бы им стать. Игорь, подросши, частенько бывал в Москве, виделись, но близости с ним не было, а вот Виктор, младший, хоть и не частый гость, а родной. Светлая личность. Его люблю, да вроде и он меня...
Что-то очень удалился я от заявленной в названии этой главки темы. Ну да кому какое до этого дело. В следующей вернемся в студию, потому и назовем ее, как и эту.
Будни учения. Продолжение
Итак, «самостоятельные отрывки». Что-то вроде самодеятельности, однако уже с элементами профессионализма, ведь «по мастерству актера» мы занимаемся и «памятью физических действий», и «сценическим движением», и «элементами образа – профессиональными навыками», и «сценической речью» – характерными говорками, походкой, которые обязаны подсматривать и подслушивать в жизни и показывать нашим педагогам. Воспитывают в нас и умение сосредотачиваться, концентрировать внимание на определенных действиях (по Станиславскому – большой и малый круги внимания), освобождаться от мышечного «зажима» – это когда от смущения мышцы твои сковывает непонятная сила, на лице возникает идиотская улыбка, жесты становятся неестественными, руки-ноги деревянными. Ты уже умеешь «видеть и слышать» партнера, отвечать на его интонацию, замечать душевные движения, как в жизни.
Представьте себе наше училище недели за две до назначенного показа. Во всех потаенных уголках – на лестничных клетках, где-то в закутках коридоров, в глубине завешанной пальто раздевалки – раздаются вдруг тяжкие вздохи, а то и всхлипы, неестественный смех, полушепот, зубовный скрежет, выкрики... Бедлам.
И вот – показ. Мы с Таней Ленской – да, да – именно так звали мою первую партнершу. У нее была и младшая сестрица – Ольга. (Был слух, что их семья имела какое-то отношение к великому Ленскому из Малого театра – первой величины конца прошлого, начала нашего века. Так ли, нет – не спрашивал, хотя и дома у них бывал. Таня жила неподалеку от студии, и мы пару раз репетировали у нее). Выбрали мы по взаимному согласию кусок из «Как закалялась сталь»: я – Павка, она – Тоня. Вероятно, в мироощущении, поведении и желаниях Павки Корчагина что-то отвечало моим, было созвучно им, так что мне не приходилось особенно выпендриваться. Несколько смущенный рабочий разговаривает с нравящейся ему дивчиной, в чем-то старается убедить ее, что-то понять. Отрывок небольшой, минут на пять сценического времени. Тоня-Таня, естественно, смущалась тоже, отстаивала свое. В общем, что-то получалось. Особых мизансцен не выдумывали. Встретились, поговорили и разошлись...
И неожиданно Павку моего хорошо приняли. Оценок за самостоятельные отрывки не ставили, просто объявляли: такому-то «плюс», такому-то «поощрение», ну а остальные довольствовались самим фактом участия в показе. И все-таки «плюс», а им отмечались лишь два-три наиболее удачных выступления, считался очень престижной оценкой, успехом. Тебя поздравляли, сам себя героем чувствовал. Да и «поощрение» было не лишним – как-никак признание за тобой права претендовать на что-то. И на последующую оценку по «мастерству актера» эти плюсы и поощрения оказывали влияние, не оттуда ли появился «плюс» к моей четверке?
Кое-кто уже после начала занятий вдруг появлялся на курсе. Новенький. В обход всех экзаменов и конкурсов. Мы, прошедшие ад и чистилище этого марафона, относились к новичкам настороженно, присматривались (теперь бы их назвали «позвоночниками», тогда считали просто «блатными» – попавшими по блату). К чести наших руководителей, эти немногочисленные новички оказывались действительно людьми способными и быстро входили в коллектив. А кое-кого, получившего по мастерству двойку, после первого курса гнали прочь. Даже после второго. Получил двойку – и катись колбаской, нечего тебе в театре делать. Ошиблись, принимая... Трагедии.
Показываться можно было не в одном отрывке – в двух-трех. «Самостоятельные отрывки» предъявляли общественности и студийцы старших курсов, хотя уже на втором и третьем все работали над плановыми отрывками, под руководством педагогов-режиссеров, и «мастерство» сдавали уже как определенную заявку на роль в «дипломном спектакле».
Сказать, что курс у нас был очень сильный – не могу. Как-то, в самом начале пятидесятых, «блеснула» в фильме «Кавалер Золотой Звезды» Кира Канаева, даже премию получила, но с тех пор о ней не слышно. Очень красивая была девочка. Первачи наши, пятерочники – Максим Селескериди, Саша Холодков, Тошка Гунченко, Алла Потатосова были после окончания студии приняты в труппу театра, правда, Саша – в Театр им. Маяковского. Максим, выступавший под псевдонимом «Греков», к сожалению, довольно рано умер, хотя, безусловно, получил бы признание, человек был талантливый. Рано умер и Александр Холодков, успев сыграть лишь несколько заметных ролей при Охлопкове и Гончарове. Антонина Гунченко – заслуженная артистка республики – до сих пор работает в театре, но в «звезды» не выбралась. У нее одно амплуа с Юлией Борисовой, которая на два курса старше нас, и несколько специфический «одесский говорок». Алла выскочила замуж за Астангова, играла мало. Из получивших общесоюзную известность могу назвать лишь Всеволода Сафонова – нашего молодого героя. Севка много играл и играет в кино, одна из его коронных ролей – в «Белорусском вокзале». В годы учения звезд с неба не хватал. Счастливая внешность у человека, фотогеничная, рост, голос, улыбка. Парень он был хороший, но особых надежд на него не возлагали. На третьем курсе я подыгрывал ему в отрывке из «Белой березы» Бубеннова, где он точно попал – сыграл разгоряченного боем лейтенанта, что и стало впоследствии его коньком.
Больше «плюсов» я не получал, только «поощрение» – на втором курсе за роль хозяина ночлежки в «На дне» Горького. И оценка моего актерского мастерства за второй курс была – четверка. Четверка – ни рыба, ни мясо. «Хорошо», а «хорошо» в искусстве – это плохо. С одной стороны – гарантия, что не выгонят, но и никаких особых надежд не вселяет. А вот за Колычева в «Василисе Мелентьевой» меня обсмеяли. И поделом. Взялся со своим «опытом» играть страстного любовника, убеждающего в своих чувствах женщину, на которую имеет виды царь Иван... А сам ближе чем на три шага боялся к ней приблизиться. Так, на расстоянии, и убеждал партнершу в своей страсти. Смех! Подбивали меня на «героя» еще некоторые. Но никогда ничего путного не выходило. Я, если бы и стал актером, то только «характерным». Мне надо было уцепиться за что-то. «<Герой>-любовник» из меня не получался, пусть рост и внешность – позволяли.
Не уверен, что моего читателя увлекут эти записки несостоявшегося актера, но уж потерпите – что делать, так приятно все это вспоминать, перебирать в уме, заново встречаться с людьми, многих из которых никогда потом не видел.
Несколько слов о студийцах других курсов – старших и младших. Всех-то нас было едва сотня человек, все знали друг друга. В училище существовал обычай взаимопомощи. Когда я пришел на первый курс, на третьем, в числе прочих, учились: Юля Борисова – пухленькая, глазастая, со свисающими по моде прошлого века с висков туго закрученными локонами; прекрасная актриса театра Советской армии Люся Фетисова, такая русская-русская, с небольшой косинкой, рано умершая; Евгений Симонов – сын Рубена Николаевича. Актер из него был, конечно, не ах, но был он очень музыкален, с большим чувством юмора, заводила всех наших студийных капустников. Четвертый курс в студии отсутствовал – не набирали, театр был в эвакуации. А к нашему приходу училище выпустило еще набранный в сорок первом, в Москве. Они уже работали в театре, но часто появлялись у нас, еще не отпочковались. Помню и люблю Шлезингера – острого, прекрасно двигающегося, впоследствии долголетнего актера театра, заслуженного деятеля искусств, кажется; Женю Рейхмана (Федорова), Якова Смоленского, ныне одного из самых наших известных чтецов, Жарковского, Ронинсона. С хорошей школой актеры. А вот на третьем курсе тогда ярких мальчиков не было – набирали-то в сорок третьем. Да и второй – перед нами – курс не блистал. Единственный из них Артур Эйзен – сейчас народный СССР, бас Большого театра, наш комсомольский секретарь...
А вот следовавший за нами курс – сила! Не говоря уж о самом Михаиле Ульянове, – Михаил Дадыко, Николай Тимофеев – в Вахтанговском, Вилька Вейнгер (фамилия, видать не подошла, кончал в пятьдесят первом) – думаю, самый из них талантливый, как я слышал, отыграл он много лет в Иркутске, Народного республики получил, восторженные отзывы о его игре не раз доходили до меня... Весь тот, после нас, курс – нечто было невообразимое – вместо самостоятельных отрывков они сами инсценировали и сыграли «Двух капитанов» по Каверину! Миша Ульянов играл Саню Григорьева, Вейнгер – <Кораблева>. Это был настоящий, профессиональный, волнующий спектакль. Самостоятельный! Весь курс был занят, все были на высоте. Такого в студии еще не случалось. Сами строили декорации, сами гримировались. Готовый молодой театр. Жаль, что время еще не их было. Они кончили в пятьдесят первом, меня уже в студии не было, но слухи доходили. Тогда в театрах страшный кризис начался, зрители не ходили, дотаций не давали... Не до открытия новых театров. Курсу, которым руководил Юрий Любимов, повезло, они сумели стать «Театром на Таганке», но это случилось уже в годы оттепели...
Из первокурсников, когда я уже был на третьем, запомнился только Ролка Быков, как его тогда называли. Теперешний Ролан Быков. С одной из его сокурсниц у меня намечался «роман», и я немного возился с младшими, даже помогал им что-то ставить, так что, с большой натяжкой, правда, имею числить себя в «учителях» теперешнего народного артиста и депутата... Как-то недавно при встрече напомнил о сем эпизоде Ролану, он не отказался. Посмеялись. Больше сорока лет минуло.
Но возвратимся в студию. Уже на третий курс, ставший для меня в Вахтанговском – последним. Начинался курс очень хорошо. Взял меня к себе в науку Владимир Иванович Москвин, как считалось, лучший педагог студии, все стремились к нему попасть, и было большой удачей, когда он кого-то брал. Тем более – сам. Репетировали мы инсценированный рассказ Горького «Супруги Орловы». Герой-сапожник, его жена, его пьяный быт. Неврастеник. Выжимал из меня Владимир Иванович все, что мог. Только я не многое мог. Наигрывать, нажимать – не разрешалось, сам Гришка мне не очень импонировал, но ведь не оправдать надежд Владимира Ивановича было невозможно. Перечитал трилогию, «Коновалова», другие рассказы, залез и в «Фому Гордеева», и в «Матвея Кожемякина». Все мне было ясно и понятно: и время, и образ, и сверхзадача... А искра не высекалась... Репетируем мы как-то с Галей Серовой в очередной раз. Москвин сидит хмурый, сопит. Вдруг выскочил на сцену и закатил мне оплеуху. В полном смысле слова – дал по шее. Я озлился, обиделся, чуть слезы не брызнули: за что? А он уже кричит из зала: давай! Давай текст! И пошло! Именно то состояние душевное, какое никак не давалось мне. «Запомнил? – спрашивает. – Не запомнишь, снова наподдам». Непедагогично, скажете? Еще как педагогично! Я теперь, как только входил в выгородку: колченогий стол, лохань, табурет с сапожницким инструментом – нога, молоток, старый башмак, – так и закипало что-то внутри. И уже ни о тексте, ни оóмизансценах – ни о чем не думаешь, злишься на жену, на то, что саданул молотком по пальцу мимо гвоздя, что вся жизнь такая скверная, тошная. И жену жалко, и себя, и весь мир. Пошлó!
А второй отрывок вел со мной тоже один из любимых мной вахтанговцев Виктор Григорьевич Кольцов: трубач в «Булычеве», герой-любовник в «Нитуш», в «Сирано», стражник Клюква в «Много шума из ничего» – один из моих кумиров. Упросил я его ставить со мной кусок из «Женитьбы Бальзаминова» – девчонки, приглашенные на роли невесты и ее подружки, Дарья Пешкова (та самая, горьковская внучка) и Слава Словатинская, – сначала фыркали: ну какой из тебя Бальзаминов?! Тощий, длинный, никакой флегмы. Но мы с Виктором Григорьевичем решили образ нетрадиционно. Молодой полунищий чиновнишка? Да. Глуп, как пробка? Да. Мечтатель, фантазер, лентяй? Да, да, да! Но только не пассивный, не сам считающий себя олухом царя небесного. Он-то о себе куда более высокого мнения, он-то, пусть потрепанная, бледная, чутошная и без всяких на то прав – копия Жадова и Глумова: тоже ведь выбивается в люди, тоже решил отыскать богатую невесту. И ведь не из глухого городишки парень – из Москвы, было на кого посмотреть, какие там по Кузнецкому фланируют, – львы, сердцееды, мрачные красавцы. Чем таинственнее, тем сильнее обеспечен успех у дам. А что тут все – пародия, что и сам Митя никакой не «лишний человек», и дамы его обыкновенные квочки – дочери купеческие средней руки, так это пусть зритель понимает. Текст сам за себя говорит. Ведь Митю как принято играть? Толстогубенький, щекастый, до того глуп, что и двух слов связать не может... Да как же он, такой, покорит девицу, о «герое» мечтающую? Но ведь, как подать этот текст, что в него вложить! И стали мы делать Бальзаминова, как задумали. И ведь все на образ ложится! Этакий хлыщ, нагловатый, глубокомысленный, этакий почти «демонический». Как тут устоять купеческой курочке? Благоглупости свои: «А что вам больше нравится – зима или лето?» – с таким подтекстом произносит, будто глубочайшие философские вопросы решает. «Что вы, как можно – зима!» Это же обвинение в незнании основ... И начал я в этом Бальзаминове купаться, все мне было ясно в его задачах, сверхзадаче, характере. Здорово получалось. Сами мы мерли от хохота, и Виктор Григорьевич такое подкидывал, что – ай люли! Поверил я в себя. Правда, никому постороннему еще не показывал, но жило в сердце предчувствие успеха... Однако – не судьба. Но об этом несколько ниже. А сейчас еще об одной веселой стороне нашей студенческой жизни – о постоянных розыгрышах, о приключениях, обо всем том, что составляло нашу повседневную, довольно беззаботную жизнь.
Едва успели мы освоиться в студии, как началась одна из самых занимательных «игр» – стоило нам, двум-трем, очутиться где-нибудь на людях, в нашу игру не посвященных, как начинался треп. Не сговариваясь о сюжете, кто-то начинал громко фантазировать о самых немыслимых происшествиях, другой подхватывал, уточнял, словно сам был прекрасно обо всем этом осведомлен, в разговор встревал третий. Сыпались имена-отчества или фамилии очень известных деятелей театра, кино, литературы, якобы к этим приключениям причастных. Конечно, все это привлекало внимание слушателей, задавались уточняющие вопросы, «пускалась сплетня», или, как именовали мы сие действо по-французски, «бляга». Многие легковерные попадались на крючок, и, глядишь, через неделю от кого-нибудь можно было доверительно услышать расцвеченный собственными фантазиями, обросший множеством подробностей наш сюжет. И треп этот заводили мы не только в студии, а порой и на трамвайной площадке, едучи после лекций на спектакль в театр, где уже со второго курса занимали нас в массовках и платили разовые – тридцатку за выход – недурственное подспорье к невеликой студенческой стипендии.
Не могу удержаться и не привести здесь двух-трех сюжетов, один из которых, утверждаю совершенно ответственно, взбудоражил в свое время всю Москву. Я не раз слышал его от многих людей, абсолютно убежденных в подлинности событий, выдуманных нами.
Ехали мы на задней площадке переполненного трамвая мимо зоопарка. Именно тут Макс – он часто был закоперщиком наших розыгрышей – громко спросил меня: «Ну и как? Видел уже?» – «Ага», – ответил я, тут же включаясь в игру, не ведая, что будет дальше. «Любопытных-то много?» – «Еле протолкался к обезьяннику». «А хороша дамочка», – улыбнулся он. – «Великовата и в шерсти вся, но смотрится», – согласно вступил в беседу кто-то из наших, предполагая, что разговор пойдет о какой-нибудь горилле, раз уж зоопарк и обезьянник. Но гений Макса только набирал высоту. «Великовата! Да они же два месяца ремонтировали – крышу поднимали. Как-никак три метра». – «А груди чуть не до пупка висят», – радостно зафантазировал Литовченко – наш сокурсник-одессит, отличавшийся успехами среди представителей противоположного пола. Смущенный возникшей перед глазами картиной, я яростно ринулся на защиту нравственности: «Черт его знает – то ли человек, то ли обезьяна. Но все-таки неприлично, а вдруг человек?»
Доезжаем до Тишинской площади, здесь обычно выходит много народу. А тут, вижу, почти никто не вылазит, стоят, с независимым видом по сторонам поглядывают, а сами наш треп слушают. Ну мы и льем колокол дальше:
– А малыша ее видел?
– А разве она с детенышем?
– А как же! С десятилетнего парня, но ходить еще не умеет. Я когда пришел, он у матери на боку сидел, в шерсть вцепившись. И мордашка совсем человеческая. У мамаши обросла, а у него гладенькая такая, коричневая.
– Говорят, с Курильских островов их привезли. Там вроде и папаша был, но не дался, удрал в скалы. А и здорова была тетушка, одного пограничника просто пополам порвала – уцепила за ноги – и надвое.
– А может, все-таки дикий человек? Доисторический? Вполне могли они на необитаемом острове сохраниться. Или, считаешь, обезьяна?
– Антропологи утверждают – гоминид. – (Вот ведь какие ученые слова мы знали!).
– Слепая ветвь человеческого рода... Гомо грандиозус.
И так далее, и тому подобное... Слух этот пустили мы осенью сорок шестого. Так нам сюжет понравился, что повторили его как-то в училище, с еще более яркими подробностями. Года два нет-нет, да и доносились до меня отголоски «жуткой истории». Чуть ли не очевидцы находились. И когда много позже, уже в «исторически обозримые» времена, доводилось мне слышать и даже читать статьи про йети – снежного человека – все мне чудилось, что легковерные чуть не слово в слово повторяют измышленную нами легенду...
А как понравится такая байка, тоже сочиненная нашей гоп-командой? Привез, мол, Константин Михайлович Симонов своей Серовой из Америки в подарок отрез какой-то сногсшибательной ткани – самый «писк» моды. Она тут же в одно кремлевское ателье сунулась – вечернее платье шить. Дней через десять должны они были идти на прием к какому-то маршалу – вот и решила удивить Валентина Москву: все бабы от зависти полопаются. Торопила закройщика, чтобы успел к сроку. А у него и маршальская жена шила. Подобрала как-то лоскуток – откуда, мол, кому шьешь? Ну, закройщик, простая душа, все как есть и доложил. Прихватила маршальша образчик и ушла. Кому не известно, что военные дамы Валентину Серову недолюбливали, не могли ей простить, что так быстро забыла своего муженька, Героя, трагически погибшего? Уж не из-за нее ли он и погиб?
Является Симонов с супругой на прием. Платье на ней – закачаешься. Входят в гостиную, а там все стены той тканью обиты. Вставила маршальша фитиля выскочке! И ведь тоже спустя годы слышал от кого-то этот сюжет. Но, положа руку на сердце, сконструировали его мы – добрая половина подробностей мной самим выдумана.
Или вот еще один сюжетец, если не наскучило: он так и был записан мной лет двадцать назад, и назывался «Смерть под ножом хирурга». Коротенько перескажу, а то очень уж заболтался... Кучкуемся перед лекцией в вестибюле училища, возле раздевалки. Перехихикиваемся. Подходит та самая Галочка Когтева, с которой я после отрывок из «Женитьбы Белугина» играл. «Мальчики, посоветуйте какой-нибудь отрывок! – большая, красивая, но наивная до дурости. – Что-нибудь трагическое, современное. А, мальчики? Столько книг пересмотрела, ничего не найду». Как же, смотрела ты книги!.. Максим начинает: «Слушай, Егор, какая-то недавно пиеска была в журнале... Сдается, перевод с английского, – героиня – ну просто вылитая Галка. Господи, да как же она?» – «С английского? Что-то припоминаю. Постой, постой! Прогрессивный американский драматург... Густав... Точно! Густав Синдифёр! В каком же это журнале? Летом вроде...» – «Нет, еще весной. Там еще хирург-негр спасает эту девицу, миллионершу, она в него влюбляется, а ее папаша – против... Ага, вспомнил – «Смерть под ножом хирурга»!» – «Там вот эта сцена – их объяснение. Сила!» – «Трагедия». – «Ой, мальчики, в каком журнале?» – «То ли в «Октябре», то ли в «Звезде»... Нет, сдается, в «Новом мире»... Но точно – весной». «Ослабэлла ее зовут», – вспоминает Макс. – Пожалуй, Галке подошло бы. В ее ключе». Глазищи у Гали загорелись – черные, умоляющие: «Так где же она, эта «Смерть»? Ну же, мальчики!» А мы никак не можем «вспомнить». Галина – на крючке. Теперь не отвяжется. Следующая лекция по западной литературе. Читает Поль, тот самый, блестящий, умница. В конце лекции Галка поднимается: «Александр Сергеевич! Вы такую пьесу не читали – «Смерть под ножом хирурга»? – Она, волнуясь, начинает пересказывать наши враки: операция, негр-хирург, роковая любовь. – Такого прогрессивного американского драматурга – Густава Синдифёра?» – «Синдифёра?» – тянет Поль, вслушиваясь в слово. – «Ну да! А героиню зовут Ослабэлла». «Ах, Ослабела!» – пряча улыбку, косится профессор в нашу сторону. Мы еле сдерживаемся, чтобы не зареготать в голос. Тут и до Когтевой доходит. Она заливается краской и со слезами вылетает из аудитории. Курс веселится вовсю... И надо же – не может Галка долго таить зла. Глаза еще мокрые, но уже улыбается. «Ух, противный», – машет на меня рукой... Ну как было не откликнуться на ее просьбу и не подыграть ей в «Женитьбе Белугина»?!
"Счастье пришло ко мне..."
Думаю, что и многим из вас случалось хоть единожды в жизни встречаться с неким таинственным «письмом счастья», якобы ходящим по белу свету уже несколько веков. Текст его гласил что-то вроде: «...Это письмо является вестником счастья, пятьсот лет назад принесенного в наш мир мистическими братьями по разуму. С тех пор не прерывается нить счастья... Счастье пришло ко мне, и я передаю его вам. В трехдневный срок вы должны сделать десять копий и отправить текст десяти людям, которым вы желаете счастья...» Невыполнение этого требования влекло за собой близкие беды, а выполнение гарантировало успехи и радости. Никаким особым суевериям не подверженный, хотя по одной, известной лишь мне причине считавший число 22 и 220 «своим» и несколько неприязненно относившийся к черным кошкам, перебегавшим дорогу, я полученному на мое имя письму, конечно, не придал никакого значения. Посмеялся, попытался отыскать среди кое-кого из знакомцев, вернее, знакомок, – почерк был женский – корреспондента, хотя текст предписывал держать в строгой тайне и смысл, и само получение письма. Пришло оно на адрес училища, и когда в канцелярии вручили мне конверт без обратного адреса, я поначалу расстроился: неужели Лубянка опять претендует на мой покой? Ведь уже с год, как контакты наши прекратились. И никогда прежде на адрес училища никто мне не писал. Вскрыл конверт, и отлегло. Конечно, ни о каких рассылках копий и речи быть не могло. Еще всякие суеверия мистические поддерживать!.. Что касается числа 220 – могу рассказать, раз уж решил писать все начистоту. Еще лет восьми, лежа вечером в кровати, никак не мог заснуть. Свет в комнате погашен, все уже спят, а я всё верчусь. Окна наши выходили во двор, но когда за воротами проезжала автомашина, бледный отсвет ее фар пробегал по стене. И я загадал: сколько лет нам жить – мне, маме, папе. Лежал и считал отсветы. Насчитал двести двадцать и заснул. Казалось – безумно много. Но цифра запомнилась, запала. И 22 тоже стало «счастливым числом». Папа умер, пару месяцев не дожив до шестидесяти двух... Мама – на восемьдесят шестом. Значит, мне осталось еще десять лет. Доживу до третьего тысячелетия и... Посмотрим.
Почему начал я эту главку с «письма счастья»? Дело в том, что у меня к той поре, к весне сорок восьмого, все в жизни начало как-то успешно складываться. Педагоги по мастерству хвалили, прочили успех, первокурсница Светлана Веселовская была явно влюблена в меня, да и мне все больше нравилась ее кругленькая сероглазая мордашка. Бывал я у них дома, родители ко мне относились вполне серьезно, даже с мамой моей познакомились... Еще бы малость, и стал я официальным женихом. Немного сдерживало лишь чувство некоего иронически-презрительного отношения к железнодорожному генералу – Светкиному папочке. Старый коммунист из кочегаров, вытянутый за уши своей Марьей Гавриловной (тезкой папиной троюродной сестры, женщиной простой, но умной, властной и умеющей «делать дела») в «высшие сферы», Дмитрий Иванович как-то в споре утверждал, что Сахалин – полуостров. И никаких резонов не принимал: раз мы туда дорогу строим, как может быть остров?! Так что уровень будущего тестя не очень меня радовал. Впрочем, не с ним жить-то! Собирались Веселовские взять под свое шефство нашу приходящую во все больший упадок дачу... Квартира у них была трехкомнатная. Само собой подразумевалось, что одну комнату отдадут нам... Светка, кроме студии, училась еще в Гнесинском училище, по классу фортепьяно – мать стремилась дать ей наилучшее образование. И моя помощь в сдаче всяких общеобразовательных предметов – литератур, истории театра, костюма и прочее, была Светке очень кстати. Конечно, читать первоисточники Светлане было некогда, она даже в комсомол-то вступила только по моему требованию... Короче говоря, все шло к свадьбе. И не случись со мной того, что случилось, женился бы я на богатой невесте, а Мария Гавриловна с ее связями – а связи у нее были! – обеспечила бы нам на первых порах и карьеру, и безбедное житье. Может, «к счастью» и не случилось всего этого?
А ведь «так близко, так возможно»! Видно, все-таки был у меня ангел-хранитель. Как-то днем, уж не помню по какому поводу, случилось у Светки и у меня «окно» – часа на три можно было смыться из студии, и мы поехали ко мне, во Владимирский поселок. Мама на работе, комната в полном нашем распоряжении. Надо сказать, что тут тоже было общежитие, не как на Раушской, где жили мы в ванной, но все равно – большой коридор, со многими людьми. Не успели мы расположиться, только заперлись (где-то в глубине души наверняка и у меня, и у Светланы бродила мысль, что сейчас, сегодня что-то произойдет, неотвратимо случится...), как одна из маминых приятельниц вдруг забарабанила в дверь. Видела, что мы проскользнули, и настойчиво требовала, чтобы ей открыли. Мы замерли, как мыши под метлой, дышать боимся – дело в том, что Светка уже кофточку стащила, а тут... И вот ведь настырная дама – стучит и стучит. Ну какое ей дело? А когда стук прекратился, когда отстучали по коридору каблуки нашей непрошенной дуэньи и я осмелился выглянуть – все было испорчено. Быстренько оделись и смылись. Так ничего и не состоялось. А если бы состоялось? Точно «как честный человек» я бы вынужден был!... Тем более впервые.
Итак, шел к концу третий год моего пребывания в училище имени Щукина. Когда мне теперь приходится кому-нибудь рассказывать о себе, то чаще всего вру: «окончил Вахтанговское». Не окончил я его. В начале апреля 1948 года получил то злополучное письмо. И с тех пор, как это ни смешно, через каждые три года, на протяжении полутора десятков лет апрель стал для меня месяцем неудач. Серьезно. В апреле сорок восьмого расстался со студией, в апреле пятьдесят первого – загремел в армию, в апреле пятьдесят четвертого чуть было не поломалась моя жизнь в Чите – жена (первая) уехала в Москву, не посоветовавшись со мной, уволилась из театра, и мне казалось, что расстались мы навсегда. Правда, весной пятьдесят седьмого ничего плохого не случилось, но в апреле шестидесятого мне устроили персональное дело – бросил жену... Не приняли в партию.
К счастью – «несчастья» на этом кончились. В мае шестидесятого мы поженились с Беллой, на следующий год весной родилась Анка. Правда, в шестьдесят третьем, тоже в апрельские дни, перенес я довольно сложную операцию – вырезали мне щитовидку, но, как показали прошедшие с тех пор годы – удачно. Характер стал поспокойнее, больше я не психовал весной, не кидался на людей. Верю, что странная периодичность несчастий ушла из моей жизни. Вот уже много лет, как беды прекратились. Может, потому, что крепкий тыл у меня, потому, что все эти тридцать лет рядом любимый, умный и надежный друг. Вот такая «мистика». И вроде не верю во всю эту магию, а все же, как видите, сидит во мне некое сомнение, иначе бы не стал упоминать обо всем этом в своей исповеди.
Но вернемся в апрель сорок восьмого. Так уж получилось, что из-за всегда свойственной мне привычки «кидаться на амбразуру» не умел я ограничиваться лишь собственными интересами: нужно где-то подпереть – в любую грязь полезу и подставлю плечо, не считаясь со временем, силами, совершенно бескорыстно. Не хвастаюсь – такой характер достался. Отцовские или материнские гены – не знаю. Может, их обоих. Бывало, что выходило мне это боком, но ничему не научило. Так прожита вся жизнь. Теперь уже не переменить. Несдержан, «взрывоопасен», сначала делаю, потом думаю. Отходчив. И никогда не умел прятать свои ошибки, тем более считая их справедливыми поступками. Не лез в кусты. Шел с открытым забралом. И не умел каяться, <а это умение> в нашей общественной жизни очень ценилось. Резал «правду-матку». А уж если «осознавал», то не фарисейски. Готов был взять на себя любую вину и тащить всю жизнь груз покаяния. Надеюсь, что, прочитав эту книгу, вы поверите в мою искренность.
Так вот. Четвертый курс студии готовился к сдаче дипломного спектакля. Надо было помогать: декорации двигать, занавес давать. Обычно из младших создавалась бригада «рабочих сцены». Такую я и возглавил. Стал явочным порядком «помощником режиссера» – никто поначалу меня не просил, но так уж вышло, и торчал я теперь в студии допоздна – шли прогоны, генералки, да и декорации кое-какие доделывать пришлось – все-таки умел держать молоток и пилу. И так уж получилось, что стал я «необходимым» участником спектакля. После генеральной – на следующий день сдача – Иосиф Моисеевич Толчанов, руководитель курса, и мой Владимир Иванович Москвин – режиссер-педагог, ставивший спектакль, на последнем разборе не преминули заговорить и о моей помощи, воспели хвалу, упомянули о важности работы помощника режиссера, о том, что в ходе представления его функция очень важна, ибо он «полномочный представитель режиссуры», от четкости которого зависит успех. А на следующий день после сдачи на доске объявлений училища появился беспрецедентный приказ, в котором мне объявлялась благодарность и даже сообщалось о премировании меня двумястами рублями... Потом показывали «Врагов» папам и мамам. Наконец вывезли диплом в Дом актера – в тот же зал, о котором я уже как-то упоминал здесь. Мероприятие ответственнейшее: зрители не только театральная общественность Москвы, знакомящаяся с молодым поколением вахтанговцев, но и столичные, и провинциальные режиссеры, присматривающие пополнение для своих трупп – щукинцы всегда котировались высоко.
Я со своими помощниками – «рабочими сцены», осветителями, костюмерами – приехал в ВТО еще утром: привезли кое-какие декорации, реквизит, устроили монтировочную репетицию, чтобы знать, где что лежит, свести до минимума время, затрачиваемое на перестановки. Все как у настоящих театров.
Спектакль покатился. В антракте за кулисами появился вдруг Исаак Меламед – бывший актер театра, человек спившийся, худющий, рыжий, работавший в училище завхозом... Думаю, что глубоко несчастный, катившийся все вниз и вниз, и потому со всякими комплексами. Разрешали ему, памятуя его актерское первородство, ассистировать педагогам. Дружил Исаак с Владимиром Ивановичем, боюсь, в основном на почве совместного «закладывания за воротник», что безвременно, как говорится, свело в могилу Москвина, умершего совсем еще молодым, не знаю, дожил ли до пятидесяти... Лично я ничего против Меламеда не имел, но когда он в подпитии появился за кулисами и принялся давать выпускникам какие-то глупейшие указания, приставать к девушкам с несусветными требованиями – подопечные мои занервничали. Чувствовалось, что он тут всем мешает. А ни Владимира Ивановича, ни Иосифа Моисеевича, ни нашего художественного руководителя Бориса Евгеньевича Захавы не было. То есть они были, но «вращались» в фойе. И ваш покорный слуга решил использовать свои прерогативы: набрался наглости и вполне вежливо обратился к нарушителю спокойствия: «Исаак Давыдович, будьте любезны – уйдите отсюда! Вы мешаете». Ну, он и взвился. Педагоги в нашей студии пользовались нерушимым пиететом, а тут какой-то мальчишка посмел ему, артисту и режиссеру, сделать замечание, да еще при всем честном народе! Сработало «письмо счастья»? Чем черт не шутит... Выдал я «Изе», как именовали его за глаза, свой текст, повернулся на сто восемьдесят градусов и пошел было по своим делам. Оскорбленный Меламед не нашел ничего лучше, как догнать меня и дать, опять же при всем честном народе, пенделя. Ясна ситуация? Это тебе не оплеуха Владимира Ивановича, для пользы дела приложившего мне «по шее», это было «оскорбление действием при исполнении»... Хоть и взрослый, но достаточно тщедушный Меламед тут же получил от меня по физиономии. Мы выскочили на лестничную клетку, он что-то кричал, брызгая слюной, а я прижал его к перилам и, заглядывая в провал, – как-никак пятый этаж, черный ход, – шипел: «Я тебя, сука, сейчас вниз сброшу! Понял?» Ребята оттащили нас друг от друга... Но вернуть обратно ничего уже нельзя было. Появился Захава. Бледный, донельзя взволнованный. Такой скандал!.. Правда, посторонних вроде не было, но ведь на чужой роток не накинешь платок. Занавес открыли, спектакль доиграли. Собрали декорации, реквизит. Все смотрели на меня сочувственно, но с каким-то осуждением. Как же это ты?.. Дня три в студии все оставалось как прежде. Никто о происшествии не заговаривал, администрация не вызывала. Но я ходил как в воду опущенный. И не зря. На доске приказов, где еще так недавно красовался приказ о моих благородных подвигах, появился другой: Меламеду объявить строгий выговор, лишить его права заниматься со студентами «мастерством актера»... а меня за случившийся инцидент отчислить из училища. Крах всем мечтам, конец жизни... Первое «черное пятно» в моей безупречной биографии. Все понятно. Все правильно. Наказать Меламеда, выгнать его прочь – значило бы действительно лишить его жизни. А наказать его так, как было объявлено в приказе, и оставить без внимания то, что совершил я, – тоже невозможно. Протестовать – не выходило. Да и кто я такой? Слава богу, скандал не получил огласки, слава богу, все шито-крыто. Пятно на студию не легло. А мне помогли. Во-первых, разрешили сдать все за третий курс, только по мастерству не аттестовали. Во-вторых, путем закулисных переговоров перевели в Московское Городское театральное училище. Правда, снова на третий курс. Я терял год, но не лишался актерского диплома... Обо всем этом узнал я уже в середине лета, а до того теплилась еще надежда, что разрешат вернуться. И Галина Григорьевна Коган – наш завуч, и Владимир Иванович, и сам Захава разговаривали довольно сочувственно, однако что-то не позволило им восстановить справедливость. Боюсь, именно судьба Исаака Давыдовича. Нигде, ни при каких беседах не упоминалось, что был он пьян. Несдержан, да, но и я не смел так реагировать... Конечно, не смел. И, пожалуй, замечания не следовало ему делать. Мог бы прибегнуть к помощи более авторитетных товарищей. Однако фискалить приучен не был. Так бесславно завершилось мое пребывание в лучшей, как не только я считал, театральной студии страны. До сих пор встретишь, бывает, прежних однокашников – а мы сильно изменились за сорок лет, минувших с тех пор, порой не узнают, но стоит намекнуть, дескать, я тот самый Егор, что подрался с Меламедом, – немедленно вспоминают и меня, и событие то экстраординарное.
А пока шло лето, и полная неопределенность. Знакомые ребята затащили в самодеятельную студию. Тут собирались разные театральные и околотеатральные люди – молодые, самолюбивые, считавшие себя в силах перевернуть рутинный мир сцены. Напомню, шло лето сорок восьмого, до появления, трудного появления и признания театра-студии «Современник» – первой ласточки обновленного искусства театра – оставалось еще добрых лет пять, но необходимость его рождения уже носилась в воздухе. Кое-кто из тех, ночами репетировавших в какой-то школе «Клопа» Маяковского, стал впоследствии костяком будущего «Современника». Я не оправдал доверия. Недели две выдержал и перестал туда ходить. Уехал на дачу. Тем более, что с МГТУ все наладилось. А ведь до сих пор грызут сердце мысли: неужто не было потенций? Неужто вера и подвижничество этих людей – а ведь многие из них уже играли в московских театрах, учились на последних курсах студий МХАТа, Моссовета, того же Щукинского – неужто любовь их к театру была сильнее моей? Выходит, так. Ну что ж – «поделом вору и мука». Значит – слабак. А они добились-таки своего. Выдюжили.
Это лето и еще в одном оказало косвенное влияние на мою дальнейшую судьбу: в студии была военная кафедра, и мы, допризывники, должны были в каникулы отправиться на военные сборы, на сорок, кажется, дней, после чего нам присваивалось звание «младших лейтенантов», и призыву очередному мы уже не подлежали. Офицеры. Обученные. Командиры взводов. А так как я был из училища отчислен, никто меня на сборы не пригласил. И пришлось мне в свое время идти в армию «рядовым – необученным» и потерять еще три года, что совсем в итоге развело меня с театром. Вот как одно мгновение может переменить судьбу, довольно явственно намеченную.
Вспоминать здесь о годах учебы в МГТУ не хочется. Все было довольно рутинно. По общеобразовательным предметам читали нам те же профессора, что и в Вахтанговском: Поль, Симолин, Можаровская. Даже тот же Галаган ставил танцы и тот же Немеровский – фехтование. Но «мастерство» вели совсем другие люди. Не когорта, обладавшая единой школой, едиными эстетическими требованиями, а разные, пусть и неплохие актеры, прирабатывающие здесь к своей не слишком высокой актерской зарплате. Не хотел бы обидеть их память, потому и не буду называть. Может, для кого-то из моих товарищей по МГТУ они и были «учúтелями», объектами для веры и поклонения. Для меня – не стали. Все сдавал, получил свой диплом – «бумажку», был на хорошем счету, но не лежало сердце, не высекались искры.
Одно из самых памятных за это время событий все же опишу. Оно не имеет отношения к учебе, только к моему характеру – лезть в не обязательные для себя дела. И если уж влез – <непременно> доводить до конца. На партийной и комсомольской организациях МГТУ лежала обязанность помогать агитпункту. Но кому-то пришла в голову мысль собрать детишек избирателей и поставить с ними в день выборов спектакль. А что? Сцена своя, участок – рядом, детишки к театру привычные: учились мы и агитировали в том же здании, где играл Театр Революции (впоследствии имени Маяковского). Мы, студенты, бегали туда на массовки, так что смею утверждать, что играл на одних подмостках с Бабановой, Штраухом... Ну и детвора здешняя, конечно, приобщалась к театру с малолетства, сам, как вы помните, рядом с театром рос...
Труппа самодеятельности под руководством автора, постановка "Золушки"
Девицы-второкурсницы горячо было взялись, но так же скоро и увяли. Собрали ребятишек раза два, выбрали пьесу «Золушка», обнадежили своих подопечных, но даже ролей не успели распределить. Недосуг всё. Мы их – на комитете: я уже не секретарствовал, но в комитет комсомола меня все-таки выбрали. Позор! Идешь вечером с занятий, а у подъезда толкутся неприкаянные детишки, высматривают своих «руководителей». Велел инициативной группе в ближайший день созвать исполнителей, познакомился с ними – большинство девчушки, лет с восьми и до тринадцати. Как с ними роли распределить? Ну там мачеха, сестрицы, фея, королева, дамы на балу, даже гномики, мыши, – есть кому играть. А принца? Короля, отца Золушки, танцмейстера, кучера – где их взять? Два-три замурзанных первоклассника – и все «мужское поголовье»... Это тебе не самостоятельный отрывок сыграть. Спектакль. Выход нашли: затурканного старика-отца и кучера играли у нас настоящие мальчишки, а вот принца и остальных – девицы постарше. Роль Золушки счастливо вручили дочурке нашей дворничихи, жившей с многочисленным семейством в сторожке, во дворе училища. До сих пор стоит в глазах эта затюканная малышка – черненькая, вечно замурзанная, но такая счастливая, что дали ейглавную роль – и она не подвела. Не знаю ее дальнейшей судьбы, но вправду горел в ней огонек. Так искренна была, наивна, трогательна. И двигалась прекрасно, и с принцем, кстати, тоже девочкой не без божьей искры, замечательно танцевала... Костюмы и всякие «волшебные» атрибуты ребята мастерили с нашей помощью, кое-что подкинула наша костюмерная и гримерная – парики, бороды, локоны. «Музыку» кто-то из студентов делал, декорации – мне помогали. В общем, справились всем миром. Канцелярия и профком даже какие-то деньги выделили на подарки нашим артистам. И получилось! Часов в пять участок наш голосование закончил, избиратели уже давно получили пригласительные билеты, во всех подъездах висели наши афиши, билетерами и контролерами тоже были наши ребятишки, не получившие ролей, но хотя бы таким путем приобщенные к действу.
Труппа самодеятельности под руководством автора, постановка "Золушки" (в сер. заднего ряда, в галстуке). На об.: "Весна 1950 г."
Аншлаг полный. Овации, вызовы – все как у взаправдашних. И актеры, и родители их были счастливы. А дня через два пришла ко мне делегация: нельзя ли повторить? Мол, не верят нам в школе, что мы спектакль в настоящем театре поставили. Снова рисовали афиши, снова писали билеты – пришли одноклассники. И вновь успех. До самого окончания училища, когда проходил я по Герцена и Собиновскому переулку, где было МГТУ, улыбались мне незнакомые взрослые и приветливо здоровались детишки. Малость, но приятно. А на доске приказов красовалась благодарность от администрации и избиркома.
Весной отыграли мы дипломные. В МГТУ московские режиссеры не заглядывали. Рангом ниже. Меня пригласили в Рязань. Но об этом в следующей главке.
Вертер был. А Лотта?
Пожалуй, эта главка выпадает из привычного течения моей исповеди, подчиненного хронологической канве; она как бы итог размышлений и желаний отрочества и юности, закончившихся в пятидесятом году с получением актерского диплома. Уж не знаю, что подмывает меня суммарно поведать здесь о различных своих «влюбленностях», зачастую настолько мимолетных и кратких, что я и имени своих «предметов» не помню. Но мысли о любви, хочешь не хочешь, крепко занимали меня в юности. Уверен – не одного меня, хотя говорить об этом не принято. Но как бы смел называть я исповедью эту свою писанину, умолчав о том, что волновало, бередило душу, заставляло и ликовать, и горевать, пусть еще не глубоко, но искренне, писать стихи, фантазировать – то есть как-то влияло на становление того, что и поныне составляет мою сущность. Убежден – отношение к противоположному полу занимает в нашей человеческой жизни куда большее место, чем мы считаем, оказывает огромное влияние на людей от самых их истоков, как бы мы ни пытались скрыть это от самих себя, а тем более от посторонних, как бы ни стремились не обращать на эти отношения особого внимания. Однако не помнить, что заставляло тебя поступать так или иначе, может, в самых на первый взгляд незначительных, мелких, бытовых ситуациях – нельзя. Так, скажем, мое замечание Меламеду, оказавшее такое влияние на дальнейшую судьбу, если разобраться в первопричинах, вызвано было не только желанием оградить дипломников за кулисами ВТО от не в меру ретивого пьяненького человека, но и тем, что среди артистов была девушка, которая мне нравилась, и не покрасоваться перед ней, когда представился случай, я не сумел. Да и самая моя помощь четверокурсникам в определенной степени вызвана была этим обстоятельством – возможностью видеться, общаться. Пусть между нами не было сказано ни единого слова.
Поэтому, заканчивая рассказ о студенческой поре, о завершении юности – следует подвести итог и тогдашним моим любовным переживаниям. Постараюсь написать здесь обо всем, что было, предельно откровенно, понимая, что выворачивать себя наизнанку – неприлично, что есть у человека такие интимные уголки, о которых даже самому себе зачастую стараешься не говорить. И все-таки поверьте моему стремлению ничего не утаивать, не приукрашивать в рассказе о том, что было со мной, уже не подростком, уже человеком лет семнадцати – двадцати двух. О некоторых своих желаниях и переживаниях я уже писал выше, о чем-то намекал, боюсь, что будут тут и повторы, но уж очень хочется свести, связать в один узел, осмыслить все это раз и навсегда. Я уже неоднократно пытался убеждать читателя, что мне всегда было свойственно некое преувеличенно романтическое отношение к любой чем-то обратившей на себя мое внимание девушке, что нравственный закон: «Умри, но не дай поцелуя без любви!» с отрочества руководил мной. Так ли это? Ведь сны приносили горячие телесные образы, бесстыдные мужские сны, ведь, пусть и с ощущением некоторой неловкости, но рассматривались картины с изображением обнаженного женского тела, ведь жадно слушались рассказы «многоопытных» приятелей... И разные девушки встречались в юные годы. Боюсь, что некоторые из них недоуменно относились к моим нравственным постулатам, хоть я их и не прокламировал. Может, сам я был не слишком завидным объектом для встречного чувства, но все-таки пытались «покорять» и меня, и, конечно, недоумевали, почему я не желал идти навстречу. Какой-либо неуверенности в себе, в своей мужественности, у меня не было, никаких подобных комплексов, а вот уверенность в том, что та или иная девушка – то единственное, что необходимо мне раз и навсегда, «на всю жизнь», что Любовь (видите – даже с большой буквы!) бывает лишь раз в жизни, что она обязательно придет, эта уверенность продолжала существовать и, как мне кажется, воплотилась, хотя и много ошибок предшествовало сему свершению. Думаю, этот психологический постулат до определенной степени ощущался и моими возлюбленными, не позволял им верить в меня, в мое постоянство, в мою самостоятельность. Посему наши разрывы не вызывали трагедий, и оставались мы друзьями, или по крайней мере встречались впоследствии без особой неприязни друг к другу.
Но к фактам. Читателю уже известно имя Фаи, черноглазой брюнетки, укладывавшей на голове пышную угольную халу. Викторова приятельница Полина ввела ее в нашу компанию с целевым назначением: в подружки Егору. Никто, конечно, не обуславливал, но так предполагалось, пусть негласно. Фаинка приняла правила игры и поглядывала на меня достаточно ласково и заинтересованно. С весны до осени суматошного сорок пятого мы с ней встречались. Пусть и не очень часто. Гуляли. Провожал к черту на рога – в Михалково, за Соколом – в те поры самый край Москвы. Целовались... Но не нужна она была мне, не тосковал, не стремился встретиться, не «не мог без нее жить». Нравился ли я ей? Пожалуй. За отсутствием более серьезного поклонника. Помню, как-то в Тимирязевском парке взял я ее на руки, чтобы перенести через лужу, разлившуюся поперек дороги. Она прильнула ко мне, обнимая за шею, закрыла глаза и часто, жарко задышала. И мне стало вдруг тепло-тепло, нежно-нежно. Но лужа кончилась. Опустил я ее на твердую землю, и краткое наитие прошло, улетучилось. И не возникало желания вернуть его. Встречи становились все реже и реже. Фая, кажется, поступила в текстильный институт, интересы разные. И мы к октябрю беспечально и навсегда расстались. Чуть ли не в ту же пору нравилась мне Ася, тоже уже упомянутая выше. Девушка совершенно иной внешности, интересов, характера... Помните? Имя дурачку нравилось... Была в нашем классе экстернатском еще одна особа – старше меня на год-два, может, даже и с женским опытом, кто знает. Ухаживания мои принимала благосклонно, разрешала провожать себя, жила где-то возле Центрального рынка, Цветного бульвара, Трубной площади. Каюсь, не помню ни имени, ни фамилии – сохранилась лишь аббревиатура КЛВ, которой, в подражание Лермонтову, именовались стихотворные послания, ей посвященные.
Кончились наши отношения, не успев начаться, предельно прозаично и к тому же по моей инициативе, вернее, отсутствию таковой. Стыдно признаться, но как-то раз, провожая ее из экстерната, пробродил я с КЛВ добрых часов шесть – дотемна. Язык, как вы понимаете, был у меня «без костей», вечер теплый, в экстернате уже экзамены на аттестат начинались... И вот чувствую: ежели не облегчу мочевой пузырь – лопну! Сказать же о своей нужде, даже как-то намекнуть – смерти подобно. Наконец отвел ее к дому, стоим в подворотне. Никак КЛВ не уходит – у нее вход со двора. Топчется, ждет чего-то. Вероятно, должен я был ее поцеловать, но, поверьте, было мне не до этого. На счастье, в подворотне ямина, залитая водой. Притворился, что нечаянно – оступился и... сел в лужу. КЛВ охает, тянет руку, пытается меня поднять, помочь, а я блаженно делаю свое дело: все равно мокрый. Пригласила к себе: как же ты в таком виде пойдешь? – Ничего, доберусь. Темно. Тепло... Больше не напрашивался провожать.
А когда сдавал конкурсные в Вахтанговское, познакомился еще с одной девчонкой. Даже лица уже не помню, ее после третьего тура отчислили, не приняли. Симпатичная такая, худенькая, жила где-то под Москвой. Ну ведь знаете, как это случается – потянулись друг к другу, толкаясь у экзаменационных дверей, разгово рились, пошел провожать на станцию. У закрытого вагонного окна начал беззвучно, лишь артикулируя, произносить какие-то слова. «Что? Что? Не понимаю!..» Приоткрыла окно. «Читай чеховскую «Шуточку»!» Через день-два снова встретились. «Прочитала»... Но третий тур бедняга не прошла и больше в студии не появилась... И вся любовь...
Прямо – Дон Жуан, прямо Казанова какой-то...
А ведь все эти годы – с сорок шестого и, пожалуй, до самой армии, – считал, что серьезно влюблен в Машу Каверзневу – в ту подружку троюродной сестры Маришки, что приезжала ежелетне к нам в Крюково. Девочки успели кончить школу, Маша поступила в медицинский. Летом дружили, но зимами почти не виделись, разве что несколько раз в консерватории на абонементных концертах. Пару зим всем крюковским обществом слушали там Чайковского и органную музыку в исполнении Гедике. Серьезная была девочка, умная, крепенькая, из старой московской интеллигентной семьи. Ее младший братишка стал известным телекомментатором и трагически погиб, заразившись в Афганистане какой-то смертельной болезнью – но это случилось уже лет сорок спустя... Маше писал и из Рязани, и даже из армии. Отвечала, но все суше и реже. А потом и совсем прекратили мы переписку. Узнал от Маришки, уже вернувшись из армии, что вышла она замуж. Да и сам к тому времени был уже женат... А вот помню ее и свои мечты, к ней обращенные. Даже старшую дочь ее именем назвал, и героиня первого моего романа, сгоревшего в крюковском пожаре, так и не дописанного – «Идущие рядом» – звалась Марией.
У себя на курсе, кажется, ни в кого не влюблялся. Одна из сокурсниц – Люба Мандрыкина – она к сорок пятому успела уже окончить педвуз где-то в Саратове или Воронеже, та самая Люба, что уговорила меня подыграть ей в отрывке из «Василисы Мелентьевой», снимала угол в недалеком от студии арбатском переулке, и мы иногда ходили к ней домой репетировать. Дочь квартирной хозяйки Галя Сокальская, студентка-медичка, отнеслась ко мне внимательно и дружественно. Вспыхнула и быстро угасла между нами «любовь», а вот ее одноклассница и приятельница Ада стала предметом моих интересов на куда более долгий срок. Это им – Гале и Аде – рассказывал я анекдоты у Новодевичьего, побив все собственные рекорды. Ради «покорения» Ады пустился я в одно не слишком честное занятие. В не очень большой общей тетради принялся вести дневник, фальсифицируя записи, начав со знакомства с Галей (Ада, конечно, знала о наших отношениях), сочинял историю своей увлеченности Адой, задним числом исписывал под вымышленными датами целые страницы, как бы переводя в сегодняшний день не столь давно приключившиеся события, намекая на все более возгоравшееся во мне чувство. И вручив девушке к лету сорок шестого это сочинение, скрылся с ее глаз до самой осени. Думаю, она ничего против меня не имела. Напротив. Но при последующих встречах разговора о «дневнике» не возникало. Не ей же начинать, а я молчал.
В ту же пору некоторое время занимала мои мысли и Майка-рыжая, та самая, которую покорил мой «английский» язык и европейский лоск...
Наиболее долгой и серьезной влюбленностью в годы учебы в Вахтанговском стало знакомство с первокурсницей Светой Веселовской, о которой я тоже поминал здесь. Уж кто-кто, но она точно хотела быть со мной, да и у меня, кажись, никаких отрицательных эмоций ее чувства не вызывали. Но, видать, настоящего не было. То, что меня отчислили из студии, к счастью, нас развело. Не уверен, было бы <ли> ей хорошо со мной. О себе – не говорю. Светка в моем «охлаждении» виновата не была, даже как-то стремилась сохранить наши отношения. Ничего у нее не получилось. Так и расстались. С десяток лет назад встретил ее – располнела, не помолодела, но улыбка хорошая и личико круглое, как в юности. Хвастала, что народила двух сыновей.
В московском городском театральном училище, куда попал я с печатью стра дальца (история моя была известна) мне сочувствовали, некоторые девицы принялись на меня заглядываться – новенький, что-то в нем необычное, да еще стихи пишет – на курсе ставили какой-то революционно-комсомольский монтаж и сходу приняли в текст несколько моих «патриотических» строф. Катька Воробьева даже решила, что смертельно влюблена в меня, чуть ли не травиться собралась, как передавали мне ее подружки, в обмороки падала, истерики закатывала, короче – вовсю страдала. Доброхотки торопились обо всем информировать меня, дескать, не будь жестоким, пожалей девушку. Ситуация для меня непривычная. Как-то еще не приходилось попадать в такую. Правда, еще в самом начале обратил внимание на деваху, которая на лекциях пялила на меня глаза. Но в те начальные сентябрьские дни я еще встречался иногда со Светкой, бывало, и провожал ее домой... И об этом разведали, заставили быть повнимательнее к Катьке. Совсем, вишь, помирает девка. Чушь какая-то! Однако постепенно ее преданность покорила молодца – еще бы – разве не лестно быть предметом такой горячей любви?
Теперь-то понимаю, что Воробьева переживала в этот момент важный период «завершения девичества» – ни от кого не слышал о таком, но уверен, что он есть в жизни многих. Убежден – перед грядущим браком, тем более с человеком не слишком любимым, но не противным и надежным, части девчонок ударяет в голову: кончается девичья воля – и они пытаются найти альтернативу. Мне неоднократно доводилось наблюдать это: уже есть жених, солидный, добротный, признанный родителями и знакомыми, уже обговариваются какие-то условия будущего существования, и тут невесте «ударяет в голову» – недолюбила! – хоть и сама не против такого исхода, а вот кажется, что «любви» нет. И она срочно ищет объект. Утверждать категорически не смею – так ли это, но через пару месяцев такие невесты спокойно выходят замуж и становятся прекрасными женами. А ты лишь временная «соломинка» за которую хватается утопающая. Такое у меня было и с некоей Ириной, когда нас, еще не окончательно принятых в Вахтанговское, послали в подсобное хозяйство театра – Плесково, убирать картошку. Спали мы все вместе на сеновале в сарае, и та Ирина просто подвалилась мне под бок и, сдается, готова была на все. А к весне ушла с курса в декрет и вообще не вернулась в училище. Непорядочность? Кто знает? Такое приключилось и с одной моей дальней родственницей, пробродившей со мною полночи возле Сельскохозяйственной выставки и согласившейся переночевать у нас – дело было летом, мама жила на даче... Правда, ничего между нами не было, накормил ее ужином и по-братски уложил спать. Через месяц она уже выскочила замуж. Что ни говорите, а в этом моем наблюдении что-то есть! Так и Катя Воробьева металась, даже заболела. Мне пришлось навещать ее, знакомиться с катиной матерью – отец-летчик погиб, и красотка мамаша сама недавно вновь вышла замуж... Вскоре Катьке стало ясно, что вся влюбленность в меня – туфта. А я успел втрескаться. Переживал. К счастью, не очень болезненно и недолго. Но переживания эти стали материалом для премногого количества печальных виршей и даже поэмы, так и озаглавленной – «Поэма-прощание». Помню строки: «Прощай, родная, прощай, любимая! Здравствуй вечно, но мне – прощай... Пусть не вспомнишь, забудешь имя – Ты стихи мои навещай... Приходи к поэме на свиданье, Полистай странички иногда... Как бы мне хотелось молвить: До свиданья! Я с тобой простился навсегда».
Девчонки-сокурсницы читали поэму, плакали. Переписанная набело, была она вручена Катьке и на этом, слава богу, любовь моя закончилась...
Для чего я все это так подробно пишу? Боюсь, жене моей, любимой моей будет не очень приятно читать все эти поздние признания. Или хочу выставиться перед ней – каким, мол, был «рыцарем» во младые дни? Нету ли здесь самолюбования? Нету ли того же, что писалось лет сорок назад в «дневник» для Ады? Черт его знает. Может быть, и есть, только ты, Белка, не ревнуй и не сердись – никогда ничего от тебя не скрывал, никогда не обманывал, ты же знаешь, не умею врать. А написать обо всем этом мальчишестве решил и для того, чтобы те, кому доведется читать, знали: в жизни действительно есть любовь, которая дается только один раз, и она – настоящая, она – чудо и счастье. Не торопитесь принимать за нее легкие увлечения, томления телесные и душевные. Когда она придет – не нужно будет ни о чем гадать: просто ты не сможешь жить без него или без нее, просто как воздух необходимо будет видеть, слышать, постоянно ощущать любимого. У меня так случилось. А у тысяч хороших и добрых людей – не произошло. Поторопились когда-то, не могли дождаться, ошиблись. Ведь и меня бог не помиловал. Я женат дважды, но еще лет тридцать назад горько думал, упрекая себя: что стоило тебе потерпеть, что стоило встретить не кого-то другого, а одну, единственно необходимую?! Но человек предполагает, а бог располагает.
Среди девчонок на нашем курсе была некая Эля – Эльвира Шкапа (мало кто, кроме меня, знал, что «шкапа» – по-украински просто «кляча»). Остроумная, нервная, с огромными серыми глазами. Ни единого раза не заговаривали мы о наших чувствах, но в том, что существовала взаимная симпатия, я уверен. И довольно серьезная. Там же, на четвертом уже курсе, я по своему обыкновению – для отвода глаз – срочно «влюбился» в другую деваху, открыто оказывал ей знаки внимания, дабы никто из наших не мог усомниться в том, что это неправда. Элка печально посмеивалась надо мной, но дружеского своего расположения не лишала, вероятно, прозревала истину... Вот ведь и такое было в моей жизни. Стихи, которые писал я ей, никому не показывал, никому не читал. Заветная тетрадка затерялась где-то...
Среди девочек-второкурсниц, взявшихся за постановку «Золушки» с детьми избирателей, была и Инна Данкина: с большими черными глазами, тонкими чертами лица. Серьезная, ответственная, увлеченная. Моя «правая рука». Только благодаря ей получилась «Золушка». Инна готова была пропадать в училище денно и нощно, с лету ухватывала мои идеи, организовывала, решала, возилась с костюмами... Чем уж покорил я ее – не знаю. Тем ли, что самозабвенно возился с детишками? Так я их и взаправду любил. Тем ли, что довел их замысел до ума? Или тем, что был уже дипломником и что-то не совсем плохо играл в выпускных спектаклях? У этой двадцатилетней девушки была нелегкая судьба: ее приняли в студию Еврейского театра, но едва проучилась на первом курсе, – студию разогнали, как и сам театр Михоэлса... Так попала она к нам в МГТУ. Преданно любила театр. Мать и отец давно не жили вместе. Семья интеллигентная – юристы и врачи. Мама – доктор наук. Сестру ее матери нынче, пожалуй, знает каждый, слушающий забугорную «Свободу» и «Голос Америки»: это Дина Каминская – юрист, защитник диссидентов на многих процессах конца шестидесятых – начала семидесятых годов. Вместе с мужем Константином Симисом и сыном Митей вынуждены они были уехать в США и ныне процветают там. Правда, в пятидесятом, когда происходили описанные выше события, всех этих «свершений» в дусиной (в семье ее звали Дуся) жизни не было. Тогда шли последние сталинские годы, и ни о каких несогласных и правозащитниках и слуху не было...
Задерживались мы с Инной в училище допоздна. Ехать мне во Владимирский поселок, на самый край Москвы – далеко, да порой и не успевал на метро. Как в былые дни в Вахтанговском, оставался ночевать на физкультурных матах в училище, за кулисами. Инна жила неподалеку от улицы Герцена – в Спиридоньевском переулке, на Малой Бронной – москвичи поймут: это в двух шагах. И как-то зазвала к себе. Неловко вроде, но согласился. И проводить следовало: ночь уже. Дома у них – никого. Мать ночует у бабушки... Накормила меня Инна ужином, постелила свою тахту, сама ушла на постель матери. Комнатка маленькая в коммуналке... Правда, прежде чем отправиться к себе, присела на тахту. Уже в халатике. Целовались? Да, целовались. Но это не те «поцелуи», которые «нельзя давать без любви», такое я давно усвоил. Закончилось все вполне невинно. По-дружески. Чего уж там думала обо мне Инна – не ведаю, но как потом признавалась, высоко оценила мою порядочность. Больше у нас подобных «встреч» не случалось.
«Золушка» прошла, особых причин для общения больше не было. Сдали мы дипломные спектакли, «защитились». Получил «корочки» и укатил в Крюково на последние свои студенческие каникулы. В сентябре пятидесятого отправился в Рязань на свою первую действительно самостоятельную работу. Окончательно отпочковался от мамы. Она привезла в Москву сестру – тетю Аню – больную и одинокую, дядя Саша давно умер, из Херсона тетка уехала в Ленинград, в семью племянницы Муси, но было ей там нехорошо, недобро. И стали мои старушки жить вдвоем. Из Рязани изредка переписывались мы с Инной, писала мне еще и Маша Каверзнева... Но все московское было уже позади, закончился первый кусок жизни. Что ждало впереди?
Закончив эту главку, долго раздумывал: стоит ли включать ее в книгу? Не инородное ли она тело? А потом решил: раз «исповедь», то пусть будет, пусть будет все, как было.
«Грешен ли, раб божий?» – «Грешен, батюшка». – «Ну, да господь простит». Простил ли? И последние ли это были мои «грехи»? И все-таки, думаю, простил. Дал мне мою Беляну. Много раз утверждал я и сегодня на этом стою, и завтра так считать буду: я прожил счастливую жизнь. Счастливую, слышите? Помру завтра, знайте – прожил счастливо! Тогда я еще этого не знал, тогда еще вся жизнь была впереди. И «письмо счастья» довольно долго вставляло в мое бытие черные дни...
Рязанский ТЮЗ
Рязань – это же очень близко от Москвы! Это же – три-четыре часа в вагоне – и дома! Ребята считали, что мне повезло. Я и сам так думал. Даже не стал никому больше показываться, не стал договариваться с другими «купцами» – директорами и худруками периферийных театров, наезжавших в Москву в поисках пополнений своих трупп. Главный режиссер Рязанского областного Театра Юного Зрителя пришелся мне по душе – небольшого росточка, розовый, улыбчивый, этакий живчик и жуир. Как он сам представлялся – «ученик Станиславского, заслуженный деятель искусств – Верховский». Тогда я еще не знал, что звание ЗДИ у него несколько «подмоченное» – одной из упраздненных Северокавказских республик-автономий, так что практически права он на него не имел, но во всех программках и афишах – именовался.
Верховский сулил мне золотые горы: комнату – для театра вот-вот сдается дом! – роли и в классическом репертуаре, и в самом актуальном, современном. Правда, в те годы «современный» репертуар, как вы, наверно, знаете, был не очень завидным – Суров, Софронов и прочие... «Я вижу вас в роли молодого Сталина – это будет очень интересная работа. В свое время я играл Ленина...» Сказать честно, я в те поры нисколько не отрицательно относился к возможности сыграть молодого Coco Джугашвили, даже наоборот, и подобная перспектива, не в карьерном смысле, на что прозрачно намекал режиссер, грела душу. Даже на одной из своих фотографий путем ретуши попытался сделать себя похожим на известный фотопортрет из первого тома собраний сочинений вождя. И пьеса такая была – «Из искры»... О ставке-зарплате я даже не заикался – мне была положена «вторая-вторая» – шестьсот девяносто рублей. Жить можно.
На об:"март 1951 г "Шутники" Островский А.Н., Рязань. Т.Ю.З.Саша Гольцов - Герасимов Г.П.Моей маме и моей тете к 8 марта 1951 г.Сын и племянник."
Несколько слов для несведущих об оплате актерского труда в те годы. Театры делились на академические, республиканские, театры первого, второго, третьего и даже, кажется, четвертого пояса. И в каждом «поясе» – категории: первая, вторая, третья, а в категории – «ставки», тоже первая, вторая, третья... Сложно? Да, не очень просто. Категория присваивалась актеру в зависимости от его профессиональной ценности, от его квалификации. А вот «пояс» театра, куда попадал он по воле случая, вернее, по приглашению администрации, от него не зависел. И обладатель определенной категории, годами иногда ее добивавшийся, попадая из «первого» в «третий», терял в зарплате до полутораста рублей... Не менялись эти ставки с начала тридцатых годов. Может, несколько неточен я в указаниях поясов и категорий. Была еще «высшая», назначались и «персональные» для артистов, которым присвоено звание заслуженного или народного. Но таких – в провинции в то время – единицы. А так... Представьте себе только – какая-нибудь актрисочка, приглашенная в профессиональный театр из местной самодеятельности. Какое счастье! Ее талант замечен! Разве может она отказаться? И идет она, зелененькая, на самую низкую ставку – лишь бы быть при Искусстве... В городе – родитель ский дом, от нее не ждут особых прибылей, прокормят, оденут. Вот и попадает наивная девушка в самое настоящее рабство. Первое время, когда мордашка у нее еще не завяла от ежедневной гримировки, фигурка не расплылась от малоподвижности репетиций и ожиданий выхода в крошечной рольке субретки или бессловесной старушки на балу – она пользуется некоторым успехом среди интеллигенции, у местных львов, в газетке нет-нет да и мелькнет ее имя... А театрик-то третьего пояса, а ставочка-то третьей категории, а талантик-то небольшой, а школы-то никакой, а времечко-то бежит... Повезет – выскочит замуж – профессии никакой, возьмется вести драмкружок в фабричном клубе, а то поступит дикторшей на местное радио, если таковое имеется... А не повезет, так и сидит десятилетиями за кулисами на своих трех сотнях рублей. Никому не нужная, ничего из себя не представляющая. Бесправная рабыня режиссера, готовая на все, лишь бы не выгнали. Я не сгущаю краски. И в Рязани, и потом в Чите, где служил я два сезона после армии, встречал я таких актрис. Ужас. Уборщица материально живет куда богаче, билетерша, кассирша... А ведь тут актриса, человек творческий, носитель культуры... Со всех трибун долгие годы долбят ей: «Театр – храм», «театр – воспитатель, воитель, нравственный учитель...», она слышит и знает слова: эстетика, катарсис, высшая цель искусства, благородство творческого труда... Господи! Что уж перечислять! Нищенство, убогость и одновременно – претензии. Актерская гордость. Первородство. Ежели сегодня Союз театральных деятелей сможет как-то изменить эти дикие, доисторические судьбы – честь ему и хвала!
Но меня вновь потянуло в сторону, извините.
Кончилось лето. Из Рязани прислали мне «подъемные», выпечатку текста двух ролей, репетиции должны были начаться десятого сентября, но сбор труппы несколькими днями раньше.
То же (без подписи)
И вот я в первом по-настоящему «своем» театре. Мрачный, неосвещенный зал. Занавес раскрыт, на сцене – дежурная лампочка. Поднялся по боковым ступеням. Полукруг рампы, софиты, пыльные кулисы, падуги, какой-то ветхий задник, что на нем нарисовано – не разберешь. Постоял, походил. Тихо-тихо в зале. Помычал, попробовал голос. Вроде не глухо. Какая-никакая акустика есть. Мой театр. Хорошо помню эти минуты. Вещи остались у администратора. Чемодан, постель, сумка. Скоро должен решиться вопрос – где мне на первое время поселяться. Конечно, никакой «комнаты» и в помине нет. Может, к весне. А я-то, законопослушный обыватель, выписался в Москве, открепился в военкомате и райкоме комсомола. Чтобы все как положено. И ведь упреждали меня – не верь, погоди, успеешь! Где там: в паспорте – штамп, в кармане – документы, чтобы встать на учет. Остался бы с московской пропиской – никакая Рязань не подмела бы с призывом... Нарушать? Ни за что! Необученный ишо!
За кулисами лесенка в подвал – под сцену. Там гримуборные – дощатые клетушки. Там же «цеха» – гримерный, реквизиторский, костюмерная, – помещение явно было рассчитано с большим запасом. Когда-то здесь играл Областной драматический, потом ему построили новое здание, а сюда вселился ТЮЗ. Повезло ТЮЗу. Во многих областях ютятся эти детские театрики в совсем не приспособ ленных местах.
Актеров штатных у нас человек двадцать, а тут только гримуборных до трех десятков! Сейчас поймете, к чему я клоню: все эти из вагонки слепленные комнатушки, без окон и вентиляции, – даровая жилплощадь. Кто тут только не жил: несколько актерских пар, костюмерша, кассирша, билетерши, какие-то посторонние люди, работавшие в отделе культуры, в библиотеках, даже районная прокурорша, вышедшая когда-то замуж за артиста, да бросил он ее и уехал... Воронья слободка. Нашлось местечко и мне. Два зеркала, бра, узенький столик, пенал-шкаф для одежды (для костюмов), софа из каких-то спектаклей о жизни дворян в девятнадцатом веке... Дали матрас, подушку. Одеяла, простыни, наволочки, полотенца, – привез из дому. Так и начал жить.
Познакомился с сослуживцами. Труппа оказалась с бору по сосенке: несколько вполне добротных профессионалов, несколько молодых, недавно окончивших театральные училища в Харькове, Саратове, одна из новеньких – Надя Гуцкова, приехавшая вместе со мной – выпускница Щепкинского училища. Но большинство – без школы, без театральной культуры, – из самодеятельности, народ бесталанный, бездельный, некоторые – явные алкаши. Кое-кто – местный, эти чувствовали себя увереннее, как-никак – тыл: родичи, свой дом, хозяйство. Остальные же без кола и без двора, перекати-поле, скитальцы по России. Некоторые, кроме актерской профессии, владели и другими: шили костюмы, делали парики, даже рабочими сцены подрабатывали. Никто против начальства и пикнуть не смел – рабская зависимость.
Рядом со мной, в гримуборных и других помещениях театра, ютились актерские пары: Цицунов с Беловой, Дэвид Гюнтер с женой Гитой и приемным сынишкой, – Дэви хороший актер, играл уже третий сезон, все молодые герои – его. Тут же, в комнатках закулисья, существовали художник, второй режиссер Галачьян с женой Ниной и сыном, <а также> актерская пара из харьковского училища (<они стали> впоследствии моими друзьями и неоднократно заезжали ко мне в пятидесятые-шестидесятые годы в Москву) – Виктор Занадворов и Нина Дуркина. И еще разные люди проживали, зачастую особого отношения к театру не имевшие. Из подвала был и второй выход – непосредственно во двор театра. Мы, молодые, жили чуть ли не коммуной: Нина с Гитой и Катей Беловой по очереди что-то варили на керосинках и примусах, а мы, «мужчины», таскали картошку, молоко, хлеб. Раз-два в месяц удавалось мне смотаться на пару часов в Москву – тащил от мамы варенье (клубника-то своя, с дачи), какую-нибудь колбасу, масло...
На об.:"Шутники". А.Н. Островский, Рязань Т.Ю.З. постановщик Галачьян Н.А.Верочка: Дуркина Н.И., Аннушка: Давидович Н.С., Саша Гольцов: Герасимов Г.П.1951 г. Март
Ставка, о которой я говорил выше, досталась мне только после нового года и немалого скандала. Во-первых, оказалось, что положена мне «вторая категория и вторая ставка» в театре третьего пояса, а у ТЮЗа был третий, не шестьсот девяносто, а шестьсот. Наде Гуцковой, которая снимала у кого-то угол, вообще положили пятьсот – «третью ставку», что <уже> ни в какие ворота не лезло. Но Надя молча глотала слезы – и так большая удача, что попала в театр: обычно «юбку» брали только со «штанами» – то есть супружескую пару. Женщины не были в чести. А тут еще ТЮЗ получил в новом сезоне нового директора, некоего Дадерку – недавнего руководителя Дома культуры в одном из районов Рязанщины. А у Дадерки – жена. Вот он свою женушку – бездарную самодеятельную артисточку, впервые попавшую в настоящий театр, – и определил на ставку «вторую-первую»: на мою, шестьсот девяносто. Играть она пока ничего не играла – деревянная какая-то женщина, но вертелась возле кассы, администраторской... После первой же зарплаты я восстал. Ребята поддержали меня, директор, убоявшись, что о его махинациях станет известно отделу культуры, пошел на попятную, добавил мне законные девяносто. Но я потребовал, чтобы и Наде платили положенное, чтобы справедливость была восстановлена. В те поры я еще не ведал, чем завершится к весне моя конфронтация с начальством, к каким пертурбациям и в моей, и в театральной жизни она приведет. Чувствовал же я себя достаточно уверенно: партоганизации в театре не было, один партиец – Дадерко, а нас – пятеро комсомольцев, мы создали группу, меня выбрали комсоргом. Горком тут же ухватился, навалил на нас комсомольский политкружок на каком-то деревообделочном заводике, там же мы и драмкружок организовали – так что комсомольское начальство, вхожее в высшие сферы, относилось к нам весьма благосклонно. До нас в ТЮЗе ячейки не было.
В ролях
И вот ведь парадокс: так готовился, так мечтал о работе в театре, а подробно писать об этом охоты нет, хотя, поверьте, очень многое помню, и помню подробно. Режиссура в театре оказалась никакая, никаких оригинальных трактовок, замыслов, никакой «философии творчества». Банальщина, схватывание того, что лежит на поверхности, что тысячи раз воспроизводилось на сценах. «Это надо играть с грацией социалистического реализма!» – подлинные слова нашего мэтра и художественного руководителя. Дальше он не шел. Читка по ролям, разводка в выгородке, потом несколько репетиций на сцене, где все «открытое» закреплялось, прогоны, генеральная, сдача спектакля – за все про все недели три – и это еще хорошо, если три, а то и две: премьеры по идее должны были выскакивать не реже двух раз в месяц, десять-двенадцать спектаклей – и зал катастрофически пустел, «любопытных» становилось все меньше и меньше. Практиковались и параллельные спектакли – труппа делилась напополам, и репетиции шли одновременно. Помогали выездные спектакли, инерция школ, пригонявших в театр своих учеников – на культурные мероприятия. Как же, «Театр – школа жизни»! Вот и гнали школьников воспитываться. Телевизоров тогда еще не было, новые фильмы появлялись реже, чем наши спектакли. Так и жили, кормя подростков и детишек идеологической жвачкой, за что в начале пятидесятых еще получали дотацию от культурных органов, особенно мы – ТЮЗ. Года через три театры переведены были на хозрасчет. Как ударило это по их деятелям, буду иметь случай рассказать ниже.
В ролях
Что же мы все-таки ставили? Сезон пятидесятого – пятьдесят первого годов. Самый маразматический период драматургического искусства, самый пик творчества разных Суровых, разгул бесконфликтности, строгое дозирование классики – не дай бог чуть больше, чем положено, обязательные «проходные» спектакли, циркулярно гремевшие со всех театральных сцен Союза. А тут еще наша тюзовская специфика: «Аттестат зрелости» Симукова, «Зеленый сундучок», кажется, Василенко, «Правда о его отце», автора не помню, и т. д. Герои – подростки. В первом случае – московские старшеклассники, во втором – кавказские, в третьем – немецкие. Никто нынче, думаю, этих шедевров не помнит, а ведь в свою пору о них с серьезным видом рассуждали критики, театроведы, на наш «Аттестат» приезжал автор с бригадой московских критиков во главе с молодой тогда Инной Вишневской... Я играл то комсорга школы, то бывшего активиста гитлерюгенда Бальдура, то невесть какой национальности горца – Саура. Моего «комсорга» Виктора Ромейко очень хвалила местная пресса, вторили ей и московские знатоки – такие персонажи незамеченными проходить не могли! И про образ, и про его исполнителя принято было говорить лестные слова. А ведь играть там было нечего. Некоторая убежденность, помощь дирекции школы в улаживании микроконфликтов, горячие речи. В связи с этой ролью вспоминается два смешных случая, с которыми не грех познакомить и читателя, – уж больно печальные проблемы затрагивал я выше. На одном выездном спектакле в окрестностях Рязани случилось следующее: была там сцена, происходившая в комитете школьного комсомола. Виктор «перевоспитывает» некоего десятиклассника Бориса (его играл Витя Занадворов). Борис этот – отрицательный: индивидуалист, не верит в силу коллектива, короче – бяка. Вот я его вызвал и песочу: должен, ты, мол, включиться, помочь классу и прочее. Один из моих монологов начинался одиозными для сегодняшнего дня словами – «Борис, ты неправ!» Внушал я ему, что должен он понять, «как не соответствует его поведение, действия и мысли требованиям момента, нашему общему движению вперед, задачам комсомола»... Борис, видите ли, вознамерился получить золотую медаль и ради этой цели забыл об общественных делах, не хотел никому помочь, даже на школьные вечера не ходил. Преступник! «Ты же хороший советский парень! Десять лет мы вместе. Какая муха тебя укусила? Гони прочь мысли, мол, могу провалиться: сдашь! Ты же всегда был отличником. Аттестат – не самоцель. Идем с нами, идем вместе!» и т. д. В сей пафосный момент, когда, выйдя на авансцену (так требовал режиссер, спасибо еще, за трибуну не поставил!), агитировал я Бориса за наше святое дело, дело помощи попавшему в беду товарищу, – по среднему проходу между скамейками (спектакль шел в сельском клубе, зал маленький, помост едва на полметра возвышается над полом) двинулся ко мне какой-то карапуз лет шести в нахлобученном на голову треухе... Борис (ему стыдно!) сидит сгорбившись на стуле в глубине сцены, а я – у самой рампы. Останавливается тот пацаненок прямо передо мной, тянет руки и просит: «Дядя, и я хочу с вами! – уговорил я его, видите ли! – И меня возьмите!» – В зале хохот. Отворачиваюсь, закусив губу, к Занадворову, а он, выражаясь нашим театральным жаргоном, «поплыл» – ткнулся мордой в колени и трясется. Ему хорошо, а мне монолог договаривать! До его реплики еще несколько фраз. Вновь оборачиваюсь к залу, разозлился и, скрипнув зубами, обращаюсь к нарушителю спокойствия: «Ты вот что, парень, ты иди пока на место. Вырастешь маленько, я тебя обязательно позову. Ладно? А сейчас, Боря, ты слышишь меня, дружище? – сейчас нужно, чтобы ты, Борис, подтянул Левку по литре и истории. Ты же у нас – дока». А партнер не может ответить – ему возражать полагается, а он едва выдавливает конечную реплику: «Согласен, раз надо – согласен». Идет занавес.
И второй случай на выездном спектакле приключился, в одной из пригородных школ. Действие происходит в квартире Левки Зарубеева – его Гюнтер играл. Решил человек оставить учебу, чтобы помочь младшему братишке, – дельному и способному шестикласснику. Остались братья круглыми сиротами, отец на фронте погиб, мать недавно померла. Вот Левка и бросил десятый класс. Золотые руки у человека: и пилить, и строгать, и паять – любой приемник починит, в электричестве как бог разбирается, все на свете умеет делать, – пойду, мол, в ремонтную артель, потом, может, и доучусь. Такой вот «конфликт». Директор школы с комсоргом с ног сбились, ищут выход из создавшегося положения. Виктор Ромейко – мой герой – советует взять Левку лаборантом в школьный физкабинет. Оклад ему положат, и на уроки сумеет в свободное время заглядывать, что пропустит – друзья помогут, подтянут. Виктор ведет директора к Зарубеевым, чтобы доказать, как Левка разбирается в технике. Итак, значит, Левкина квартира. В глубине сцены входная дверь, над ней зажигается транспарант: «К вам гость!» – это чтобы предупредить хозяев, а слева, в кулисе, еще одна дверь в личный зарубеевский кабинет. На стационарной сцене все было логично: откликаясь на просьбу директора, Лева гордо взмахивает рукой, загорается еще один транспарант: «Добро пожаловать!», и дверь слева торжественно, «сама», распахивается. За ней стоит рабочий сцены и в нужный момент (публика, конечно, об этом не догадывается) – открывает. Чудеса! Зрители замирают от восхищения. Предполагается, что, взмахивая рукой, Левка перерубает луч фотоэлемента, срабатывает моторчик... Фантастика для Рязани тех лет...
Я все это так подробно описываю, чтобы читателю стала понятна экстремальная ситуация, возникшая на том выездном спектакле. Играем мы в актовом-физкультурном зале школы-новостройки. У глухой торцевой стены невысокий помост, отгороженный от зала занавесом. Справа от помоста – вход в учительскую, где мы гримируемся и одеваемся, а слева... слева две двери с табличками «М» и «Ж»! Кулис нету, декораций и реквизита – минимум. Подошла реплика на выход нам с директором, по двум ступенькам поднимаемся на помост, «входим», конечно, никаких транспарантов нет. Начинается разговор с Левкой. Наконец директорская реплика: «И что же у тебя там за волшебная мастерская? Показал бы». Левка взмахивает рукой – «Прошу!», дверь с табличкой «М» торжественно распахивается. Рабочий сцены, не посоветовавшись, не предупредив, творит свое «чудо». Нам с Дэвидом, уже в предвкушении такой возможности, стало не по себе, но «директор школы», опытный актер Николай Николаевич Громов, – и в ус не дует. Направляется в распахнутую дверь. В зале хихиканье. Все прекрасно знают, что там находится. Но самый пик начинается после нашего возвращения: директор, потирая в восхищении ладони и качая головой, восторженно произносит: «Да... Вот это – да! Какое богатство! Слушай, Зарубеев, а что, ежели бы все, что у тебя здесь, да в нашем школьном физкабинете – собрать в одну кучу...» – тут и до нашего Актер-актерыча доходит острый комизм ситуации, и он не может окончить реплики. Мы же с Гюнтером откровенно в голос хохочем. Зрители – тоже. Всем троим вкатали по выговору. Не за этот, выездной, а за то, что мы и на своей сцене не могли удержаться – доходим до этого места и «плывем».
А за роль Бальдура – красивенького, ухоженного фашистика, в бессильной злобе поджегшего новую народную школу, получил я от благодарных зрителей снежком в спину. Иду по улице и вдруг – бац! – оборачиваюсь, сзади группка школяров: «Ты зачем, гад, школу поджег?» – своеобразная рецензия. Узнали.
В «Зеленом сундучке», сути которого, пожалуй, не помню, удалось мне использовать уроки Галагана. В последнем акте я лихо отплясывал лезгинку, со всякими коленцами. Даже бисировать заставляли.
За восемь месяцев, что проработал я в Рязани, довелось сыграть десять ролей. Из них четыре – главных. Но более или менее терпимые – две: Жевакина в «Женитьбе» Гоголя и Мити в «Правде хорошо, а счастье лучше» – Островского.
Играя старого морского волка, мичмана Жевакина, гримировался я «под Гоголя». Жевакин мой считал себя хитрецом из хитрецов, радовался, старый дурень, что провел всех женихов, спрятавшись за диван. Без внимательного глаза режиссера комиковал я как мог, купался в различных штучках-дрючках. Публика смеялась, сам себе казался очень талантливым, только потом понял, что пыжился, наигрывал и вообще творил недозволенное для порядочного артиста. Об образе несчастного, мелочного, тщеславного старика и не думал, абы только выкинуть какое-нибудь антре позаковыристее... «Правду хорошо...» ставил Галачьян. Кое-какая театральная культура у него наличествовала, но ничего оригинального предложить он нам не мог, играли традиционно: бедный и честный приказчик, своенравная купеческая дочка Любовь Гордеевна, пропившийся, но не теряющий человеческой гордости Любим Торцов, самодур Гордей Карпович... Пытался сыграть Митю, вникая во все его мечты, в его самоощущение, но разве за две недели что-нибудь путное сделаешь? Так, банально, и отбыл роль. Несчастный влюбленный бедняк, которому повезло... Не моя это была роль, не нашел никакой живой зацепки. Нет, не ругали меня, но и особых восторгов не выказывали.
В ролях
И все-таки – десять ролей. Десять обличий, десять разных костюмов, жизненных ситуаций, ритмов. Ежедневные спектакли. Профессионализация... если не исхалтуривание. А тут еще конфликт с начальством. Серьезный конфликт, истоки которого в обмане, которым встретил нас с Надей театр, а развитие... развитие в неприятии тех «творческих установок», типа пресловутой «грации социалистического реализма», что вешал нам как «лапшу на уши» Верховский, оказавшийся не только болтуном и пьяницей, но совершенной бездарью, которая не только в те времена, но и на протяжении всей дальнейшей жизни постоянно встречалась мне в командном эшелоне. Закономерность? Не удержусь, скажу несколько слов, пусть эти рассуждения и общее уже место, уже тривиальность, однако столько тяжелых и унижающих «открытий» связано у меня с познанием сей банальной истины, что необходимо облегчить душу. Впервые столкнулся я с этой административной тупостью еще в Куртамыше, когда инструктор-цензор усмотрел в моей песенке «потрясение основ» и запретил ее исполнение. Тогда я еще не обобщал, не придал значения: что значит один тупица на фоне такого «либерального» секретаря райкома? Потом, уже в Москве, познакомился с «шестерками» с Лубянки, которые передавали меня из рук в руки, задавали однообразные вопросы, не очень-то их в действительности занимавшие. Несколько последующих лет бог меня миловал – вокруг были люди интеллигентные, пусть, по моему разумению, не всегда справедливые, но и своих вин отрицать не приходилось. А в Рязани – начал понимать существо дела. Как такой Дадерко мог очутиться на посту директора театра? Недалекий, трусливый шакал, но наверняка готовый служить «верой и правдой». Не в этом ли суть? Начальнику областного отдела культуры, посаженному на пост не за какие-то особые заслуги в области вверенного ему служения, а просто переведенному с повышением в Рязань – был человек райкомовским работником по идеологии, чем-то «показался» начальству, и – зав. отделом (не помню ни фамилии его, ни лица, помню только ощущение недалекости, незнания, как нынче говорят, «некомпетентности», в том, что такое театр), – Дадерко такому деятелю очень даже был с руки: смотрел в рот, своего мнения ни о чем не имел, был послушен и всегда лоялен. А Верховский? Может, и было что-то у этого человека за душой, но давно уже потонуло в водочке, и основным содержанием жизни нашего главрежа сделалось желание удержаться на завоеванных позициях – думаю, что он понимал: выше уже не прыгнешь. Мог подойти к тебе на улице и запросто предложить – «демократ»! – «Как насчет ста грамм? У меня закусь есть», – и вытащить из кармана пиджака сморщенный соленый огурчик в доказательство. О том, каким он был режиссером, я уже писал. Кое-кто, в надежде на рольку, – а роли-то распределял Верховский – угощал его. Каюсь, и я разок не удержался, – в самом еще начале карьеры – повел начальство в павильон, и раздавили мы чекушку под соленый огурец. Сообразив, что каши со мной не сваришь, особенно после скандала со ставками, пытался он купить меня намеками и обещаниями поставить в следующем сезоне «Из искры...», – мол, сыграешь молодого Сталина – верняк на заслуженного! После Жевакина и Мити мне посулили даже повысить категорию, показывали проект приказа, посланного якобы в отдел культуры на утверждение. Этим хотел Верховский заткнуть мне рот: проходила кампания по выборам в местные советы, и на роль депутата горсовета собирались выдвинуть его жену Романычеву, актрису нашего же театра. Женщина лет сорока, на голову выше мужа, несколько солдафонистая, с затравленными глазами и длинным худым носом, была она вполне профессиональной актрисой, на роли «молодых героинь» не претендовала – габариты не те, – но вела себя высокомерно, вызывающе. Особенно раздражало нас, молодых, что, пользуясь своим положением, в финале «Аттестата зрелости» Романычева смывалась со сцены задолго до окончания спектакля. Выпускной класс (она играла классную руководительницу) собирался на Воробьевых горах, отмечая успешную сдачу экзаменов, – шутки, смех, песни, танцы... Ее последняя реплика звучала где-то в середине сцены, больше слов у нее не было, и она бочком удалялась за кулисы разгримировываться. Мы считали такое – нарушением театральной и человеческой этики, устраивали вокруг нее хороводы, чтобы не дать ей удалиться, но она все равно улучала момент и исчезала. Заговорили на собрании – как с гуся вода... Сделал ли, нет ей замечание муж и режиссер, не знаю, но все осталось по-прежнему.
И вот на предвыборном собрании, куда прибыли и начальник отдела культуры, и представитель горкома, – мы, комсомольская группа, решили дать бой – отвести кандидатуру. Напомню: шел не восемьдесят девятый – пятьдесят первый год! Наивные дурни, не понимали мы, чем может грозить нам демонстративное нарушение неразрывного единства блока коммунистов и беспартийных... А может, не придавали значения. И если нашей администрации возможность бунта была известна, наушников хватало, да мы и не скрывали своих намерений, то на «представителей» наглость наша подействовала, как взрыв бомбы. Выступить пришлось мне, я аргументированно доложил соображения комсомольской группы, говорил что-то о гражданской этике, о нашем недоверии: в советы – лучших! – и предложил «альтернативную» кандидатуру: одного из старейших актеров театра – местного, давно вышедшего в тираж, явного подлипалу. Но ведь – старожил! Ведь играл в ТЮЗе еще до войны, и с фронта вернулся в родные стены (на фронте он не был, но медаль «За Победу над Германией» имел). Скандал! Собрание прервали. Меня срочно поволокли в кабинет директора и принялись обрабатывать. Пугали, убеждали, призывали не выносить сор из избы. Каюсь, после перерыва посоветовался с ребятами, и мы решили свою «кандидатуру» снять, а от голосования воздержаться. Может, это и спасло нас от «оргвыводов», или верхушка побоялась, что, выйдя за пределы театра, конфликт отзовется и на их судьбах?..
Однако события шли своим чередом, до обкома партии что-то докатилось, и нас, – весь коллектив, вернее, актерский состав, – вызвал на совещание второй секретарь обкома... Случай, мне кажется, в те годы – беспрецедентный! Предстояло обсудить «положение в театре», и на меня, как на «возмутителя спокойствия», пала обязанность выступить с содокладом. Горком ВЛКСМ, спасибо, поддержал нас, горкомовцы были в курсе дела, они-то и стукнули в обком...
До сих пор не могу понять, почему меня просто-напросто не замели, не состряпали какого-нибудь дела? Ведь попытки были. Какую-то несусветную ложь по моему адресу понес тот самый старичок-актер, коего комсомольцы пытались выставить кандидатом. Уж такое разлюли-малина, что даже не помню существа с «врагами»?
В ролях
Поверьте мне, уважаемый читатель! Гарантию того, что ничего я не преувеличиваю, не привираю, что все рассказанное – не дань моде и современной «гласности», <даст> первый мой читатель, жена. Она слышала эти сюжеты много лет назад, еще до времен «застоя», была знакома с некоторыми заметками, делавшимися по горячим следам, теми, что сгорели ранней весной семьдесят шестого на даче в Крюково. Она-то уж не разрешит соврать... Бог ли меня миловал, или действительно опротивело всем пустобрехство Верховского, лепетавшего «основной» доклад? Отсутствие у него каких-либо аргументов, способных опровергнуть наши претензии? Так или иначе, но Дадерку с треском выгнали, объявив строгий с занесением, а главный режиссер получил нагоняй, каялся и плакался. Мы ходили героями-победителями. Особенно поддерживал нас Галачьян – второй режиссер. Вероятно, рассчитывал получить место главного (мы тогда об этом не думали). Вернее же всего, успех наш состоялся, потому что до периферийной Рязани еще не дошел курс на завинчивание гаек, действовала послевоенная эйфория какой-то справедливости. Больше ничем объяснить не могу... Впрочем, «письмо счастья» сыграло со мной свою очередную шутку. Подошло время призыва. А так как я состоял на военном учете в Рязани, то и получил повестку. Никаких отсрочек мне не полагалось. (Надо же было дурню выписываться из Москвы – ни комнаты, ни права жить дома...) Пошел к военкому. Выслушав меня, дескать, нельзя ли в интересах дела отсрочить мой уход в армию до осени, – предстоят гастроли, а на мне четыре главных роли, да еще участие в нескольких других спектаклях (это Галачьян меня научил), – военком заявил: если театр официально обратится, он не против. Положение и вправду было почти катастрофическое: кому играть? Как быть? Ведь в мае уже начинались гастроли по области, заказаны афиши, разработан порядок спектаклей и т. д. Директора сняли. Верховский находился в прострации. Галачьян убеждал меня, что все будет в порядке – сам ходил в военкомат. Я спокойно продолжал играть спектакли, хотя мне полагалось десять дней отпуска перед призывом для устройства личных дел. Лишь на несколько часов приехал в Москву,рассказал обо всем маме. На всякий случай связалась она с каким-то своим бывшим сослуживцем по камышинскому театру, работавшим администратором Центрального Театра Советской армии. При театре была команда, куда брали молодых профессионалов-актеров на время прохождения службы. Они и рабочими сцены были, и в массовках участвовали, а если повезет, то и эпизоды получали – не отрывались от сцены, от профессии. Администратор заверил, что дело вполне осуществимое: пошлют вызов в рязанский горвоенкомат, и вопрос решится сам собой.
Короче, говоря, «позвала меня Родина», как обещал в сорок четвертом полковник из пятого отдела в ответ на мое письмо вождю. А у меня не было уже никакой нужды, никакого желания «исполнять свой священный долг». Тем более, что за годы учебы на военной кафедре в Щукинском училище прошел я полный курс на звание младшего офицера – командира стрелкового взвода, был подготовлен и к владению оружием от автомата до пулемета, читал карту, изучил кое-какие начала тактики. Но документов никаких: рядовой-необученный.
За день до явки «с кружкой-ложкой» зашел к военкому узнать, как дела, стричься ли мне наголо и прочее? Он меня огорошил: «Говорили мы с театром вашим, с главным режиссером беседовали, – утверждает, что ТЮЗ без вас преспокойно обойдется. Есть замены и прочее. Так что будьте любезны завтра – в полной готовности. Со сменой белья». – «А вызова из ЦТСА нету?» – «Никаких вызовов. Не явитесь в указанное время, будем считать дезертиром, со всеми вытекающими». Едва упросил его передвинуть на день – съездить к матери, отвезти вещи, с учета комсомольского сняться. «А что вы десять дней делали?» – «В театре играл, каждый день играл...»
С мамой, перед уходом в армию. На об.: "22 VIII 1951 г."
Явился к назначенному сроку, стриженый, с сидором через плечо. И тут же попал в команду, направлявшуюся в Тамбов. Надо было исполнять долг. Дня три кантовались мы в каких-то бараках при станции, спали на нарах, горланили песни и пили водку. Призывники. Как после стало мне известно, вызов из ЦТСА пришел-таки на следующий день после того, как меня забрили. Но никто не почесался разыскать меня, возвратить по принадлежности, – я уже был отрезанный ломоть, уже вышел из-под юрисдикции военкомата, кому нужны лишние заботы? Подумаешь, учили его, деньги тратили... Не свои ведь, государственные... Таких актеров, инженеров недоучившихся, учителей несостоявшихся – пруд пруди. Каждому поблажку делать, кто служить будет? Кем офицерскому корпусу командовать? Кому в казармах жить, кому в стройбатах землю копать? Так было в пятьдесят первом, так осталось и ныне, хотя сегодня все это безобразие возросло в сотни раз. Сколько стоит армия нашему народу? Разве только оружие, казармы, кормежка-одежка, разве только непомерно раздутый офицерский и сверхсрочный старшинский составы? А поломанные судьбы? И миллионы, потраченные на обучение многих будущих солдат, которые после службы не возвращаются к облюбованным профессиям? Отстали. Головы не тем заняты... Не до учебы. А уж о калеченьи психики я не говорю...
Примечания
Примечания эти – вкусовые, «авторские», ни на полноту, ни на объективность, ни на познавательную ценность не претендующие. Я давно тяготею к этому жанру и кое-какие поползновения в эту сторону уже совершала, но никогда еще не пользовалась такой безнаказанностью. Поскольку книгу эту делаю в основном для себя и немногих близких, имею полное право комментировать только то, что непонятно или интересно мне самой, а заодно вставлять какие-то свои соображения или эпизоды из памяти.
Для удобства примечания разбиты на главки, согласно самой рукописи.
А. Г., Вильнюс, март 2015
ВСТУПЛЕНИЕ
Все время я спотыкаюсь об это вступление. Написал уж: «не хочу никаких вступлений», ну и начинал бы сразу с легенд и родословной. Нет, нужно было обязательно идейную платформу подвести, как будто без того не понятно. В отличие от отца, я подозреваю, что реально-мемуарная составляющая его сочинения будет даже посторонним людям интереснее, чем публицистическая. И все же рука не поднимается – даже перенести это вступление в приложение, как я сделала бы с чьими-нибудь ранними стихами, если бы составляла сборник. В конце концов, не нравится – не читайте. А сказано там по сути все правильно, и переживал отец по этому поводу очень, и не в последнюю очередь эти переживания его со свету и сжили, а не физические и материальные невзгоды, – и его, и все его поколение. Еще недавно обличительный пафос отцовских инвектив казался слишком очевидным, и вдруг в последнее время, как раз по мере подготовки этого издания, он, как кажется, заново обрел актуальность, уж больно короткая у нас память.
отпуск – На самом деле, согласно маминой записи, было сказано (а не спрошено): «отпуск – это такая работа, когда все время пишут». Родители записывали мои высказывания в особую тетрадочку (счетом три), но это еще ничего: когда я научилась читать (задолго до школы), они мне стали давать эти тетрадки читать. Если иметь целью выработать у человека отношение к собственной личности как к чему-то сверхценному – лучше средства не придумаешь.
гвоздь в сапоге – цитата из Маяковского: «Что мне до Фауста, феерией ракет скользящего с Мефистофелем в небесном паркете! Я знаю – гвоздь у меня в сапоге кошмарней, чем фантазия у Гете» («Облако в штанах»).
Ли Пэн (не путать с Ле Пен, Жан-Мари) – китайский гос. деятель, р. 1928, в тот момент премьер Гос. Совета КНР.
ЛЕГЕНДЫ ДЕТСТВА И МОЯ РОДОСЛОВНАЯ
Семейные легенды я слышала от отца с раннего детства – напахавшись на даче, он забирался на любимый второй этаж (именуемый «балкон»), укладывался на неимоверную, непонятно как туда взгроможденную кровать, сбоку засовывал маленькую меня, ставил себе на грудь жестяную коробочку с разноцветными леденцами (бросал курить) и пускался в бесконечные рассказы. Они, конечно, повторялись, но мне это нравилось, самые любимые заказывались по многу раз. Леденцы назывались «монпансье», были желтые, зеленые и малиновые, кругловатые, часто слипшиеся по два, по три и более. Кровать называлась «бандура», форму имела выпуклую, сбоку можно было запросто скатиться, так что я укладывалась у стенки. То, что «бандура» на самом деле – украинский струнный инструмент, я узнала значительно позже и удивилась. Может быть, родители прозвали ее так за глухой пружинный перезвон внутри, а может, просто от фонаря. Я так подробно пишу про этот «балкон», потому что он до сих пор и навсегда является для меня символом и средоточием полного и безоговорочного счастья. Кроме «бандуры», в маленькой полутемной комнатке помещался огромный старинный дубовый (?) стол, за которым я впоследствии просиживала часами с книгой, рисованием, писаниной или коллекцией бабочек, – в чудесном старом деревянном кресле с круглой спинкой, украшенной меандрами, и с резными шишками на ручках-подлокотниках. Кресло было темного дерева (возможно, крашеное – цвет его был коричнево-лиловатый), без мягких деталей, с плоским прямоугольным, точнее, слегка расширяющимся на выходе сиденьем, и тоже казалось мне огромным. В ящиках стола хранился папин архив, я иногда в него лазила с восторгом и ужасом, мало что понимая. Ясно, что и стол, и кресло, и «бандура» были вполне обычного размера, тем более что комната была совершенно точно маленькая, не говоря уже о самом субъекте восприятия. Попали к нам эти и некоторые другие предметы благодаря дяде Лёне, соседу-дворнику по бараку на ул. Подбельского, где семья прожила до 1966 года. Кресло именовалось «архиерейским», и не зря: вся эта темная, тяжелая антикварная мебель была выброшена на помойку, возможно, действительно после разорения какого-то культового сооружения. На новую квартиру (на Малую Грузинскую) ее, к сожалению, не повезли, а отвезли на дачу, где она благополучно и сгорела, как неоднократно отмечается в этой книге, а новую меблировали по-современному, легким светлым чешским гарнитуром с плетеными стульями. Большинство участников этого гарнитура развалилось и было выброшено задолго до того, как была, сравнительно недавно, окончательно расформирована эта бывшая «новая» квартира. – Окошко и балкон выходили прямо в темную хвою старых елей, вечерами и ночами раздавался шум дальнего поезда и собачий лай, – звуки, в которых поныне слышится мне какая-то несбыточная надежда и тайна, а сбоку комнатки, за заделанной обоями дверцей, под скошенным под крышу потолком, имелся чуланчик с множеством загадочных волшебных предметов и, главное, с лампочкой, хотелось все время зажечь лампочку и сидеть в этом чуланчике, правда, непонятно было, что там так долго делать.
Из слышанных мною тогда легенд в воспоминаниях нет одной; допускаю, что оно пришлось на одну из немногих утраченных страниц, восстанавливаю его здесь. Повествуется о вспыльчивости и богатырской силе дедушки Павла. Однажды папа, будучи маленьким, должен был умыться. Отец ему говорит: «вымой уши и шею». А папа мой пищит: то «шею буду, уши не буду!», то: «уши буду, шею не буду!» Тогда дедушка Павел как шандарахнет кулачищем по мраморной раковине! И треснула раковина. Насколько это правда – не знаю, но у нас на кухонном столике фактически сохранялась вмятина от кружки (не разбившейся), которой в аналогичном случае шандарахнул уже сам папа, унаследовавший оба эти качества.
Наслушавшись папиных рассказов, я однажды в школе написала сочинение по заданию, насчет предков и родословной: мол, по трем линиям ничего особенного, «поколения работящих» и там каких-то еще (не помню, писала ли про национальность, надо проверить: сочинение сохранилось в составе увесистой пачки, тогда же озаглавленной мною «Собрание сочинений», сейчас ее уже поздно выбрасывать), а вот по четвертой... – и далее во всей красе про революционеров, тюрьмы-ссылки и так далее. Помню, что мама даже несколько обиделась, хотя с ею же привитой пламенно-революционной точки зрения все было правильно. Здесь и далее не буду вслед за папой повторять: «Господи, какая же я была дурочка» и проч. – по-моему, и так ясно.
у первой жены должен был родиться сын – первой женой отца была Инна Давыдовна Данкина (12 марта 1930 – 2 августа 1991), в конце книги находим историю папиного знакомства с нею. По моей просьбе их дочь Мария Герасимова написала небольшой текст о своей маме, вот он:
«В 1953 году, закончив театральное училище и вернувшись из армии, отец женился на Инне Данкиной. Позже он мне рассказывал, что женился на ней, чтобы спасти ее от нависавшей тогда в стране над всеми евреями угрозе высылок, арестов, процессов. Но это все рассказывалось много лет спустя, мне, уже взрослой женщине, после трех бурных лет брака, конфликтов, развода и долгой жизни врозь, вообще без общения... Не знаю, так ли это было на самом деле. Мне кажется, они тогда друг друга любили по-настоящему. Роман их был весьма бурным – по тем чистым и невинным временам. Отец отслужил три года в армии – и каждый день – КАЖДЫЙ ДЕНЬ – он писал маме, а она ему. Дома лежит огромная шкатулка их писем, трогательных, теплых... Хотя и весьма однообразных, а что поделать? Когда он вернулся из армии, мама как раз закончила ГИТИС – и они вместе уехали в Читу, служить в тамошнем драмтеатре. Там совместная жизнь их не была безоблачной, что уж скрывать. Характер мамы был безумно вспыльчивый и нетерпимый, да и папе порой случалось срываться, насколько знаю. Примерно год спустя мама, будучи беременна мной, вернулась в Москву – она хотела, чтобы я родилась в Москве. Отец вернулся несколько месяцев спустя. Тогда же он, насколько знаю, поступил на журфак. Он хотел профессионально заниматься фотографией... Ну, сложилось иначе – и сложилось к лучшему, наверное. Мама же не смогла найти работу актрисы. Была корректором, вела драмкружок при ДК Железнодорожников. Они почти сразу разошлись – хотя эпизодические попытки примирения были еще до 1956 года. В пятьдесят шестом они развелись окончательно. В 1961-м мама поступила помрежем на создающееся телевидение... Но это уже совсем другая история».
жена у меня в семье главная – Белла Иосифовна Залесская (18 октября 1928 – 31 августа 2005), моя мама, славилась железным характером и прочими якобы не свойственными женщинам волевыми чертами, некоторые из которых мне удалось унаследовать. Если бы ей довелось посетить сей мир «в его минуты роковые» не в детстве, а чуть позже, наверняка проявила бы себя каким-нибудь героическим образом, а так пришлось довольствоваться работой в Союзе писателей в качестве консультанта по литовской литературе (с этими обязанностями она справлялась великолепно) и ролью главы семьи.
Никаких дополнительных сведений про семью Нахмана Доктора и Дины Резниковой, а также о Шмерле Докторе я пока не нашла, – очевидно, плохо искала.
Зная, что предки происходят из Германии, я, в юности не чуждая антинаучных измышлений, одно время приписывала легкость, с которой давался мне немецкий (как будто не учишь, а вспоминаешь), «генетической памяти» или даже фокусам реинкарнации, пока не сообразила, что дело в идише, на котором часто говорили между собой бабушка с дедушкой – мамины родители. Обучать меня этому языку явно считалось излишним, но в подкорке он тем не менее засел.
Макú – партизанская часть французского Сопротивления во время Второй мировой войны.
Роберт Куковец – в интернете об этом достойном человеке находим только краткую информацию «викимедии» с датами жизни (1910–1945) и фотографией, ссылку на статью Z. Levntal «Medicinski glasnik» за март 1953 г. на «unidentified language» – словенском, надо понимать (самой статьи нет), а также упоминание в одной из статей Майи Кофман (о ней ниже): «Двоюродный брат моей мамы Роберт Куковец погиб, участвуя в югославском партизанском сопротивлении».
«Из тех медиков, кто был известен еще до эмиграции, можно назвать Клару Наумовну Куковец, боровшуюся с холерной эпидемией в Баку, и врача-гинеколога Константина Михайловича Мазурина, известного также как предприниматель, музыковед и поэт». (Из интернета. Ссылка: М. М. Горинов. Российские врачи-беженцы в королевстве сербов, хорватов и словенцев / Югославии (1918–1946): Микросоциологический анализ. – В сб.: Русское зарубежье и славянский мир, Белград, 2013. С. 225). Тетю Клару я видела в раннем детстве пару раз, когда она приезжала, но, в общем, ничего о ней не знала, в том числе ни про какую эпидемию в Баку.
Папину маму Татьяну Наумовну, «бабу Таню», я помню хорошо. Кстати, что это за имя – Таня, Татьяна, – для девочки из правоверной еврейской семьи, я не понимаю, имя явно переделанное, так же как ее сестра Эстер стала Настей, а баба Рая из Рахили Вульфовны – Раисой Владимировной, но это было известно, а про настоящее имя бабы Тани никакого разговору не было и даже тут не написано. Общались мы мало и, кажется, никогда с глазу на глаз, но она производила впечатление. Длинная, худая, как жердь (в отличие от бабы Раи, маминой мамы, кругленькой и уютной, которая меня вынянчила), она вырастала дождливым вечером на пороге нашей дачной веранды, неразрывно связанная со старой трамвайной дверью, покрытой аппетитными квадратными чешуйками облупившейся коричневой краски (ну, у нас стояла дверь от списанного трамвая – по-моему, самое время заметить, что я «пишу эти строки» в Вильнюсе на улице Трамваю, Трамвайной, хотя никакого трамвая в городе не было и нет). Это считалось как-то стрёмно, и меня тотчас же укладывали спать. Баба Таня, очевидно, приходила поговорить, ей было тоскливо вековать в темной сырой избушке в углу участка, которую ей выстроил папа, – перенес, пронумеровав бревна, из деревни и сложил заново. У нее был крючковатый «орлиный» (слово из той поры и ассоциируется именно с нею) нос, черные глазищи, стриженые седые до желтизны волосы и грудной хриплый голос, тоже какой-то «орлиный». Не помню, чтобы она когда-либо улыбалась или смеялась. Она была неудобная, не вписывалась, торчала посреди мира, как несгибаемый бестужевско-плехановский гвоздь, в своей темной хламиде и неизменной драной коричневой вязаной шали на острых плечах, и наверняка разговоры, которые она хотела вести, например, с дедушкой Иосифом Львовичем, маминым папой, о политике, мне слушать не полагалось. По своей воле я в ее избушку никогда не лазила, там была вечная ночь и сидели в потемках баба Таня и с ней баба Аня, младшая сестра, практически без речей, тоже худая, но маленькая, с огромными глазищами и следами былой красоты – по фотографиям видно, какой ослепительной породы были девицы Доктор. Приезжали мы к ним и в Москве, они жили в полуподвале то ли в Сверчковом, то ли в Армянском переулке (могу путать с жилищем других двух старушек, сестер бабы Раи: тети Любы и тети Лизы), там тоже был полумрак, кутанье в шали, две пары черных глазищ и множество писем с красными и синими марками с оленем, каковые марки мне позволялось забирать. Помню, как приезжала тетя Клара из Югославии, очень похожая на своих сестер, мы все собрались у нас дома на Малой Грузинской и фотографировались на память (год 1966, 1967).
Под конец жизни баба Таня сошла с ума, она норовила сбежать из своей избушки в скользкую дождливую ночь, упасть, завалиться в кювет, надо было не выпускать ее, не забывать запирать калитку. Меня старались от этой проблематики оберегать. Но как тут убережешь, когда, закрытая в избушке, она могла всю ночь неутомимо кричать своим клекотом: «Юра! Юра!», и папа не выдерживал и сам убегал в ночь. В детстве это не казалось так страшно.
«Осенью 1906 года на Высших женских (Бестужевских) курсах открылся третий, самый проблематичный для власти факультет – юридический. (...) В январе 1905 года грянула революция (...) Среди важнейших вопросов внутренней политики, которые замалчивались правительством, находился вопрос о допуске женщин к юридическому образованию и последующей практической деятельности в сфере юриспруденции (...) Была созвана специальная комиссия, <которая> признала важность допущения женщин до юридического образования. (...) на юридический факультет женщины шли главным образом, чтобы получить те основы общего образования, которые необходимы для участия в общественной и политической жизни, а также из особого интереса к теоретическим проблемам. Ведь о каком-либо практическом применении специальных юридических знаний не было и речи – путь к профессиональной деятельности был закрыт. (...) Норма первого приема на юридический факультет была велика, но далеко не все ходатайства о приеме были удовлетворены. Такой наплыв желающих изучать юридические науки объясняется тем, что на этот новый факультет шли не только для того, чтобы изучать право, а чтобы приобщаться к основам общественной жизни. (...) Большинство юристок-бестужевок были приняты в сословие адвокатов в качестве помощников присяжных поверенных». (С. А. Красинская-Эльяшева, А. И. Рубашова-Зорохович. Юридический факультет. – В сб.: Санкт-Петербургские высшие женские (Бестужевские) курсы, 1878–1918. Л.,1973. С. 148–163).
Тетю Раю (Раису Булгакову) помню по даче, она была такого же типа, как моя баба Рая – кругленькая и уютная, у нее был внук Борька, белесый не вредный пацанчик моего возраста, с которым мы по детству водились. Однажды раздразнили их собаку Ахилла, здоровенного лохматого колли, так, что он сорвался с привязи, кинулся на меня, повалил и, кажется, укусил, и я с тех пор собак опасаюсь. Помню, между прочим, и старожила дядю Володю, то есть при упоминании о нем в мозгу возникает слабая картинка – худой старик в каракулевой шапке-колпаке, но тогда все носили такие колпаки.
Добржинский Гавриил Валерьянович (1883–1946, в папином написании Добружинский Гаврила Валерьянович) – писатель. Родился в Вольском уезде Саратовской губернии, работал сельским учителем, в 1899 некоторое время сидел за чтение крестьянам запрещенной литературы. Учился в Московском ун-те на медицинском факультете, участвовал в революции 1905 года, в боях на баррикадах Пресни был ранен в голову и ослеп. Был выслан в Архангельск, затем в Астрахань (в ссылке зарабатывал плетением сетей и корзин). С 1911 жил в Саратове под надзором полиции. Во время гражданской войны был на польском фронте, служил в политотделе 1-й и 4-й боевых и 2-й трудовой армий, печатался в газетах «Красный боец» и «Красный воин». В 1920–21 работал в Санпросвете Наркомздрава. В 1922–25, когда создавалось Всероссийское общество слепых, принимал активное участие в общественной жизни, выступая за равноправие незрячих и зрячих. Печататься начал в 1901 как публицист и поэт. Стихи публиковались в «Журнале для всех», альманахе «Многоугольник». Как поэт, сатирик-фельетонист и публицист печатался в журнале «Пробуждение», газетах «Астраханский листок», «Прикаспийский край», «Саратовский вестник», «Киевская мысль», «День», «Волго-Донской край», под псевдонимами: Динь-Динь, Дальний, Пан-Буян, Язва и др. Основной псевдоним – Диэс (от латинского «день») в печати превратился в Диэз. В 1923–27 опубликовал много стихотворных сказок и рассказов в стихах, посвященных пропаганде здоровья и нового уклада жизни. Позднее обратился к исторической прозе и драматургии (роман «Трёхгорцы», 1935, пьеса «Иван Болотников», 1938, и др.).
О Борисе Штерензоне и Музе Павловне (справка составлена по моей просьбе Виктором Герасимовым):
«Штерензон Борис Данилович (1915–1956), горный инженер, был девятым ребенком в семье. О том, что он учится в институте, в семье узнали, когда он окончил первый курс... При защите дипломной работы член Госкомиссии задал ему дополнительный вопрос и во время ответа попытался прервать Бориса, сказав «Достаточно», на что получил следующий ответ: «По-моему, я не подзащитный, а Вы не прокурор: задали вопрос – извольте выслушать ответ». Защиту оценили на отлично, но по распределению отправили молодого специалиста работать в самую глушь: на Колыму директором золотоносного прииска, где работали заключенные сталинских лагерей.
И вот там он и познакомился со своей будущей женой, Герасимовой Музой Павловной (1916–2010), направленной туда же молодым специалистом после окончания 2-го Московского Мединститута, и была она там единственным медиком, за тысячу километров от ближайшего своего коллеги. Там, в поселке Хаттынак, у них родился мой старший брат Игорь. После войны отца перевели работать в Министерство Угля в Москву, где родился у них второй ребенок – Виктор (то есть я). Имея крутой характер, Борис не выдержал вводимых в министерских кругах правил чинопочитания во время расцвета культа Сталина и был отправлен работать начальником ремонтно-механической мастерской в тогда еще поселок Моспино Сталинской (ныне Донецкой) области. Там из мастерской он создал Ремонтно-механический завод, существующий и сейчас, а поселок стал городом.
Муза Павловна всю свою трудовую жизнь проработала врачом разных специализаций (в основном – невропатологом) и на различных должностях. Создала первое в СССР вегетарианское общество. После выхода на пенсию увлеклась диетологией («мы есть то, что мы едим»), организовала и возглавила в Днепропетровске общество здорового образа жизни – ЗОЖ. Имела много приверженцев и учеников. На 94-м году жизни (слишком поздно!) начала писать книгу опыта, но дописать не успела».
Алексей Иванович Новиков, Герой Советского Союза, генерал-майор авиации, есть в википедии, с фотографией (вполне предсказуемой). Написано, что родился 25 октября (7 ноября) 1916, а умер 23 октября 1986 г. в Москве. Детство и юность провел в Томилино, школу окончил в Люберцах, учился в ФЗУ в Москве, работал токарем. В 1936 г. окончил аэроклуб при авиамоторном заводе, потом Ульяновскую летно-техническую школу Осоавиахима, потом Борисоглебскую военную авиационную школу. Работал летчиком-инструктором в Железнодорожном аэроклубе г. Москвы, служил летчиком в Киевском военном округе. В войну сначала летчик 89-го истребительного авиационного полка, затем командир звена, заместитель командира и командир авиаэскадрильи, штурман 17-го истребительного авиационного полка. Воевал на Юго-Западном, Брянском и Воронежском фронтах, на Украине, на курском и белгородском направлениях, участвовал в Воронежско-Ворошиловградской операции, в воздушном бою был ранен в голову. 4 февраля 1943 года получил звание Героя, орден Ленина и медаль «Золотая звезда». Затем летчик-инспектор по технике пилотирования 278-й истребительной авиационной дивизии и начальник воздушно-стрелковой службы 3-го истребительного авиационного корпуса. Воевал на многих фронтах, брал Берлин, совершил 485 боевых вылетов, в 87 воздушных боях сбил лично 8 и в составе группы 6 самолетов противника. После войны начальник воздушно-стрелковой службы истребительного авиакорпуса. В 1956–1958 – заместитель начальника Управления боевой подготовки истребительной авиации ПВО страны. В 1960 году окончил Военную академию Генштаба, в 1960–1963 – начальник Управления боевой подготовки авиации ПВО страны, с 1963 года – начальник отдела кадров авиации, с июня 1970 года – в отставке. Похоронен на Ваганьковском кладбище.
Про его сына – телеоператора сведений не нашлось.
НАЧАЛО БИОГРАФИИ
Однако рожать меня все-таки поехала на родину – в семье часто вспоминали формулировку «Рожаться меня повезли в Херсон»: именно так сказал папа, когда на партсобрании, где рассматривалась его кандидатура, надо было изложить автобиографию. В партию его не приняли по причине «моральной неустойчивости» (развод), но именно эта формулировка пленила мою маму, которая присутствовала на этом собрании и видела его впервые. Потом уже они поехали вместе «на картошку», и все закрутилось.
Дарья Максимовна Пешкова (родилась в Неаполе, 1927) – актриса театра им. Вахтангова, внучка Горького (ее старшая сестра Марфа, архитектор, была женой сына Л. Берии). Окончила Театральное училище им. Щукина в 1949 г., курс А. А. Орочко. В том же году принята в труппу театра им. Вахтангова. Прямо в википедии есть чудный отрывок из воспоминаний Д. Пешковой, который ничтоже сумняшеся приведу здесь: «в доме, где мы жили, была специальная детская столовая, с камином. Нас каждое утро кормили творогом – так, что в какой-то момент я этот творог просто возненавидела. Тайком ото всех, пока никто не видит, я выбрасывала творог в камин. Так продолжалось довольно долго, пока в доме вдруг не завелись мыши. Никто не мог понять, откуда они взялись. И вот вдруг в один прекрасный момент меня именно за этим занятием застает мой дедушка. Что тут началось! Он схватил меня за шкирку, стал трясти, поволок в комнату. Бабушка за меня вступилась, кричит: «Отпусти! Хватит!» Позже мне рассказывали (я этого не запомнила), как он выговаривал мне за то, что я смею выбрасывать еду в то время, когда детям в России нечего есть. Надо думать, Алексей Максимович действительно вышел из себя, – всем известно, что нас с Марфой он просто боготворил».
Потатосова Алла Владимировна – биография из интернета: «До войны поступила в Щукинское училище, потом добровольно ушла на фронт, была контужена. В 1949 году все-таки доучилась на актерском факультете, работала – сначала в Драматическом театре ЦДКЖ, потом в Московском театре нефтяников. Там она познакомилась с нар. арт. СССР М. Ф. Астанговым, который недолго руководил этим коллективом, и стала его женой». Даже сокращать нечего.
Соколов Владимир Николаевич (1928–1997) родился в Тверской области в семье военного инженера, мать – архивист, сестра известного писателя-сатирика 20–30-х годов Михаила Козырева. Стихи писал с 8 лет, в старших классах с другом Давидом Ланге (он также упоминается в этой книжке) издавал рукописные журналы, посещал литературный кружок Е. Благининой. По рекомендации ее и проф. Л. И. Тимофеева в 1947 году был принят в Литературный институт, первая публикация – в «Комсомольской правде» (1948). Стихи заметил Степан Щипачев и рекомендовал Соколова в Союз писателей. Первая книга – «Утро в пути» (1953). В 1955 году женился на болгарке Хенриэтте Поповой (через несколько лет она покончила c собой); между прочим, с их дочерью Снежаной мы потом в свою очередь учились в Лит. институте, на отделении перевода, в семинаре Л. Озерова. Соколов хороший поэт, не знаменитый, но заметный, папа часто о нем говорил. Издал несколько поэтических сборников, переводил с болгарского, лауреат советских и болгарских литературных премий.
ЛАДНО, ЧИТАЙ!
Горы Сьерра де Гвадаррама (у отца с ошибкой), город Теруэль – места сражений, география Гражданской войны в Испании 1936–1939 гг.
МОЕ ПОКОЛЕНИЕ
Из тех Корецких, что вошли в интернетные мартирологи, больше других подходит Корецкий Борис Михайлович, род. в 1874 г. в Харькове, отв. исполнитель сектора снабжения Мосгужтреста, проживавший по адресу: Москва, ул. Новослободская, 18, кв. 8. В краткой справке говорится: Арестован 15 февраля 1933. Приговорен: Тройка при ПП ОГПУ МО 26 июля 1933, обв.: 58-10. Приговор: по Закону от 07.08.32 г. выслан в Северный край на 3 г. условно, содержался под стражей с 15.02.33 по 23.05.33. Реабилитирован 10 октября 1995. Честно говоря, по этой справке я не совсем понимаю, какое именно наказание понес Борис Михайлович и когда он умер. Может, это вообще не тот Корецкий.
Майя Лазаревна Кофман – правозащитник, член общества «Мемориал», пишет: «Моя бабушка Раиса Билик-Герценштейн после смерти мужа Владимира Герценштейна (инженера путей сообщения, заведующего международным техническим бюро, членом императорского технического общества) в 1904 году уехала с тремя маленькими детьми во Францию» (...) «Мои родители: Кофман Лазарь Моисеевич (1894–1938) – авиаконструктор, окончил технический институт в Нанси (Франция), и мама Герценштейн-Кофман Анна Владимировна (1900–1938) – инженер, получила высшее образование в Гренобле (Франция)» (...) «Брат отца Самуил Кофман, дипломат, арестованный одновременно с ними в 1937 году, получил три приговора и покончил с собой в 1950 г. в Колымских лагерях. В эти же годы погиб в лагерях их двоюродный брат Хаим Лахманович». (...) «Я родилась в Москве 26 мая 1930 года. После гибели родителей осталась с матерью мамы, которая по просьбе дочери приехала в 1932 году из Франции. Благодаря бабушке Раисе Борисовне Билик-Герценштейн (1869–1941) я не попала в детский дом. Во время войны была в эвакуации в интернате на Алтае. Окончила среднюю школу и геолого-разведочный факультет Нефтяного института. После окончания 2 года работала на Северном Сахалине; вернувшись в Москву, в гидрогеологических экспедициях по всей стране. У меня есть дочь, которая преподает английский язык в школе, и сын, работающий в фирме, 4 внучки и один внук. Я на пенсии с 1985 года. В январе 1988 года я пришла в общество «Мемориал» (...)» «Л. Кофман и А. Кофман-Герценштейн были высланы сюртэ женераль (французской полицией) из Франции в марте 1930 года как члены Бессарабского общества и коммунисты и расстреляны по приговору Военной Коллегии за троцкистско-шпионскую деятельность и связь с французской полицией». (См. статьи М. Л. Кофман в Интернете).
«Карл Бруннер» (или «Держись, Карлуша!»), «Украинфильм» (Одесса), 1936 – об участии детей в борьбе немецких коммунистов против фашистов. Герой фильма – сын подпольщицы, и полиция пытается с его помощью обнаружить родителей.
«Профессор Мамлок» – «Ленфильм», 1938, реж. А. Минкин и Г. Раппапорт, по пьесе Фр. Вольфа, о гонениях на евреев в фашистской Германии. Сюжет вполне актуален и для советской страны: герой, успешный хирург, принципиально не интересуется политикой; узнав, что его сын примкнул к движению сопротивления, выгоняет его из дому, но вскоре его дочь вынуждена уйти из школы как еврейка, а потом он и сам становится жертвой гонений.
Ах, друг Аркадий!.. – «О друг мой, Аркадий Николаич! – воскликнул Базаров. – Об одном прошу тебя: не говори красиво» (И. С. Тургенев, «Отцы и дети»).
Валентиновка – «В середине тридцатых годов, – любезно сообщают в интернете на сайте Валентиновки, – к юго-востоку от платформы Валентиновка возникли дачно-строительные кооперативы «Чайка» и «Малого театра». И все эти годы здесь жили, работали, отдыхали те, кого можем назвать цветом отечественной культуры». Ясное дело, возникли они сами собой, а что дед из-за них чуть в тюрьму не сел, всем плевать. Шучу. Может, это вовсе и не те кооперативы.
Евгений Генрихович Кригер (1906–1983) – писатель и журналист, участник Великой Отечественной войны, много лет работал спецкором «Известий» (1932–73).
О Трудкоммуне в интернете находим статью Е. И. Егоровой «Трудкоммуна в Николо-Угрешском монастыре», в частности, упоминается вечерняя школа для взрослых, в которой преподавал дед:
«В начале XX века в процветающем Николо-Угрешском монастыре проживало около 200 монахов. (...) В 1924 г. Московским отделом народного образования (МОНО) на Угреше был организован Красный детский городок на 950 детей, в который входило четыре детских дома. (...) В Московской области находилось две крупные трудкоммуны при ОГПУ-НКВД. Инициатором и вдохновителем создания коммун при этом ведомстве выступил Ф. Э. Дзержинский (...) Официально трудкоммуна No 2 была создана приказом Хозяйственного отдела ОГПУ 30 августа 1927 года, но фактически вела свое начало от Звенигородской детской колонии, существовавшей с 1925 года на территории Саввино-Сторожевского монастыря в Звенигороде. В колонии воспитывалось около 1300 детей, для которых монастырские помещения были слишком тесны. Негде было разместить мастерские и учебные классы. От безделья ребята хулиганили, устраивали массовые побеги, играли в «партизанскую войну», а однажды устроили своеобразный «бунт», который описал М. Горький в очерке «По Союзу Советов» (...) Первые 2-3 года в трудкоммуну попадали в основном беспризорные подростки, а позднее принимались молодые заключенные до 25 лет (...) Большое внимание уделялось в трудкоммуне производственному обучению. Если поначалу коммунаров обучали прямо в мастерских, то позднее при каждом заводе открылись фабрично-заводские училища, работала общеобразовательная средняя школа, вечерняя школа для взрослых. (...) В середине 1930-х годов в трудкоммуне снималась кинокартина «Ангел», продолжение известного фильма «Путевка в жизнь». В съемках участвовало около сотни коммунаров. Многие коммунары занимались спортом. Построенный стадион был в то время самым большим в Ухтомском районе (...) Издаваемая в те годы местная газета «Дзержинец» выходила тиражом 1500-2000 экземпляров дважды в неделю. К сотрудничеству в качестве рабкоров привлекались коммунары. Содержание газеты отражало жизнь коммуны: производственные успехи и проблемы, социалистическое соревнование, культурные и спортивные мероприятия, работу партийной, комсомольской и профсоюзной организаций. (...) Помещались там и статьи типа «Вооружимся бдительностью», направленные против якобы действовавших «врагов народа». Волна сталинских репрессий прокатилась по трудкоммуне в конце 1937–1938 годах. Пострадали многие коммунары и вольнонаемные работники, прежде всего руководители высшего и среднего звена. (...) Поводом для арестов могла послужить любая производственная неурядица, объявленная «вредительской» (...) К концу 1930-х годов в СССР уже не было той армии беспризорных, которая существовала раньше как продукт революционных потрясений, репрессий и голода. (...) Однако молодежь, попадавшая за решетку за мелкие правонарушения, обретала новую жизнь в трудкоммунах и еще нуждалась в них. К сожалению, изменившаяся внутриполитическая обстановка и, возможно, репрессии привели к тому, что решением Административно-хозяйственного управления НКВД от 30 декабря 1938 года все три крупные трудовые коммуны этого ведомства – в Болшеве, поселке имени Дзержинского и в Харькове были реорганизованы в производственные комбинаты НКВД.» – Из кн.: Егорова Е. Н., Антонова И. В. Угреша. Страницы истории. – Дзержинский: ДМУП «Информационный центр», 2005.
Позволю себе предположить, что вышеизложенная информация может рассматриваться как одно из объяснений такого феномена 80-х, как движение «люберов» – молодых людей из подмосковных Люберец, которые объединялись в стихийные отряды для борьбы с «неформалами», силой кулака отстаивая традиционные советские ценности.
Щепетильниковское трамдепо – Транспортный парк по адресу: ул. Лесная, д. 20, патриарх московской транспортной сети, был основан в 1874 году как Миусский парк конно-железных дорог. В 1875 г. в нем было 70-75 двухэтажных вагонов,, запряженных 114 лошадьми. В 1899 г. появились 6 «аккумуляторных вагонов новейшей системы» – первые трамваи типа «Сименс-Гальс». 13 сентября 1901 года Миусский парк перешел в собственность города и был переоборудован под трамваи: к концу 1908 г. там было 160 моторных и 70 прицепных вагонов. Окончательный перевод парка на трамваи, его техническая и архитектурная перестройка завершились к 1909 г., и в таком виде он существовал до 1957 г. В 1922 году парк был переименован в Трамвайное депо имени Петра Щепетильникова – в честь революционера, слесаря парка. Теперь это 4-й троллейбусный парк, и вы, может быть, неоднократно мимо него ходили (рядом с РГГУ). Я вот сейчас вспомнила, как однажды мы с Егором Радовым в пьяном веселом виде лазили по пустым троллейбусам и там целовались. А в ДК им. Зуева на Лесной, где папиной маме вручали премии, я в 1986 году проводила обэриутский вечер с поэтами, джазом и прочим весельем.
Сперанский Юрий Аркадьевич родился 20 июня 1929 года в Москве, а умер, оказывается, совсем недавно, 11 декабря 2014. Певец (тенор), педагог, режиссер, засл. деятель искусств РСФСР. В 1946–1950 учился на отделении актера драмы Московского Театрального училища. В 1950–1954 актер ЦТСА. Параллельно со службой в армии учился на вокальном отделении муз. училища при Московской консерватории, потом в Гнесинском. Работал в Пермском оперном театре (1958–1959), в Большом академическом театре в Минске (1959–1961), на Всесоюзном радио в Москве (1961–1963), с 1963 – в Институте им. Гнесиных (с 1975 – зав. кафедрой оперной подготовки); в 1976 основал там Театр-студию оперы и стал ее художественным руководителем.
Александр Сергеевич Поль – об этом человеке в интернете много занятного помимо стандартной биографической справки (1897–1965, театровед, педагог и т. д.) Он родился в Москве в семье драматических артистов, окончил Выборгское восьмиклассное коммерческое училище в Петрограде; в 1916 г. был призван на военную службу, окончил школу прапорщиков Александровского училища в Москве, работал на Дону учителем и в Политотделе Реввоенсовета Донской области. В 1920–23 учился на факультете общественных наук 1-го МГУ, одновременно в Гос. Институте Слова (ораторское отделение). В дальнейшем преподавал в вузах Москвы (ГИС, Институт им. Плеханова, Высшие экономические курсы, Коммунистический университет нац. меньшинств Запада и др.). В 1924 г. через театрального художника Л. А. Никитина познакомился с индологом и поэтом П. А. Аренским и вместе с женой получил посвящение в одном из «рыцарских» кружков «Ордена Света» и его подразделения – «Храма Искусств», являвшихся филиациями российского Ордена тамплиеров, основанного А. А. Карелиным в 1920 г., где состояли многие представители московской интеллигенции, связанные с московским театральным миром, в т. ч. Ю. А. Завадский и Д. Д. Благой. В 1930 г. была проведена широкомасштабная акция ОГПУ против мистиков. Члены «Ордена Света» обвинялись в антисоветской агитации, контрреволюционной деятельности, распространении антисоветской литературы, причем главным основанием обвинения явилась рукопись книги А. А. Солонович о Бакунине и листовка с призывом к восстанию, обнаруженная у И. Н. Иловайской (Уйттенховен). К моменту ареста (1930) Поль жил вместе с матерью и женой на Каляевской ул., д. 34а, кв. 9. Обыск в квартире произвели в его отсутствие, арестовали после возвращения с дачи. Предъявлено обвинение в участии и руководстве контрреволюционной организацией, посещении нелегальных контрреволюционных собраний и распространении нелегальной литературы. В следственном деле «Ордена Света» сохранились подробные показания А. С. Поля (и их можно найти в интернете). Приговорен к трем годам лагерей, работал экономистом в Управлении Беломорканала на Медвежьей Горе, освобожден досрочно. С 31.06.33 по 07.05.34 г. работал в системе лагерей ОГПУ, сначала в должности начальника КПЧ Балахнинских лагерей, затем в должности экономиста КПО в Прорвлаге (г. Астрахань). Это позволило ему вернуться в Москву и продолжать работу в московских вузах – в училище Московского Камерного театра (1934–1937 гг.), в Московском городском театральном училище (с 1937 г.), во ВГИКе (с 1939 г.), в ГИТИСе (с 1944 г.), в Щукинском училище (1938–58), в Школе-студии МХАТ (основное место работы с 1957 г.). «Блестящий лектор, широко эрудированный специалист в области западноевропейской культуры вообще, А. С. Поль рано снискал заслуженную славу исключительного лектора и педагога, память о котором жива и сейчас среди его учеников, спустя десятилетия после его смерти», – пишут на одном из сайтов. Архив его, за исключением некоторых документов, переданных вдовой в рукописный отдел Научной библиотеки СТД, находится в РГАЛИ (ф. 3127, «Орден Света», Поль А. С.). Реабилитирован в 1975 г.
Случай с Эженом Потье я в свой черед повторила, как водится, «в виде фарша». Однажды, уже в старших классах (год 1975–76), к нам в школу каким-то ветром, видимо, на почве борьбы за мир и разрядку напряженности, занесло американскую тетю, которая в самых безоблачных тонах повествовала нам на своем родном языке про тогдашнюю Америку, как там хорошо, весело и здорово. Ну, я слушала, слушала, а потом справедливости ради подняла руку и спрашиваю: а как, мол, у вас там дело обстоит, например, с наркотиками, мы вот тут слышали, что у вас есть такая проблема среди молодежи. Причем я сказала «narcotics», а она в ответе употребила слово «drugs», которого я дотоле, естественно, в этом значении не слышала. Тетя сбледнула, конечно, с лица, но честно отвечала, что такая проблема есть, и с ней борются. Помню, что мандраж я при этом испытала нехилый, а также смутно помню, что учительница мне за это потом вставила негласный мрачный пистон, к некоторому моему удивлению. Точно как у папы: «Меня заткнули и тему эту не развивали». А потом мне эту историю пришлось, как говорилось некогда, искупать «всею жизнию своею», по крайней мере значительною ее частию.
Портсигар с Прагой на крышке при переезде был неукоснительно утащен мною на почетную полку, где стоит поныне. Я было думала, что папа привез его из Праги, а оказалось вон что.
Город Зеленоград – в нем-то мы сейчас и живем: несколько лет назад, подыскивая квартиру на отшибе, я практически без сомнений выбрала именно Зеленоград, чтобы вернуться в лес своего детства. В общем, получилось.
Марк Владимирович Кабаков – судя по интернету, этот удивительный человек до сих пор здравствует, чего и вам желаю; более того, через три дня после написания мною данной строки ему исполнится 91 год (род. 24 апреля 1924). Писатель, поэт, публицист, капитан первого ранга. Родился в Ленинграде, в семье выходцев из Минска, «из бывших», так что отца в 1928 году репрессировали и послали строить Беломорканал. Учился в военно-морской спецшколе в Москве, воевал, в 1947 г. окончил Высшее военно-морское инженерное училище, служил на Балтийском, Черноморском и Северном флотах до 1974 года. Сотрудничал с газетами «Правда», «Красная звезда», «Литературная газета», «Советская Россия» и др. Живет в Москве, с 2004 года частично в Израиле. Автор более двадцати книг стихов и прозы. Член Союза писателей СССР (1973) и Союза писателей Москвы (мы с ним еще и в одной организации состоим, оказывается). В интернете о нем довольно много упоминаний и воспоминаний, например, мемуары И. Н. Жданова об Игоре Ринке, где, в частности, говорится: «Потом Ринк переехал к новой жене и оказался моим соседом по Обыденскому переулку. Над ним жил поэт-моряк Марк Кабаков, умевший часами говорить в рифму. Мы с Галей часто бывали там в гостях, заходили поэты, прозаики. Заскакивал капитан-лейтенант, тогда просто здоровый, а не толстый Никита Суслович, вечно пьяный Марк Калиновский, сочинивший повесть «Закон стального ключа», молодой, но уже нахальный Ваня Савельев – бездарный, но с претензией. Было весело, пьяно, гитара не умолкала, рассказы о героическом прошлом тоже».
ГОД СОРОК ПЕРВЫЙ
«Чужой земли ни пяди не хотим...» – нам эта цитата известна по песне бр. Покрасс на слова Б. Ласкина «Марш советских танкистов» (1938, из фильма «Трактористы», но вообще это переложение слов Сталина (27 июня 1930, Полит. отчет ЦК XVI съезду): «Ни одной пяди чужой земли не хотим. Но и своей земли, ни одного вершка своей земли не отдадим никому».
КУРТАМЫШСКОЕ ЖИТЬЕ
Софья <Ивановна> – правлю по дальнейшим упоминаниям (здесь ошибочно – Петровна).
«Точить ножи-ножницы...» Помните? – То же касается, например, «клятвы Сталина» и еще каких-то деталей, по поводу которых папа апеллирует к памяти читателя. Готовя эту книгу, я вдруг осознала, что тех, кто «помнит», в общем-то, уже и не осталось: 20 лет, упущенных для ее публикации, решили дело, – именно те 20 лет, когда было не до нее, – и мне, и как-то, по ощущению, вообще. Было еще много людей, помнивших ножи-ножницы, и эвакуацию, и самого папу, и вдруг раз! – и не осталось. И только ветер гуляет, и так далее, и так далее.
Вилен Бруз – один из немногих героев этой книги, которого я сразу нашла в интернете (в т. ч. благодаря уникальному сочетанию имени и фамилии). Жаль, у папы не было такой опции – порадовался бы. Пишут: Бруз Вилен Семенович, г. р. 1927, генерал-майор авиации. В Вооруженных Силах с 1946 по 1988 г. Окончил Чугуевское военное авиационное училище летчиков (1950 г.), ВПА им. В. И. Ленина (1958 г.), Киевский государственный университет им. Т. Г. Шевченко (1957 г.). Доктор исторических наук, профессор. Действительный член Академии военных наук РФ. Сфера научной деятельности – военная история, история ВВС. (Последовательно:) курсант, летчик, старший летчик, зам. Ком. по полит. части авиационной эскадрильи, полка, нач. политотдела авиационной дивизии, преподаватель, старший преподаватель, старший научный сотрудник, нач. кафедры Военно-воздушной инженерной академии им. Жуковского (1978–1988). С 1993 г. – ученый секретарь, помощник директора ЦДАиК по научной работе, нач. отдела. Один из ведущих специалистов в области строительства ВВС. Более 100 научных работ, из них свыше 20 учебно-методических пособий, 3 переведены и изданы за рубежом. Монография «Воздушная мощь Родины» («Воениздат», 1988). За время работы в академии подготовил 19 кандидатов наук, в рамках единой научной школы сформировал отдельные научные направления по военной истории. Орден Красной Звезды, орден «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 3 степени, 16 медалей и почетный знак ветерана войны и военной службы.
Комсомольский билет. – С детства вдохновленная папиными рассказами, я идейно рвалась в пионеры и потом в комсомол, норовила испытывать священный трепет и не могла понять, почему не прёт. Лезла в первую группу вступавших в комсомол, тех, что родились зимой и в апреле были уже 14-летними, всё хотела в тринадцать вступить, писала красивое заявление «от себя». На меня посмотрели странно и сказали, что писать надо не как попало, а по форме. Процедура оказалась будничная, скучная, никто ничем не пылал, ничего особенного не осознавал. Правда, к тому моменту уже успел произойти наш с папой знаменитый разговор про «литературного власовца» и Павлика Морозова, а на следующий год (или через год?) я попала в ШЮЖ («Школу Юного Журналиста» при МГУ) и тем самым к «коммунарам» – ребятам, пытавшимся в семидесятые годы в противовес комсомольскому официозу как-то освежить молодежный движняк. Нам, школьникам, пытались вправлять мозги (или наоборот – сдвигать крышу) первокурсники журфака: Саша Морозов (ныне политолог – он у нас был самый главный и любимый), Боря Минаев (ныне бывший главный редактор «Огонька»), в меньшей степени Андрей Максимов, еще там были Саша Фурман, художница Женя Двоскина, а руководили всем журналисты Валерий Хилтунен и Ольга Мариничева. Пели песни, сочиняли, строили новые отношения, надеялись что-то изменить. Безнадежная затея, но сам процесс!
В КАЗАХСТАНСКОЙ СТЕПИ
Архипова криница – Рассказ про криницу известен мне с младенчества. Если бы я сразу уделила достаточно внимания папиной машинописи, давно бы уже съездила в Серогозы и поискала там эту криницу. По невнимательности я думала, что дело было в Херсоне. Впервые я попала в этот город в год папиной смерти, нашла в центре какой-то огромный колодец, вырытый при Екатерине, заглядывала туда глубокомысленно, ходила и в краеведческий музей, но ничегошеньки не нашла, кроме краткого упоминания о деде не помню уже даже где, в дневнике записано. Подружилась с кучей народу, за десять лет была (с концертами и без) раз десять, могла десять раз и в архив сходить, и на историческую родину съездить, и все откладывала на потом. Наконец руки дошли делать книгу, и я поняла, что колодец не в Херсоне, а в Серогозах, и мы встретились с братом, днепропетровским Виктором Борисовичем, уже совсем было договорились, что поедем туда на машине, – собирались весной 2014, но как-то вот не очень вовремя оказалось.
...ко всенощной на Пасху. – И меня повел – впервые в жизни – лет в 13, то есть в 1974 году, а может, в 75-м. Один из немногих случаев, когда сделал по-своему, жестко преодолев мамино неодобрение. Защищался: это часть культуры, нельзя от нее отказываться... Мама, воспитанная вне религиозной традиции, как христианской, так и иудейской, была последовательной атеисткой и только незадолго до смерти позволила себе замечание: «а все же, может быть, какая-то сила есть». Папа религией всегда интересовался, дома имелось несколько изданий Библии – и современные, и старая заслуженная «с рисунками Доре», а также бесчисленные «Забавные Евангелия» и прочие безбожные размышления на тему. В храмы он заходить любил и, несмотря на демонстрацию чисто культурного к ним интереса, явно испытывал нечто большее; над последним его ложем висели два крестика – православный и католический. И вот, невзирая на мамино недовольство, мы с папой отправились в ночь, в ближайший храм Иоанна Предтечи, что на Пресне, там была толпа бабушек, сладкий запах, трепет множества свечей, все пели «Воскресение Твое, Христе Боже...» и потом «Христос воскресе из мертвых...», и, к моему изумлению, мой папа подпевал им. Огромное было потрясение, и вкупе с проглоченным за одну ночь (летом, в квартире вильнюсского дяди Дани) самиздатским «Мастером» произвело в моих мозгах капитальный, поначалу никак себя не афишировавший переворот. Тут же, конечно, и Достоевский, и, как ни смешно, переписанный у соседки Тани с пластинки на бобину «Jesus Christ Superstar» – все шло в дело. Между прочим, я, что называется, долгими зимними вечерами прочитала «для общего развития» все Пятикнижие по нашей огромной тяжеленной Библии и сломалась только на подробном перечислении размеров, согласно которым надо строить храм, в локтях и прочих неудобоваримых единицах.
Однотомник Маяковского, пухлый, рыхлый, истрепанный, желто-коричневый, зачитанный мною в детстве наизусть, существует до сих пор. Меня в детстве научили любить Маяковского, а уж разучивалась я потом самостоятельно. Многое помню до сих пор, в частности, треть поэмы «В. И. Ленин» (лучше бы уж, как папа, «Онегина»). Пока учила (в старших классах школы, ежевечерне перед сном – где-то полгода, наверное), поняла, что поэма не фонтан: это, пожалуй, единственное начинание, которое я в своей жизни не довела до конца.
Чем хвалится, безумец! – цитата из А. С. Пушкина, «Борис Годунов».
МОСКВА-1944
ОСОДМИЛ – общество содействия органам милиции и уголовного розыска, учреждено в СССР в 1930 г.
РОМАНТИКА, РОМАНТИКА...
Анатолий Иосифович Горюнов (наст. фамилия Бендель, 1902–1951) – актер театра и кино, основное амплуа – сатирически-комедийное. Народный артист РСФСР (1946), лауреат Сталинской премии второй степени (1950). Родился в Москве, мать – Анна Михайловна Москвина, сестра великих актеров Ивана Москвина и Михаила Тарханова, которые принимали участие в воспитании племянника, рано лишившегося отца. В 1924 году окончил театральную школу 3-й Студии МХАТ. С 1926 года – актер Театра Вахтангова, зав. литературной и постановочной частью, художественный руководитель, педагог. В кино снимался с 1921 года.
Сирано де Бержерак явно был папиным любимым героем, и мечтал он об этой роли очень, тем более что нос, в общем, позволял. На сцене он его так и не сыграл, но, думаю, знал наизусть и разыгрывал на нашем чердаке-«балконе» перед самой благодарной аудиторией в лице восхищенной меня. Отлично помню его – молодого, растрепанного, с горящими глазами, декламирующего в тусклом свете настольной лампы: «Мой нос – ха-ха – мой нос!» Это ведь было всего-навсего начало шестидесятых, со времени ухода из театра прошло лет десять, все было еще живо, как для меня какие-нибудь «гоголя» в середине девяностых. Надо сказать, что я до сих пор так никогда и не видела ни одной постановки «Сирано» и, кажется, даже не читала пьесы, хотя вообще читала крайне много. То же самое касается «Принцессы Турандот» и «Мадемуазель Нитуш». Надо, наверное, все же восполнить пробел, хотя не знаю, можно ли найти киносъемку тех старых спектаклей, а современные смотреть не хочу.
Озеров Николай Николаевич (1922–1997) – спортсмен, актер, знаменитый спортивный комментатор, нар. арт. РСФСР (1973), лауреат Гос. премии СССР (1982), засл. мастер спорта СССР (1947). Отец – оперный певец, прапрадед известный духовный композитор 19 века Михаил Виноградов. (Дом на Разгуляе, в котором жила семья, отцу предоставили в качестве казенной квартиры от Большого театра). В 1934 году стал чемпионом Москвы по теннису среди мальчиков, с 1941 – мастер спорта по теннису, с 1947 года – заслуженный. В 1941 году поступил на актерский факультет ГИТИСа, в 1946 на работу во МХАТ, где сыграл более 20 ролей. В 1950–1988 – спортивный комментатор радио и телевидения (15 Олимпийских игр, 30 чемпионатов мира по хоккею, 8 чемпионатов по футболу мира и 6 – Европы), в качестве комментатора побывал в 49 странах мира. В конце 1980-х был избран председателем спортивного общества «Спартак».
«ДЕТСКИЕ ИГРЫ» И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ
Котов Владимир Петрович (1928–1975) – «комсомольский» поэт, автор слов популярных песен (в т. ч. «Марш монтажников», «Запишите меня в комсомол»). В 1950 году окончил факультет русского языка и литературы МГПИ, работал в газете «Комсомольская правда»; печатался в журналах «Крокодил», «Огонек», газете «Правда». Первая книга стихов вышла в 1955 году в издательстве «Молодая гвардия», где он потом заведовал отделом поэзии. Член СП СССР с 1958 г.
Анна Паукер, урожд. Ханна Рабинсон (1893–1960) – румынский политический деятель, министр иностранных дел Румынии, фактический лидер Румынской компартии в конце 1940-х – начале 1950-х гг. Можно я других уже не буду комментировать? Они все есть в википедиях.
ЛУБЯНКА
Сендык Анатолий Геннадьевич (1928–1979) – писатель, переводчик. После лагерей и ссылок вернулся в Москву, в начале семидесятых годов был со скрипом принят в Союз писателей. Переводил с английского, в первую очередь Киплинга, а также австралийских поэтов. (В интернете читаем: «переводил и казахов по подстрочнику, но лучше уж тех трудов не вспоминать» – и охотно верим). Умер во время турпоездки по русскому Северу, после смерти был забыт и почти не переиздавался.
Сеф Роман Семенович (Роальд Семенович Фаермарк, 1931–2009) – детский поэт, писатель, драматург, переводчик. Родился в Москве в семье партийных работников (Сеф - партийный псевдоним отца), которые были репрессированы в 1936 г. (отец расстрелян, мать попала в лагерь на 10 лет). После школы работал на разных работах, в том числе водителем автобуса Союза писателей. В 1951 г. репрессирован по 58-й статье, провел год в одиночной камере, пять лет на поселении в Караганде, там выучил английский язык и начал заниматься переводам. В 1956 г. был реабилитирован, впоследствии стал известным писателем и педагогом: заслуженный деятель искусств Российской Федерации, член Правления МГО СП России, председатель Бюро творческого объединения детской и юношеской литературы, руководитель творческого семинара детской и юношеской литературы в Лит. институте, председатель Ассоциации детских писателей Москвы, член комиссии по Госпремиям при Президенте РФ.
Андрей Сергеевич Крюков (1925–2005) – актер, театральный режиссер, педагог. Был арестован 20 февраля 1951 года по доносу, осужден и отправлен в лагерь, освобожден после смерти Сталина. Работал в Московском Театре Сатиры, преподавал в ГУЦЭИ.
«СЕКРЕТНЫЙ СОТРУДНИК»
Максим Иванович Греков (настоящая фамилия Селескериди, 1922–1965, у отца ошибочно «Селескириди») родился в Ставрополе; позже семья поселилась в Москве. Одноклассник В. С. Фрида, упоминается в его мемуарах «58 с половиной, или Записки лагерного придурка» (книга есть в Сети, очень рекомендую). До войны был одним из организаторов знаменитой Арбузовской студии, дружил там с Эд. Багрицким и З. Гердтом. Ушел добровольцем на фронт, в 1943 был заброшен во вражеский тыл и воевал в партизанском отряде «Победители» (см.: Д. М. Медведев, «Это было под Ровно»). После войны закончил Щукинское училище и был принят в театр Вахтангова. В одной из кратких биографических заметок в Сети мы узнаем, как нелепо погиб этот замечательный веселый человек, герой-партизан, прошедший войну: «В 1964 году он с группой артистов приехал к атомщикам Дубны, в ожидании концерта искупался в небольшом пруду на территории Академгородка и лишь после выступления заметил на берегу пруда щит с надписью: «Купание запрещено! Радиоактивность!» Умер через несколько месяцев от лучевой болезни. Ему было 42 года». Селескериди явно был для отца не просто старшим товарищем, но примером для подражания и ролевой моделью, и должна сказать, что папа тоже норовил залезть в любой водоем, в том числе недостаточно чистый, нечеловечески холодный и практически непригодный для купания, каковую манеру отчасти унаследовала и я.
Прокофьев Николай Вячеславович (1923–2010) окончил Щукинское училище в 1949 г., после этого играл в Театре Маяковского.
Холодков Александр Васильевич (1920–1965, род. в Майкопе) до войны был артистом вспомогательного состава Майкопского обл. Театра Драмы, прошел войну, в 1945–1949 учился в Щукинском училище, потом играл в Театре Маяковского, снимался в кино. Был мужем Люсьены Овчинниковой, знаменитой по роли Кати в фильме «Девчата» (1961).
Березницкий Ян Анатольевич (1922–2005) – театровед и кинокритик, окончил Щукинское училище в 1949 г., печатался с 1957 г. Автор статей по советскому и зарубежному киноискусству, переводил пьесы и сценарии с английского и польского. Премия СК СССР (1974). Еще до войны дружил с М. Селескириди, а также с Эд. Багрицким. Есть хороший сайт bereznitsky.com, сделанный его сыном Георгием.
РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОМ
Бейлиных – уже, конечно, не самых старших, – а также Карповых, Фандеевых и прочих обитателей поселка Трамвайщиков я прекрасно помню: участники папиной юношеской компашки, народив детей, передружили их, дочка тети Люси Карповой, Таня Котова, считалась моей лучшей подругой, даже некоторое время после гибели нашей дачи (их домик, соседний, между прочим, стоит до сих пор, и сравнительно недавно, совершив вылазку туда, я встретила сына папиного друга дяди Юры Фандеева – Андрея). Все это было в досетевую эру, и мы все растеряли друг друга и никогда не встречаемся, а Таня, оказывается, вообще погибла в автокатастрофе. Одно из лучших воспоминаний моего детства: проливной дождь, я сижу на террасе, что-то печально рисую и ною: «Танюльку, хочу Танюльку»! Папа молча надевает плащ, сапоги, уходит в дождь и скоро возвращается с Танюлькой в охапке – по ощущению, к молчаливому недовольству мамы, ибо нечего баловать. Мне, наверное, года три, Танюльке – два. Возможно, именно в этот момент было заложено основное мое качество: умение надеяться, что, если хорошенько захотеть, сбудется все что угодно.
Нафи Григорьевич Джусойты (род. 27.02.1925) – юго-осетинский поэт, ныне народный писатель Осетии и академик, дружил с моими родителями, очень хорошо относился ко мне. Как-то, сидя у него на коленях (лет в шесть?), я заявила, что вот мол всем хорош дядя Нафи, только прокуренный насквозь. И что вы думаете? – Нафи бросил курить! Навсегда ли – неизвестно, но мама эту историю всем всегда рассказывала, видимо, в назидание папе. А какой Нафи был прокуренный – помню до сих пор.
Стасис Науседас – легендарный (для меня) кузнец из литовской деревни Русне на берегу Куршского залива, где родители отдыхали летом 1960 года и, по слухам, зачали меня, предположительно в палатке (теперь вы всё поняли). С семейством кузнеца они дружили, то ли палатку на их поле ставили, то ли молоко у них покупали, не помню. У него было много детей, в их числе Онуте – моя тезка, про которую папа сочинил потом стишок: «Маленькая девочка Онуте, Аннушка, сестричка из Литвы» (больше не помню). Все хочу дотуда доехать, и все никак не доеду – смотрю каждое лето с другого берега залива, из Ниды, и никак не выкрою дня для поездки туда и обратно на катере.
Писатели Кирилл Владимирович Ковальджи (род. 14.03.1930) и Лев Разгон (01.04.1908 – 08.09.1999) были нашими соседями по дому 31 на Малой Грузинской. Вообще это был «союзписательский» дом, но и сама постройка (12-этажная одноподъездная «башня»), и контингент – пожиже, чем, например, на Аэропортовской, или позднее в Безбожном, где я потом некоторое время жила в качестве невестки Риммы Казаковой. В частности, там дали квартиры многим из консультантов по нац. литературам, моей маме в том числе. Из знаменитых там жила Новелла Матвеева с мужем-алкоголиком Иваном Киуру, который вечно ходил к папе за трешкой; сохранилась, между прочим, записка Новеллы Николаевны к родителям об отдаче каких-то 30, например, рублей. Я бы не стала об этом тут писать вовсе, но недавно Н. Н. кто-то спросил, не помнит ли она меня в качестве соседки, а она и говорит: «как же, помню, она очень громко топала у меня над головой». Этого никак не могло быть, потому что мы жили на пятом этаже справа от лифта, а они на третьем и слева. Восстанавливаю историческую справедливость, тем более что я особо не топала, а в основном читала книжки, и песни Н. Н. очень любила, наравне с Окуджавой и Высоцким, с незапамятного детства. Кирилл же Ковальджи был консультантом по молдавской литературе и лучшим другом моих родителей, они вечно ходили друг к другу в гости, устраивали розыгрыши, я дружила с его сыновьями Саней и Володей, отцы служили нам взаимно дедами-морозами и т. п. Впоследствии он вел молодежную литературную студию при журнале «Юность» и покровительствовал всяким неформалам; меня пытались туда затащить уже в качестве Умки, но я по понятным причинам не затащилась.
Сьюзен и Алан – настоящие англичане. Не помню, откуда они взялись и что делали в Москве в конце 70-х и как появились у нас дома, но они были молодые, очень симпатичные, часто приходили в гости и по очереди давали мне дополнительные уроки английского (в нашей школе, хоть она и считалась английской, язык преподавали довольно бросовым образом), а я их должна была натаскивать, наоборот, в русском. Были они, кажется, из Брайтона (из английского, то есть, города Брайтона, а не то, что вы подумали).
Рыбалка. – Рыбаком, точнее, рыболовом отец был страстным и, за неимением сына, сумел даже меня по малолетству приохотить к этому недевчонскому занятию. Так что я все умею: и червей копать, и наживлять, и закидывать, и подсекать, и тащить, и с крючка снимать, и потрошить, и чистить, и жарить. Могу даже поплавок из пенопласта вырезать – не современного пухлого, а старинного, мелкопенного, желтого, твердого, который папа подбирал в множестве на берегу Балтийского моря после шторма – из него делались какие-то большие корабельные поплавки или не знаю что, может, спасательные круги. В случае надобности могу удочку наладить из чего угодно, так что с голоду не пропадем. И отношение к рыбе как к добыче и пропитанию, а не к теплокровному зверю, которого не убий – тоже он передал. Мяса я то не ем, то почти не ем уже больше тридцати лет, и не особо хочется, а без рыбы не живу, хотя не ловила ее, конечно, с тех самых пор.
Уже практически не ходячий папа добирался на даче («новой») до озера и сидел там часами, вылавливая беспонтовых мальков, отдаваемых соседским котам. Рыбалка и еще курение оставались его «последними радостями», и лишать его их было бы бесчеловечно. А в былые времена в Ниде (тогда это был не изысканный курорт, а простой рыбацкий поселок) он из залива не вылазил: то на лодке, а то вообще – зайдет в бахилах поглубже, насколько бахил хватает, и стоит часами в воде, «зарабатывает радикулит», как мама говорила. Мы с мамой на море, а папа в залив, и не вытащишь его никак. Однажды мы вернулись с моря и поплыли папу искать. То к одной лодочке подгребем, то к другой, – ни в одной его нет. Только далеко-далеко маячит кто-то, но явно не папа, потому что в красной рубашке. Ну, вы уже поняли, что, подплыв поближе, мы обнаружили, что это как раз папа, и ни в какой он не в рубашке, а красный потому, что сгорел на солнце. Мама, конечно, ворчала, но папа так радовался своим уловам, что сердиться было невозможно, тем более что рыба получалась отменно вкусная.
ТЕАТР
...вызывать бессчетное количество раз – Ручищи у отца были большие, крепкие, хлопать он мог очень громко и не раз при мне заводил после спектакля или концерта все новые и новые волны аплодисментов: актеры уже уйдут за кулисы и народ соберется в гардероб, а папа все хлопает и кричит «Браво!», и все опять заводятся хлопать. Думаю, делалось это в основном для меня, и я с удовольствием ему в этом помогала. В театр ходили часто, вокруг театра выстраивалась атмосфера праздника и чуда. Надевались лучшие одежды, программки хранились в специальной папке. Лучше всего была «Синяя птица» (настоящая-мхатовская-как-положено), куда меня повели лет в пять, как всякого приличного московского ребенка, я эту постановку, эти декорации с волшебным разноцветным светом иного мира, эту невероятную нездешнюю трогательность помню в деталях до сих пор. Хороша была также Таганка (много позже) и некоторые спектакли Театра Сатиры, но в основном театр разочаровал, в папином изложении он был гораздо увлекательнее, и после школы я театр разлюбила и ходить туда, в общем, перестала.
Кольцов Виктор Григорьевич (1898–1978) – артист театра и кино, нар. арт. РСФСР, лауреат Гос. Премии СССР. Вахтанговец с 1924 г. и до конца, преподаватель Щукинского училища с 1936, профессор с 1972 г.
Вроде бы герой-любовник, а тут... – Эту комическую роль папа тоже часто разыгрывал передо мной; полагаю, что идея переламывания героического амплуа в комическое крепко засела у меня в башке с тех самых пор, и я активно воплощаю ее на практике.
Иосиф Моисеевич Толчанов (настоящая фамилия – Толчан, 1891–1981) – актер, театральный режиссер, педагог, народный артист СССР (1962), лауреат Сталинской премии 2-й степени (1950). Родился в Москве, учился во Франции, в Льежском университете. После 1917 года поступил в Мамоновскую студию в Москве (руководители Б. Е. Захава и Ю. А. Завадский). В 1918 году вместе со студией влился в состав студии, а впоследствии Театра им. Вахтангова, ставил там спектакли, с 1920 года преподавал: в узбекской театральной студии, в якутской студии ГИТИСа, в Щукинском училище (с 1946 года – профессор).
Комментирую не всех упоминающихся деятелей театра, а только некоторых из тех, кого отец лично знал или особенно любил. Выбор мой ничем не обусловлен, и вообще в интернете можно найти сведения о чем и о ком угодно. Здесь же воспроизведу еще две байки, рассказывались они по просьбам публики по множеству раз, но в «исповедь» не включены. Только, прошу прощения, не помню, о ком именно первая: возможно, о Горюнове, это был вообще папин герой. А может, и нет. Может, наоборот, о Варламове. Суть в том, что актер выходит читать монолог, на нем черное трико, и вот это трико распоролось в самом интересном месте, и что-то беленькое проглядывает. Публика «шу-шу-шу, му-шу-шу» (так папа говорил, и это мне особенно нравилось), актер как ни в чем не бывало доносит свой текст и степенно уходит за кулисы. На следующий выход, глядь, опять что-то беленькое маячит. Публика «шу-шу-шу, му-шу-шу», актер изящным жестом снимает с трико какую-то ватку или тряпочку и выкидывает прочь. Это он, значит, за кулисами быстро все заштопал и присобачил ватку, чтобы всех надурить, что ничего не было. Другая байка, приводившая меня в восторг, наверняка про рязанский ТЮЗ: как актер по мизансцене должен был сидеть на краю сцены, свесив ноги в зал, а одет он был в короткие штанишки, и вот публика, собственно, дети, норовила подергать его за волосики на этих самых ногах.
СТУДИЕЦ
Не получился из меня актер. – С этой стороной папиной жизни связано еще одно неловкое воспоминание. Когда я уже научилась довольно лихо писать стишки, а мозгов еще не нажила, т. е. классе в 9-м, я сообразила подарить папе на день рождения изящно переписанный по всем правилам дореформенной орфографии (умела и умею) стишок, тщательно стилизованный под обожаемый мною тогда 19-й век, персонажем которого был выведен неудавшийся актер, горестно вспоминающий о сцене и т. д. Папа всерьез нахмурился, мне стало совестно, я принялась убеждать его в том, что тут ничего личного, что это просто стилизация и никакого отношения к его судьбе не имеет. «Да нет, чего, все правильно», – пробормотал он, и от этого стало еще более неловко. Стишок, однако, неукоснительно сохранился, аккуратно сложенный, в своем стильном длинном твердом конверте.
Сергей Владимирович Лукьянов (1910–1965) – актер театра и кино, народный артист РСФСР (1952), лауреат двух Сталинских премий второй степени (1951, 1952). Родился в селе Нижнее (ныне Донецкая область) в шахтерской семье. Учился в школе, окончил горнорудное училище, работал на шахте, занимался в кружке театральной самодеятельности. В 1929 году после одного из спектаклей был приглашен актером в Донбасский театр, поступил в студию при Харьковском театре им. Шевченко, где проучился два года. Играл в Харьковском Краснозаводском театре (1929–1931), в 50-е – 60-е годы в московских театрах: Маяковского, МХАТ, Вахтангова. В кино с 1945 года («Поединок»). Умер от инфаркта во время выступления на собрании в Театре им. Вахтангова.
«Герааасимов!» – Эту историю я тоже хорошо помню, папа рассказывал ее по моему заказу множество раз, особенно мне нравилось, как он изображал тоненькие голоса девчонок из зала.
Владимир Иванович Москвин (1904–1958) – артист и педагог, младший сын артиста МХТ Ивана Михайловича Москвина. Ученик Евгения Вахтангова (1920–1922), актер театра Вахтангова с 1920 по 1952 гг. Сыграл в театре около 50 ролей, много лет преподавал в Щукинском училище. «Отрывки «на образ», которые ставил со студентами Москвин, всегда собирали большую зрительскую аудиторию. Профессионалы приходили посмотреть не на то, как поставлен отрывок, а как у Москвина заиграет студент, потому что все знали, что «взрывная сила» Владимира Ивановича способна заставить заиграть любого мало-мальски способного человека. Не было случая, чтобы, начав работу со студентом, он не довел ее до конца» (Сергей Евлахишвили). Среди его любимых учеников Юрий Яковлев и Михаил Ульянов.
Немеровский Аркадий Борисович (1910–1993) – актер, педагог, Заслуженный деятель искусств РСФСР и Северо-Осетинской АССР. Выпускник юридического факультета МГУ (1932), чемпион Москвы по фехтованию, член сборной команды СССР по фехтованию. Ученик Рубена Симонова (1932–1934) и актер Театра-студии Рубена Симонова (1934–1937), выпускник Вахтанговской школы (1937), актер Вахтанговского театра (1937–1958). Специалист в области сценического боя и движения, ставил сценические бои и пластику в спектаклях Р. Симонова, Н. Охлопкова, А. Гончарова, Вс. Мейерхольда. Профессор и зав. кафедрой сценического движения ГИТИСа, преподавал в Щукинском и Щепкинском училищах и Школе-студии МХАТ.
Уроки Немеровского не прошли даром. Когда я в первых классах школы жутко зависла на «Трех мушкетерах» (вытвердила, как Талмуд, хоть булавкой протыкай), папа обучил меня началам фехтования, для чего были куплены две пластмассовые рапиры с шариками на концах – потом они долго еще украшали гостиную, заткнутые крест-накрест за резное деревянное блюдо, типа герб. Я резво взялась за дело и на всех гостей (а это главным образом были соседские девочки, с которыми мы вместе ходили из школы и делали уроки, но в основном бесились) накидывалась с воплем: «Защищайтесь, сударь!». В отличие от меня, они не забывали, что девочки, и часто обижались и даже хныкали, изображая раненых.
«И раздается женский визг» – Блок, «Незнакомка».
БУДНИ УЧЕНИЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
Канаева Кира Константиновна (р. 1927) окончила Щукинское училище в 1949 г. и была принята в московский Театр Сатиры. Лауреат Сталинской премии первой степени за роль Ирины Любашевой фильме «Кавалер Золотой Звезды». Автор книги «Мера всех вещей. Размышления о человеке и человечности, о воспитании и воспитанности» (1983).
Сафонов Всеволод Дмитриевич (1926–1992) – засл. арт. РСФСР (1965), нар. арт. РСФСР (1974). В последний год войны закончил авиатехникум, но врачебная комиссия не допустила его к военной службе. Друзья из кружка художественной самодеятельности предложили ему за компанию сдать экзамены в Щукинское училище, и неожиданно для себя он был принят в класс проф. А. А. Орочко. Закончил в 1949, играл в московских Камерном театре, театре Сатиры, Театре-студии киноактера, Ленинградском театре Комиссаржевской, театре группы сов. войск в Потсдаме. Ему посвящена глава 22 цикла Леонида Филатова «Чтобы помнили».
СЧАСТЬЕ ПРИШЛО КО МНЕ...
...и... посмотрим. – Отец умер 20 июня 2003 года, после того, как пять лет пролежал наполовину парализованный инсультом. Ненамного промахнулся с подсчетами. Нехорошая смерть, печальная, незаслуженно мучительно растянутая во времени. Не я ухаживала за ним. Что сказать? Нечего мне больше сказать.
Число 22 почиталось и мною, возможно, с какой-то подсознательной, очень ранней папиной подачи; во всяком случае, номер 22 носил дом на улице Калинина в «поселке Трамвайщиков» (Мострамвайтреста) – то есть знаменитая, воспетая и отцом, и мною крюковская дача, – а также московская школа, в которой я проучилась все десять лет.
Я помню, как отцу удалили щитовидку, дома неоднократно рассказывалось, как бабушка Рая, мамина мама, врач-окулист, по симптомам (повышенная вспыльчивость, худоба, постоянная жажда и пр.) определила у него начало базедовой болезни. Сделали операцию, из больницы он вернулся со шрамом на шее, поначалу красным и страшным, и объяснял мне, двухлетней, чтобы я не боялась, что его поцарапала «кошка-рококошка».
Тут же расскажу другую историю, которая вошла в мое краткое предисловие к первому самодельному «изданию» – сканированной машинописи с правкой: Однажды мы с родителями гуляли в сосновом лесу рядом с дачей. Папа нашел старый фонарь, решил, видимо, приспособить его на даче и зачем-то стал отрезать от него провод. Резал на весу, и острейший охотничий нож, именовавшийся почему-то «лиса», соскользнул и вонзился ему в голень. Потом уже приехала скорая, оказалось, что лезвие прошло в двух миллиметрах от вены, папа потерял много крови (я помню – «два литра», но не уверена) и долго валялся в постели. А пока что, перетянув рану чем пришлось, мы шли домой, и папа старался не хромать и все время пел, чтобы мне было не страшно, а на траве оставались капли крови.
История с Меламедом – наверняка подлинная, хотя существовали и другие, более краткие и ударные версии исключения папы из Вахтанговского училища; в частности, некоторое время я думала (и рассказывала), что он дал кому-то из начальства по морде в коридоре, услышав антисемитское высказывание. Не могла же я сама такое выдумать?
В первом издании этой книжки я написала, что ничего не нашла про Исаака Меламеда, сыгравшего такую роковую роль в папиной судьбе. Кое-что нашлось в интернете, когда книга уже вышла. Оказывается, «рыжий Меламед», когда-то ассистент Мейерхольда, был оруженосцем и собутыльником Юрия Олеши, довольно известной в кругах личностью и персонажем различных баек. Есть, например, рассказ Евг. Евтушенко «Исаак Меламед – победитель», в котором говорится:
«У легендарного режиссера Всеволода Мейерхольда был ассистент – Исаак Меламед, чудом уцелевший в исторических катаклизмах. (...) в пятидесятых годах в кафе «Националь» (...) Меламед ежевечерне пребывал вместе со своим другом и собутыльником (...) Юрием Олешей. И Меламед, и Олеша были, скажем мягко, небогаты, и сердобольные официантки разрешали им приносить с собой за пазухой магазинную водку без ресторанной наценки. Меламед был закоренелый холостяк, тощий как вобла (...), всегда в одном и том же засаленном пиджачишке, обсыпанном перхотью, в брюках с непоправимой бахромой, а рубашку он иногда надевал наизнанку, чтобы придать ей подобие свежести, что не мешало ему прицеплять неизменный галстук-бабочку. (...) он мог часами говорить за столом о Данте, Гёте, Шекспире. Лишь уходя из кафе, он спускался с небес искусства на грешную землю и гордо просил взаймы на троллейбус.
И вот однажды произошло нечто необыкновенное. Напротив был длинный банкетный стол, где восседали упитанные иностранцы делового вида и поглощали водку, заедая ее черной икрой и семгой. Внезапно один из иностранцев (...) рванулся со стула, уронив его на пол, и завопил на все кафе: «Меламед! Майн либер Меламед!» Он бросился к нашему рыжему оракулу, прижав его к своей осыпанной черными дробинками икры салфетке, засунутой за воротник. (...) «Пауль!» – заорал в ответ Меламед, и теперь они уже оба начали трясти друг друга, сокрушив на пол графинчик с нелегально перелитой в него под столом магазинной водкой. Иностранец, оказавшийся президентом какой-то фирмы в Западной Германии, начал махать пачками марок, рублей, требовать шампанского, которое немедленно появилось. Ничего не объясняя нам, они принялись петь вместе с Меламедом тирольские песни и, обнявшись, удалились в неизвестном направлении...
История их дружбы, как мне потом рассказали, была следующая. Когда в 1941 году Меламед подал заявление о том, что он готов идти добровольцем на фронт, то в графе «знание языков» поставил «немецкий», хотя знал его только в школьном объеме. Знание немецкого тогда было в цене. (...) Меламед был сброшен с парашютом в белорусских лесах на предмет получения «языка». При приземлении все десантники погибли – за исключением Меламеда, которого, возможно, спас его почти несуществующий вес. Меламед зацепился за сук сосны и повис на парашютных стропах. Затем ему удалось их перерезать и опуститься на землю. Но задание Меламед помнил и решил его выполнить. Однажды после налета нашей артиллерии он нашел в лесу немецкого обер-лейтенанта, раненного в ногу, и потащил его на себе. Для нас, знавших физические возможности Меламеда, это было непредставимо. Ориентировки у него не было никакой: подготовка была спешной и к тому же компас был разбит при приземлении. Знание немецкого языка у него было плохонькое, но срок для освежения знаний был предостаточный: он блуждал, таская на себе Пауля, около месяца. Меламед проделал Паулю операцию, выковыряв у него из ноги осколок своим кинжалом, смастерил ему костыль из молодых березок, и немец кое-как заковылял вместе с Меламедом в сторону плена, спасительного среди осточертевшей ему войны. А по пути они подружились, и Пауль научил Меламеда петь тирольские песни. При пересечении линии фронта, видя, как Меламед обнимается с немецким обер-лейтенантом на прощание, работники Смерша на всякий случай арестовали Меламеда, но потом отпустили ввиду его явной неспособности быть немецким шпионом».
К более ранним, довоенным временам относится сюжет рассказика Леонида Марягина «Попугай Меламеда»:
«Великий режиссер В. Мейерхольд ставил в своем театре «Даму с камелиями». И каждая репетиция начиналась с его возгласа:
– Где Меламед?
Так звали ассистента. Исаак Меламед появлялся, получал указания мастера и уносился исполнять их.
Однажды понадобился на сцене огромный попугай в клетке. Попугай был куплен. И с того дня присутствовал на всех репетициях – реквизитор выносил его в клетке на сцену, подвешивал к конструкциям; зажигался свет на сцене, раздавался крик Мейерхольда:
– Где Меламед? – и работа начиналась.
Наконец наступил день премьеры. Попугая в темноте зала вынесли на сцену. Секунда, другая... Попугай не услышал привычного мейерхольдовского «Где Меламед?» и гортанно завопил сам:
– Где Меламед? Где Меламед? Где Меламед?
Дали занавес, и попугая навсегда изъяли из спектакля.»
Этот сюжет существует еще в нескольких вариантах, есть и другие свидетельства о похождениях Олеши и Меламеда в «Национале» и так далее. К сожалению, фотографию его мне найти пока не удалось, но, может быть, к третьему изданию найдется и она.
ВЕРТЕР БЫЛ. А ЛОТТА?
Умри, но не дай... – Этот завет из романа Чернышевского «Что делать?» неоднократно появляется на страницах папиных воспоминаний и известен мне с раннего детства, задолго до прочтения пресловутого романа. Наравне с горьковским «Человек – это звучит гордо» и поучением Н. Островского о том, как надо прожить единожды данную жизнь, формула эта была избрана советской идеологизированой педагогикой в качестве основной этической заповеди для воспитания обезбоженной молодежи. И папа действительно был таким, это не рисовка. Мама тоже; для женщины, казалось мне, это более естественно, но папа? Когда я начала интересоваться этой стороной жизни, очень удивлялась: актер ведь, богема, как же так? Мы-то типа хипповали, свободная любовь и все такое, в идеале, по крайней мере. Однажды, из вредности, я позволила себе в папиных моральных устоях усомниться и поплатилась серьезным скандалом. На самом деле въелся этот завет очень глубоко, и по большому счету так оно и есть.
Александр Александрович Каверзнев (1932 – 1983) – журналист-международник, политический обозреватель, автор множества репортажей из разных стран мира, один из ведущих программ «Международная панорама» и «Сегодня в мире». Побывал во множестве стран. В 1983 году месяц провёл в командировке в Афганистане, где снимал документальный фильм «Афганский дневник». Возможно, именно этот фильм послужил причиной его таинственной смерти: есть подозрение, что он был отравлен, но точной версии до сих пор нет.
Дина Исааковна Каминская (1919, Екатеринослав – 2006, Фоллс-Чёрч, штат Вирджиния) окончила Московский юридический институт, в 60-е годы выступала адвокатом в процессах над советскими диссидентами – Буковским, Галансковым и др. Речи ее распространялись в самиздате; с 1971 г. ее перестали допускать к участию в политических процессах, в 1977 она эмигрировала в США. О Каминской много информации в интернете, там же можно прочесть ее книгу «Записки адвоката».
РЯЗАНСКИЙ ТЮЗ
Здесь машинопись обрывается. Есть ли у нее продолжение, хотя бы в виде рукописных набросков – непонятно. Грянули девяностые, и все папино поколение оказалось не просто на обочине, а на свалке истории. Это очень печально, и я не хочу об этом больше говорить.
Спасибо хоть, сохранилось то, что сохранилось. Будем считать, что обрыв на этом самом месте – правомерная вещь. Судя по всему, армию отцу вспоминать не хотелось: я по устным рассказам ничего об этом периоде не помню, за исключением знаменитого эпизода с потерянной шапкой. Про первый брак свой он тоже редко говорил, хотя дочь Машу всегда любил и поддерживал, и она его тоже. Помню, как он впервые мне сообщил – сидим мы в Москве на балконе «новой квартиры», мне лет пять (или шесть?), и тут папа сообщает: а знаешь, мол, у тебя есть сестра. Я очень сильно удивилась. Потом мы к ним иногда стали ходить в гости, часто общались, когда наши сыновья (папины, стало быть, внуки) были маленькими, да и до сих пор, бывает, встречаемся, хотя уже реже.
Ну, а что дальше было – это уже наша совместная семейная история. Я ее знаю и когда-нибудь, может быть, напишу.
P. S. Такая вот книжка. Можно сказать: многословная, в чем-то наивная, пафосная. Нотам все по-честному, автор никак не притворяется, он таким и был: старомодно-прекраснодушный, увлекающийся, доверчивый, преданный. В упоминавшейся трехтомной тетради «Аннушкин дневник», где родители фиксировали мою детскую жизнь с нуля до школы, мама пишет, что папа уехал в командировку в Таллин на несколько дней и шлет оттуда открытки: сегодня, например, прислал 15, а общим счетом 34. В детстве я с ним очень дружила. В том же дневнике есть такая запись (цитирую по памяти): «– Что такое «здрасте остыли»? (из романса «Белая акация») – Не здрасте, а страсти. – Что такое страсти? – Ну, страсть – это очень сильная любовь. – Вот, например, у нас с папой страсть».
Отчасти я предприняла всю эту вязкую, тяжелую работу, чтобы как-то искупить, задним числом извиниться, помахать после драки белым флагом. Поздно? Не знаю. Мы настолько книжное, бумажное семейство, что сделать эту книжку – какая бы она ни была – серьезный шаг к единению, примирению, едва ли не бессмертию. С этой целью обычные, не бумажные люди ставят на могилах родителей каменные памятники и красят их по весне белой краской. А ведь я даже не знаю, где папина могила. Не поехала на похороны. Папе ведь теперь всё равно, оправдывалась я перед собой. Я вообще не хожу на похороны. Это, наверное, малодушие.
А работенка это адская – сама я никак не решалась за нее сесть. Хорошо, что Виктор взялся. Как будто нарочно, чтобы я осознала размеры его подвига, последняя часть по ошибке пришла невычитанной после «распознания». Машинопись отчасти слепая, тем более ксерокс, много рукописной правки, так что там было чем заняться. Можно было, конечно, написать Виктору и попросить прислать этот кусок исправленным, но я уперлась и «на слабо» сделала сама. По мне, так легче набирать заново, как я сначала и собиралась. Но в этом случае трудно удержаться от редактуры, а какое я имею право редактировать архивный человеческий документ? Так что всё правильно получилось.
Зеленоград, июнь 2015
Фотографии
На об.: "ноябрь 1952г. г. Тамбов" (в центре, в черном берете(?))
В армии. На об.: "Июль 1951 г. Тамбов"
На об.:
"Грусть тоска
И даже гитара
или
Сержант Герасимов "не в себе"
Июль 53 г."
Тогда же
Тогда же (с неуст. л.)
Тогда же (с неуст. л.)
На об.:"
Вот вам современный вид вашего сына и
племянника... Не ахти, ну и не "слишком"
Скорей бы сменить форму!
Ваш Юра. Июль 53 г."
На об.:"
Вот вам современный вид вашего сына и
племянника... Не ахти, ну и не "слишком"
Скорей бы сменить форму!
Ваш Юра. Июль 53 г."
Самодельные "пробы", частично нумерованные, с подписями на оборотах:
"Веселая шутка"
"Хохочет"
"Что-то смешное"
"Оскорбили..."
"Обидели"
"И за что обидели?"
В ролях (Чита, 1954). На оборотах:
"Маме и Тете. 1954 г. Чита"
В ролях (Чита, 1954)
В ролях (Чита, 1954)
"Моей Янушке - Егор. 1954 г. Чита. Облдрамтеатр. Шекспир "Отелло"
Монтано - Герасимов Г.П.". На втором экз. того же фото: "Мамочке и Аничке от одноглазого правителя Кипра Монтано - сына и племянника. 1954 г."
"Перелесник" - Герасимов. "Лесная песня". Маме - сын. 1954 г. апрель
"Изуродовал морду подтягивая нос - сейчас уже делаю иной грим. Мамочке моей - сын. Чита апрель 1954 г."
"Юра - почтальон Студенцов. "Слава" Гусева"
"Группа молодежи" из "Славы" Гусева
"Слава" Гусева. Сезон 1954 г. апрель-май
Марья Петровна - засл. арт. Кружкова
Наташа - арт. Дегтева
Медведев - арт. Шатский
Студенцов - Герасимов
г. Чита. Обл. драмю театр"
(детской рукой, карандашом): "Дядя Егор"
"Иван Колосов с женой и сыном". "Не называй фамилий" Минько.
Герасимов и Ильнарская
Маме Юриной на память. Юра.
Чита 1954 г.
"Колосов - Герасимов. 2 картина.
(Это та самая маленькая роль, где я "с большой искренностью")
Мамочке моей на память
Юра. II 54 г."
На об.: "Чита, 1954"
На об.: "Чита, 1954"
На об.: "Проснувшийся сын
Маме!
Снимала Инна, март 54г."
На об.:"Маме и Аничке
от сына и племянника
8 III 54г. Юра
Сам печатал!"
На об.: "Татьяна Наумовна, это хоть и неудачная, но первая снятая и напечатанная мною. Инна"
С первой семьей в Крюково
Георгий Герасимов и Инна Данкина после свадьбы, Чита, 1953 (из архива Марии Герасимовой)
Инна с дочкой Машей на даче в Крюково, 1956 (из архива Марии Герасимовой)
Маша, 4 года (из архива Марии Герасимовой)
Подписано: "Чита, сентябрь 1954 г."
Подписано: "Чита, сентябрь 1954 г."
Подписано: "Чита, февраль 1955 г."
Подписано: "Чита, февраль 1955 г."
Подписано: "Чита, февраль 1955 г."
На об.: "Это во дворе нашего дома у дерева. Юра"
На об.: "На Кавказе. Осень 1955 г."
Очевидно, там же
Филателия. На об.: "Октябрь 1957 г."
Очевидно, примерно тогда же
моя мама Белла Иосифовна Залесская
Мама со мной возле нашего барака на ул. Подбельского, 1961
моя мама Белла Иосифовна Залесская
моя мама Белла Иосифовна Залесская
Папа с мамой примерно тогда же
Мы с папой на даче, около 1967
Бабушка Татьяна Наумовна незадолго до смерти, на об.: "Декабрь 1972"
Папа дома с любимой собакой Бимом, на заднем плане литовские "вербы". На об. маминой рукой: "Умиротворение... 1976"
Эту папину фотографию я считала лучшей, она долго стояла у меня на полке. Москва, 1970-е.
Из архива В. Б. Герасимова
Павел Архипович Герасимов
Мария Сергеевна, его первая жена, с дочерью Музой, 1918
Мария Сергеевна
Муза Герасимова, предположительно с автором. На обороте рукой Музы проставлена ошибочная дата: 1924, на самом деле - начало 1930-х.
Мария Сергеевна, учитель русской словесности
Павел Архипович, 1940
Мирра, Берлин, 1945
Мирра Павловна и Алексей Новиков, перед войной
Мирра с сыном Алешей, весна 1945
Витя Новиков, 1955
Алеша Новиков, 10 лет
Алексей Иванович Новиков, 1970
Мирра, Алексей, на качелях Алеша, Игорь, Витя Штерензон (Герасимов), справа - Борис и Муза во дворе дома в г. Моспино летом 1948
МузаПавловна, 1955 г.
Муза и Борис Данилович Штерензон, 1955
Муза Павловна на работе, 1955
Виктор Штерензон (Герасимов), в школе
Юра (уже Егор) дома в Москве на Малой Грузинской, снимал Виктор (1969)

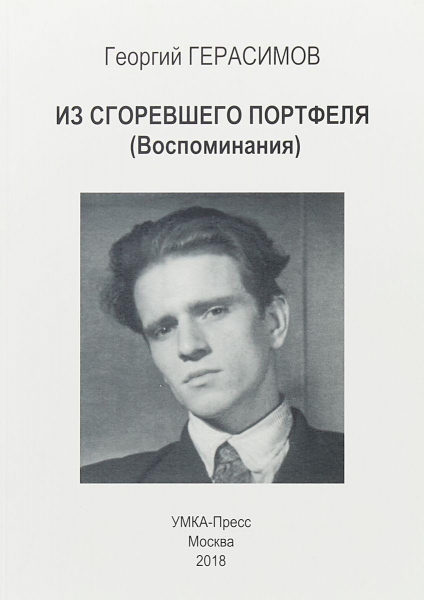




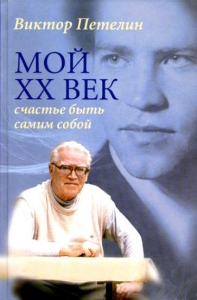
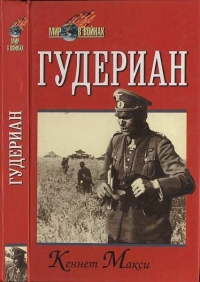
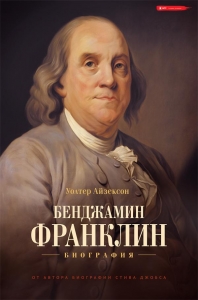
Комментарии к книге «Из сгоревшего портфеля (Воспоминания)», Георгий Павлович Герасимов
Всего 0 комментариев