Александр Беляков В полет сквозь годы
Глава первая Русский Лион
Лето 1896 года у народного учителя Василия Григорьевича Белякова, моего отца, ушло на поиски места работы. И оно было предоставлено ему в селе Фоминки, Гороховецкого уезда, Владимирской губернии. Собственно, это оказалась не должность учителя, а нечто вроде помощника или стажера. Поэтому по окончании учебного года отец снова начал искать работу.
Жить тогда было не на что: денег едва хватало на пропитание, и он залезает в долги — к попечителю школы, к дьякону. Но, несмотря на большую нужду, сельский учитель тянулся к знаниям, выписывал журнал «Новое слово», считая его самым подходящим для просвещения, о чем и рассказывают его дневниковые записи.
Чтобы заработать дополнительно, В. Г. Беляков становится переписчиком Всероссийской переписи населения. Это дает возможность узнать жизнь крестьян не только села Фоминки, где он поселился, но и окрестных деревень. В записной книжке учителя все чаще появляются горестные заметки о бедности простых людей, да и о своих трудноразрешимых проблемах.
«Месяц назад я не позволял себе думать, чтобы мне не дали места: оно уже обещано было еще в прошлом году. Но теперь приходится подумать о борьбе за существование в будущем году».
«Единственная надежда — если не дадут места, поступлю на частную должность и тем лишу себя возможности умереть с голоду…»
Россия стояла на пороге грозных исторических испытаний: Цусима, 9 Января, царские расстрелы 1905–1907 годов, первая русская революция. Но официозы обеих столиц — «Санкт-Петербургские ведомости», «Московские ведомости» пока еще обеспокоены другим событием — со всеми мельчайшими подробностями и реалиями, с трепетом верноподданничества, с подобострастным восторгом газеты освещают коронование Николая II.
«Торжественному въезду в Первопрестольный град Москву Государь Император высочайше соизволил быть в четверг, 9 сего мая, в 2 часа 30 мин. пополудни…»
«…Сообщаем подробности о серенаде, данной 8 мая вечером перед Петровским дворцом в высочайшем присутствии».
«…Обед в Александровском зале Кремлевского дворца. За обедом играл придворный оркестр. Тостов не было. Со многими из гостей Их Вел-ва милостиво разговаривали. Меню обеда было следующее:
Суп из черепахи.
Рыба-соль.
Филей с кореньями.
Холодное из рябчиков и гусиной печенки.
Жаркое — индейка, молодые цыплята.
Цветная капуста и стручки.
Горячий ананас с фруктами.
Мороженое»[1].
Страшное кровавое знамение отметило коронацию последнего русского царя. Вот официальное сообщение о трагедии на Ходынке:
«Блистательное течение Коронационных торжеств омрачилось прискорбным событием. Сегодня, 18 мая, задолго до начала народного праздника, толпа в несколько сот тысяч двинулась так стремительно к месту раздачи угощения на Ходынском поле, что стихийною силой своей смяло сотни людей…»
А вечером во французском посольстве состоялся бал — «небывалый по красоте, роскоши и оживлению… На память об этом бале всем дамам были розданы букеты цветов, привезенные из Франции, чудесные веера, которые были перевязаны лентами национальных цветов».
Трагедия Ходынки вызвала горькие обличительные отклики, прорвавшиеся в печать: «…На Ваганьковском кладбище, где в настоящее время собраны все трупы погибших, — не поддающаяся описанию картина. Все кладбище полно народа, пришедшего из разных мест, чтобы среди трупов отыскать своих родных. Вдоль ограды тянется бесконечною массой народ, ожидающий впуска на кладбище. Узнанные родными тела выдаются им или, по их желанию, погребаются тут же». «Устраивается ужасающая по своей нелепости, безумной трате денег коронация? — пишет Л. Н. Толстой, — происходят от презрения к народу и наглости властителей страшные бедствия погибели тысячи людей, на которые устроители ее смотрят как на маленькое омрачение торжеств»[2].
Читая официозы 1896-го, погружаясь в их велеречивую, пышную терминологию, фанфарное всероссийское «Славься!», не найдешь даже между строк намека на стачки, погромы, поджоги усадьб, ежегодный недород, близящийся экономический кризис и назревающий ропот протеста. Нельзя даже представить себе, что середина девяностых годов будет изучаться студентами ж школьниками как «начало пролетарского этапа в российском освободительном движении», когда В. И. Ульянов, молодой человек из Казанского университета, организовал в Петербурге Союз борьбы за освобождение рабочего класса. Будто образовались две истории: одна — та, которую писали современники, другая которую знаем мы, советские люди послереволюционных поколений…
В это вот время, на рубеже столетий, я и родился в деревне Беззубово Богородского уезда. Нарекли Александром, засвидетельствовали имя в церкви Ильинского погоста. И начались отсюда мои странствования по городам и весям, да столь долгие, что сейчас и самому не верится: с прошлого ведь еще века!..
Безмятежная пора детства… В памяти до сих пор сохранились его радужные картинки.
Лето. Теплое, ласковое русское лето в разгаре. Солнце уже высоко. Я тороплюсь позавтракать — и на улицу! У меня этим летом обновка трехколесный велосипед. Одно колесо большое — на нем две деревянные катушка для ног, два задних колеса поменьше, все они с железными ободами, гремят и дают знать, что я еду довольно быстро. Еду куда хочу!..
С трудом стаскиваю велосипед по ступенькам крыльца — он для меня тяжелый.
— Ты куда, пострел? — останавливает вдруг отец.
— К Абрамычу, — спешу с ответом, ибо знаю, что туда мне ехать разрешат.
Сосед наш, Абрамыч, работает на небольшой фабричонке Баранова, расположенной недалеко от школы, — выпускает женские платки с красивой бахромой. Бахрому обвязывают вручную женщины из семьи Абрамыча, и я люблю смотреть, как под их руками вырисовываются узоры.
Если долго не возвращаюсь домой, мать ищет — у какого двора стоит мой велосипед, значит, я тут. Дома вся наша семья в одной комнате: отец, мать, трое детей и часто приезжавшая проведать нас бабушка Зиновья.
С детства родители приобщали нас к сельскохозяйственным работам. И здесь, в лугах вдоль Клязьмы, на поляне, которую отец получал в лесничестве за небольшую плату, мы заготавливали для коровы Бурении сено на всю зиму. Отец мой сам насаживал косы на окосья, закреплял их кольцами, отбивал на небольшой наковальне. Он подготовил две малые косы с соответствующими росту окосьями мне и брату, и вскоре мы стали выходить на сенокос вчетвером.
Обучили в семье и нас, подростков, как точить косу бруском, хранившимся в брусочнике на поясном ремне, как регулировать захват косы при очередном взмахе, как добиваться чистоты выкоса, как обходить древесную поросль, кочки, кротовые холмики. Выучились мы и разбивать скошенные валы, сгребать траву деревянными граблями в копны, определять, когда сено высохло и готово к отправке в сарай.
Тогда я и брат шли в деревню за подводой. Крестьяне охотно и безвозмездно давали учителю лошадь, запряженную в специальную телегу для перевозки сена. Какое же было удовольствие править этой самой Савраской! Слегка стегнешь ее, чтобы бежала, — и вот уже навиваем семьей целый воз. Я и Миша наверху, отец с матерью подают сено вилами. Навиваем пудов пятнадцать двадцать, затем везем к себе в школу, сваливаем и убираем в сарай. Так в раннем детстве я познал всю тяжесть и прелесть великого крестьянского труда.
Земля в наших краях не могла прокормить крестьянскую семью. Нужен был какой-то дополнительный промысел. Поэтому и было распространено в деревнях Богород-г ого уезда надомное ткачество. В одной деревне работали на ручных станках платки, в другой — ленты, в третьей — атлас, в четвертой — сарпинку, в пятой — плюш, в шестой — бархат. Для изготовления этой продукция требовалась хлопковая и шелковая нить — пряжа. Подобное производство было распространено во Франции, в га-роде Лионе и его округе. Поэтому Богородский уезд нередко называли «русским Лионом».
Как правило, несколько крестьян совместно строили небольшой рубленый дом с окнами почти во всех стенах — так называемую светелку. Один из совладельцев светелки был старшим, и называли его заглодой. Ткачество в русских деревнях не было простым ремесленничеством, оно требовало умения, мастерства, души.
Но вот началась русско-японская война. Отец получал газеты, журнал «Ниву», которые читались дома вслух, а я уже знал о гибели нашей эскадры на Дальнем Востоке, все мы переживали гибель крейсера «Варяг».
На дне сундука у отца хранилась трехрядная гармонь. Однажды он достал ее оттуда, и разлились чарующие звуки народных мелодий. Я сидел, словно завороженный, а отец разучивал ставшую известной песню:
Наверх вы, товарищи, все по местам, Последний парад наступает. Врагу не сдается наш гордый «Варяг», Пощады никто не желает…
Я до того был увлечен словами и мелодией песни, что не отстал от отца до тех пор, пока он не обучил меня играть на гармонии эту несложную песню. С тех пор постоянно и неудержимо влечет меня к русским народным инструментам, к нашим родным русским напевам.
Кроме гармонии у отца была скрипка. Он знал ноты и в сопровождении ее устраивал с односельчанами песнопения на два и даже па три голоса. Такие спевки обычно заканчивались беседами мужиков о жизни, курением крепчайшего самосада. Махорочный запах долго держался в школе.
Если учесть, что среди односельчан было много неграмотных, вполне понятным станет всякое взаимное стремление к общению. Но общественная деятельность учителя этим однако не ограничивалась. В свободное время отец помогал парням и девушкам разучивать хороводные песни, а из взрослых крестьян организовал пожарную дружину. Огонь для каждой деревни — страшное бедствие, поэтому убедить мужиков сложиться и построить пожарный сарай было нетрудно. Вскоре в деревне появилась ручная пожарная машина с брезентовыми рукавами, двухпоршневым насосом. Четко было расписано, кто дает для перевозки машины лошадей, кто действует баграми и тушит пожар из брандспойта, а кто качает насос.
Помимо этого отец нередко вел с крестьянами беседы на сельскохозяйственные темы, особенно пропагандировал садоводство. Крестьяне относились к учителю с большим уважением, помогали, чем могли.
Отдавая все время школе, общественной работе, отец иногда все-таки выбирался и на охоту. Однажды зимой я видел, как он на лыжах после окончания классных занятий отправился в лес. Лыжи были широкие — охотничьи. Не прошло, помню, и пяти минут, как раздался выстрел из ружья, и немного спустя отец вернулся с убитым зайцем. Для меня он тоже смастерил лыжи, ж я стал ходить с ним по охотничьим тропам.
Надо сказать, что охотились мы не ради спортивного интереса. Семья по-нынешнему-то была немалая: отец, мать, бабушка Зиновья, трое подростков. А жалованье у сельского учителя всего лишь 25 рублей в месяц. Много это или мало — можно судить по докладу Богородской земской управы земскому собранию в 1905 году.
Вот средние цены на продукты:
— мясо 1 фунт — 15 копеек,
— хлеб (черный) 1 фунт — 2 копейки,
— яйца 1 десяток — 21 копейка,
— молоко 1 бутылка — 5 копеек.
Было подсчитано, что для нормального питания одного человека в год (с сахаром и чаем, но без белого хлеба) требуется 128 рублей 7 копеек, а средний расход на одежду в год составляет 148 рублей 93 копейки. Всего в год 277 рублей. Это на одного человека. А как же семья? Годовой заработок учителя даже с приплатой губернского земства не превышал 300 рублей. И мы едва сводили концы с концами.
Вот как подытоживает свой доклад об отчаянном материальном положении сельского учителя в 1905 году Богородская уездная земская управа: «Силою обстоятельств поставленный учителем народа, он силой же обстоятельств не может свести до минимума свою потребность в пище и поэтому не может учиться сам… Он вынужден быть просветителем, ничего не видя далее околицы той деревни, к которой он прикован… С остановившимся развитием, ограниченный в своих стремлениях, замкнутый, разменявшийся на заботы о своем пропитании, вот тот тип учителя, которого мы не желали бы иметь. К чести — большинство учителей не отливается в подобные формы».
Ясней и проще материальные недостатки, которые постоянно преследовали нашу семью, характеризует моя мать. Вот одна из ее записей: «26 марта мы решили писать расходы и приход. Нам почему-то кажется, что у нас уходят деньги на ненужные вещи… Проживаем денег много, но ничего не купили, чтобы было видно и теперь. Кроме долгу ничего нет. 140 рублей долгу — это просто ужас, и когда это все будет уплачено и вздохнешь свободно? Вася дуется больше меня и тоже повторяет: «Черт знает, когда это кончится»…
А шел 1905 год — начало первой русской революции. Я уже знал, что бастуют нижегородские железнодорожники, в Павловском Посаде — рабочие. Отец стал постоянно куда-то отлучаться, говорил — на собрания, но о них не рассказывал, и вскоре у него появился маузер, немало встревоживший мать.
Сейчас трудно судить, какое участие в революционных событиях принимал сельский учитель Беляков. Мне было только восемь лет, но при всех трудностях и проблемах, которые выдвигала перед нашей семьей жизнь, я вспоминаю свое детство как яркое, светлое, чудесное время, полное интересных и удивительных впечатлений.
В том памятном 1905 году отец посадил меня за парту. Грамоте в семье нас обучали рано, поэтому я попал сразу во 2-е отделение и через два года закончил начальную школу. После выпускных экзаменов встал вопрос: что же дальше? В Богородске и Павловском Посаде средних мужских учебных заведений не было. Учиться в Москве — недоступно. Родители же очень хотели дать нам хорошее образование.
На помощь пришел старинный приятель нашей семьи Иван Алексеевич Масляников. Получив место преподавателя в Рязанской гимназии, он согласился взять меня на воспитание.
К назначенному сроку мне сшили две пары гимназической формы, длинную шинель — на вырост, и отец отвез меня в чужой город. На расходы оставил один рубль серебром и медяками. Началась новая, незнакомая мне жизнь. Открылась дорога к образованию, за что я по сей день благодарен И. А. Масляникову.
Рязанская гимназия — старейшее учебное заведение города — располагалась в красивом здании, украшенном шестью колоннами ионического стиля. Ко времени, когда я поступил туда, гимназия насчитывала уже более ста лет своего существования, и на протяжении всего долголетия оставалась классической, то есть с преобладанием гуманитарных наук. Мы изучали четыре языка: русский, латинский, французский, немецкий. На первом месте стоял всегда, конечно, закон божий. Но были и такие предметы, как законоведение, природоведение, история, математика, физика, география, гимнастика.
Стоит ли говорить, с каким трепетным чувством поднимался я по широкой лестнице в гимназию. Вот парадное — двойные двери в толстой стене первого этажа. За дверями большое помещение с несколькими массивными колоннами — это наша раздевалка. В ней отдельно стоящие деревянные вешалки — каждая для учеников одного класса.
Из раздевалки дверь направо — написано: «Фундаментальная библиотека». Это для учителей. Дверь налево — ученическая библиотека, в перемену шумная, с толкотней, очередью. Затем две широкие металлические лестницы с перилами на второй этаж — в актовый зал и к классным помещениям.
Занятия начинались по звонкам, и для этого был приставлен старичок Абрамов. В специальной форме (что-то вроде ливреи), он звонил ярко начищенным медным колокольчиком, и гимназисты бежали со двора, словно угорелые, — скорее от избытка энергии, чем от усердия к учебе. Построившись в колонны парами, мы следовали в актовый зал, где нас уже ожидал священник законоучитель отец Сергий. Один из бойких учеников читал молитвы, затем законоучитель поднимался на кафедру и оттуда доносил до нас какой-либо эпизод из евангелия. При этом не упускал случая указать нам на необходимость поста, объяснял пользу постных дней для желудка.
Закон божий изучался восемь лет подряд. Кроме того, мы, ученики гимназии, были обязаны посещать церковные богослужения: каждую субботу всенощную и каждое воскресенье — обедню. Но все эти усилия, однако, не достигали основной цели — сделать из нас, как говорилось, «истинно верующих людей». Познавая природу и ее физико-математические законы, мы со все более усиливающимся недоверием относились к евангельскому мифу о сотворении мира в шесть дней. Затем познакомились с учением Дарвина и по-новому оценили идеи возникновения жизни на нашей планете.
Из преподавателей русского языка наиболее благодарную память оставил Михаил Владимирович Самыгин, который вел у нас занятия первые шесть лет. В отличие от других учителей Михаил Владимирович был человеком прогрессивных взглядов, большой почитатель античной литературы, былинного эпоса. Впоследствии, уже учеником старших классов, я узнал, что Михаил Владимирович — незаурядный писатель. Мне удалось прочитать ряд его рассказов, роман «Вами казненный» — гневный протест против рутины и реакционности дореволюционного общества. Все было написано ярко, интересно.
Преподавал латинский язык Георгий Иванович Помялов. Как и во всякой школе, преподаватели имели прозвища. Помялова между собой мы звали «Егорка», однако без лишней насмешки или непочтения. Преподаватель он был хороший, очень старательный, но со странностями: недостаточно организованный и аккуратный, что начиналось с его несуразно сшитого форменного сюртука.
На кафедре Помялов урок вел стоя, сверлящим взглядом окидывая аудиторию, держа нас всех в напряжении. А «охотился» он с большим интересом за брошюрами о преступлениях и сыщиках — тогдашними детективами. В то время киоски в Рязани бойко торговали книжонками, в которых описывались приключения сыщика Ната Пинкертона. Многие гимназисты еще утром по дороге на занятия успевали купить одну-две брошюры. Затем этого «Пинкертона» читали тайком на уроках, если удавалось конечно.
Однако латинский язык отложился в нашей памяти и сознании. Мы запомнили немало различных изречений, стихов. Мой сосед по парте Веня Кисин, обладающий очень хорошей памятью, нередко повторял мне из Овидия: «Пока ты будешь счастлив, у тебя будет много друзей, а если наступят облачные времена, будешь одинок…»
Во внеклассной жизни Георгий Иванович был с учениками общителен и прост, он нередко приходил в пансионский сад и участвовал в наших играх. Однажды учитель заболел, и мы группой решили его проведать. Он очень обрадовался нашему приходу. В квартире было бедно, неуютно. Георгий Иванович лежал на железной кровати с тюфяком. Рядом стоял стул, на котором мы увидели внушительную стопку «Пинкертонов», которую Георгий Иванович, очевидно, основательно пополнял за счет «ревизованных» на уроках.
У многих появилось желание изучать не только латинский, но и греческий язык. Образовалась группа, которая оставалась на дополнительные уроки. У меня была обязанность подбирать учебники, словари в нашей библиотеке. Вскоре мы уже переводили «Анабазис» Ксенофонта. По окончании гимназии мы расстались с Георгием Ивановичем весьма дружественно и сердечно. Учитель привил нам уважение к культуре древнего мира. Мы научились ценить изящество, глубокое содержание литературы и искусства древних эллинов.
В среде преподавателей гимназии явно обозначилась группа молодых, прогрессивно настроенных людей. К их числу относился прежде всего преподаватель математики Яков Васильевич Кеткович. Он четко и ясно объяснял нам теоремы и смысл абстрагирования в алгебре, геометрии, любовался красивым решением математических задач, заронив во многих из нас интерес к своему предмету.
Впоследствии я узнал, что Яков Васильевич в свое время был распространителем нелегальной газеты «Искра». Октябрьская революция в корне изменила судьбу нашего учителя. Она принесла подлинное исполнение мечты революционера, полную свободу творчества, возможность жить и работать для народа, строить новую жизнь.
В 1918 году Я. В. Кеткович становится ректором Рязанского института народного образования, издает свой труд «Наука и религия». Это издание он посылает в дар Владимиру Ильичу Ленину. В дальнейшем Яков Васильевич переводится на работу в Москву и возглавляет кафедру высшей математики в Межевом институте — ныне институте геодезии, аэрофотосъемки и картографии. Здесь ему была присвоена ученая степень кандидата наук и звание доцента.
Живо, занимательно проходили в гимназии уроки физики, которую преподавал Михаил Александрович Лебедев. Через несколько лет после Октябрьской революции М. А. Лебедев перешел на работу в Москву, в Тимирязевскую сельскохозяйственную академию, где заведовал кафедрой физики. Я и мои товарищи по гимназии были, несомненно, горды тем, что наш незаурядный школьный преподаватель стал ученым-физиком, профессором высшего учебного заведения.
Одним из общеобразовательных предметов, которые осязаемо развивали в нас представления о внешнем мире, была география. Я любил и люблю эту науку. Многое открыл нам преподаватель географии И. А. Масляников. Но пожалуй, большое признательное уважение Иван Алексеевич заслужил тем, что к нам, малолетним гимназистам, относился, как к взрослым. На уроках наш учитель не боялся затронуть и политические темы. Он рассказывал о Государственной думе, с большим огорчением, резко о той части депутатов, которую нередко называли «черной сотней» и считали опорой монархического строя.
Словом, много было в нашей гимназии знающих, талантливых педагогов, чей труд не пропал даром. Мне учиться нравилось, на уроки ходил с интересом, успевая но всем предметам.
Когда я перешел во второй класс, неожиданно летом родным пришла бумага от директора, в которой сообщалось, что их сын, Александр Беляков, зачислен в пансион «казеннокоштным», на учительскую стипендию. Весть для нашей семьи радостная: это обстоятельство заметно облегчало ее материальное положение, так как в пансионе было бесплатное размещение, питание и обмундирование.
Гимназистов в этом пансионе насчитывалось всего человек шестьдесят. Были дети состоятельных родителей — торговцев, духовенства, которые своих детей оплачивали. А я начиная с шестого класса занялся репетиторством давал платные уроки учащимся других гимназий, что вскоре позволило полностью освободить родителей от текущих расходов на обучение. Жизнь в пансионе, вдали от родительской опеки, приучила к самостоятельности, выработала чувство товарищества.
Долгие годы дружбы связали меня с Иваном Каировым. Отец у него умер, он рано познал нужду, тяжелые жизненные условия, ив пансион был зачислен, как и я, «казеннокоштным». Потом, уже студентом, Иван руководил рязанским Студенческим землячеством, неоднократно слушал выступления Ленина. После окончания университета Каиров работает более пяти лет агрономом в сельских районах Московской губернии, с 1929 года — профессор педагогики, директор агропедагогического института. Позже Иван Андреевич один из организаторов Академии педагогических наук РСФСР, ее президент. Герой Социалистического Труда И. А. Каиров был депутатом Верховного Совета СССР, министром просвещения РСФСР, избирался в ЦК КПСС.
Много воспоминаний оставили о себе мои одноклассники Сергей Бакшеев и Александр Хитров, Получив юридическое образование, Сергей работал в народном суде, впоследствии был переведен в Москву, плодотворно сотрудничал в Министерстве юстиции, в Верховном Суде, Юридической комиссии Совета Министров СССР. А Саша Хитров после окончания гимназии в 1917 году стал сельским учителем.
Моим товарищем по музыкальным занятиям в пансионе был Лева Мордвинов. Он обладал хорошим музыкальным слухом, легко подбирал на мандолине любые вальсы, марши. Вместе с ним мы были постоянными участниками небольшого самодеятельного струнного оркестра.
Впервые чарующие звуки вальсов я услышал в городском саду. В будни он был пуст, зато в праздники его дорожки заполняли гуляющие. В специальной беседке размещался духовой оркестр одного из полков, расположенных в городе, а их было два — 137-й Нежинский и 138-й Волховский, — и начинались своеобразные музыкальные концерты. Нас, как правило, в сад вечером не отпускали, мы слушали марши и вальсы через открытые окна пансиона.
Но вот однажды кто-то из воспитателей обнаружил на чердаке нашего большого дома отслуживший свое рояль. Его перенесли в зал. Инструмент был старый, однако клавишный механизм и струны оказались в порядке. И я, памятуя свое знакомство с фисгармонией, приступил к игре на рояле. Так на любительской сцене вскоре выступал наш самодеятельный оркестр. Мы учились понимать как классику, так и самобытную народную музыку.
В окна нашего пансиона долетали не только волнующие звуки вальсов и полковых маршей. С Владимирской улицы в ранние утренние часы слышны были голоса крестьянок из окрестных сел и деревень.
— Щавелю, щавелю! — выкрикивали женщины с коробами за плечами.
— Агурчиков зялененьких! Агурчиков зялененьких! — зазывала другая.
— Грыбочков, грыбочков!.. — предлагала третья.
Простой люд старался заработать — кто чем мог. На базарных площадях города, на осенних ярмарках, куда съезжалось отовсюду множество крестьян на подводах, рязанский говор господствовал. И приходилось удивляться крайней бедности крестьянского сословия, хотя Рязанская губерния, по официальным отчетам, признавалась «богатой». Такая «богатая» крестьянская семья отдавала в государственную казну больше половины попадавших в ее руки денег. Нужда принимала ужасающие размеры…
Позволю себе привести выдержку из книги профессора-химика А. Н. Энгельгарда, который, оставив науку, поселился в деревне и занялся сельским хозяйством:
«Почему же русскому мужику должно оставаться только необходимое, чтобы кое-как упасти душу, почему же и ему, как американцу, не есть хоть в праздники ветчину, баранину, яблочные пироги? Нет, оказывается, что русскому мужику достаточно и черного ржаного хлеба, да еще с сивцом, звонцом, костерем и всякой дрянью, которую нельзя отправить к немцу. Да, нашлись молодцы, которым кажется, что русский мужик и ржаного хлеба не стоит, что ему следует питаться картофелем»[3].
«Так, г. Радионов, — пишет он, — предлагает приготовлять хлеб из ржаной муки с примесью картофеля и говорит: «если вместо кислого черного хлеба из одной ржаной муки масса сельских обывателей станет потреблять хлеб, приготовленный из смеси ржаной муки с картофелем, по способу, мною сообщенному, то половинное количество ржи может пойти за границу для поддержания нашего кредитного рубля, без ущерба народному продовольствию».
…Понимаю, что в несчастные голодные годы можно указывать и на разные суррогаты: на хлеб с кукурузой, с картофелем, пожалуй, даже на корневища пырея и т. д. Но тут-то не то. Тут все дело к тому направлено, чтобы конкурировать с Америкой, чтобы поддерживать наш кредитный рубль (и дался же им этот рубль). Точно он какое божество, которому и человека в жертву следует приводить. Ради этого хотят кормить мужика вместо хлеба картофелем, завернутым в хлеб, да еще уверяют, что это будет без ущерба народному продовольствию.
Пшеница — немцу, рожь — немцу, а своему мужику — картофель…
Продавая немцу нашу пшеницу, мы продаем кровь нашу, т. е. мужицких детей… Первое хозяйственное правило: выгоднее хорошо кормить скот, чем худо, выгоднее удобрять землю, чем сеять на пустой. А относительно людей разве не то же? Государству разве не выгоднее поступать, как хорошему хозяину? Разве голодные, дурно питающиеся люди могут конкурировать с сытыми?
И что же это за наука, которая проповедует такие абсурды!
А как бы поднялся наш кредитный рубль, если бы народ ел гнилое дерево, а рожь можно было бы всю отправлять за границу, на продажу!..»
Между тем царствующий дом Романовых отмечал свое 300-летие.
Как представителя учащихся нашей гимназии меня отправили в Москву, на торжества. Всех делегатов разместили в здании Коммерческого училища (в этом доме на Садовой теперь помещается Академия общественных наук ЦК КПСС) и на следующее утро колонны парами повели в Кремль. Первый раз в жизни я смотрел на кремлевские древние стены, на упирающиеся в небо массивные башни, па храмы и соборы, дворцы и палаты сказочной красоты.
Нас поставили в две шеренги у Большого Кремлевского дворца спиною к его окнам, и мы с интересом глазели на то, что происходит на площади, вымощенной брусчаткой, ждали, что же будет дальше. Группами стояли министры, их помощники. Среди них мы узнали министра просвещения Кассо.
Через некоторое время из парадного хода дворца начался выход со свитой Николая II. Министры застыли в подобострастных позах, благоговейно взирая на императора-самодержца.
Царь вышел в сопровождении семьи и проследовал вдоль наших рядов. С близкого расстояния я мог рассмотреть идущих. Царь был в форме полковника пехоты. Наше представление о величии трона как-то не увязывалось с его видом. Небольшая рыжеватая бородка, негустые усы окаймляли усталое и, мне показалось, испитое лицо. Рядом с ним торжественно плыла царица в богатом белом платье. Сзади — дочери и казак с наследником.
Обойдя наши ряды, свита завернула в один из соборов, очевидно на богослужение. Туда же устремились министры, прочие сопровождающие. А нам показали царь-колокол, царь-пушку, — на чем участие в торжествах и закончилось. Мы еще раз прошли мимо парадного входа дворца.
Мог ли я тогда подумать, что через двадцать пять лет войду в этот подъезд и поднимусь по широкой лестнице в зал заседаний как депутат Верховного Совета рабоче-крестьянской республики.
В канун нового, 1914 года санкт-петербургский еженедельник «Синий журнал» предлагал женщинам с помощью пилюль Марбор получить красивую грудь, а мужчинам — «секретные особо пикантные фотографические снимки парижского жанра — настоящие новейшие оригиналы с натуры (20 штук — 2 руб. 50 коп.)». Была новогодняя анкета с вопросом: «Что будет через 200 лет?» «Специалисты» предсказывали: «В воздухе будут летать не аэропланы, а бронированные корабли… Люди будут страховать себя лбами от 96 болезней и умрут от 97-й… В отношении социально-экономических условий — то едва ли и через 200 лет будет вытеснен или сменен другими современный биологический принцип, против которого в течение 19 столетий оказываются бессильными и все принципы и каноны христианства и который гласит: человек человеку — волк…»
Предсказания уводили читателя в необозримую даль времени, проверить их не рассчитывали даже самые отчаянные оптимисты, хотя каждому из моих одноклассников тогда стукнуло едва пятнадцать-шестнадцать годков. А вот в ошибочности предвидений одного оккультиста мы вое убедились — и довольно скоро.
«В 1914 году сгущается атмосфера, накопляются тучи, но грозы ожидать можно лишь в 1915 году», — вещал в «Синем журнале» профессор Шавель. А гроза-то грянула летом четырнадцатого. Началась первая мировая война…
Я перешел в восьмой класс и, как обычно, летние каникулы проводил дома у родных. После того как стало известно о войне, остаток свободного времени ушел на полевые работы и уборку урожая, а затем я отправился в Рязань. Здесь уже чувствовалась напряженная подготовка войск. Мы, гимназисты, видели отправление полков на фронт. Длинными колоннами они двигались к вокзалам. Солдаты шагали тяжело — со скатками шинелей через плечо, с винтовками, вещевыми мешками. За каждой ротой тащили на маленьких колесиках по пулемету «максим». Всех нас тогда поразила эта относительная скудость вооружения нашей армии.
И вот через некоторое время печать начала сообщать о боевых действиях на фронте. В городе появились раненые. Здание нашего пансиона было использовано для размещения военнопленных. Я ходил туда за учебниками, видел пленных в наших комнатах на трехъярусных нарах. Спертый густой воздух, тлен перевязочного материала говорили об ужасах войны, причины возникновения которой так и не были нам известны, а официально объявленная версия убийство эрцгерцога Фердинанда — казалась неубедительной.
Осенью до Рязани долетели известия о провале наступления русских войск в Восточной Пруссии. Однако занятия наши шли своим чередом, и весной 1915 года мы сдавали выпускные экзамены на аттестат зрелости, которые продолжались более месяца. В актовом зале, где проверяли наши знания, на стенах висели большие рамки, в них на синем фоне золотом — имена медалистов за многие годы. Конечно, хотелось быть в этом списке, но золотую медаль получил только один выпускник нашего класса — товарищ по парте Вениамин Кисни. Меня отметили серебряной.
Очень хотелось учиться дальше, поступить в инженерный институт. Но гимназическая подготовка не соответствовала желаемому профилю, а почти везде были конкурсные вступительные экзамены. Только в Петрограде тогда принимали в политехнический и лесной институты по конкурсу аттестатов. На что я и рассчитывал.
Между тем уже десятый месяц шла мировая война, Газеты печатали все — от объявлений «вдова с пышной фигурой» до сообщений типа «отступили на заранее подготовленные позиции». На многих участках фронта войска зарывались в окопы, тянули длинные траншеи, создавали проволочные заграждения.
Но боевые действия проходили где-то далеко от нас — за тысячи верст. И мы, выпускники, больше были заняты раздумьями о своем будущем. Перед отъездом домой я получил от руководства пансиона денежную премию — за заведование библиотекой учебников. Сразу же купил себе хорошее летнее пальто, шляпу, чемоданчик — и прощай, старинная Рязань, прощай, тихая Ока, Трубеж. Встречусь ли еще когда с вами?..
И не мог я, конечно, предположить, что спустя двадцать пять лет вернусь сюда — приеду в звании генерал-майора авиации, Героем Советского Союза и начну создавать новую по тем временам Рязанскую высшую школу авиационных штурманов. На такое предсказание не отважился бы даже профессор оккультных наук из «Синего журнала».
Глава вторая «Стреляйте, юнкер!..»
Лето 1915 года я провел у родных в деревне Починки. Приехал из Рязани франтом — в новехоньком штатском костюме, в руках — шляпа, пальто. Отец встретил меня на пути в деревню и сразу же спросил:
— Ну, что думаешь делать дальше?
— А что? Среднее образование есть. Медаль в кармане — дорога в высшее учебное заведение открыта. Буду добиваться.
— Куда же хочешь поступать?
— Еще не решил. Прельщает учеба в инженерном институте, но я привык к земле, к деревне. Хорошо бы определиться в сельскохозяйственную академию…
Нотариально заверенные копии всех требуемых документов я отправил сразу в два петербургских института — политехнический и лесной. Решил готовиться и к конкурсным экзаменам в академию, засел за всевозможные руководства, пособия. Однако вскоре стало ясно, что за лето подготовиться не успею. То, что я знал по физике из допотопного учебника Краевича, — далеко не достаточно. А новый учебник был труден, усваивался медленно. По математике необходимо решать задачи на построение, а я о них и понятия не имел. К тому же начинались летние полевые работы — это забота общая. Словом, подготовку к экзаменам мне пришлось отложить.
А война тем временем разгоралась. Царская армия терпела одно поражение за другим, отходя все дальше на восток. Немцы уже заняли часть «царства польского», продвигались в Прибалтику.
Отцу призыв в царскую армию пока не угрожал: ему было около сорока лет, и числился он в резерве — «ратником ополчения 2-го разряда». После объявления мобилизации пришел приказ сдать для фронта лошадей. Но па сборном пункте Савраску нашего не приняли — нашли какие-то дефекты. Так что всей семьей в полном, так сказать, составе мы принялись за сельскохозяйственные работы, как вдруг приходят по почте два уведомления. Одно — из политехнического института: зачислен на инженерно-строительный факультет 32-м кандидатом. Другое из лесного института — зачислен студентом. Что такое 32-й кандидат, я не знал. Посоветовавшись с родными, я решил поступать в лесной.
С большими денежными затруднениями мне сшили студенческую тужурку и шинель. На фуражке с зеленым околышем теперь красовался лесной значок — две скрещивающиеся веточки с дубовыми листьями.
И вот я впервые в Петрограде. Он встретил меня туманной осенней погодой. Из облаков сыпалась мелкая водяная пыль, а я шел по проспектам и площадям, плененный величием этого города. Искал одно — находил другое, не менее интересное. Думал выйти на место Невского проспекта, где лесорубы Петра I валили когда-то вековые деревья, а попал на кладбище у Александро-Невской лавры. Здесь осмотрел могилы Достоевского, Чайковского. Мусоргского, Данзаса и даже Натальи Николаевны Пушкиной, похороненной под фамилией второго мужа — Лапского… Сколько неожиданностей таил в себе каждый переулок, каждый перекресток неповторимого Петрограда! И я шел ошеломленный, забыв о леоном институте, о войне, которая бушевала вое сильней. Но тогда для меня какие-нибудь Добрудж, Тарнополъ (Тернополь), Тульча, Могилев звучали все равно что Ливерпуль или Санта-Круз.
…Вот я попал на улицу Гоголя, на которой нет ни дворцов, ни соборов. Старые, серые дома, абсолютно такие же, как полтораста лет назад.
Здесь Достоевский писал «Белые ночи» и «Неточку Незванову». Здесь же был арестован по делу петрашевцев.
А в этом доме некогда находился ресторан Дюме, куда хаживал Пушкин. А вот дом, где жил Гоголь. Тут написаны «Тарас Бульба» и «Ревизор», «Старосветские помещики» и «Миргород». В доме № 13 некогда жили Тургенев и Чайковский.
Незаметно я дошел до лесного института. В канцелярии получил студенческий билет, зачетную книжку и в тот же день снял для себя очень маленькую дешевую комнату на Песочной улице.
Здание института мне понравилось — красивый невысокий дворец в виде замкнутого квадрата с внутренним двором. Вокруг дендрарий — тенистый парк с удивительным разнообразием деревьев и кустарников. Около каждого растения табличка на колышке и название: латинское и русское. Указана страна и район, где такое дерево или кустарник вольно произрастает.
Но помещения самого института наполовину были заняты военным госпиталем. На костылях ковыляли люди, у многих пустые рукава засунуты за пояс, головы в чалме из грязных бинтов. Война втягивала в свою разинутую кровожадную пасть молодых и здоровых парней и мужчин в новеньких шинелях и блестящих портупеях. А если возвращала их, то несчастными калеками, множившими толпы нищих в кабаках и на перекрестках улиц. Вместо с ними ползла молва, удушливая и черная, словно чад. Она проникала в дворы и дома, в одурманенные головы людей, заставляя их шептать страшные слова или оскорблять кого-то затейливой руганью…
— Богамать… Александра Федоровна спит и видит, чтобы мы замирились с немцами — кровь-то одна. А царь знай меняет министров: Горемыкин, Штюрмер, Трепов, Голицын… А наш брат солдат гибнет. Немец вон удушливые газы пускает, англичанин придумал какую-то новую машину — танком называется, а наши генералы только и знают одно — в штыки!..
В госпитале я отыскал свою тетку — сестру милосердия, приехавшую с фронта. От нее наслушался всевозможных рассказов об ужасах полевой медицины. Но она была недовольна своим перемещением и ругала врачей, сестер за то, что они тут, в тылу, заботятся только о своем благополучии да романы заводят. Через некоторое время тетка снова уехала на фронт, успев включить меня в группу студентов, добровольно ухаживающих за ранеными. Мы помогали медицинскому персоналу, писали для раненых письма родным.
Как-то во время моего дежурства старшая сестра дала мне неожиданное поручение. В госпиталь прислали шесть билетов в театр, и требовалось сопровождать раненых на спектакль.
Одетые в солдатскую форму, раненые едва передвигались, но мы все-таки добрались до театра, где я узнал, что сегодняшний спектакль — онера «Риголетто», который ставится с благотворительной целью, а в главной роли знаменитый певец Собинов.
Наши места оказались на самом верхнем, третьем ярусе, далеко от сцены. Второй ярус тоже был занят солдатами, и лишь где-то внизу, в партере, сидели нарядно одетые дамы и господа.
Первое действие прошло в тишине. Содержание оперы для солдат оставалось непонятным: было плохо видно и слышно. Поэтому, когда закрылся занавес, второй и третий ярус ответили гробовым молчанием, лишь в партере прозвучали негромкие аплодисменты. Перед вторым действием некто в черном фраке вышел на сцену и объявил:
— Солист его императорского величества Леонид Витальевич Собинов доводит до сведения уважаемой публики, что он себя чувствует нездоровым, но будет продолжать петь…
Собинова я слышал первый раз, и пел он, па мой взгляд, отлично: редкостный, серебристый, необыкновенной чистоты и тембра тенор. Леонид Витальевич был украшением русского оперного искусства. Арию герцога од исполнил так превосходно, что все присутствующие (в том числе и солдаты второго и третьего ярусов) наградили его бурными, продолжительными аплодисментами.
Опера «Риголетто» стала памятным эпизодом моей студенческой жизни в Петрограде. Впоследствии я слышал Собинова в Москве, в Большом театре. Вокально-сценический талант Леонида Витальевича высоко оценила новая рабоче-крестьянская власть. В 1923 году ему было присвоено звание народного артиста республики.
Учебные занятия в институте шли гладко, без перебоев. Понемногу втягивался я и в те дела, которые не входили в программу, утвержденную Министерством просвещения. В значительной мере этому способствовал высокий настрой политической жизни студенчества. Все происходило как-то само собой, естественно, без особых побуждений.
Началось с того, что один из студентов предложил мне послушать выступление Рудакова.
— Пойдем, интересно будет…
Я усомнился: что же интересного, если доклад о войне и литературе. Но вечером отправился в объявленную аудиторию. Студентов пришло много, более сотни. Рудаков, студент старшего курса, был одет не по форме — в поддевке деревенского типа. Однако говорил действительно интересно.
Докладчик очень умело подобрал высказывания различных писателей, в том числе Горького, о причинах возникновения войны, о роли в ней различных государств и отношении народных масс к войне. К содержанию доклада полиция не имела оснований придраться: все высказывания были взяты из опубликованных книг и брошюр, из периодической печати. Однако выводы напрашивались сами собой: мировая война — это империалистическая бойня, война капиталистических государств за передел колоний, за рынки сбыта, война несправедливая, и мы против нее!..
Студенческое собрание закончилось поздно. В свою крохотную комнатушку я возвращался в приподнятом, возбужденном настроении, похоже впервые задумавшись над тем, кто же по-настоящему борется за нужды трудового народа…
А Петроград жил своей сумбурной ночной жизнью. Из ресторанов доносились ноющие звуки скрипок: полуголодные инвалиды и старички наигрывали модное в то время аргентинское танго. Рестораны были набиты кутящими офицерами, спекулянтами, анархистами и проститутками. Шумные компании усаживались в экипажи, запряженные унылыми клячами, и с песнями переезжали в другой квартал.
Случалось, в ночи раздавался одинокий выстрел. Эхо билось о каменные берега улиц и площадей. Нищие, гуляки, одинокие дамочки, словно тараканы, прятались за железные решетки подъездов. За мутными стеклами окон гас свет, задергивались занавески. Откуда-то доносился гулкий топот копыт, бряцание шашки. Ночная жизнь военного Питера…
Но в ней было тайное большое движение, ускользающее от ушей царской охранки и полиции. Прощаясь со мной после студенческого собрания, рыжеволосый старшекурсник вынул из внутреннего кармана пиджака сложенную пачку каких-то бумаг ж сказал:
— Почитай дома. Через два дня вернешь…
Это было информационное сообщение о состоявшейся в сентябре 1915 года в Швейцарии Циммервальдской социалистической конференции интернационалистов, на которой был принят манифест, осуждающий империалистическую войну и призывающий к скорейшему окончанию войны без «аннексий и контрибуций». В конференции участвовал Ленин.
Для меня все это было необычайно новым. Кто такой Ленин? Социалисты? А что означает «интернационал»? Партия, группа или политическое течение? У кого на эти вопросы получить разъяснения?
Поехали мы однажды на Высшие женские курсы. Собственно, пригласили нас на танцульки, но народу, студентов и курсисток, собралось много. Не обошлось без сходки. В одной из аудиторий кто-то вытащил на средину стол, и на него взобрался хорошо подготовленный оратор в студенческой куртке.
— Уважаемые кружева и пуговицы! — обратился он к присутствующим. — Все притихли. — Вам хорошо известно, какую непопулярную в народе и ненужную для страны войну ведет наше царское правительство. Оно гонит на фронт пушечное мясо — миллионы солдат, которые гибнут «за веру, царя и отечество». Но нужна ли эта война нашему народу? Группа студентов-социалистов поручила мне объяснить вам полную несостоятельность царского правительства помещиков и фабрикантов…
Тут в аудиторию вошел человек в форме надзирателя, свет мгновенно потух. Оратор спрыгнул со стола и смешался с выходящими из аудитории. Задержать его «надзиратель» не смог.
Другой раз один из студентов предложил мне послушать выступление Морозова.
— Ты знаешь, кто этот Морозов? — спросил он меня. Я ответил, что знаю профессора Морозова — ученого, специалиста в области лесоводства.
— Да нет, не тот. Мы пойдем на вечер, где будет выступать бывший узник Шлиссельбургской крепости, известный революционер Николай Александрович Морозов. Его пригласили студенты.
По дороге в аудиторию я получил подробные сведения о докладчике. Н. А. Морозов — выходец из помещичьей семьи, но с ранних лет принимал участие в политической работе, направленной на свержение царского самодержавия, вступил в тайную организацию, которая не отрицала террор и подготовила убийство царя Александра II. Морозов входил в состав ее исполнительного комитета. Осужденный по делу народовольцев, четыре года провел в Петропавловской крепости, свыше двадцати лет — в Шлисселъбургской.
В заключении и на свободе Морозов много занимался научным и литературным трудом, он написал немало стихотворений, посвященных физике, математике, астрономии и химии, в которых без труда можно было уловить горячие стремления к революционному переустройству общества.
На том вечере Николай Александрович читал нам свои стихи из сборника «Звездные песни». За издание их в 1910 году он был осужден еще раз и заключен в Двинскую крепость. Тюрьмы не сломили дух революционера, его пламенных надежд на крушение старого мира. Одет он был очень просто, в волосах — густая седина, а дружеский, приветливый взгляд и по-молодому восторженная речь вызывали всеобщую симпатию студентов.
Много лет спустя я узнал, что шлисселъбургский узник Морозов после Октябрьской социалистической революции посвятил себя научно-педагогической деятельности и в 1932 году был избран почетным членом Академии наук СССР.
А тем временем шел второй год войны, которая опрокинула все мои планы и направила жизнь по иному пути. Указ о досрочном призыве на военную службу предоставил право нам, студентам высших учебных заведений, получить в военном училище подготовку по очень короткой программе — за каких-то четыре — шесть месяцев. И не долго думая я забрал свои документы и направился в Константиновское артиллерийское. Служба в артиллерии мне казалась интересной. Но там спросили: «Золотая медаль за гимназию есть?..» Золотой не было, поэтому тут же пришлось от затеи отказаться. По совету одного из студентов поехал тогда к морякам. Оказалось, что пока могут принять только в училище береговой службы. После короткого раздумья решил, что гардемаринские классы не по мне, и вот сел в поезд и поехал в Москву.
В России тогда было более десяти военных училищ. Первым «по чину»». считалось Павловское, вторым — Александровское, третьим Алексеевское. Собственно говоря, можно было поступить в школу прапорщиков, куда студентов направляли воинские начальники, не спрашивая согласия. Но это были скороспелые военно-учебные заведения, разбросанные по многим городам. Располагались они в малопригодных помещениях и плохо снабжались. Поэтому, не дожидаясь такого направления, я и отправился по собственной инициативе в Москву.
Прямо с вокзала пошел искать Александровское пехотное. Оно располагалось на Арбатской площади, по рассказам, имело многолетнюю историю, большие традиции. Муштрой отличалось умеренной — не в пример Алексеевскому пехотному, где за любые, даже незначительные проступки ставили под ружье. Это тяжелое наказание — стоять не менее часа в положении «смирно» с винтовкой «на плечо» и пудовым вещевым мешком за спиной.
Александровское училище располагалось в великолепном здании бывшего дворца Апраксина, украшенного двенадцатью импозантными коринфскими колоннами. В канцелярии адъютант начальника училища, просмотрев документы, предложил мне написать заявление:
— Считайте себя принятым, но… необходимо представить справку о благонадежности, — и объяснил, где ее получить.
Я решил со справкой не спешить, сначала поехать к отцу в деревню. В деревне было привычно тихо, приближались очередные полевые работы — сенокос, жатва. Погостив недельку, вместе с отцом опять поехал в Москву, От Богородска до столицы поездом полтора часа. В одном из переулков Мясницкой улицы отыскали это самое пресловутое 3-е управление. Долго заполнял там какие-то бумаги, писал заявление. Через полмесяца получил требуемую справку.
А между тем печать все чаще помещала сообщения о военных неудачах на фронтах. На Балканах поражение войск Сербии и Черногории. В Черном море наводил страх крейсер «Гебен». Дирижабли «Цеппелин» появились над Англией, над Парижем. А когда в марте печать запестрела объявлениями и плакатами о новом внутреннем займе на 2 миллиарда рублей сроком до 1926 года, всем стало ясно, что у царского правительства денег для ведения войны нет. Экономическое положение в России становилось все более тяжелым.
Недостаток продовольствия в стране принял угрожающие размеры. Мясо подорожало до 20 рублей за фунт, сало — до 30 рублей. Женщины дневали и ночевали в очередях за хлебом и за всем, что удавалось выпросить у лавочников. Как обычно бывает во время войны, самые неожиданные формы и размеры приобрела натуральная торговля.
Продовольственный вопрос рассматривался в Государственной думе, ж, как выяснилось, из-за разрухи и беспорядка на железнодорожном транспорте много мяса, заготовленного для фронта, испортилось. Министр земледелия вынес на обсуждение смехотворный проект закона: «Прекратить в стране убой скота, а для населения установить употребление мяса только три дня в неделю…»
О мире никто не хотел думать. Русский царь в обращении к английскому королю подтвердил, что «мир будет достигнут только победой». Война уже перерастала в мировую. В августе 1916 года против Германии выступили еще две страны: Румыния и Италия. Основным поставщиком оружия, обмундирования и продовольствия для стран блока Антанты теперь стали Соединенные Штаты Америки, которые богатели на войне и быстро развивали военную промышленность.
Царской армии не хватало оружия, патронов, снарядов, к тому же необходимо было оплачивать иностранную помощь, пополнять ряды армии. И вот безусые подмастерья, учащиеся покидали мастерские и классы, напяливали не по росту шаровары ж сапоги и, пройдя ускоренный курс солдатской муштровки, заполняли эшелоны, еще пахнувшие кровью, грязью, нечистотами, и уезжали в западном направлении. В газетах и журналах снова появились объявления во всю страницу о том, что правительство подготовило второй выпуск облигаций внутреннего займа, уже на сумму 3 миллиарда рублей, а всего за 1916 год — на 5 миллиардов!
Разруха охватывала всю страну, зрело недовольство народа войной. В промышленных центрах начались стачки, забастовки, массовые народные демонстрации, для подавления которых царское правительство начало повсеместно применять винтовки и пулеметы.
Обо всем этом мы узнавали понаслышке. Царская цензура тщательно скрывала от общественности факты многочисленных выступлений рабочих в Петрограде, бунты женщин в очередях, столкновения рабочих и солдат с полицией. В народ просачивались сведения о том, что многие высшие должности в государстве поручаются немцам, так как жена царя, эта «гессенская муха», немка, говорили, что тут недалеко и до измены. Поползли слухи о появлении в Петрограде некоего старца — Григория Распутина, который с царицей шашни завел. Будто бы этот полуграмотный сибирский мужик помогает царю смещать и назначать министров.
Вот в этой обстановке экономической разрухи, политического кризиса в Москве, на Знаменке, у дверей училища к назначенному сроку и собралось нас 900 человек. Одеты — кто в чем, в общем небогато. Комплектовался батальон. Построили всех на улице, рассчитав по ротам. Я попал в 8-ю. Состав ее оказался весьма, разнообразным. Многие не имели даже среднего образования, в основном это были мелкие служащие торговых, административных учреждений, несколько семинаристов, великовозрастные торговцы, дельцы, попавшие по протекции, чтобы не сразу, ехать на фронт.
Мы познакомились с нашими курсовыми офицерами. Один из них, подпоручик Ветров, прикомандирован после ранения; другой — поручик Джуркович, серб по национальности, поджарый, худощавый, — тоже побывал на фронте; третий прапорщик Тарновский, московский юрист.
Два месяца нас не выпускали из стен училища, пока мы не научились как следует отдавать честь при встрече с офицерами. В увольнении нам запрещалось посещать клубы, народные столовые, платные места гулянья, торговые ряды на Красной площади. В театрах не разрешалось сидеть ближе седьмого ряда партера и ниже второго яруса лож.
Давно заведенный в Александровском училище распорядок выдерживался строго. В 5.45 поверка, далее подъем, утренний осмотр, молитва, гимн, чай, занятия. Завтрак — 12.30, потом опять занятия. Занимались мы в две смены: если один батальон до обеда в классах, то второй — на строевом плацу. Обед 17.45, затем отдых и вечерний чай. В 21 час прослушивали вечернюю зорю, после чего — перекличка и отбой. В 23 часа тушили свет.
Обучение проводилось по устаревшим программам, почти без учета требований новой войны. Ничего мы толком не узнали ни о военных действиях в условиях полевых заграждений, ни о принципах взаимодействия родов войск, ни о новых типах тяжелой артиллерии, ни о применении на войне автомобилей, авиации. Зато на строевую муштру времени в училище не жалели…
В туго затянутой ремнем шинели с погонами и с вышитой буквой «А» (Александровское) отрабатываем основную стойку — плечи развернуты, корпус прямой, руки по швам, голова не опущена, но и не закинута, глазами «едим начальство».
— Вы что, юнкер, стоите, как беременная баба! Уберите пузо!..
На первых же занятиях подпоручик Ветров толкнул меня ножнами своей шашки в живот, «популярно» объяснив положение основной стойки.
По программе необходимо было освоить порядок работы «довольствующей» роты. Я попал на кухню в распоряжение какого-то военного чиновника. Занятый другими делами, он на ходу кинул мне составленное недельное меню завтраков, обедов и ужинов, буркнув при этом:
— Составляйте раскладку! Как составлять — все написано. Вот ключи от погребов и кладовых. Продукты выдавайте поварам по раскладке, но точно по весу. Весы в кладовой, — и ушел.
Итак, мне предоставлена полная самостоятельность. Быстро освоив продовольственную премудрость, я легко составлял эти раскладки. Ко мне на кухню ходили по вечерам мои ротные однокашники подкрепиться казенными харчами: питание в училище было довольно-таки скромное.
Вскоре посыпались взыскания — за дело, без дела: наряд вне очереди, выговор, гауптвахта. Несмотря на быстроту такого обучения, я все-таки сумел освоить трехлинейную винтовку образца 1891 года и пулемет «максим». Но когда дело дошло до стрельбы в тире, я, лежа за пулеметом, замешкался, и курсовой офицер, опять ткнув меня ножнами шашки, закричал:
— Стреляйте, юнкер, черт вас побери! Чего спите?!
А спал-то, скорее всего, не я…
Боевые действия Румынии против Австро-Венгрии показали, что новая союзница России совершенно не готова к войне: в ноябре она потерпела поражение. Треть румынской армии попала в плен. Пал Бухарест. Оставшиеся части союзнической армии отвели в провинцию Молдова, а русскому командованию, чтобы прикрыть Бессарабию, пришлось сдвинуть весь фронт на юг. Теперь он был невероятно растянут — тысячи верст земляных укреплений, проволочных заграждений. Войска стояли друг против друга в окопах и вели ленивую перестрелку. Война приняла затяжной, позиционный характер.
Незадолго до Нового года дворцовые сановники не хуже заправских бандитов расправились с фаворитом императрицы — Гришкой Распутиным, воображая, будто пишут новую страницу в истории России.
В конце января 1917 года подошел наш выпуск из училища. Всем присвоили чин прапорщика с перспективой производства в подпоручики. Выдали обмундирование — китель, брюки, пару сапог и снаряжение — шашку, револьвер, компас, полевой бинокль, а также чемодан, складную кровать и две пары белья.
И вот я — девятнадцатилетний прапорщик, с одной звездочкой на единственной полосе защитного погона. Осталось выбрать назначение. Батальон построили в большом зале (бывшей церкви училища). На классных досках мелом написаны города и номера пехотных полков (в основном запасных). Вызывали по списку. Я выбрал 215-й пехотный запасной полк во Владимире.
…На улицах столицы бывшего русского княжества полно снега. Весело поскрипывая, сани несут меня к месту службы. Извозчик, как заправский гид, поясняет по ходу, сильно окая — «по-володимирски»:
— Это вот наша главная улица. Шалопаевка называется, потому как тут полно гуляющей молодежи. Особливо вечером… А вот улица Тюремная, тута тюрьма…
Подъезжая к окраине города, увидел большой плац, окруженный оградой, несколько кирпичных казарм и входные ворота, на которых золочеными буквами написано:.»10-й гренадерский малороссийский имени графа Румянцева-Задунайского полк». Вот оно что! Здесь до войны стоял строевой пехотный полк, сейчас он на фронте, а в казармах теперь 215-й запасной.
Как-то пойдет моя армейская служба?..
Нельзя сказать, что ускоренный курс в Александровском училище прошел для меня бесследно. Я старался постичь азы воинской премудрости: командирские навыки, организацию военного дела, успел познакомиться с биографиями и почитать в училище сочинения видных русских военачальников, твердо усвоил некоторые истины суворовской науки побеждать.
В век жестокой дисциплины, когда тиранство считалось добродетелью, Суворов допускал возражения «нижнего высшему, но с тем, чтобы они делались пристойно, а не в многолюдстве, иначе будет буйство…» «Местный лучше судит по обстоятельствам; я вправо, — должно влево, — меня не слушать; я велел вперед, ты видишь, — не иди вперед». В турецких походах, на штурмах Варшавской Праги, в снегах Финляндии ковались суворовские чудо-богатыри. И, столкнувшись с армией, воспитанной Бонапартом, разбили ее в долинах Северной Италии. Русский солдат исколесил всю Европу, побывал в Персии, перешел не один заснеженный горный перевал, стоял на «линии» в пустынях Средней Азии, повидал на своем веку немало народов. И говорил Суворов твердо: «Горжусь, что я русский!..»
«Сам погибай, а товарища выручай», «Не бойся самостоятельности», «Действуй целеустремительно», «Службу ставь выше личных дел». Немало подобных истин, вычитанных у А. В. Суворова, М. И. Кутузова, М. Д. Скобелева, М. И. Драгомирова, усвоил я и принял как откровения, чтобы находить путь к сердцу и разуму русского солдата.
Меня назначили младшим офицером 3-й роты, многие солдаты которой годились мне в отцы. В казарме размещены все были очень плотно, на трехъярусных нарах — скученность и духота. Командование в роте — кадровый состав офицеров и унтер-офицеров, а также переменный состав. Переменный предназначается для отправки на фронт — в каждой роте 300 человек, подготовленных по десятинеделъной программе. Я, конечно, в переменном составе. Но когда на фронт — неизвестно. Предстоит еще заниматься подготовкой маршевой роты.
Гнетущее впечатление произвел на меня кадровый офицерский состав, уже побывавшие на войне люди, которым все нипочем, в большинстве своем пьяницы и картежники. В казарме они почти не появлялись, оставив роту на полное попечение фельдфебеля да унтера.
Не прошло и недели моего знакомства с полком, готовящимся к войне «за веру, царя и отечество», еще не успел я обжить снятую на Тюремной улице комнату, как меня вызвали в штаб к адъютанту полка. Здесь я получил предписание выехать в Тверскую губернию для изучения саперного дела и сразу же отправился в дорогу.
Вернувшись из командировки в конце февраля, я попал в гущу событий, охвативших страну. Телеграф принес знаменательное известие: пало самодержавие.
Это было 23 февраля, в Международный женский день (по старому стилю). По призыву большевиков в Петрограде бастовало около 50 заводских предприятий, 90 тысяч: рабочих и работниц вышли на улицы. Многолюдная демонстрация трудящихся прокатилась и по Владимиру. Город был неузнаваем. В самом воздухе витало нечто новое — радостное, тревожное и непонятное. Прохожие шагали по улицам торопливо и деловито, словно подгоняемые какими-то известиями. То и дело долетали новые странные и непривычные слова: «советы», «солдатские депутаты», «сепаратный мир», «коалиция», «временное правительство». А демонстранты, проходившие по главной улице с красными плакатами и транспарантами-призывами: «Да здравствует революция!», «Свобода, равенство, братство», «Долой самодержавие!», стали приближаться к нашим казармам.
Командир полка полковник Попов решил не допустить их, организовал заслон. Учебная команда полка была построена в две шеренги с винтовками и боевыми патронами. Попов верхом на белом коне разъезжал перед фронтом заслона и, когда демонстрация приблизилась, прокричал:
— Расходись!.. Назад, в город!..
В ответ раздались возгласы демонстрантов:
— Товарищи солдаты, выходите из казарм! Давайте на демонстрацию! Долой царя!
И тут командир полка приказал начальнику учебной команды открыть огонь. Тот по всем правилам распорядился:
— Заряжай!..
Солдаты вложили обоймы с патронами в винтовки.
— Первая шеренга с колена, вторая стоя… — командовал он.
Солдаты нехотя приложили винтовки «к плечу». Казалось, вот-вот произойдет непоправимое. Послышалась громкая команда:
— Пли!
Но… выстрелов не последовало! Солдаты только сработали затворами и выбросили патроны из винтовок. Это произвело магическое воздействие. Демонстранты бросились на полковника, вмиг стащили его с лошади и избили. А мы, солдаты и многие младшие офицеры, примкнули к колонне. Некоторые прицепили к шинелям и на папахи красные ленточки. По улицам города теперь шла многочисленная революционная процессия.
Политические события в стране развивались быстро. Революция свершилась. Россия искала пути в будущее, пробиваясь сквозь сеть окопов и проволочных заграждений, металась по митингам восставших полков и бесконечным заседаниям политических партий. Рабочий класс почувствовал свою силу, и хотя в Зимнем дворце заседало Временное правительство князя Львова и Керенского, в Петрограде от имени Совета рабочих и солдатских депутатов издавались приказы, писались прокламации, воззвания. Крупным шрифтом был набран приказ № 1 и манифест, начинавшийся историческими словами: «К гражданам России!»
Впоследствии Керенский заявил, что он отдал бы несколько месяцев своей жизни, только бы этот приказ не был составлен и опубликован. Но приказ уже отпечатали и разослали по многим городам. Советы рабочих и солдатских депутатов действовали!
Вскоре и у нас в полку был избран солдатский комитет, в котором я представлял 3-ю роту. В городе образовался Совет рабочих и солдатских депутатов. Товарищи доверяли мне и поручили работу в комиссии по определению годности солдат к военной службе.
В те дни прозвучал пламенный призыв: «Да здравствует социалистическая революция!» В Петроград из эмиграции вернулся вождь пролетариата Ленин.
Я прочитал немало воспоминаний, беседовал со свидетелями революции, с ее участниками. Все они с увлечением, приводя массу подробностей, рассказывают о встрече Ленина на Финляндском вокзале, о том, как рабочие подняли Ильича на руки и понесли на броневик. Как он закончил свою краткую речь лозунгом «Да здравствует социалистическая революция!» и вскищ/л над толпой руку.
В те дни европейские осведомительные агентства писали:
«Временное правительство имеет сильного противника в лице вожака большевиков профессора Ленина. Ленин известен как большой идеалист, человек на редкость честный, безукоризненный в личной жизни… В руках его приверженцев сорок тысяч винтовок и тридцать тысяч револьверов, взятых на артиллерийском складе еще в первые дни революции…» «С воскресенья в Петрограде находится Ленин, лучший специалист в области русского аграрного вопроса… По прибытии его посетили делегаты всех русских социал-демократических организаций, прося содействия в деле немедленного созыва всех русских социалистических организаций, а также партий большевиков и меньшинства. С вмешательством Ленина в русскую революцию последняя приняла совершенно новую форму…»
В сущности, европейские агентства не ошибались, истинная социалистическая революция начиналась только теперь. Ни Временное правительство, ни какие-либо другие внутренние или внешние силы не могли остановить ее развитие. И вот в Петроград, в особняк Кшесинской, уже со всей России летели поздравительные телеграммы и сведения о первомайских демонстрациях.
Первомайские торжества прошли и во Владимире. Запомнился мне этот день. Развевались флаги, сверкали на солнце медные трубы оркестров. Колонны демонстрантов шли с плакатами: «Долой войну!», «Да здравствует демократический мир!», «Земля — крестьянам!», «Восьмичасовой рабочий день!». Сменяя друг друга, ораторы выкрикивали лозунги. Но вот над толпой взмыл голос, пронзительный и грозный, который подчинил себе всех:
— Вставай, проклятьем заклейменный!..
И все запели. Пели без нот, без дирижера. Но пели так, словно от этой песни зависела судьба, словно не было на свете ничего важнее ее — песни, сочиненной двумя французскими коммунарами.
Я читал и слушал удивительнейшие рассказы о событиях, происходящих в мире под звуки этой песни. Но и сейчас, слушая ее, я неизменно вижу одну и ту же картину: рабочие и солдаты нашего 215-го пехотного полка в памятный день Первомая семнадцатого года идут во главе демонстрации по древнему Владимиру.
На съездах, при встречах и последних проводах я всегда запеваю ее одним из первых и пою до конца, вместе со всеми…
Незаметно подошло лето. Кровавое, бурное лето 1917 года.
Состав Временного правительства стал меняться, вскоре пост военного министра в нем занял краснобай А. Ф. Керенский. Под его руководством 18 июня в Галиции было начато бесславное наступление наших войск, в том числе армии генерала Л. Г. Корнилова. Сначала оно проходило с успехом: был занят город Галич, число пленных, в основном австровенгров, достигло 20 тысяч человек. Но 5 июля Гинденбург усилил войска, немцы перешли в контрнаступление и прорвали фронт на участке 130 верст.
Чтобы как-то отвлечь немцев, по указанию Керенского был организован такой же безуспешный прорыв русских войск под Сморгонью и Двинском, где были отмечены случаи невыполнения боевых приказов целыми полками и дивизиями. Печать начала писать о «развале русской армии», «о вредной деятельности социалистов-интернационалистов», «о самоуправстве Советов рабочих и солдатских депутатов, солдатских комитетов», запестрели объявления о денежном «займе свободы, 1917 года» — сроком на 54 года!
Вот в этой сложной обстановке моя рота походным порядком была направлена в город Суздаль — ловить дезертиров, которых там якобы очень много. Два перехода пешком — туда и обратно по 35 верст — я совершил впервые в жизни и, конечно, стер ноги. Дезертиров в Суздале мы не нашли, в роте же после возвращения недосчитались пяти солдат. И тут же я получил назначение отправиться на фронт и доставить в 4-й Кавказский стрелковый полк 300 человек. Изучил наставление по перевозке войск: на вагон — 40 человек, 8 лошадей. Маршрут — Владимир, Москва, Ржев, Великие Луки, конечная станция Режица (ныне Резекне). Оттуда — походным порядком на фронт к городам Крейцбург и Якобштадт на реке Западная Двина.
Сначала все шло по порядку. Я, начальник железнодорожного эшелона, заказываю по телеграфу обед, ужин для солдат. Но на одной из станций ужина не оказалось и питательный пункт был закрыт. Солдаты, звеня котелками, ложками, высыпали на платформу. Узнав, что ужина нет, обступили меня и с угрожающим видом принялись кричать и ругать все, какое знали, начальство. Неприятное чувство без вины виноватого шевельнулось где-то в душе.
Но тут я вспомнил, что в вагоне у меня есть запас черных сухарей, а воды горячей на станции — сколько угодно. Объяснил солдатам положение, сказал, что выдадим сухой паек, и они, ворча, недовольные, разошлись по своим местам. Зато на следующей станции высыпали на платформу и растащили всю снедь, какая нашлась у торговок. Военный комендант немедленно дал по пути следования эшелона телеграмму: «Идет «буйный эшелон». После этого поезд мчался мимо промежуточных станций, и я едва уговорил машиниста останавливаться в местах питательных пунктов.
По прибытии в Режицу раздал роте оружие, патроны, сухой паек. Дальше мы шли походным порядком. В Крейцбурге (ныне Крустпилс) представители 4-го Кавказского стрелкового полка приняли солдат, распределили всех по ротам, а меня назначили младшим офицером в саперную команду.
Вот и землянки, на обратном скате пологого овражка, добротные, с печами, наружными уборными. Полы дощатые, в помещениях чисто. В офицерской землянке — полевой телефон в штаб полка. В ней жили начальник команды капитан, поручик, подпоручик, добавился прапорщик.
Рассказов много. Более двух лет на этом участке фронта полк удерживал на левом берегу Западной Двины укрепленную зону в районе Якобштадта (ныне Якобпилс). Участок был спокойный. Вдруг недели две назад рано утром немцы открыли интенсивный артогонь и перешли в наступление. Якобштадт мы оставили целым и невредимым. А когда перешли на правый берег реки, то в Крейцбурге решили подорвать все, что можно, чтобы немцам не досталось. Город во многих местах выгорел, торчали одни печные трубы.
Что же будет делать саперная команда, думал я. Выяснилось — будем укреплять вторую линию окопов, а первая уже отрыта, и в ней роты полка расположились почти по самому берегу Западной Двины. Немцы на правый берег не пошли.
В моей команде взводы саперов (землекопов), плотников, каменщиков и минеров-подрывников. Солдаты дело свое знают. Наша задача — строить на второй линии окопов пулеметные гнезда, блиндажи, убежища с деревоземляным покрытием. Мне достался замок барона Корфа. Его необходимо было приспособить к обороне.
Замок стоял почти на берегу реки. Над одним из его зданий возвышалась пирамидальная четырехгранная башня с большими наружными часами, в стене которой зиял пролом от артиллерийского снаряда. Стрелки часов выскочили наружу и застыли в неестественном положении.
Моей задачей было использовать стены ограждения замка для устройства пулеметных точек и убежищ. И мы приступили к работе. Работали ежедневно. Обед нам привозила походная кухня, запряженная доброй лошадкой. Помех особых не было. Но как только немецкие наблюдатели с противоположного берега замечали движение солдат, противник открывал по замку методический артиллерийский огонь, — мы прятались в убежище. Крепкие старые стены ограждения, хозяйственных сараев и других строений хорошо защищали от легкой артиллерии, хотя были, конечно, раненые и убитые.
Так прошел август, сентябрь. Осенью офицеры сапер-вой команды под различными благовидными предлогами начали исчезать из прифронтовой полосы. Первым, якобы в отпуск, уехал капитан. Затем поручик подался в госпиталь и также не вернулся. За ним последовал подпоручик, и наконец в команде остался только один офицер — я. Времени свободного было предостаточно. Используя его для чтения вслух газет в солдатских землянках, я попутно отвечал на вопросы, которых накопилось множество. В девятнадцать лет, конечно, ни житейского, ни боевого опыта. Поэтому отвечал, как мог. Часто помогал солдатам писать письма домой, адреса на конвертах-самоделках, сложенных треугольниками. Много тогда было малограмотных.
Вскоре и здесь солдаты избрали меня в состав ротного комитета, поручив связь с полковым солдатским комитетом, который вместе со штабом 4-го Кавказского стрелкового полка находился верстах в четырех от берега реки. Бывая там, я все больше убеждался, что настроения солдат полковому комитету хорошо известны: поскорее закончить войну — да по домам.
Но как ее закончить? Недалеко от замка барона Корфа, посредине реки, был небольшой, заросший кустарником остров. Русские и немцы выбрали его для братания. Те и другие небольшими группами перебирались на остров в лодках, и здесь происходила дружеская встреча противников. А командование полка, хотя формально и не запрещало братание, настойчиво препятствовало проникновению каких-либо сведений о революционных событиях в стране, особенно в Петрограде, всячески стремилось не допустить «самочинных» солдатских собраний и митингов. Только благодаря большевикам правдивые вести все же просачивались к нам. Изредка появлялись большевистские газеты «Окопная правда», «Солдатская правда». Из разноречивых толков официальной печати было ясно, что твердой политики окончания войны придерживается лишь одна партия ленинская. И в окопах все чаще слышались призывы к невыполнению распоряжений высших офицерских чинов и Временного правительства, ибо эти распоряжения шли вразрез с чаяниями и думами солдатских масс. Поэтому всех нас обрадовало и вдохновило известие: Октябрьская революций свершилась…
С большой радостью и одобрением солдаты узнали о первых декретах рабоче-крестьянского правительства, Когда на очередном собрании я зачитал исторические Декреты о мире и о земле, посыпались вопросы: «Что такое аннексия?», «Что значит мир без аннексий и контрибуций?», «Когда будет заключен мир?», «Кто будет отбирать землю у помещиков, а заводы у фабрикантов? Когда?».
К нам в комитет стали приезжать представители — полковой и дивизионной солдатских организаций и привозить все новые известия. Пересказывали захватывающие сведения о том, как в Петрограде революционные солдаты и матросы штурмовали Зимний дворец, где засело Временное правительство, как этих «временных» посадили в Петропавловскую крепость, как восставшие расправлялись с городовыми и полицейскими. И еще много рассказов достоверных и малодостоверных о прошедших событиях, о смелости и мужестве борцов за социалистическую революцию.
Солдаты нашей команды с волнением и восторгом слушали о том, что происходило в Петрограде. Многое было еще недостаточно ясным, но Декреты о мире и о земле были понятны всем. Написанные В. И. Лениным, эти первые документы Советской власти принял II съезд Советов. Он же одобрил постановление об образовании в армии временных военно-революционных комитетов, на которые возлагалась ответственность за сохранение революционного порядка и устойчивость линии фронта. Командование фронтов обязано было подчиняться распоряжениям комитетов.
…В то утро я встал рано. Обошел и проверил посты охраны, караулы все в порядке. Поторопился в землянку, где меня ждал солдат, выполнявший обязанности парикмахера. Он уже приступил к стрижке, как в землянку неожиданно вошли члены ротного комитета. Председатель комитета держал в руках слегка помятый тонкий лист бумаги с нечетким машинописным текстом.
— Вот получили из штаба полка новый декрет, — сказал он. Послушайте. — И зачитал с запинками и пропусками постановление «Об уничтожении чинов и орденов в армии и о выборности командного состава».
— Так, значит, не будет у нас больше ни прапорщиков, ни поручиков, ни генералов? — переспросил я.
— Выходит дело так, не будет, — ответил председатель. — Вот мы и пришли к вам, «господин прапорщик», — разрешите вас так назвать в последний раз, чтобы снять с вас погоны.
Погоны у меня фронтовые, защитного сукна, плотно пришиты к кителю. Но у председателя перочинный ножичек, да еще взяли ножницы у парикмахера, и через несколько минут я оказался без погон.
— А теперь сдайте оружие, — потребовал председатель.
Я отстегнул наган вместе с кобурой и передал его представителям комитета.
— Оружие вручим новому начальнику команды. Выборы будут сегодня вечером на собрании.
День прошел как обычно. Все светлое время работали по укреплению стен замка. Вечером я вернулся в землянку и на собрание солдат решил не ходить: пусть без меня — смелее будут высказываться, подумал, и сел за письмо родным.
Наутро ко мне снова пришли все члены комитета и, улыбаясь, дружески пожимая руку, объявили, что солдаты избрали меня начальником саперной команды. Мне тут же вернули наган. Погоны со своей шинели я снял сам. Очень обрадовало доверие, которое мне оказали, и, вдохновленный, я приступил к своим новым обязанностям.
Пришла зима — трудная, голодная зима 1918-го. Мясо, хлеб, другие продукты поступали на кухню с перебоями. Приходилось урезать суточную норму, но солдаты не жаловались. Хуже было с лошадьми. Сена и овса почти не стало. Экономили каждую травинку. На ночь повозочные изловчились загораживать выход из конюшни свежесрубленными деревьями. Даже из моей землянки был слышен щемящий сердце шум — лошади грызли кору и стволы. Через некоторое время начался падеж животных.
Ну а как шло дело с «замирением»? Мы получали газету «Солдатская правда», которая на третий день Великой Октябрьской социалистической революции писала: «Революционная армия не сумеет защитить революцию от всяких посягательств империализма, пока новое правительство не добьется заключения демократического мира, который оно непосредственно предложит всем народам». Нам было известно, что советское рабоче-крестьянское правительство вело переговоры о заключении мира. Совет Народных Комиссаров неоднократно обращался к государствам Антанты с предложением начать переговоры о заключении демократического мира без аннексий и контрибуций. Содержание Декрета о мире было доведено до сведения всех воюющих и нейтральных стран. Однако империалисты организовали вокруг декрета заговор молчания.
Кадеты, эсеры и меньшевики решили использовать это непризнание империалистов Запада и стали распространять ложные слухи о том, что большевики обманули народ обещанием мира, что без согласия союзников не может быть и речи о прекращении войны. Но враги Советской власти были бессильны приостановить начавшиеся переговоры. Солдатские массы убедились в том, что только большевики защищают интересы рабочих, крестьян и солдат, что только они могут дать действительный и справедливый мир и вывести страну из войны.
Задолго до заключения перемирия Советское правительство приступило к демобилизации старой армии. Пошли настойчивые слухи о подготовке к отводу нашей дивизии в тыл. И вот в середине февраля моя саперная команда вместе с другими ротами полка направилась в Ржев.
По прибытии в город нас разместили очень скученно, в деревянных бараках. Но это временно, потому что весьма скоро началась стихийная демобилизация. В ротах и командах солдаты принялись делить остатки продовольствия и обмундирования. Мне досталась шерстяная гимнастерка да несколько фунтов крупы и риса. Лошадей продавали с молотка. Многие покупали их, и штабы едва успевали выписывать документы демобилизуемым. В начале 1918 года с фронта в среднем уходило около трех тысяч солдат в неделю.
Одновременно правительство молодой Советской республики принимало меры по созданию новой, революционной армии. 15 января за подписями В. И. Ленина, Верховного Главнокомандующего Н. В. Крыленко, народных комиссаров по военным и морским делам П. Е. Дыбенко и Н. И. Подвойского Совнаркомом был издан декрет об ее организации. Рабоче-Крестьянская Красная Армия с самого начала строилась как постоянная и регулярная, однако до лета 1918 года в силу ряда причин, в том числе из-за отсутствия на местах военно-административного аппарата, фактически еще была не регулярной.
А мы все тогда, в начале 1918-го, считали, что ненавистная империалистическая бойня закончилась, и в сутолоке, вихре событий торопились домой.
За мной в Ржев приехал брат Михаил. Он помог собраться, достать билет на поезд. В штабе полка я получил документы и отправился в город Богородск Московской губернии. Отец и мать несказанно обрадовались моему возвращению. А я с чистой совестью готов был отдать себя любимому делу — трудиться на родной земле.
Мой отец еще со времен первой русской революции знал многих большевиков, в том числе члена партии с 1904 года Михаила Афанасьевича Петухова. В первом составе уездного Совета Петухов заведовал земельным отделом. Как-то в апреле 1918 года он встретился с отцом и долго дружески беседовал с ним. Михаила Афанасьевича интересовало настроение крестьян, их перспективы и надежды на прибавку земли за счет морозовских угодий. В конце беседы он спросил:
— А твои орлы, Василий Григорьевич, что поделывают? — Под «орлами» подразумевались мы, сыновья учителя.
— Да вот, Михаил Афанасьевич, оба сейчас дома, — ответил отец. Студенты. Один — лесного института, только что вернулся с фронта, а другой сельскохозяйственной академии.
— Давай-ка присылай парней ко мне, в земельный отдел. Нам грамотные работники нужны, — заключил Петухов.
Через неделю я и брат Михаил были определены на службу в уездный Совет. Михаил стал секретарем земельного отдела, а я — лесного.
В земельном отделе закипела работа по изъятию частных сельскохозяйственных угодий — в основном пахотной земли. Ее было не очень много, но наша деревня Починки, где мы тогда жили, получила несколько десятков десятин из владений Морозова. В ту пору на довольно большой территории Богородского уезда, куда входили земли Щелкова и Павловского Посада, было и два лесничества: одно — казенное с центром в Павловском Посаде, другое — удельное, принадлежавшее царской фамилии, с центром в Гжели. Оба лесничества, естественно, перешли в подчинение уездной Советскойвласти.
В те времена работникам народного хозяйства, как никогда, нужны были решимость, энтузиазм, смелость, та энергичная мужественная политика, которая не робеет под угрозами и криками, откуда бы они ни доносились, умеет ломать все препятствия, обуздывает сопротивление тех, чьи интересы ею задеты. Не случайно в уездном Совете нам предложили организовать «коммуну». Меня выбрали старшим, и забот прибавилось. Главной же задачей лесного отдела уездного Совета, в соответствии с декретами Советской власти, оставалась полная национализация всех лесных площадей, организация новых лесничеств.
Богородский уезд был богат лесом, поэтому мы, не мешкая, организовали пять новых хозяйств. Мой непосредственный начальник, крестьянин Батарин из деревни Огулово, в грамоте был не горазд, писал плохо. Необходимо было помочь Батарину в работе, и М. А. Петухов обязал лесничего Константина Константиновича Попова переезжать в уездный отдел два раза в неделю, что тот и выполнял аккуратно. Попов был очень доволен, что в отделе появился студент-лесник — пусть только второго курса, но уже приступивший к изучению лесного дела.
Много лет проработавший в лесном хозяйстве, он старался как можно скорее передать мне разнообразные практические знания: привез и заставил изучить книги по лесоводству и таксации, показал таблицы для подсчета запаса древесины в результате таксации и объяснил, как составляется план лесного хозяйства, нарезка лесосек, рассказал о реальных мерах для возрождения насаждений. Я быстро усваивал его уроки и вскоре стал основным специалистом в лесном отделе. А Константин Константинович помог мне и людей подобрать на должности лесничих, их помощников. Уездный Совет, не откладывая, утвердил назначения. Тут же была определена довольно сложная задача: в короткий срок составить таксационные описания местных площадей, планы лесничеств. Все эти работы носили характер лесоустройства. Кроме того, новым лесничим было приказано принять на учет весь срубленный лес — дрова, пучки, бревна, слеги, наметить его использование: что на продажу населению, на снабжение школ, больниц, что на вывоз в город. Часть лесов была отнесена к лесам «местного значения» и оставлена в распоряжение деревень. В них крестьяне могли сами заниматься рубкой, косить сено, пасти скот. Сельское население восприняло наши дела с большим удовлетворением и благодарностью. И хотя работы в лесном отделе было много, всем нам было приятно сознавать, что трудимся мы на благо народа.
Но уклад жизни на селе к тому времени изменился мало. По-прежнему в соседнем Ямкино звонили колокола на колокольне, в церкви шло богослужение, венчали новобрачных, отпевали покойников. И только в сельской школе перестали преподавать закон божий, появились новые учебники, новые наркомпросовские указания по методике обучения. У отца был полный класс учеников первого, второго и третьего года обучения. А по вечерам на маленьких детских партах с трудом усаживались деревенские мужики, бабы, не знавшие грамоты. Началась ликвидация неграмотности — одно из первых массовых революционных мероприятий Советской власти. Надо было видеть, с каким старанием, серьезностью и чувством благодарности занимались пожилые люди в школе…
Как-то в конце декабря 1918 года в уездный Совет явилась делегация от фабкома Купавинской тонкосуконной фабрики. Требовался участок для заготовки леса под шпалы узкоколейной железнодорожной ветки. Разрешение получили, а мне было дано поручение отвести лесосеку.
Спелого соснового леса у нас в хозяйстве было мало. Пользуясь планами и описаниями в лесном отделе, я наметил примерные рубки на 15 лет вперед. Вместе с лесником ограничил лесосеку затесами деревьев, произвел обмер диаметра каждого добротного соснового и елового дерева. Так что купавинцам лес для железной дороги был доставлен.
Немного, однако, пришлось мне работать в лесном отделе. Наступил 1919 год. Опасность интервенции, внутренней контрреволюции росла, и в январе меня призвали в Красную Армию. Хотя и непродолжительный был период моей работы в уездном Совете, но для меня имел исключительно важное значение. Я всей душой осознавал, что подлинно народная революция — это Октябрь. Под ее воздействием формировалось мое политическое сознание. Глубже, ощутимее стало понятие Родины, той части земли, где родился, которой поклялся служить верой и правдой.
Глава третья Вместе с Чапаевым
Артиллерийские курсы в Москве, куда я прибыл 1 февраля 1919 года, размещались на Арбате. Меня зачислили в отделение по изучению стрельбы химическими снарядами и противогазовой защиты войск. Откровенно говоря, не очень хотелось заниматься химией, но попытки перейти в другое отделение ни к чему не привели.
Общежития курсы не имели. Они были только что организованы, и, помню, первую ночь я провел в каморке под лестницей канцелярии. На следующий день, по совету начальника учебной части, отправился в районный Совет, где мне вручили ордер на подлежащую изъятию комнату в Старо-Конюшенном переулке, который начинался на Арбате, а заканчивался выходом на Пречистенку (ныне Кропоткинская).
Названия улиц и переулков — Арбат, Пречистенка, Остоженка (ныне Метростроевская), Поварская (ныне улица Воровского) — напоминали о прошлом Москвы, когда здесь строились богатые дома старосветских дворян с окружавшими их конюшнями, хлебопекарнями, поварскими заведениями, многочисленными церквами и монастырями. Зачатьевский переулок граничил с монастырем Девы Марии. Названия переулков Скатертный и Калашный говорили сами за себя.
Арбатскую площадь пересекало бульварное кольцо, радиальные улицы которого также сохранили названия ушедших в далекое прошлое городских укреплений: Никитские, Пречистенские, Яузские ворота. По бульварному кольцу ходил тогда трамвай с литером «А», или, как все его называли, «Аннушка». От Пречистенских ворот он бежал по берегу реки Москвы, огибал величественное здание храма Христа Спасителя, построенного на собранные народом деньги в память о победе над Наполеоном, и, заканчивая круг, возвращался к артиллерийским курсам РККА.
Занятия я посещал аккуратно. Кроме изучения снарядов, порохов, дистанционных запальных трубок, взрывчатых, удушающих и отравляющих веществ мы занимались и метеорологией. Преподавателями были сотрудники Главного военно-метеорологического управления (Главмет), организованного в первую мировую войну. А поскольку метеорологией я занимался еще на метеостанции в деревне Починки, мне предложили посещать в вечернее время лекции по аэронавигации при Главмете, где я прослушал только курс аэрологии — верхних слоев атмосферы, бывших в ту пору воздушной дорогой аэропланов. О самой же навигации речи не было. В далеком 1919-м я не мог представить себе, что буду заниматься этой наукой всерьез и долгие годы.
В апреле, без труда сдав экзамены на артиллериста, в числе небольшой группы окончивших курсы выехал в Самару. Там мы должны были явиться в штаб Южной группы войск Восточного фронта, которую возглавлял М. В. Фрунзе.
Самара (ныне Куйбышев) — старинный торговый город на Волге, с невысокими домами, раскинувшийся на многие километры по берегу реки. Разыскивая по улицам нужный штаб, мы обратили внимание на подводы, запряженные верблюдами. Коричневатые громоздкие корабли пустыни медленно шагали по городу, гордо подняв головы. Как-то сразу пришло ощущение, что за этой вот полноводной рекой начинается Азия, и было непонятно, каким же образом много веков назад такую широкую водную преграду преодолевали полчища монголо-татарских войск…
В штабе с нами разобрались быстро. Я получил назначение в 3-й легкий артиллерийский дивизион 25-й стрелковой дивизии и отправился ее догонять.
К весне девятнадцатого года Красная Армия уже освободила от врагов почти всю Украину, Донбасс, Латвию, Литву, Приуралье, велись успешные бои за Эстонию, побережье Черного и Азовского морей. Однако на молодую Республику надвигалась грозная опасность. С Северного Кавказа на Донбасс шла Добровольческая белая армия генерала Деникина. На западе значительные силы Республики сковывали белополяки и белоэстонцы. Петрограду угрожала армия Юденича, на севере высадились интервенты генерала Мюллера. Начинался первый поход Антанты против Советской республики, и основной ударной силой в этом походе была 150-тысячная армия Колчака. Правительство США предоставило «верховному правителю России», как Колчак объявил себя, все необходимое для ведения войны.
Свой главный удар адмирал Колчак стремился нанести на уфимском направлении — нужен был выход к Среднему Поволжью, и на этом направлении колчаковское командование сосредоточило 50 тысяч солдат против 11 тысяч красноармейцев.
Заняв Уфу, колчаковцы быстро продвигались на запад, создавая непосредственную угрозу волжским переправам у Казани, Симбирска, Самары. Тогда, по призыву партии, сюда было направлено 10 тысяч коммунистов и несколько тысяч комсомольцев. Это укрепило Восточный фронт и позволило создать необходимые условия для перехода в контрнаступление.
Основной удар по Колчаку должна была нанести Южная группа войск Восточного фронта в составе 1, 4, 5-й и Туркестанской армий. Командующим этой группой назначили М. В. Фрунзе, членами Реввоенсовета — В. В. Куйбышева и Ф. Ф. Новицкого. Организовывая контрнаступление, Фрунзе сосредоточивал в ударной группе лучшие боевые части. 17 марта в своем приказе войскам командарм объявляет, что воссоздается 25-я стрелковая дивизия, усиленная вновь сформированными полками. И вскоре она перебрасывается в район Бузулука и Бугуруслана. Контрнаступлением на этом направлении Фрунзе предполагал остановить противника, а последующей наступательной операцией всех войск Южной группы нанести ему решительное поражение.
18 апреля разведка 25-й дивизии захватила в плен колчаковцев, переправлявших оперативные приказы. В них полностью раскрывалась дислокация войск, а также план действий противника. При изучении перехваченных документов был обнаружен широкий разрыв между двумя корпусами колчаковцев. Сюда Фрунзе и направил главный удар, а 25-й дивизии поставил задачу атаковать фланг третьего корпуса белых.
В ожесточенных боях на реке Боровка, под Бугурусланом, Белебеем и Бугульмой дивизия вместе с другими частями Южной группы нанесла крупное поражение войскам Колчака, разгромила отборные части белогвардейских генералов Ханжина, Войцеховского, Каппеля. Противник спешно отходил к Уфе.
Обстановка требовала дальнейших наступательных действий. Нельзя было оставлять в руках Колчака Урал и Сибирь, дать ему возможность оправиться, получить помощь от англичан, американцев, японцев.
«Если мы до зимы не завоюем Урала, — писал В. И. Ленин Реввоенсовету Восточного фронта, — то я считаю гибель революции неизбежной. Напрягите все силы»[4].
В этот переломный на фронте период мне и предписывалось явиться в 3-й легкий артдивизион 3-й стрелковой бригады. Передвигаясь на попутных крестьянских подводах, догнал я его у селений Русский и Татарский кандыз. Там, в обычной крестьянской избе, нашел командира дивизиона Павлинова, адъютанта Гомерова, комиссара Костычева. Они определили меня при штабе на должность, которая называлась заведующий противогазовой обороной.
В дивизионе о газах и противогазах никто и слышать не хотел: применение газов считалось маловероятным. Однако я сразу же составил заявку на химические артснаряды, и вскоре они стали поступать в мое хозяйство.
Командир дивизиона Павлинов — высокого роста, крупного телосложения человек, старший фейерверкер (старший унтер-офицер) царской армии — встретил меня по-отечески. Вместе с комиссаром, носившим по заведенному неписаному порядку красные галифе, и адъютантом дивизиона он долго расспрашивал меня о Москве. Я рассказал, что знал, но, пожалуй, самый большой интерес вызвала у них моя записная книжка на 1919 год. В ней были напечатаны Конституция РСФСР, новые правила орфографии и календарь по новому стилю — на тринадцать дней вперед.
Конституцию перечитали вслух несколько раз. Она — основной закон нашей Республики. Комиссар Костычев тут же дал задание:
— Вот что, Александр, наши бойцы Конституцию не знают. В ближайшие дни оповести каждую батарею о моем распоряжении — собрать всех. Почитай чапаевцам Конституцию Советской власти да поясни своими словами, если что будет непонятно. Кстати посмотришь, как живут и трудятся батарейцы.
Это было первое поручение по политграмоте, и я его с большим желанием выполнил.
Измененной орфографией особенно заинтересовался адъютант Володя Гомеров. В новом правописании из алфавита исключались буквы ять, и с точкой, фита, твердый знак, устанавливалась замена в родительном падеже суффикса «аго» на «ого», было много и других упрощений. Гомеров был весьма доволен тем, что теперь не требовалось ломать голову, где и в каком случае следует писать слово через «ять». Грамотный, обладающий чудесным каллиграфическим почерком, он был усидчив, аккуратен в работе, но много курил, сильно кашлял и вскоре попал в госпиталь, откуда уже не вернулся. Адъютантом дивизиона назначили меня.
Из документов, находившихся в ящике у Гомерова, я установил, что наша 25-я стрелковая дивизия по новому штатному расписанию, утвержденному Революционным военным советом Республики, имела четкую структуру, состояла из трех бригад, по три полка в каждой. В 73-ю бригаду входили старые чапаевские полки: 217-й Пугачевский, 218-й Разинский, 219-й Домашкинский; в 74-ю бригаду — 220-й Иваново-Вознесенский, 221-й Сызранский, 222-й Интернациональный; в 75-ю бригаду — 223-й имени Винермана, 224-й Краснокутский, 225-й Балаклавский. В целом дивизия насчитывала около 25 тысяч человек. Каждой бригаде придавался легкий артиллерийский дивизион, дивизии — тяжелый гаубичный дивизион и конная шестиорудийная батарея. Всего имелось 54 орудия, большинство из которых, к сожалению, составляли старенькие легкие трехдюймовые пушки.
Командиром 25-й дивизии был назначен В. И. Чапаев, комиссаром — Д. А. Фурманок, начальником штаба — И. М, Снежков. При назначении Василия Ивановича Чапаева на должность комдива М. В. Фрунзе немало наслушался от работников штаба о его своенравности, бесшабашности. Однако народная молва о бесстрашии и непобедимости Чапая перетянула чашу весов, и Фрунзе, не сомневаясь в чапаевской преданности революции, принял безошибочное решение. Дмитрий Андреевич Фурманов, умный, чуткий комиссар, и талантливый полководец-самородок Чапаев, казалось, были созданы для руководства такой дивизией, как 25-я.
Однажды, когда Фрунзе приехал в нашу дивизию, у него произошел следующий разговор с комдивом и комиссаром.
— Доволен ли своим комиссаром, Василий Иванович? — спросил Фрунзе. Честно скажи.
— Скажу, — ответил Чапаев. — Доволен, прямо доволен.
— Ну, а в бою?
— В бою мы всегда вместе.
— Значит, сработались?
— Как сказать, Михаил Васильевич. Часто спорим. Разругались бы, если бы характер у комиссара был мой. А так ничего — сговариваемся. И в бою он хорош. Полк ему под команду дам не задумываясь… Да что вы меня спрашиваете? Спросите его.
— Спрошу, — улыбнулся Фрунзе. — Что скажешь, Дмитрий Андреевич?
— Претензий не имею, — ответил Фурманов. Чапаев, похоже, обиделся.
-. Я-то его перед командующим расхваливаю, а он только претензий не имеет…
Фурманов, спокойный, уравновешенный, тут же остудил Чапаева;
— Не кипятись, Василий Иванович. Хвалиться нам не время. Возьмем у белых Уфу, вот и будет нам с тобою похвала. Дельная, без лишних слов…
И я, послушав немало таких замечательных рассказов о нашем комдиве, думал: кто же все-таки этот Чапай?..
Уроженец деревни Будайки, Чебоксарского уезда, Казанской губернии, Чапаев до революции прошел тяжелый, тернистый путь батрачества и нищеты. Дед его был крепостным, отец, не имея земли, стал плотником. Голод и нужда заставили семью Чапаевых покинуть родную деревню — уйти на заработки в город Балаково на берегу Волга. Мальчиком он служил у купца — подметал полы, носил дрова, за три рубля в месяц работал половым в харчевне, скитался по Поволжью, плотничал с отцом и братьями в селениях Николаевского уезда и Балакове.
Призванный в царскую армию, на фронтах первой мировой войны В. И. Чапаев проявил незаурядное военное дарование, стал полным георгиевским кавалером и заслужил высший солдатский чин — звание подпрапорщика.
В сентябре 1917 года Чапаев после трех ранений вернулся с фронта в город Николаевск (ныне Пугачев), где вступил в ряды Коммунистической партии. Местная партийная организация направила его в 138-й запасной пехотный полк, стоявший тогда в Николаевске. Командование этого полка было настроено контрреволюционно, поэтому 22 ноября 1917 года Николаевский ревком постановил:
«1. Арестовать уездного комиссара Временного правительства помещика Медведева.
2. Отстранить от должности командира 138-го запасного полка подполковника Отмарштейна.
3. Рекомендовать на должность командира полка Чапаева В. И.».
Быстро завоевывает Василий Иванович симпатии солдатской массы — его единодушно избирают командиром.
В течение первых месяцев Октябрьской революции Чапаев разгромил несколько контрреволюционных кулацко-эсеровских мятежей в уезде. Один из таких мятежей произошел в Балакове, где жили родные Чапаева, а военным комиссаром города был младший брат Василия Ивановича Григорий. Когда белогвардейцы захватили Балаково, Григория зверски убили. Решительным ударом В. И. Чапаев подавил белогвардейские банды, несмотря на их значительный перевес в силах. В Николаевске он положил конец двоевластию, когда там шел съезд контрреволюционного уездного земства.
По приказу Чапаева красногвардейцы явились на съезд и объявили его распущенным. В зале поднялся переполох, послышались выкрики: «Долой большевиков, в тюрьму их!..» Тогда ворвался Чапаев и, обнажив шашку, вскочил на стол. «Слушай мою команду! Кто не подчинится мне — застрелю! — крикнул он. — Президиум съезда объявляю арестованным и приказываю ему оставаться на месте. Всем остальным разойтись…»
Власть в Николаевском уезде перешла в руки Советов, и в феврале 1918 года Чапаев был назначен начальником гарнизона, а затем — военным комиссаром города.
Всю тяжесть вооруженной борьбы с контрреволюцией приняли на себя чапаевцы. Глушица, Марьевка, Хворостянка, Березово, Мало-Перекопное, Липовка… От села к селу водил Чапай своих бойцов в лихие атаки за молодую Советскую республику. Популярность его среди рабочих и крестьян росла. К нему стекались добровольцы, ему верили, с ним готовы были идти в бой. А в перерывах между боями, на привалах, Чапаев всегда с красноармейцами организует митинги, беседы, выступает перед местными жителями.
Любил Василий Иванович и шутку, народную песню, русскую пляску. Где пляшут — не утерпит, подкрутив ус, поговорит с гармонистом, как играть, и пойдет в круг!.. Пляшет лихо — с переборами, прихлопыванием, разбойничьим посвистом…
Простой в обращении, Чапаев никогда не старался создать между собой и подчиненными дистанции, а, наоборот, сразу вызывал расположение к себе искренностью, отзывчивостью, добротой.
— В бою я командир, начальник, — обычно говорил он. — А кончился бой приходи ко мне запросто, в любое время. Я такой же простой тебе товарищ. Садись со мной за стол. Но уж если провинился в чем, лучше не ходи — не спущу…
Чапаев действительно был суров и беспощаден к трусам, дезертирам, мародерам. Случилось как-то, что в селе Рахмановка один из солдат, по прозвищу Барабан, залез в церковь. Обобрал там кружки с деньгами, взял золотые и серебряные кресты и начал куражиться — в поповской ризе скакал по селу с криком:
— Царя нет! Бога нет!..
Разгулявшийся ухарь, конечно, возмутил жителей села, и они пожаловались Чапаеву. Комдив приказал тотчас же расстрелять солдата Барабанова перед всем народом. Приказ был выполнен.
И Чапаев сказал бойцам:
— Если я буду в чем виноват, польщусь на что-нибудь или струшу, расстреляйте и меня…
С житейскими просьбами, за советом, напутствием шли к Василию Ивановичу. Он для всех находил мудрое, чапаевское решение. Рассказывали, что комдиву приходилось даже венчать молодых. При этом он читал параграфы из устава — о дисциплине, верности присяге — и напутствовал молодоженов на согласную семейную жизнь, предупреждал их о большой ответственности, в частности перед самим Чапаевым. Горячо и вдохновенно ораторствуя перед бойцами, стараясь дойти до сердца каждого, Василий Иванович нередко спрашивал их, словно проверяя себя:
— Верно я говорю?
— Верно, верно, — отвечали.
И комдив продолжал:
— В бою с казачьей конницей казака бесшабашной стрельбой не напугаешь. Грома и трескотни казак не боится. Он несется на тебя с пикой и саблей не для того, чтобы напугать, а для того, чтобы снести тебе голову. Поэтому вы должны показать, что умеете стрелять метко, чтобы он в седле не усидел. Подпускайте казаков на близкое расстояние. Не начинайте стрельбу издалека…
С юных лет в сердце Чапая запали ветровые слезы России, ее грустные и раздольные песни, светлая печаль и молодецкая удаль, бунтарский разинский дух и кандальный сибирский звон, веселый девичий смех в лугах я горе седых матерей, потерявших сыновей на войне. И. стихией Чапая, крестьянского сына, стала битва за счастье простого народа.
«Никакой враг против меня не устоит!.. — твердо заявлял он. — Наутро же гнать неприятеля по всему фронту! Передать, что приказал! А кто осмелится поперек идти — доставить в штаб ко мне… Я живо обучу…»
И В. И. Чапаев имел право так говорить. В боях против белогвардейцев он проявлял не только величайшую храбрость, героизм, но и отличное знание военного дела, талант искусного и умелого военачальника. Чапаев изучил все рода войск, которыми приходилось ему управлять, хорошо знал противника, блестяще использовал его слабые стороны, ошибки. Быстро охватывая особенности создавшейся обстановки, улавливая, где обозначается успех или назревает опасность, он не знал шаблона в боевых действиях, а находил всякий раз наиболее целесообразное решение. Замечательное его умение руководить боем характеризует большая активность действий, творческая инициатива.
В ноябре 1918 года, когда В. И. Чапаев был направлен на учебу в военную академию, в аттестации на него говорилось: «Начальник Николаевской пехотной дивизии В. И. Чапаев, ныне командируемый в Академию Генерального штаба, обладает следующими свойствами: умением в боевой обстановке владеть современной массой; личным обаянием героя, могущего подвигами беззаветной храбрости, твердостью воли и решительностью заставить исполнить приказание; умением ориентироваться в боевой обстановке; ясным пониманием необходимости для победы координировать действия боевых единиц; пониманием маневра и удара, смелостью в принятии решения; военным здравым смыслом…
Можно быть уверенным, что природные дарования тов. Чапаева с военным образованием дадут яркие итоги».
Сохранилась и анкета, которую заполнил Чапаев 25 ноября 1918 года. На вопрос: «Принадлежите ли вы к числу активных членов партии? В чем выразилась ваша активность?» Чапаев ответил: «Принадлежу. Сформировал 7 полков Красной Армии».
В академии Василий Иванович пробыл всего лишь три месяца. Он неудержимо и настойчиво рвался на фронт, к боевым друзьям. «Прошу вас покорно отозвать меня в штаб 4-й армии на какую-нибудь должность — командиром или комиссаром в любой полк, — писал он председателю Реввоенсовета 4-й армии. — Я хочу работать, а не лежать… Так будьте любезны, выведите меня ив этих каменных стен».
И вот в начале 1919 года Чапаев получает Александро-Гайскую бригаду. Комиссаром ее назначается Фурманов.
В формировании Красной, Армии посланцы партии — военные комиссары сыграли огромную роль. Они был» незаурядными организаторами и агитаторами, цементировавшими ряды красноармейцев, вселявшими в них дух боевой дисциплины, сознание справедливой борьбы за дело революции. Они были примером, на который равнялись все.
Я позволю себе привести небольшой отрывок из воспоминаний начальника артиллерии Чапаевской дивизии. Ныне Герой Советского Союза генерал-полковник артиллерии Николай Михайлович Хлебников пишет: «8 сентября 1919 года, под Янайской, когда наши комиссары в ночном тяжелом бою остановили отступавших в беспорядке бойцов, повели их за собой в контратаку и тем спасли нас от поражения, я просил командира бригады С. В. Сокола представить к ордену Красного Знамени комиссаров-артиллеристов Завертяева и Пархоменко.
— Ты же знаешь, — ответил комбриг, — комиссаров не награждают. Быть впереди — их долг.
— А наш? — возразил я. — Мы тоже коммунисты, тоже должны быть впереди. И все-таки нас благодарят в приказах за отличия и награждают.
Сокол только головой покачал:
— Припомни, — говорит, — хоть одного комиссара, который с орденом…
Позже я не раз вспоминал этот разговор. Только в моем дивизионе за год сменилось шесть комиссаров. В бою за станицу Калмыковскую погиб в штыковой атаке Завертяев, под Гурьевом — Пряников, другие выбыли по ранению. Все они были замечательными товарищами, настоящими коммунистами, дрались с врагом геройски, но никто из них не был награжден. Даже Фурманов после всех тяжелых боев за Бугуруслан, Уфу и Уральск отбыл из дивизии на Туркестанский фронт без единой объявленной в приказе по армии или фронту благодарности. Комиссарам, как тогда говорили, полагалась одна привилегия: быть первым в атаке»[5].
Именно таким и был наш комиссар Дмитрий Андреевич Фурманов. Смело, решительно он проводил работу по сплочению партийной организации, политическому воспитанию бойцов, командиров. В те трудные годы, когда шли непрерывные бои, когда опыт партийно-политической работы только-только еще накапливался, Фурманов писал одному из бригадных комиссаров:
«Товарищ! Я не буду тебя учить тому, что надо делать: работа сложна и разнообразна, всего не предусмотришь. Требую лишь следующего:
1. Точной исполнительности.
2. Напряженности в работе.
3. Спокойствия.
4. Предусмотрительности.
Используй всех подчиненных тебе работников так, чтобы у них не было и минуты свободной. Вмени в обязанность комиссарам мелких частей не спать по деревням, а проверять и помогать местным Советам, беседовать с крестьянами и проч.
О сделанном требуй систематических отчетов.
Внуши и укажи им, как сохранить авторитет, ибо некоторые комиссары унижают свое звание несерьезностью и слабостью. Обращение комиссара с бойцами должно быть образцовым: спокойным, деловым, внимательным. Внушай к себе уважение даже обращением. Не позволяй никому оскорблять красноармейцев, тем более плеткой и кулаком: притягивай негодяев к суду.
Не позволяй грабить, разъясни, как позорно это для Красной Армии… Нахальных грабителей тяни к суду, а с мародерами расправляйся еще короче: расстреливай на месте.
Притягивай всемерно красноармейцев к библиотеке: хоть раз в неделю пусть почитают. Читай, объясняй сам, когда можешь, не смущайся тем, что мало слушателей…
Отдельные эпизоды боевой жизни записывай. Раз в неделю посылай мне в двух экземплярах. Пусть будет кратко — зато свежо и интересно для газеты».
Человек высокой культуры, Дмитрий Андреевич Фурманов оказывал большое влияние и на Чапаева. Василий Иванович чутко и внимательно относился к его словам, советам. Пройдут годы, и бывший комиссар прославленной 25-й дивизии напишет книгу о начдиве. А тогда, в перерывах между жестокими боями с белогвардейцами, мятежниками, контрреволюционерами, комиссар оставлял в дневнике короткие фронтовые записи:
«Его просто зовут Чапай. Это слово наводит ужас на белую гвардию. Там, где, заслышит она о его приближении, подымается сумятица и паника… Казаки в ужасе разбегаются, ибо не было, кажется, ни одного случая, когда Чапай был побит».
Став адъютантом дивизиона, я весьма гордился тем, что участвую в боевых схватках под командованием легендарного полководца. Наступали мы успешно. Наши батарейцы дело свое знали. Командиры батарей — из числа старых артиллерийских унтер-офицеров, хорошо подготовлены были и остальные красноармейцы. Одеты, правда, кто в чем. Большинство носили оставшиеся от прежней службы солдатские гимнастерки и штаны, на ногах ботинки и обмотки. Но песни звучали часто. В первой батарее был отличный запевала Дедюлин.
В островах охо-о-тник
Целый день гуля-е-ет…
— слышался его высокий мелодичный тенорок, и солдаты подхватывали припев.
В каждой батарее у нас было по четыре орудия — трехдюймовые пушки с передками и четыре упряжки зарядных ящиков. Упряжка орудия и зарядного ящика состояла из трех пар лошадей — три «уноса» с ездовыми. Кроме того, каждой батарее придавались отделение конных ординарцев и две-три тачанки с ящиками снарядов. Так что лошадей в дивизионе хватало, и всех надо было ковать. Поэтому по штатам числился у нас и кузнец. Мощный детина с Украины по фамилии Кобец все свое хозяйство — мехи, горн, уголь, клещи, ножницы, рашпили, молотки, гвозди, запас подков — возил на тачанке. На самом верху воза в широком сарафане восседала его жена. Кузнец в артдивизионе — фигура редкостная, дефицитная, вследствие чего, в виде исключения, ему разрешалось возить с собой «бабу».
Во время боев к нам часто приезжали командующий Южной группой войск Восточного фронта Фрунзе и член Реввоенсовета В. В, Куйбышев. В одном из майских приказов 1919 года говорится:
«Командующий группой войск Фрунзе, прибыв лично 10 мая в район боевых действий 25-й дивизии, с чувством гордости отметил высокодоблестное поведение всех войск 25-й дивизии, полки которой вновь нанесли страшное поражение противнику, целиком разгромили всю Ижевскую бригаду противника, пленив свыше 2000 человек. Поздравляя войска дивизии с победой, командующий благодарит именем рабоче-крестьянской России всех товарищей красноармейцев, всех командиров и комиссаров. На полях Бугуруслана, Кандыза и Бугульмы решается участь Колчака, а с ним и всей контрреволюции…»
В эти дни я впервые и принял участие в боях с белыми. Вначале наша 75-я бригада находилась в резерве и двигалась уступом за правым флангом дивизии. Веко-р. е, однако, 223-й полк вступил в упорный бой за село Усман-Ташлы. Впереди цепи бойцов шли командир полка Иван Ершов и комиссар полка Григорий Шарапов. Особенно яростный бой с 15-м Стерлитамакским полком белых разгорелся у деревни Сукулово. Здесь боем руководил сам командир бригады Федор Потапов, и вместе с командиром дивизиона Павлиновым я выполнял его приказания — ставил задачи, указывал цели батареям дивизиона.
Наши артиллеристы умело вели огонь. Поддержали атаку пулеметчики Петр Калашников, Николай Жуков, Петр Федяшин, Василий Дудочкин. Отличились бойцы командиров рот Ивана Лисюкина, Всеволода Вагнера, взводов под командованием Михаила Мищенко, Егора Жулябпна, Ивана Дьяченко. Противник, неся большие потери, обратился в бегство.
Вот донесение М. В. Фрунзе от 11 мая командующему Восточным фронтом: «Я сейчас вместе с членом Реввоенсовета Куйбышевым на пути из района расположения 25-й дивизии в Туркестанскую армию. Сегодня на фронте 25-й дивизии закончился полным разгромом врага встречный бой с его частями, сосредоточившимися в районе к востоку от Бугульмы и обрушившимися на 25-ю дивизию. Нами разгромлена 4-я Уфимская дивизия, целиком уничтожена Ижевская бригада и разбита отдельная Оренбургская бригада. Взято свыше 2000 пленных, три орудия и много пулеметов. Преследование врага энергично продолжается.
Настроение войск выше похвалы: крестьянство, озлобленное поборами белогвардейцев, отбиравших без всякой платы хлеб, фураж и лошадей, оказывает Красной Армии всемерную помощь. Войска Южной группы уверены в близости полного и окончательного крушения колчаковщины».
Стремительное наступление наших войск вызвало сильную тревогу и панику в стане противника. В начале июня, действуя на главном направлении, 25-я дивизия уже вышла к укрепленному рубежу реки Белая. Здесь Колчак пытался задержать нас, использовать время для переброски подкреплений из Сибири. На руку белому адмиралу был оборонительный план наркома Троцкого, который предполагал приостановить наступление, перейти к обороне, а войска перебросить с Восточного на Южный фронт.
Этот план был решительно отвергнут. М. В. Фрунзе приказал форсировать Белую и нанести два согласованных удара: севернее и южнее Уфы. Нашей 75-й бригаде предстояло перебраться на восточный берег и ворваться в город со стороны железнодорожного моста. Однако путь через мост был закрыт составами товарных вагонов, переправа простреливалась сильным артиллерийским и пулеметным огнем. Чтобы выявить огневые позиции противника, по течению Белой пустили баржу. Колчаковцы тут же открыли по барже огонь, и мы сумели установить все их артиллерийские и пулеметные точки.
И все же переправиться через реку по железнодорожному мосту было невероятно трудно. Левый берег Белой, занятый у моста 223-м и 225-м полками, представлял собой низину, поросшую кустарником, а правый, наоборот, был высоким, а это значит — мы легко простреливались.
Командиры-артиллеристы выбирали позиции, по возможности укрытые от наблюдения с правого берега, и Павлинов приказал мне объехать все батареи, чтобы нанести на карту их расположение. Штаб нашего дивизиона разместился на железнодорожном разъезде Гилево, верстах в трех-четырех от берега, и связисты тянули телефонный кабель от Гилево к батареям.
Вернувшись на разъезд, я застал Павлинова у обеденного стола. Только принесли котелки — начался артобстрел. Подводы заметались в панике. Разрывом снаряда убило любимую золотистую кобылу Павлинова Карину. Мы несли потери. В бригаде находилась жена Фурманова — Анна Никитична, завкультпросветом политотдела дивизии; она вместе с Машей Поповой, бесстрашным подитбойцом 225-го полка, оказывала раненым медицинскую помощь.
В ночь на 7 июня началось форсирование Белой у Красного Яра. Первым переправился на восточный берег 220-й полк, состоявший из рабочих — ткачей Иваново-Вознесенска. За ним — 217-й Пугачевский. Переправой руководил сам Чапаев. Здесь же находился и Фрунзе.
Решительная атака застала противника врасплох. Белые оставили окопы. Но вскоре, подтянув резервы, начали теснить наших бойцов, у которых патроны были уже на исходе. Атака двух полков 4-й колчаковской дивизии, частей 8-й пехотной и Сибирской казачьей дивизий угрожали срывом всей операции. На помощь белым пришла авиация. Одной из бомб был контужен М. В. Фрунзе. Ранения получили В. И. Чапаев, начальник политотдела Туркестанской армии В. А. Тронин. Все трое были в цепях бойцов, сдерживающих натиск колчаковцев. Все трое возглавили контратаку, и наши части опрокинули и смяли противника. Кризисная ситуация была ликвидирована. К вечеру бой стих.
На следующий день, как только бойцы 73-й и 75-й бригад отбросили колчаковцев в районе деревень Степановка и Старые Турбаслы, начали переправу два батальона 219-го полка, находившиеся в засаде. Переправа через мост так и не удалась. Последний пролет его покоился на деревянных клетках из бревен. После одной из наших атак белые подожгли временную деревянную опору, и стальная ферма моста рухнула.
Утром 9 июня уфимские рабочие пригнали на левый берег несколько больших лодок. Под прикрытием артиллерийского огня подразделения 223-го и 225-го полков переправились через Белую и вошли в город.
Чапаевцы во главе с комиссаром 219-го полка Федором Антоновым успели захватить городскую тюрьму с политзаключенными, которых белые в случае отступления собирались расстрелять. В городе была восстановлена Советская власть.
Разгром колчаковцев под Уфой имел огромное значение для всего Восточного фронта. За эту блестящую операцию Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет наградил все девять чапаевских полков и 25-й кавалерийский дивизион Почетными революционными Красными знаменами. Многие командиры и бойцы нашей дивизии получили боевые ордена.
В одной из станиц, верстах в десяти — двенадцати от передовой, под звуки «Интернационала» М. В. Фрунзе зачитывал приказ РВС Республики от 14 июня 1919 года:
«Награждается орденом Красного Знамени начальник 25-й стрелковой дивизии т. Василий Иванович Чапаев за нижеследующие отличия:
Сорганизовав по революционному почину отряд, в течение мая, июня, июля, августа и сентября 1918 г. упорно оборонял Саратовско-Николаевский район сначала от нападения уральских казаков, а потом чехословаков.
6 и 7 октября 1918 г., руководя отрядом (Николаевской дивизии) на подступах к Самаре, занятой чехословаками, одним из первых переправился через реку Самарка, воодушевляя тем свои и соседние части, что способствовало быстрой переправе частей и занятию Самары.
Всегда предводительствуя своими частями, он храбро и самоотверженно сражался в передовых цепях, неоднократно был ранен и контужен, но всегда оставался в строю. Благодаря его умелым маневрам Александро-Гайской бригадой были разбиты казачьи банды генерала Толстова, что дало возможность нам овладеть Уральской областью.
Назначенный начальником 25-й стрелковой дивизии в дни катастрофического положения Самары, когда противник стоял от нее в двух переходах, он с дивизией был выдвинут в центр наступающих сил противника — под Бугуруслан; настойчивыми стремительными ударами и искусными маневрами он остановил наступление противника и в течение полутора месяцев овладел городами Бугуруслан, Белебей и Уфа, чем и спас Среднее Поволжье и возвратил Уфимско-Самарский хлебный район.
В боях под Уфой (8 июня), при форсировании реки Белая, лично руководил операцией и был ранен в голову, но, несмотря на это, не оставил строя и провел операцию, закончившуюся взятием города Уфа».
В эти памятные дни в боях под Уфой я впервые увидел Василия Ивановича. Когда 225-й полк подходил к реке Белая, на его правом фланге осталась деревня, занятая колчаковцами. Полк получил задачу выбить их из этого населенного пункта. И с приказанием Павлинова — поддержать нашей артиллерией атаку полка, я поскакал во 2-ю батарею. Местность была, открытая, а деревушка с садами раскинулась на небольшой возвышенности.
С наблюдательного пункта батареи хорошо просматривались цепи бойцов, наступавших на деревню. Но, прижатые к земле пулеметным огнем противника, они залегли и продвигались крайне медленно.
Но вот недалеко от нас показалась группа всадников. Среди них батарейцы узнали начдива.
— Чапаев! Впереди на иноходце, видишь?..
Чапаев буквально врос в коня. Одет он был просто — солдатский китель, туго перетянутый ремнем с портупеями, револьвер, шашка через плечо и плетка в правой опущенной руке, на шее бинокль, Комдив скакал быстро, а за ним командир бригады Потапов, комиссар Фурманов и ординарец. Вскоре вся группа перешла в галоп.
Мы выпустили несколько снарядов по деревне. Цепи бойцов поднялись и с криком «ура» бросились вслед за Чапаевым на врага. В бинокль было видно, как с противоположного конца деревни убегали белые.
Таким и остался для меня в памяти на всю жизнь Василий Иванович Чапаев — бесстрашно летящим навстречу врагу…
После взятия Уфы наша дивизия пополнилась людьми, оружием, боеприпасами, лошадьми. Павлинов получил замечательную тачанку и пару отличных лошадей.
23 июня состоялся митинг, на котором Д. А. Фурманов сообщил, что чапаевцам предстоит сражаться против уральских белоказаков — в тех самых степях, которые дивизия исходила еще в прошлом, 1918 году. Известие было встречено с радостью — семьи многих бойцов терпели надругательства от казаков.
«Прошу передать уральским товарищам мой горячий привет героям пятидесятидневной обороны осажденного Уральска, просьбу не падать духом, продержаться еще немного недель. Геройское дело защиты Уральска увенчается успехом»[6]. Такую телеграмму Ленин направил Фрунзе, и был приказ командарма: «Не позже 12 июля освободить Уральск…»
В городе белоказачьими войсками была окружена 22-я дивизия. Гарнизон вместе с уральскими рабочими с конца апреля героически выдерживал осаду. Осажденные испытывали недостаток в продовольствии, снарядах, патронах. Больницы были переполнены ранеными. Но слова Ленина подняли дух уральцев, и они самоотверженно удерживали город Обороной Уральска руководили участник штурма Зимнего дворца Петр Григорьевич Петровский и комиссар 22-й дивизии Иван Ильич Андреев.
2. июля началось наше наступление. В бою под станицей Соболевской белоказаки 2-го уральского конного корпуса понесли большие потери и вынуждены были отступать. Отходя, они опустошали селения, сжигали хлеба, отравляли колодцы, разрушали дороги. Чапаевцы или по горящей степи: трудно было дышать, изнуряла жажда, жара. Но ничто не могло остановить героическую 25-ю дивизию.
Местное население, с радостью встречая нас, оказывало всяческую помощь. Потом Дмитрий Фурманов напишет в своем романе: «Самому Чапаеву прием оказывали чрезвычайный, — он в полном смысле был тогда «героем дня».
— Хоть одно словечко скажи, — просили его мужики, — будут еще казаки идти или ты, голубчик, прогнал их вовсе?
Чапаев усмешливо искручивал ус и отвечал, добродушный, веселый, довольный:
— Собирайтесь вместе с нами — тогда не придут, а бабам юбки будете нюхать, кто же вас охранять станет?
— А как же мы?
— Да так же вот, как и мы, — отвечал Чапаев, указывая на всех, что его окружали.
И он начинал пояснять крестьянам, чем сильна Красная Армия, как нужна она Советской России, что к ней должно быть за отношение у трудовой крестьянской массы…»
7 июля наша 75-я бригада заняла хутора Самарцев и Шепталов. На третий день 225-й полк с боем вышел на реку Яик, заняв станицу Рубежную, а 223-й хутор Требухин. Наступление на Уральск развернулось на всех направлениях, и бригады вступили в Уральск. В тот же день Фрунзе сообщил об этом по телеграфу Ленину: «Сегодня в 12 часов снята блокада с Уральска. Наши части вошли в город. Рабочие и трудящиеся Уральска и его исстрадавшийся гарнизон встретили это памятное событие с радостью и восторгом».
8 боях с уральским белоказачеством отличились многие бойцы и командиры, чьи имена потом стали известны всей стране. Кавалерийским эскадроном командовал будущий Маршал Советского Союза Г. К. Жуков. Начальником связи авиаотряда был С. А. Красовский — будущий маршал авиации, начальником команды по сбору оружия — прославленный партизанский командир С. А. Ковпак. Кавалерийским взводом командовал будущий генерал армии А. А. Лучинский.
Обстановка на Восточном фронте складывалась благоприятно. Но с Северного Кавказа на Республику начала наступление 150-тысячная армия Деникина. 24 июня деникинцы заняли Харьков, 30 июня — Царицын. 3 июля враг перешел в наступление на Москву. «Все на борьбу с Деникиным!» — пролетел по стране призыв партии. И перед дивизиями встала задача ускорения разгрома уральского белоказачества.
Чапаев наметил наступление вдоль правого (высокого) берега, реки, где были расположены основные казачьи станицы. На этом направлении он сосредоточил две бригады — 73-ю и 74-ю. Казаки неоднократно пытались переправиться через Урал, чтобы обойти 25-ю дивизию с левого фланга. И нашей бригаде, занимавшей позиции на этом фланге, была поставлена задача оборонять свой участок фронта, используя реку как водную преграду. Некоторое время спустя из-под Илецка к нам на подкрепление прибыл 224-й Краснокутский полк Аксенова, с ним 3-я артбатарея Панченко. А 19 июля крупный отряд казаков, состоящий из 500 человек с пулеметами, переправился через Урал у станицы Рубежной и атаковал 225-й полк. Решительными действиями полка, 2-й батареи Смоктуновича атака была отбита, казаки тогда потеряли до 100 человек убитыми и ранеными. Наше наступление продолжалось. Проходило оно в тяжелых условиях: стояла нестерпимая жара, недоставало воды, продовольствия, боеприпасов.
Но вот в связи с перегруппировкой войск 4-й армии, выводом в резерв 22-й дивизии дивизия Чапаева получила приказ выйти и закрепиться по реке на линии колония Шишонкова, колония Просвет, хутор Чаганский.
Приказ был выполнен. Мы заняли оборону.
Ввиду значительного удаления батарей от штаба дивизиона Павлинов закрепил батареи за полками. Снаряды приказал экономить, огонь открывать только по требованию командиров. Вместе с Павлиновым от батареи к батарее передвигался на нашей новой тачанке и я. У меня пулемет, хорошо укрепленный на задней спинке, винтовка, наган. Порой отстреливались от белоказаков, прорвавшихся в наши боевые порядки. Сильно беспокоит какое-то желудочное заболевание, но лечиться некогда. Все мы тогда переносили невзгоды и трудности молча. Наш комиссар Дмитрий Фурманов, обеспокоенный создавшимся положением, докладывал Фрунзе и Реввоенсовету 4-й армии:
«Объезжая цепи в течение последних дней, вижу не вероятно трудное положение красноармейцев. Нет белья, лежат в окопах нагие, сжигаемые солнцем, разъедаемые вшами. Молча идут в бой, умирают, как герои, даже некого выделить для наград. Все одинаково честны и беззаветно храбры. Нет обуви, ноги в крови, но молчат. Нет табаку, курят сушеный навоз и траву. Молчат. Но даже молчанию героев может наступить конец. О благороднейших героях мы заботимся не по-геройски. Мы, несомненно, не правы перед ними. Сердце рвется, глядя на их молчаливое терпение. Не допустим же до разложения одну из самых крепких твердынь Революции. Разуйте и разденьте кого хотите. Пришлите материала, мы сошьем сами, только дайте теперь что-нибудь. Мобилизуйте обувь и белье у населения».
Фрунзе и Куйбышев быстро отреагировали на доклад Фурманова, проявив большую заботу о дивизии Чапаева. В дни обороны она начала пополняться людьми, оружием, боеприпасами. Улучшилось снабжение продовольствием, обмундированием.
За время затишья я старался привести в порядок штабные дела дивизиона. Заново составили списки личного состава, уточнили состояние и качество орудий, лошадей, переучли запас снарядов и патронов. Но неясность оперативных задач, большая растянутость нашей бригады, отсутствие 224-го полка, который подчинили 1-й армии, тревожили Чапаева. В докладной записке в штаб армии он писал: «Такой участок для одной бригады охранять невозможно. Распыленная по одной роте, она не в силах охранять данный участок. Части могут быть легко разбиты противником, а поддержка ниоткуда не придет… Я нахожусь в совершенном неведении, что за задачи 25-й дивизии. Боевой задачи нет никакой. Отдыху тоже нет, и распылили всю дивизию мелкими частями, командному составу не в силах следить за порядками в частях и отдавать срочные распоряжения. И еще раз докладываю. Согласно уставу, в корне преследуется распыление частей, и считаю строго недопустимым в дальнейшем такое положение. Требую дать известную задачу 25-й дивизии. Все войска 25-й дивизии на протяжении 250 верст лежат в цепи под палящим солнцем и более двух месяцев не мыты в бане. Некоторых паразиты заели. Если не будет дано никакого распоряжения, я слагаю с себя обязанности начдива, мотивируя нераспорядительностью высшего командного состава, передачей некоторых частей в другие армии… Для передвижения раненых и больных красноармейцев на тракте Уральск — Оренбург необходимо иметь этапные пункты. На эту мою записку жду ответа и срочных распоряжений».
Начдива Чапаева тревожила боеготовность войск, он критиковал недочеты в работе штаба 4-й армии. И в начале августа 1919 года командарм Авксентьевский приказал 25-й дивизии начать наступление на Лбищенск. Против Чапаева на этом участке фронта был выставлен Уральский корпус белых — свыше 10 тысяч человек.
Учитывая все повадки и тактические приемы казаков, наш начдив доложил в штаб 4-й армии свой план наступления. Его беспокоила защита флангов. С этой целью он требовал: 75-й бригаде определить наступление по «бухарской обороне», как мы тогда называли восточный берег Урала, оборону участка Рубежная, Требухин, Генварцевское передать 47-й дивизии, а защиту правого фланга возложить на 50-ю дивизию 4-й армии.
Главный удар по казачьим войскам Чапаев планировал нанести» силами 73-й и 74-й бригад. Реввоенсовет Южной группы войск принял его предложения, и мы снова пошли в наступление.
После упорных боев заняли Скворкино. 6 августа вышли на хорошо укрепленный форпост Бударинский. Вокруг него три линии окопов с траверсами. В обороне — два белоказачьих полка, учебный полк и юнкера Гурьевской пехотной школы. Под прикрытием артиллерии Чапаев и Фурманов ведут в атаку 220-й и 221-й пехотные полки. Противник не выдерживает — и форпост Бударинский наш.
Страшную картину обнаружили мы здесь после ухода белоказаков. Во рву лежали трупы пленных красноармейцев с вырезанными на теле звездами, переломанными руками, ногами, отрезанными ушами. Скрыть следы злодеяния белоказаки и кулаки не успели — собирались сбросить в ров еще шестьдесят восемь раненых красноармейцев, да спешно бежали.
Продолжая преследовать отступавшую армию генерала Толстова, чапаевцы заняли станицы Кожехаровскую, Лбищенск, Сахарную. Однако продвижение в глубь уральских степей делало положение 25-й дивизии все более тяжелым. Фронт ее растянулся на много километров тремя группировками сил. Поддерживать связь, управлять войсками было крайне трудно. Казачьи же дивизии, хотя и отступали, сохраняли боеспособность, тылы их опирались на Гурьев, где англичане и снабжали генерала Толстова всем необходимым — вооружением, боеприпасами, продовольствием.
Командир нашего дивизиона, предвидя трудности со связью, решил держаться ближе к штабу дивизии, к Чапаеву, и двигаться вместе с 223-м полком. Вместо Потапова, который тяжело заболел, командиром нашей бригады назначили Ефрема Аксенова — бывшего унтер-офицера. Как и Чапаев, Аксенов за боевые заслуги на Турецком фронте был награжден тремя георгиевскими крестами. Накопился у него и достаточный боевой опыт борьбы с казаками. Поэтому с решением командира нашего дивизиона он согласился.
И действительно, выбив противника из населенных пунктов Хуторское, Джуваны-Куль, полки разошлись веером — каждый по своему направлению, и связь между ними была почти потеряна.
Впервые мне пришлось участвовать в боевых порядках полка, действующего в отрыве от других частей. Иван Ершов, командир 223-го полка, в прошлом прапорщик, построил полк в виде кольца, составленного из взводов и рот. В каждой роте первая цепь из двух взводов, вторая — из одного взвода как резерв командира роты. Пулеметные тачанки роты двигались между цепями. Резервом командира полка была полковая пулеметная рота. А внутри этого кольца шла полевая артиллерия — 1-я батарея нашего дивизиона: четыре орудия и зарядные ящики. Для нее предусматривалось определенное пространство, чтобы суметь снять орудия с передков и открыть огонь. При малых дистанциях орудия могли выехать за пределы пехотной цепи. За артиллерией следовал многочисленный обоз из военных тачанок и крестьянских подвод. Впереди, в авангарде, действовала разведка полкового эскадрона, указывающая полку наиболее ровный путь в обход озер, других препятствий. Она же доносила сведения о противнике. Таким образом, полк двигался в заданном направлении как бы в положении круговой обороны и был готов отражать атаки любых групп казачьей конницы.
Однако двигались мы медленно. В день могли сделать не более 15–20 верст. Степь была покрыта высохшей травой с колючками, от безводья страдали и люди и лошади. Только верблюды передвигались беспрепятственно, невзирая на жару.
Когда в Лбищенске наступление приостановилось, 223-й полк тоже остановился на несколько дней. Маневрировать огневыми средствами очень мешал обоз. Поэтому после очередного перехода полк с малым обозом и артиллерией было решено отправить дальше, а большое количество крестьянских подвод на лошадях и верблюдах оставить в Рерухово. Для охраны обоза выделили одну роту, днем несколько подвод послали в Уральск за продовольствием и в степь за сеном.
Вдруг уже после обеда, часов в шесть вечера, пост наблюдения, располагавшийся на мечети, доложил, что наши подводы на большой скорости возвращаются обратно. Через некоторое время на горизонте показались густые цепи конных казаков, наступавших с юга и востока, — не менее 200 всадников. За цепью следовали пулеметы, две полевые пушки малого калибра, из которых открыли огонь по окопам, оставленным 223-м полком. Но, обнаружив, что они пустые, казаки спешились и повели наступление на Рерухово. Иван Ершов, случайно находившийся здесь, организовал оборону, и мы встретили белоказаков ружейным и пулеметным огнем. Командир полка перебегал по окопам пригнувшись, а то и во весь рост ходил по участку, перебрасывая бойцов с одного направления на другое, воодушевляя их личным примером. Он-таки успел послать группу конных разведчиков с приказанием вернуть ушедший полк нам на помощь.
Казаки стреляли из винтовок и пулеметов разрывными пулями — новинка английского производства. В этом бою Иван Ершов погиб, с ним — еще несколько красноармейцев. Тридцать два были ранены, среди них командир нашего дивизиона.
Павлинова принесли в землянку, сделали перевязку, но стрелять он уже не мог. Узнав, что Ершов убит, приказал мне:
— Александр! Иди в цепи, командуй. Смотри, чтобы зря не стреляли. Патронов не так много.
Передвигаясь перебежками по окопам, я нашел командира роты. Вместе с ним упорядочили огонь по белоказакам, усилили оборону на особо опасных направлениях. Затем я организовал доставку патронов из обоза, установил места для перевязки. Наблюдателя на мечети пришлось сменить — он тоже был ранен.
Бойцов в окопах оставалось все меньше. А казаки между тем, мелкими группами перебегая за землянками, заметно приближались. Положение наше становилось критическим. Невольно я все чаще посматривал в степь: доскакали ли разведчики до полка или их перехватили враги?..
И вот наблюдатель с мечети прокричал:
— Вижу цепь полка! К нам идут!..
Казаки тотчас прекратили огонь и отошли от Рерухово в восточном направлении. Полк расположился кольцом в ранее отрытых окопах, а утром мы снялись с места и в прежних боевых порядках продолжили наступление.
Опаленная беспощадным солнцем, высохшая степь все более затрудняла наше продвижение. Казачьи группы все чаще беспокоили боевое кольцо, нападая с разных сторон. Озеро Челкар осталось где-то на востоке. Пришлось уменьшить суточную выдачу воды, хлеба, других продуктов. Но бойцы безропотно шли на юг.
5 сентября утром, как обычно, полк поднялся для очередного перехода. Ничто не предвещало беды. Но не прошли мы и нескольких километров, как неожиданно с тыла нас начали догонять почти голые люди. Они бежали по следу, который оставляло в степи движение полка. Мы остановились. Пять человек из 73-й бригады — Белобородов, Пантелеев, Зайцев, Додонов и Платухин — все в крайне изможденном состоянии, с окровавленными ногами. Они оповестили нас о тяжелом событии: белоказаки уничтожили штаб нашей дивизии.
Печальный их рассказ сводился к следующему: 73-я и 74-я бригады с боями заняли станицу Сахарную. Чапаев был, как всегда, на передовой, а штаб дивизии переехал из Уральска в Лбищенск. Комиссара дивизии Фурманова отозвали от нас, назначив начальником политотдела Туркестанского фронта. Вместо него прибыл Павел Батурин, и 4 сентября они с Чапаевым приехали в Сахарную, чтобы побеседовать с бойцами — трое суток там не получали хлеба.
В Лбищенске кроме штаба дивизии находился обоз мобилизованных крестьян Самарской губернии и дивизионная школа красных инструкторов — 600 человек. Других частей для охраны штаба не было.
И вот к вечеру 4 сентября Чапаев с новым комиссаром Батуриным вернулись в Лбищенск. На фронте было затишье. Но, получив донесение от обозников, посланных в степь за сеном, что в 20 километрах от Лбищенска на них напала сотня белоказаков, Чапаев потребовал разведывательные сводки за последние дни. В сводках сообщалось, что казачьих частей нигде не обнаружено, а передвижение небольших разъездов — дело обычное, и Чапаев успокоился.
Лбищенск скорей обычное село, чем город — низенькие домишки, слепленные из глины и побеленные известью, ни садов, ни деревьев. Когда передвигаются конники, от пыли в тридцати шагах ничего не видно. Фронт отсюда был в 80 километрах — относительное затишье. Чапаев с Батуриным помылись в бане когда еще такой случай выпадет, — попели, поговорили и улеглись спать.
Лбищенск по ночам охраняла дивизионная школа. По окраинам выставлялись небольшие заставы, а внутри охрану несли отдельные пешие патрули. Связи — ни со штабом, ни между заставами.
Между тем к Лбищенску долиною реки Кушум шли белоказаки частей Бородина и Сладкова: 1150 сабель, 14 пулеметов, 4 орудия. В 25 километрах от села они остановились и укрылись в камышах. Бесшумно сняв посты и караулы, белоказаки вихрем ворвались в спящее село и застигли штаб дивизии врасплох.
Самоотверженно дрались чапаевцы. На Соборной площади, отбив пулемет, комиссар Батурин с Василием Ивановичем косили казаков, пока не кончились патроны. Здесь же была часть курсантов дивизионной школы под руководством Петра Чекова, начальник политотдела дивизии Дмитрий Суворов, помощник комиссара дивизии Иван Крайнюков.
Но силы были неравны. На рассвете ударила артиллерия белых. Кольцо окружения неумолимо сжималось. Смертью храбрых пали комиссары П. С. Батурин, И. А. Крайнюков, командир дивизионной школы П. Ф, Чеков с сыном. В штыковой атаке погиб Д. В. Суворов. Тяжело ранен начальник штаба дивизии Н. М. Новиков. Раненный в руку, Чапаев продолжал сражаться. Путь к своим лежал только через реку Урал…
Мало кому удалось пережить лбищенскую трагедию. Петр Исаев, верный помощник Василия Ивановича, был до конца верен комдиву и сдерживал белоказаков огнем, надеясь, что Чапаев переправится на тот берег. Последнюю пулю он оставил себе.
А Чапаев навсегда остался в волнах Урала…
Подробности этого тяжелого события мы узнали несколько позже. Тогда же, выслушав рассказ пятерых бойцов о происшедшем, мы не могли поверить, что Чапая не стало. Каждый из нас думал, что он вот-вот появится. Дмитрий Фурманов так и записал в своем дневнике:
«Думаю обо всех, за всех жутко и больно, всех жалко, но из всех выступает одна фигура, самая дорогая — Чапай. На нем сосредоточены все мысли. Где он? Жив ли мученик величайшего напряжения, истинный герой, чистый, благородный человек? Ну давно ли я оставил тебя, Чапай? Неужели погиб? Не могу поверить, надо проверить у Фрунзе…»
Еще долгое время ходили слухи и предположения, что Чапаев где-нибудь лечится у кочевников. Так велика среди нас была любовь к легендарному начдиву.
А к Лбищенску уже вечером 6 сентября, проделав 70-километровый марш, подошли бригады из Каршинского и Сахарной. С ходу атаковав белоказаков, красноармейцы на следующий день отбросили их на север. Долго искали чапаевцы тело своего командира, сетями и неводами бороздили Урал. Но поиски не дали результатов.
Следы зверских расправ оставили после себя белоказаки. Они расстреливали всех подряд: красноармейцев, обозников-крестьян, даже больных и раненых — выводили из дивизионного госпиталя, заставляли рыть могилы и тут же убивали.
В одном из подвалов уцелели тяжело раненный начальник штаба дивизии Новиков и редактор газеты Ренц. От них, от немногих других оставшихся в живых и стали известны подробности той страшной сентябрьской ночи.
«Я находился в одной комнате с Крайнюковым, — рассказывал Андрей Платухин. — Проснулись мы от крика наших ординарцев: «Казаки!» Крайнюков выбежал на улицу первым. Я выскочил вслед за ним и побежал. У дома, где жил Чапаев, к нам присоединилось человек 15, кто с винтовкой, кто с револьвером. На нас неслись конные казаки. Чапаев крикнул: «По кавалерии — пли!» Мы произвели несколько залпов. Казаки отскочили. В районе дивизионной школы инструкторов шел бой. Чапаев с группой бойцов побежали туда.
В нескольких десятках метров от нас увидели группу штабников во главе с Суворовым, которая заняла глинобитный сарай и била по казакам. Здесь собралось человек сорок. Кто-то сообщил, что убит командир Гладков, погиб работник политотдела Кучера. Крайнюков, увидев, что из-за угла казаки выкатывают пулеметы, бросился на пулеметчиков, но был тяжело ранен, а Суворов с группой бойцов захватил два пулемета. Я попросил ординарца Николая Усанова (он из Пугачевского уезда, села Ключи) положить тяжело раненного Крайнюкова на коня и переправить через Урал.
К нашей группе подошел тяжело раненный комиссар дивизии Павел Батурин. Он спросил, есть ли патроны. Я ответил, что есть штук по десять. Он приказал стрелять только в упор.
Часов через пять-шесть я увидел, как с несколькими солдатами, весь в крови, с винтовкой в руках, прибежал Чапаев. Он на ходу отстреливался. Казаки начали артобстрел нашей группы, разорвалось несколько снарядов, и многие погибли. Тут я увидел Антонова, комиссара 219-го полка (Дедушку). С ним мы стали отходить к Уралу. Мне удалось переплыть реку. Встретившиеся на «бухарской стороне» артиллеристы отправили меня в госпиталь…»
А вот как вспоминал тот страшный час Иван Володихин: «Когда казаки часов в 5 утра 5 сентября налетели на штаб дивизии в Лбищенске, наш взвод конных ординарцев при дивизионной школе держал оборону. К нам подбежал Чапаев, раненный в левую руку, и скомандовал: «Вперед — на врага!» Мы пошли в. атаку и отбили казаков, дав возможность нашим закрепиться на берегу реки Урал. Во время атаки было много раненых и убитых. Конники бились пешими, так как потеряли лошадей. Мы старались прорваться, но я был тяжело ранен, и меня схватили казаки. На допросе мне штыком прокололи руку, потом ударом приклада сбили с ног, и я потерял сознание. Когда пришел в себя, приказали вырезать на теле знак звезды, а от следующего удара я снова потерял сознание. Очнулся уже во рву среди трупов расстрелянных товарищей, когда в город вошли чапаевцы…»
Наша бригада, продвигавшаяся на «бухарской стороне», получив известие о разыгравшейся на реке Урал трагедии, окопалась и простояла в обороне полтора дня. Командование 25-й дивизией принял на себя Иван Семенович Кутяков, и к исходу 6 сентября разъезд кавалерийского дивизиона передал нам распоряжение отходить к Уральску.
Измотанные тяжелыми переходами, непрерывными боями, яростными атаками казаков, мы пробивались на соединение с частями Уральского гарнизона. Все трудности, казалось, были уже позади, когда произошла схватка с белоказаками у форпоста Янайский, к которому мы подошли ночью. Бойцы уснули мертвым сном. И в это время со всех сторон белоказаки открыли по ним артиллерийский и ружейно-пулеметный огонь, двинули броневики. Все смешалось!..
Вот что писалось по этому поводу в приказе по Туркестанскому фронту от 8 января 1920 года:
«В ночь с 9 на 10 сентября противник, подтянув на подводах к Янайскому пехоту и подкравшись к нашим цепям, ударил во фланг. Полк дрогнул, но, по приказу и под личным командованием Хлебникова, 3-я батарея остановилась на месте и открыла ураганный огонь при прицеле 10, благодаря чему противник отступил, но затем вновь бросился в атаку, имея несколько броневиков. Несмотря на ужасный пулеметный огонь, под которым находилась батарея, Хлебников лично выдвинул два орудия на открытую позицию навстречу бронеавтомобилям и, открыв огонь, принудил их отступить. Самый сильный автомобиль был подбит. В этом бою Хлебникова ранили, но он остался в строю. Своими решительными действиями он восстановил положение дрогнувших частей и дал возможность отступить в полном порядке к форпосту Скворкино».
В тяжелом бою у Янайского отличились командир бригады Сергей Сокол, комиссары Петр Брауцей, Николай Пархоменко, Кузьма Завертяев, командиры полков Гавриил Горбачев, Семен Садчиков, Сергей Мальцев. За мужество и отвагу командир 74-го артиллерийского дивизиона Николай Хлебников и командир батареи Андрей Семиглааов были награждены орденом Красного Знамени.
Продолжая отходить, чтобы с юга и юго-запада не допустить белоказаков к железной дороге и Уральску, группа Бубенца, в которую входили 223, 218, 1-й кавалерийский полки и наш артдивизион, к середине сентября достигла реки Барбастау. Остальные полки бригады Аксенова тоже отошли к Уралу. В дивизии снова создалось тяжелое положение со снабжением боеприпасами, продовольствием, обмундированием. А уже надвигалась осень.
После гибели Чапаева командование 25-й дивизией принял Иван Семенович Кутяков. Еще в апреле 1918 года он организовал красногвардейский отряд, который влился в Чапаевскую дивизию. Был начальником нашей разведки, командиром батальона, командиром полка, командиром бригады. В 1923 году он окончил Военную академию РККА, затем командовал Хорезмской группой войск по ликвидации басмачества. Позднее был заместителем командующего войсками Приволжского военного округа. Награжден тремя орденами Красного Знамени, орденом Хорезмской республики.
А в том далеком 1919-м начдив Кутяков докладывал командующему 4-й армией Лазаревичу: «Патронов в частях нет. Идет дождь, а обуви и шинелей у солдат нет. Настроение понизилось. Солдаты ропщут. Командир группы Бубенец сообщил, что 218-й и 223-й полки отказались идти в наступление, потому что раздеты и разуты. Бубенец дал слово, что в 3-дневный срок обует и оденет бойцов, и полки пошли в наступление на Барбастау. Положение серьезное. Прошу принять срочные меры».
Лазаревич ответил: «Предполагается наступление на Лбищенск — Горбуново, а сейчас задача дивизии обеспечить линию железной дороги от противника. Фрунзе обещал выслать патроны, а у меня их тоже нет. Обещал помочь обувью, бельем. Шинелей нет, но обещаны телогрейки. Ведите разъяснительную работу о трудностях…»
23 сентября дивизия перешла в наступление. Белоказаки сопротивлялись ожесточенно. Через неделю они сами попытались прорвать наш фронт под Уральском, однако отступили с большими потерями. 4 октября мы получили приказ Реввоенсовета Туркестанского фронта:
«Славные войска Туркестанского фронта, пробивая России путь к хлопку и нефти, стоят накануне завершения своей задачи…
Пусть не смущает вас ничтожный успех врага, сумевшего налетом кавалерии расстроить тыл славной 25-й дивизии и вынудить ее части несколько отойти к северу. Пусть не смущает вас известие о смерти доблестного вождя 25-й дивизии тов. Чапаева и ее военного комиссара тов. Батурина.
Они пали смертью храбрых, до последней капли крови и до последней возможности отстаивая дело родного народа…
В увековечение славной памяти героя 25-й дивизии тов. Чапаева Революционный Военный Совет Туркестанского фронта постановляет:
1. Присвоить 25-й дивизии наименование «Дивизии имени Чапаева»[7].
Приказ воодушевил бойцов. В середине октября конная группа комбрига Сергея Сокола в составе 1-го, 3-го Доно-Кубанского кавалерийских дивизионов и 1-го кавалерийского полка приступила к ликвидации противника, проникшего в тыл Уральска. Передовой отряд Гавриила Шустова в составе 1-го батальона Петра Грибанова, полковой школы инструкторов Константина Бахтеева и кавалерийского эскадрона Павла Щенникова занял хутора Дьяков и Вишневский. Но белоказаки ночью внезапно ворвались в расположение отряда, и разгорелся бой, Бойцы 1-го батальона попали под сильный огонь противника. Геройски сражались и пали смертью храбрых комбат Петр Грибанов, командир 3-й роты Андрей Жданов. Тогда батальон в атаку повел Григорий Рублев. В отряд Чапаева он пришел всей семьей.
С 14 по 26 октября группа Сокола вела бои с прорвавшимися в тыл Уральска частями белоказачьей армии, и они были окончательно ликвидированы. Дивизия получила задачу «занять всю населенную полосу по реке Урал до Лбищенска, а также район «Джамбейтинской ставки» и оттеснить оставшиеся части противника в безлюдные степи, с тем чтобы лишить противника последних ресурсов борьбы».
Наша 75-я бригада, под командованием Ефрема Аксенова, снова шла с боями на юг — через хутор Широков, Бахарев, Локтев, Портнов. Продвинулись вперед уже более чем на 200 верст, заняли калмыцкие поселки — Казанский, Мухортский.
Всюду свирепствовал тиф. Эпидемия поразила уже около пяти тысяч человек. Заболел и убыл в госпиталь Павлинов. За него остался командир 2-й батареи Смокту-нович. Вместе с ним мы отдали приказ — отобрать во всех батареях наиболее сохранившиеся орудия, лошадей и направить на Калмыков в распоряжение Кутякова, который вел решительное наступление на Гурьев. Оформив приказ, почувствовал, что силы покидают меня. Температура 39–40 градусов. Лежу в забытьи. На конной повозке меня доставили в Александров-Гай, оттуда верблюжьим транспортом в Новоузенск. Укрытого кошмой, меня привязали веревкой — чтобы не вывалился по дороге. А путь до Новоузенска мучительно долог. Ночуем в мазанках, куда от повозки я добираюсь ползком. Воду пью ледяную, чувствуя во рту кусочки льда, а кажется, что вода горячая. Двое из семи саней оставили в хуторе — кто-то умер…
В Новоузенске, уездном заволжском городке Саратовской губернии, нас поместили в местную больницу. Лежали в коридоре на полу — все забито тифозными. Через несколько дней получил место на кровати, и вдруг без всякого лечения температура начала спадать. Как только поднялся с кровати немедленно выписали из больницы и дали отпуск на два месяца.
Жадно ловил сведения с фронта. Узнал от бойцов, поступивших в больницу позже меня, радостное известие — наступление 25-й дивизии на Гурьев закончилось в январе 1920 года полным разгромом белоказачьих войск. Тогда на имя начдива Кутякова пришла телеграмма, в которой бойцов горячо поздравлял с одержанной победой Владимир Ильич Ленин.
После ликвидации Уральского фронта дивизия была переброшена на запад, где храбро сражалась с белополяками.
В годы Великой Отечественной войны 25-я дивизия имени Чапаева прошла долгий героический путь борьбы вместе со всей Советской Армией. Она самоотверженно дралась на подступах к городам-героям Одессе, Севастополю, на других фронтах.
Да, прошлое уходит… Но от тех тревожных и грозных, вихревых лет в душе остается — как золото выплавляется — память об общих радостях, несчастьях, жертвах, надеждах, мечтах и стремлениях.
И остается Родина…
Глава четвертая Первые ортодромии
Мне после болезни в родную дивизию вернуться не удалось. В апреле в уездном военкомате я получил назначение на Кавказ. Мать собрала в корзинку остатки белья, мое немудрящее имущество и вот третий раз уже повезла меня на телеге из деревни в город, горько и беззвучно плача: когда это все кончится?..
Я, по молодости лет, с расставаниями недолго-то грустил. Вскоре был в Ростове-на-Дону, откуда меня направили в штаб только что организованного Кавказского военного округа, где неожиданно круто и повернулась моя дальнейшая судьба.
— Так, говоришь, отец у тебя сельский учитель? — завел как-то разговор комиссар штаба. Я подтвердил.
— А знаешь, в прошлом и мне довелось учительствовать, а теперь уже какой год на военной службе. Смотрю вот с завистью, как конница Буденного на Польский фронт через наш Ростов идет, сам бы с ними отправился, да, говорят, хватит, повоевал.
Помолчав, поинтересовался:
— А ты, Беляков, бывал ли на фронте?..
Я был рад рассказать о себе все — и о студенческой скамье, о работе в уездном Совете, о дивизии Чапаева, о боях против Колчака и уральских белоказаков.
Комиссар не перебивал, слушал внимательно, а в конце моего рассказа вдруг заявил:
— Тебе, Александр, учиться надо. В штабе у нас есть запрос направить кого-либо в авиационную школу в Москву, на какое-то аэронавигационное отделение. Ты вполне подходящий кандидат. Жаль только, что еще в партии не состоишь, но у тебя все впереди. Как думаешь?..
— Сочту за честь, — ответил я.
— Ну вот и решили. Пиши заявление о приеме в авиашколу и подробную автобиографию. Отправим с характеристиками и будем ждать ответа.
Я был до глубины души тронут внимательным, заботливым отношением ко мне, думал: вот таким, и должен быть настоящий комиссар. Спустя две недели томительного ожидания в штаб пришла телеграмма о зачислении меня слушателем аэронавигационного отделения Высшей аэросъемочно-фотограмметрической школы Красного Воздушного Флота, и мы тепло распрощались.
Итак, гражданская война закончилась для меня откомандированием в военную авиацию, и в августе 1920 года я снова прибыл в Москву. Красная Армия еще вела боевые действия, отстаивая свободу рабоче-крестьянской республики, а в разговорах молодежи все чаще слышались глаголы в будущем времени… Подвезут, построят, приготовят, пустят в ход, победят, соберут, предупредят, выработают. Или — не удастся, не справятся, не соберут. Но больше — в будущем утвердительном. Императивом всей жизни страны стало это слово «будет»!
Да, еще холодно и голодно. Да, еще вокруг враги. И все-таки будет Советская власть во всей стране, будет электрификация всей страны, будет великолепное новое, советское искусство.
А пока по Лубянке шла рота, и рослые красноармейцы бойко и озорно пели:
Поклонился всей родне у порога:
«Не скулите вы по мне, ради бога!
Будь такие все, как вы, ротозеи,
Чтоб осталось от Москвы, от Расеи…»
Здесь, на углу Большой Лубянки и Кузнецкого моста, и разыскал я школу Красного Воздушного Флота. Огромное многоэтажное здание, принадлежавшее ранее страховому обществу «Россия», вмещало теперь уйму различных организаций, учреждений, контор. Наша школа занимала в одном подъезде только два этажа. Общежитие для слушателей размещалось на самом верхнем — под крышей. Но не успел я как следует оглядеться, как школу перевели на Большую Никитскую. Здесь мы заняли уже четыре особняка.
От сотрудников школы я узнал, что организована она всего год назад, занималась вначале подготовкой аэросъемщиков, фотолаборантов и фотограмметристов — по 20 слушателей в каждом отделении. А через год открылось четвертое отделение — аэронавигационное.
Надо отдать должное руководителям школы. Они стремились придать изучаемым дисциплинам научно-прикладной характер. Среди наших наставников была группа профессоров Московского государственного университета. С большим уважением мы, слушатели аэронавигационного отделения, относились к преподаванию динамики атмосферы, которую вел профессор В. Ф. Бончковский, курсу аэрологии профессора В. И. Виткевича, курсу гидрологии и океанологии профессора Бастамова. Очень интересен был курс синоптической метеорологии инженера И. И. Мархилевича, курс физики атмосферы профессора А. А. Сперанского. Мы с удовольствием посещали и университетскую обсерваторию на Пресне, где слушали лекции профессора С. Н. Блажко по астрономии.
Прошла зима. Весна 1921 года была ранняя. И в апреле нас, слушателей четвертого отделения, отправили на практику в город Клин Московской губернии, на полевой аэродром Майданово, Начальник 21-го авиационного отряда краслетнаб Н. Ф. Кудрявцев встретил нас приветливо и организовал краткое изучение самолетов «Фарман-30», которые тогда стояли на вооружении нашей армии.
Это был самолет-биплан французского производства с мотором Сальмсона в 160 лошадиных сил. Любопытно сравнить нынешние ракетоносцы с теми давними самолетами, которые мы зачастую называли просто аппаратом. Нос такого «аппарата» был в виде открытой двухместной кабины, переднее сиденье занимал наблюдатель. У него был очень хороший обзор, а за ним, несколько выше, сидел летчик. В распоряжении пилота было всего три прибора: авиационный компас, измеритель воздушной скорости с трубкой Вентури и манометр, показывавший давление масла в системе смазки двигателя. Высотомер, или, как его называли, альтиметр, в виде металлического анероида в кожаном чехле ремешком пристегивался к ноге выше колена. С большим любопытством рассматривали мы это оборудование самолета, семицилиндровый звездообразный двигатель воздушного охлаждения с толкающим винтом, который располагался позади летчика.
Как только изучение «матчасти» было закончено, командир отряда собрал нас и сказал:
— А теперь приступим к практическим полетам. Каждый получит один-два полета в качестве наблюдателя. Постарайтесь определить, как виден аэродром по отношению к городу, по каким признакам можно найти его, наблюдая с воздуха.
И вот в один из солнечных майских дней я совершил первый в жизни полет.
Аэроплан!.. Растопырив крылья, он стоял посреди поля скелетно тощий и прозрачный. Узенькие деревянные планочки и металлические трубки стянуты стальными струнами. На подкосе слева и справа по два маленьких колесика, похожих на велосипедные. Когда летчик влез на сиденье, механик отскочил в сторону, мотор затрещал, и толкающий пропеллер бешено завертелся, обращаясь в пыльный верещащий круг. Все забилось крупной дрожью. Казалось, еще мгновение — и аппарат брызнет своими осколками, винтами и гайками во все стороны. Но он поскрежетал, погудел, содрогаясь, и замер.
А потом случилось дивное: из-под хвоста повалил фиолетовый дым, самолет ужасно выстрелил и вперевалку, по-птичьи, побежал по земле. Когда колеса его отдернулись от земли, весь он, колыхаясь, утробно урча, роя воздух, начал плавно, с натугой возноситься, уходить в небо. Все вокруг было видно как на ладони, и я с интересом наблюдал: вот речка тянется к городу, вот дорога к нашему аэродрому…
Аэроплан делал плавные круги, круто уходил ввысь, там вдруг, как живой, перекидывался на тот или другой бок. Пятнадцать минут летала дивная машина. Потом ринулась носом вниз, уже не треща, но, почихивая, пролетела, потрепыхалась над самой землей и вот побежала на лапах — хвост еще был в воздухе. И только потом остановилась, фыркнула и перестала мотать пропеллером.
Восторгу от полета не было границ. Что там говорить, аэроплан — не тачанка!.. И хотя в небе все показалось мне так просто и ясно, простота эта была только кажущейся.
На следующий же день один из самолетов на посадке по какой-то причине подпрыгнул, затем вторично коснулся земли и, грохочущий, крылатый, встал на нос. Летчик, как нам объяснили, «сделал козла». К аэроплану подбежали люди, ухватились за ферму и опустили хвост в нормальное положение. Кабина оказалась целой, а ферма погнулась. Вот и простота!..
Вернувшись с практики, мы сдали экзамены, и нам торжественно вручили аттестаты военных аэронавигаторов. Однако светлые мои надежды служить в строевой авиации рухнули. Меня назначили техником-лаборантом школы, которая опять перебралась на новое место — на Таганку, в Дурной переулок. И вскоре туда прибыли слушатели очередного набора. В основном фронтовики — люди способные, энергичные, полные энтузиазма. Программу для них расширили — срок обучения стал два года. Значительно увеличился курс высшей математики, физики. По моей специальности лекций пока не было, и, узнав, что в Петровской сельскохозяйственной академии есть лесной факультет, я решил продолжить свое высшее образование. В школе мне пошли навстречу, а в академии меня приняли сразу на второй курс — в порядке перевода из Петроградского лесного института.
И вот с тощим вещевым мешком за спиной тороплюсь я на лекции, на лабораторные занятия по неорганической химии. Корпуса академии в то трудное время не отапливались, студенты вместе с преподавателями сидели в аудиториях в зимней одежде. Обед состоял в основном из хлеба да чая, который мы нагревали в тоненьких колбах на газовых горелках. Домой я возвращался уже поздно вечером, усталый, озябший. Но зато какое удовлетворение было от прожитого дня, насыщенного до предела, заполненного занятиями, общением с интересными людьми.
Из преподавателей у меня в памяти остался профессор Турский Георгий Митрофанович. Человек высокой культуры, больших знаний, Георгий Митрофанович свою специальность — лесную таксацию унаследовал от отца, тоже профессора, крупного ученого России.
Как-то во время практических занятий я показал Георгию Митрофановичу несколько аэрофотоснимков лесных угодий. Он очень ими заинтересовался, долго рассматривал через лупу и просил еще привезти снимки разных масштабов и разных времен года.
— Вот, Александр Васильевич, — говорил он мне, — при помощи каждого аэрофотоснимка, не ходя в лес, можно получить много различных данных. Например, размещение пород — лиственных, хвойных, смешанных, количество отдельных компонентов. Легко вычислить площадь, занимаемую однородным насаждением, определить высоту леса, если известно время съемки.
В таком приподнятом, одухотворенном настроении мы еще не видели нашего профессора.
— Мне думается, — взволнованно заключил он тогда, — что мы находимся у истоков рождения новой науки — аэротаксации…
У Георгия Митрофановича было множество планов и проектов развития теории и практики лесного дела.
— Когда закончите обучение, Александр Васильевич, я рассчитываю на ваше участие в работах, — сказал он мне как-то, и я был очень признателен любимому профессору.
Но вскоре Георгий Митрофанович заболел и скончался. Его похоронили на одной из полян лесной дачи сельскохозяйственной академии, рядом с могилой отца.
Между тем у нас в школе Красного Воздушного Флота произошли значительные перемены. Среди слушателей второго приема нашлись энтузиасты, загоревшиеся идеей развития аэронавигации. Новое здание школы позволило улучшить лабораторную базу и приступить к разработке курса. Через нашего выпускника С. А. Данилина мы получали сведения о развитии Центральной аэронавигационной станции научно-испытательного института Главвоздухофлота. К этому времени над школой взял шефство Наркомат путей сообщения. Нам ввели новую красивую авиационную форму, пошили костюмы из весьма добротного материала. А вскоре при школе сформировали авиационный отряд на английских самолетах ВЕ-2Е, который систематически обеспечивал полетами всех слушателей и преподавателей.
Свободного времени у меня было достаточно. Часто ездил к родителям в деревню Починки. Отец получил крестьянский надел на пять душ и занялся строительством рубленого дома. Всей семьей мы старались помочь делу, но двигалось оно медленно — в деревенском хозяйстве необходима лошадь. Тогда я поставил перед собой задачу — купить ее во что бы то ни стало. Откладывая из жалованья по десять рублей в месяц, собрал наконец необходимую сумму и отправился на конную ярмарку.
Большая площадь была наполнена ржанием и топотом лошадей — в повозках, тележках, просто в уздечках. Целый день я протолкался здесь, но к вечеру все-таки купил у приезжего крестьянина гнедого мерина лет пяти. Куманек, как звал его хозяин, стоил 125 рублей. Сумму эту я заплатил и отвел гнедого на Таганку, где в небольшой конюшне стояли наши школьные лошади. А на следующий день, поднявшись чуть свет, отправился в Починки. Пятьдесят верст старой Владимировки, по которой когда-то шли этапом в Сибирь на каторгу ссыльные, трудное это путешествие. Но к ночи все-таки добрался до дому. Деревня уже спала, лишь кое-где лаяли собаки. В темноте негромко постучал в окно. Мать, узнав меня, открыла калитку:
— Что так поздно?
— Лошадь купил, — ответил я устало. Увидев гнедого, мать всплеснула руками и заплакала. Это были слезы радости…
В том тяжком и голодном 1921 году Владимир Ильич Ленин подписал постановление Совета Труда и Обороны об учреждении комиссии для разработки программы-максимум развития воздухоплавания и авиации. На восстановление и строительство авиазаводов, создание научно-технических организаций, подготовку авиационных кадров правительство выделило громадную для разоренной страны сумму — 3 миллиона рублей золотом! Через год — еще 35 миллионов. А в начале 1923 года партия обратилась к трудящимся республики с призывом оказать материальную поддержку в строительстве Воздушного Флота. В стране развернулось движение под лозунгом: «Трудовой народ, строй Воздушный Флот!» Учреждается массовое — с организациями во всех республиках, с губернскими, уездными, волостными отделениями — Общество друзей Воздушного Флота (ОДВФ). Оно быстро завоевало популярность в стране и вскоре объединило в своих рядах более 2 миллионов человек.
Общество издавало массовый журнал «Самолет», выпускало брошюры, плакаты, листовки, вносило весомый материальный вклад в развитие авиации. За первые десять месяцев его организации собрали па строительство самолетов 3 миллиона рублей. Одними из первых свои сбережения внесли В. И. Ленин и Н. К. Крупская. В губерниях прошли ударные кампании, как, например, «Купечество Воздухофлоту», «ГПУ — Воздухофлоту», «Красный милиционер — Воздухофлоту».
Первые эскадрильи самолетов, построенные на средства, собранные трудящимися, были названы ленинскими и в торжественной обстановке передавались личному составу авиационных частей.
Партия и правительство Республики, заботясь о развитии авиации, много внимания уделяло подготовке авиационных кадров. Расширилась сеть авиационных школ, укрепилась их материальная база. Большое значение придавалось подготовке инженерных и командных кадров с высшим образованием.
Мы в своей школе продолжали обосновывать новое содержание аэронавигационной науки. В 1923 году в газете «Известия» была напечатана большая статья слушателя школы М. В. Белякова, моего брата, в которой подробно излагались проблемы о будущем аэронавигации, необходимости отнести специальность военного аэронавигатора к летному составу. Проштудировав труды по кораблевождению, навигации и лоции морей, «Руководство для штурманов», мы пришли к выводу, что у моряков все обстоит иначе. Там штурман ведет судно, осуществляет прокладку, счисление пути. Для определения местоположения в море пользуется мореходной астрономией, пеленгацией, гидрографическими данными о течениях и глубинах.
А что же в авиации? Самолет — в воздухе, а аэронавигация — на земле, на наземной станции. В этом явно была какая-то нелогичность. Только позже я узнал, что еще в первую мировую войну русские «муромцы» совершали полеты и днем и ночью с помощью аэронавигационных расчетов на борту самолета. Существовал даже такой, например, прибор, как ветрочет Журавченко. Но в годы, о которых ведется рассказ, нам это было неизвестно.
В военной авиации только начали создаваться спецслужбы. Летчики и летнабы относились к «летной службе», ею руководили командиры. Аэрофотослужбой должен был руководить начальник штаба. Аэронавигационная служба представлялась объединением специалистов по метеорологии и авиационным приборам. И во всех этих мероприятиях должность и звание военного авианавигатора упразднялись.
В связи с этим школа наша получила другое название. Она стала Военной авиационной школой спецслужбы. Нам предстояло перейти на одногодичный срок обучения и готовить фотолаборантов, фотограмметристов, техников по авиаприборам, авиационных метеорологов, радиотехников. Подготовка аэрофотосъемщиков прекратилась. А наши настойчивые доказательства о необходимости в авиации аэронавигаторов привели к тому, что всем аэронавигаторам, уже выпущенным школой, предложили подготовиться и сдать экзамен экстерном на звание летчика-наблюдателя. И вот я — летнаб. Да и в структуре школы спецслужб аэронавигационный отдел был все же сохранен. Он объединял подготовку метеорологов и техников по авиационным приборам, и меня назначили начальником отдела.
Международная обстановка в этот период оставалась напряженной. В мае 1923 года министерство иностранных дел Англии направило нашему правительству ультиматум — наглый ультиматум лорда Керзона, содержавший клеветнические обвинения и провокационные требования. Возникла угроза новой военной интервенции против Республики Советов. В стране прошли многотысячные митинги, демонстрации протеста. В ответ на ультиматум Англии советский народ приступил к сбору средств на постройку военных самолетов. Только в Белоруссии за один день трудящиеся сдали 1000 валютных рублей. Крестьянскими депутатами Афанасьевской волости Вятской губернии был передан 25-пудовый церковный колокол. Рабочие Петрограда отработали воскресник в фонд Красного Воздушного Флота. А Симбирское губернское отделение ОДВФ на добровольные вклады рабочих и крестьян заказало на авиационном заводе аэроплан «Земляк Ильича».
11 ноября 1923 года на Центральном московском аэродроме состоялась торжественная передача Красному Воздушному Флоту боевых машин, составивших авиаотряд «Ультиматум», Вскоре здесь же было передано еще девятнадцать самолетов, построенных на средства, собранные трудящимися. Эту авиационную эскадрилью назвали именем В. И. Ленина, и торжественный акт передачи боевых машин Военно-Воздушным Силам вылился в волнующую демонстрацию патриотизма советского народа.
Одновременно с созданием в стране мощного Воздушного Флота закладывались основы отечественной авиационной промышленности. Восстанавливались и расширялись авиационные заводы, лаборатории Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ), академия Воздушного Флота имени Н. Е. Жуковского. Приказом Реввоенсовета научно-опытный аэродром был преобразован в Научно-испытательный институт ВВС РККА, сыгравший впоследствии исключительно большую роль в развитии авиации. Прежнее аэронавигационное бюро при нем было реорганизовано — развернуто в аэронавигационный отдел для испытания авиаприборов и методов воздушной навигации. Начальником этого отдела назначили Бориса Васильевича Стерлигова.
Мы помогли Б. В. Стерлигову в организации аэронавигационного отдела. Из числа аэронавигаторов второго и третьего выпусков нашей школы на преподавательской работе осталось несколько слушателей, увлеченных научной работой, в том числе Г. В. Коренев и Г. С. Френкель. Позже они были переведены в НИИ ВВС.
Георгий Васильевич Коренев был знатоком аэронавигационной техники, неумолимым в требованиях к авиаприборостроителям. Будущий доктор физико-математических наук, он разработал проблему измерения воздушной скорости полета, проанализировал закономерность этого процесса в зависимости от плотности воздуха. С появлением автопилотов Коренев с жаром включился в работу по совершенствованию этих приборов.
Георгий Семенович Френкель также обладал прекрасными способностями и глубокими знаниями физико-математических наук, умел толково применять их в аэронавигации. В разгар борьбы за инструментальное самолетовождение Френкель выступил со статьей «Здравый смысл в штурманском деле». Впоследствии ее основные идеи преобразились в такие важные элементы специальной подготовки, как приближенные расчеты в уме и штурманский глазомер. У нас в школе Георгий Семенович подготовил работу под названием «Измерение высоты полета». Теория проблемы барометрического определения высоты в полете была им разработана досконально, и труд издали в качестве учебного пособия. В аэронавигационном отделе НИИ Френкель руководил полетными исследованиями.
Интересную монографию «Магнитный компас на самолете» составил преподаватель нашей школы П. А. Михайловский. Базой для нее послужили соответствующие труды по морской навигации. Вскоре были изданы учебные пособия по аэрологии и авиационной астрономии.
Но все-таки что за наука аэронавигация?..
На наших глазах быстро возрастали скорость, высота и дальность полетов. Если первенцы авиации развивали до 60–80 километров в час, то есть километр в минуту, то в начале двадцатых годов скорость повысилась до 150 200, а в тридцатых годах дошла до 600 километров в час и более. Соответственно росли грузоподъемность и дальность.
В первую мировую войну и в гражданскую маршруты полетов были невелики 150–200 километров, отрезки их и вовсе малы — 20–40. Они зависели от боевых задач, для авиации довольно скромных, таких, как корректирование артиллерийского огня, ведение разведки, для некоторых самолетов бомбометание в неглубоком тылу противника, порой воздушный бой. Так что вождение самолетов в воздухе производилось просто — по земным ориентирам и путем сличения карты с местностью.
Но постепенно боевые задачи усложнялись: росли маршруты, необходимость летать вне видимости земли днем и ночью. Вот тогда и начала развиваться аэронавигация как наука. Основой для ее развития послужили смежные науки: учение о геометрической форме земного шара, системе географических координат, земном магнитном поле, картография, морская навигация, морская астрономия, ряд других.
Так, например, было известно, что для плавания в морях и океанах моряки пользуются картами в проекции Меркатора, где меридианы и параллели изображаются прямыми взаимно перпендикулярными линиями. Маршрут плавания, прочерченный на карте прямой линией, выполнялся, таким образом, с постоянным курсом и получил название локсодромии. Этот метод в авиации был пригоден только на небольшом отрезке маршрута, а предстояли большие расстояния. Поэтому-то одной из задач аэронавигации стал полет по кратчайшему расстоянию — ортодромии, что представляло собой на земной поверхности дугу большого круга.
В своем дальнейшем развитии аэронавигация должна была разработать методы выполнения маршрута вне видимости земли — только по приборам, с помощью самолетного и наземного радиотехнического оборудования. Затем полет по заданному маршруту в гравитационном поле. Современный дальний самолет, например Ил-62, снабжен современной навигационной системой, ведущей непрерывное счисление пути с указанием места самолета в географических координатах и позволяющей совершать полет по ортодромии автоматически.
А тогда для нас, молодых работников школы спецслужб, в Дурном переулке на Таганке, только начинался период поисков и развития одной из увлекательных профессий будущего — авиационного штурмана.
Сейчас не покажется удивительным, если услышишь от летчиков: «Ждем сложняк!..» То есть пилоты на аэродроме заведомо ожидают сложную погоду, чтобы потренироваться в управлении машинами в облаках, при плохой видимости. В двадцатые годы полеты по причине нелетной погоды отменялись довольно часто: в дождь, снег, при сильном ветре, низкой облачности, в туман. В связи с этим в авиации возрастала и роль метеослужбы. Не случайно в аэронавигационном отделе мы стали готовить не только специалистов по пуску шаров-пилотов, с помощью которых определялся ветер да высота облачности, а метеорологов, умеющих давать прогноз погоды.
Мой брат М. В. Беляков после окончания школы получил назначение в штаб Главвоздухофлота и с увлечением работал именно в этом направлении. Он предложил продуманную организацию аэрометеорологических станций на каждом аэродроме с соответствующими средствами связи. Когда в штабе Главвоздухофлота, на улице Разина (прежняя Варварка), была учреждена должность начальника авиаметеорологической службы, ее возглавил М. В. Беляков.
Значительно квалифицированнее в нашей школе стала и подготовка техников по авиационным приборам. В строевых частях на этих техников возлагалась ответственность за работу на самолете всех приборов. Они не только следили за их исправностью, но и сами производили мелкий ремонт, определяли девиацию магнитных компасов. Для занятий этих специалистов в школе была оборудована лаборатория, которая к тому же ремонтировала приборы по нарядам Главвоздухофлота. Лабораторией и подготовкой техников-прибористов руководил выпускник школы В. Г. Кудров. Позже преподапатслем этого отделения стал наш выпускник В. В. Брандт — автор капитальных трудов по авиационным приборам, а летпабами — Герои Советского Союза Г. М. Прокофьев, А. М. Бряндинский.
Но отношение пилотов к приборам в те давние времена, надо сказать, было еще довольно своеобразное. По маршрутам даже на двухместных самолетах летали только «на глазок»: пользовались исключительно визуальной ориентацией, линию пути выдерживали по линейным ориентирам — железных и шоссейным дорогам, большим рекам, побережью морей, крупных озер.
Предстояло еще доказывать эффективность приборного полета. И вот в марте 1925 года летчик Ф. С. Растегаев и летнаб Н. Н. Курбатов на самолете Р-1 отправились в полет по маршруту Москва — Смоленск — Ленинград — Москва.
Экипаж вооружили визиром Ноздровского, компактным ветрочетом Стерлигова, который позволял в полете рассчитывать скорость и направление ветра по двум углам сноса. А для быстроты расчетов, были разработаны специальные номограммы, или, как их называли, навиграммы. Позднее их заменили широко известной навигационной счетной линейкой, разработанной нашим выпускником Л. С. Поповым.
И начались полеты по компасу. Аэронавигаторы Б. В. Стерлигов, С. А. Данилин, Г. С. Френкель, П. В. Коренев, И. Т. Спирин летали по маршрутам с летчиками И. Ф. Козловым, М. М. Громовым, Ф. Г. Федоровым, Л. А. Юнгмейстером, В. И. Коровиным. Это был коренной перелом в теории и практике самолетовождения, рождение нового способа навигации, весьма перспективного для полетов в сложных метеоусловиях и ночью. Но в этом надо было еще убедить весь летный состав. Многие пилоты придерживались мнения, что в полете лучше ориентироваться по местным предметам. Все это сейчас кажется, конечно, странным, но в те годы такое утверждение было оправданным, ибо попытки провести машину по компасу нередко заканчивались потерей ориентировки, а иногда даже аварией.
Что же было установлено в кабине летчика-наблюдателя? Компас, указатель скорости, высотомер, часы с секундомером, бомбардировочный прицел. Здесь же находились планшет с картой, таблицы навиграмм, бортжурнал. В полете по показаниям приборов летнаб должен был рассчитывать истинную высоту, истинную воздушную скорость полета, измерять путевую скорость, которая возникала в результате геометрического сложения векторов воздушно!! скорости и ветра. Были разработаны и систематизированы правила прокладки маршрута на карте с обозначением расстояния и путевого угла. На самолетах начали устанавливать простейшие бортовые визиры для измерения угла сноса и путевой скорости. Для этой цели впоследствии использовались оптические визиры — прицелы для бомбометания. Ведь в полете летнаб должен был вести и стрельбу из пулемета, сбрасывать бомбы по наземным целям, корректировать артиллерийский огонь.
Все это требовало не только хорошего знания теории, но и большой практики. И летом 1925 года мы, аэронавигаторы школы спецслужб, были направлены на лагерные сборы под Можайск, где на полевом аэродроме базировалась 30-я авиационная эскадрилья и 20-й авиаотряд.
Все лето прошло в напряженной тренировке. Я прочно освоился с кабиной самолета Р-1. Это был новый двухместный биплан — разведчик отечественного производства, почти весь из дерева, обтянутый перкалем. Жесткость его конструкции создавалась многочисленными металлическими растяжками. Летно-технические данные Р-1 считались вполне удовлетворительными: скорость до 185 километров в час, потолок — 5000 метров. Самолет брал до 750 килограммов нагрузки, в том числе запас бензина на четыре часа полета. Но в нем было немало архаических устройств: бензин, например, подавался в мотор бензопомпами, которые приводились в движение с помощью ветрянок, стоявших по бокам фюзеляжа. Открытая кабина защищалась лишь небольшими козырьками из целлулоида. Самолет выполнял основные фигуры высшего пилотажа, но легко срывался в штопор, и в воинских частях из-за этого было немало происшествий. Точно так же Р-1 был строг и на посадке: он легко «козлил», а ошибки летчика нередко оканчивались поломками и авариями.
Вспоминая полеты, сопоставляя первые наши маршруты с сегодняшними, отчетливее вижу все их трудности. Ведь в те времена не было еще ни радиосвязи, ни таких падежных средств самолетовождения, как приводные радиостанции и радиокомпасы, не говоря уже о радиолокации.
Как-то мне с летчиком Семеном Ивановичем Трофимовым предложили совершить большой по тому времени перелет — из Москвы в Севастополь. Мы должны были перегнать и сдать в школу летчиков на Каче этот самый Р-1. Маршрут я проложил через крупные города: Тулу, Орел, Курск, Харьков. И весь маршрут мы пролетели без всяких отклонений за 13 часов 20 минут с одной лишь промежуточной посадкой в Харькове для дозаправки самолета. Тогда именно и пришла уверенность, что смогу выполнить и более сложные задания.
К этому времени в аэронавигационном отделе НИИ завершился первый этап научной работы: были не только разработаны, но и доведены до практического использования правила навигации самолетов днем в простых метеоусловиях с помощью магнитного компаса. Эта методика одно время так и именовалась компасная навигация. Проверенная в полетах работниками аэронавигационного отдела НИИ, она вскоре получила в авиации широкое применение, вошла в программы всех авиационных школ, в том числе и нашей школы специальных служб.
К слову сказать, работая в тесном взаимодействии с Научно-испытательным институтом ВВС РККА, мы эту методику усвоили ранее других и в процессе учебных полетов вносили собственные добавления и усовершенствования. Большую помощь нам оказывал начальник учебного отдела школы А. П. Сегеди и сформированное при школе в 1925 году летное отделение.
Вначале в нем было всего шесть самолетов и четыре летчика. Но через год штат расширился, самолетов стало больше. Теперь уже в учебный летный отряд входили летчики-инструкторы С. И. Трофимов, Н. Н. Базанов, Г. В. Жиркович, Б. Л. Местон, И. Д. Антошкин, С. Н. Добрынин и А. А, Дубровский, командиром отряда был В. В. Сафронов. Все летчики имели хорошую технику пилотирования, так как в основном пришли к нам из расформированной Московской школы высшего пилотажа.
На Центральном аэродроме для отряда было построено небольшое кирпичное здание по моему плану-чертежу, а также вместительный ангар. И мы, летнабы-аэронавигаторы, быстро сработались с пилотами.
Правда, к компасной навигации и наши инструкторы первоначально относились с недоверием и опаской. Только после проверки нововведений в воздухе летчики становились убежденными поборниками их.
Как-то на Центральном аэродроме я встретил начальника ВВС МВО И, У. Павлова. Он произвел посадку после приборного полета и с каким-то особым удовлетворением рассказывал окружившим его на старте свои впечатления:
— Мне надо было выйти вот на эту цель, — показывал Иван Ульянович на карте. — А начал я маршрут от этого перекрестка и летел не вдоль дороги, а по компасу. II ведь точно вышел! Обратно на аэродром — тоже по компасу. Ну, молодцы навигаторы!..
Иван Павлов для авиаторов нашего поколения был таким же легендарным героем, как, скажем, Иван Кожедуб или Александр Покрышкин для нынешней молодежи. Сын крестьянина из Херсонской губернии, опытный летчик русской армии, он одним из первых авиаторов встал на защиту революции. В апреле 1918 года, когда по указанию В. И. Ленина было принято решение сформировать 1-ю советскую авиационную группу, И. У. Павлов возглавил ее и наносил сокрушительные удары по войскам белых. В августе 1918-го группа действовала на Восточном фронте в интересах 5-й армии: бомбила штабы, артиллерию на позициях, суда вражеской флотилии на Волге. В районе Казани красные летчики одновременно поднимали в воздух по двадцать машин, обеспечивая тем самым успех боевых действий наших войск. Тогда было разработано и взаимодействие: сначала вылетало несколько бомбардировщиков, за ними — истребители.
После освобождения Казани частями Красной Армии Владимир Ильич Ленин, еще не оправившийся от ран злодейского покушения, обратился к войскам с телеграммой: «Приветствую с восторгом блестящую победу Красных Армий». Специальным приказом № 37 от 13 сентября 1918 года Реввоенсовет Республики отметил летчиков: «Солдаты Красной воздушной флотилии 5-й армии! Вся Советская республика была свидетельницей вашего несравненного героизма в исторических боях под Казанью… Вы бесстрашно преследовали врага, внося смятение и ужас в его ряды. Честь вам и слава, красные витязи воздушного флота!»
Боевая работа летчиков 1-й советской авиационной группы была отмечена в приказе, а их командир Иван Ульянович Павлов награжден орденом Красного Знамени.
Не менее героические дела совершали наши летчики под командованием Павлова и в Крыму, где на стороне Врангеля действовали новейшие английские самолеты. По нескольку боевых вылетов на бомбометание и штурмовку кавалерийских частей, главных сил белых, наступавших в направлении каховского плацдарма, выполняли они ежедневно.
Высшей награды того времени — ордена Красного Знамени за мужество, отвагу и героизм были удостоены в годы гражданской войны 219 летчиков и летнабов, 16 получили эту награду дважды, а три летчика — И. У. Павлов, П. X. Межераун и С. А. Монастырев — стали трижды кавалерами ордена Красного Знамени.
Восемь лет спустя в Париже эмигрантская газета «Возрождение» сообщит: «В воскресенье 21 марта в 4 часа дня в помещении церкви (45–37 рю Дюлонг, метро Ром) состоится доклад военного летчика Б. П. Павлова на тему: «Возможен ли могучий воздушный флот в России при большевистском режиме?..» После доклада обмен мнениями. Вход свободный».
Да что там за вопрос: возможно ли? Над Парижем уже летел краснозвездный аэроплан «Пролетарий». Наш пер вый серийный цельнометаллический самолет типа АНТ-3 с первым отечественным мотором. В течение трех дней экипаж в составе летчика М. М. Громова и бортмеханика Е. В. Радзевича облетел всю Европу!
Стартовал самолет в Москве 31 августа 1926 года. Через пятнадцать часов, сделав промежуточные посадки в Кенигсберге и Берлине, пройдя 2830 километров воздушного пути, приземлился в Париже. Затем дальше: Париж Рим — Вена… 2 сентября, взлетев с венского аэродрома, АНТ-3 через несколько часов сделал короткую остановку в Варшаве, а вечером приземлился в Москве. Экипаж преодолел маршрут в 7150 километров! Всему миру был продемонстрирован успех нашей авиации — успех советской конструкторской школы, советского самолетостроения.
Несколько позже на самолете того же типа летчик С. А. Шестаков и бортмеханик Д. В. Фуфаев совершили перелет по маршруту Москва — Токио Москва общей протяженностью 22 тысячи километров. Это расстояние было пройдено за 153 летных часа. Самолет молодого советского конструктора Андрея Николаевича Туполева успешно выдержал серьезное испытание и долгое время состоял на вооружении Красной Армии. Наша авиационная промышленность выпускала его в вариантах разведчика, штурмовика, почтового самолета.
…О чем там говорил в помещении церкви на рю Дюлонг бывший белогвардейский летчик, однофамилец прославленного героя гражданской войны, кто его знает. Часто цифры убедительней слов. Вот, например, такие.
В 1928 году наши авиазаводцы выпустили 870 самолетов. За первую пятилетку их количество утроилось, за вторую объем производства авиапромышленности возрос в пять с половиной раз, и в 1938 году Красная Армия получила почти 5500 новых самолетов! Советская Россия стала одной из ведущих авиационных держав.
Но пока шел 1927-й. Нашу школу как-то инспектировала группа проверяющих во главе с начальником ВВС П. И. Барановым. Петра Ионовича я помнил еще по гражданской войне. В 1918 году он командовал 4-й Донской армией, затем последовательно был членом Реввоенсовета 8-й армии, Южной группы Восточного фронта, Туркестанского фронта, 1-й и 14-й армий. Во время наступления дивизии Чапаева от Бугуруслана на Бугульму находился в наших частях.
Состоянием учебного процесса, работой летного отряда школы проверяющие остались довольны. Петр Ионович был немногословен, говорил негромко, приглушенным голосом, и, сделав заключение инспекции, объявил, что назначается новый начальник школы — В. Н. Львов.
Заместитель Баранова Я. И. Алкснис, напротив, весьма подвижный, разговорчивый, расспрашивал нас о программах, подготовленности специалистов, о полетах постоянного и переменного состава школы.
— В каждой эскадрилье теперь будут инструкторы из числа штатных летнабов по всем службам. Так что вам, начальник аэронавигационного отдела, — с заметным латышским акцентом обратился Алкснис ко мне, — сначала предстоит подготовить этих инструкторов, преподавателей. А потом обратите внимание на летную подготовку слушателей, обучите их полетам но маршрутам, покажите, как надо соблюдать ориентировку, восстанавливать ее в случае потери.
Я увлеченно принялся за работу: составлял программу для инструкторов по аэронавигации, подробно разрабатывал письменные задания на каждое упражнение в воздухе. И вот новый начальник учебного отдела школы летнаб Владимир Рудольфович Бузе однажды вызывает меня к себе и неожиданно спрашивает:
— А что, если я вам предложу выполнить маршрут побольше школьного? Как вы к этому отнесетесь? О чем говорить! Я с радостью дал согласие.
— Полетите с летчиком Дубровским на «фоккере». Маршрут: Москва Гомель — Винница — Ростов-на-Дону — Воронеж — Москва.
И через несколько дней мы взяли курс на юго-запад. Теплая летняя погода благоприятствовала полету. С посадками и ночевками весь маршрут мы выдержали без отклонений, без происшествий. Разработанная методика аэронавигации при видимости земли оказалась точной геометрической наукой, сулившей уверенный выход на цель.
Между тем в аэронавигационном отделе НИИ разрабатывалась методика более сложных полетов — вне видимости земли: в облаках, ночью, над морем. Конструировались закрытые кабины для тренировок летчиков, подготавливались инструкции по обучению технике слепых полетов. Для выполнения их требовалось новое самолетное оборудование, и оно стало появляться.
Весь народ радовался успехам развития отечественной авиации. Коммунистическая партия, мобилизуя трудящихся на укрепление военно-экономического потенциала страны, в лозунгах к Неделе обороны, проводившейся в 1927 году, призывала: «Поднимем военную промышленность!», «Дадим новые отряды самолетов и танков!», «Рабочие и крестьяне! Стройтесь в ряды Осоавиахима! Организованно содействуйте обороне Советского Союза!».
Ученые, конструкторы, инженеры, работники авиационной промышленности активно искали пути повышения боевых качеств создаваемых самолетов, быстрейшего их внедрения в массовое производство. В небо Страны Советов поднимаются новейшие для того времени самолеты: У-2, И-3, И-4, И-5, Р-5, ТБ-3. Быстро развивался и гражданский воздушный флот. Были сконструированы несколько типов больших и средних пассажирских самолеток, первые в стране амфибии, авиетки, а также легкие машины по заказу спортивных организаций. Наши летчики совершали на них полеты, которые показали, что советская авиационная наука и техника прочно занимают передовые рубежи, что советские самолеты по своим качествам не уступают зарубежным, а по ряду показателей и превосходят их.
Обострения международной обстановки, усиление опасности новых военных нападений империалистов постоянно сопровождали молодую Советскую республику. Но страна набирала скорость. Остановить ее было уже невозможно — оставалось признать.
Моя жизнь связана с авиацией. И я буду рассказывать, как крепли крылья первой в мире страны социализма.
Забегая вперед, назову несколько имен.
А. Федотов, П. Остапенко, М. Комаров, Н. Горяйнов, В. Степанов, Я. Верников, А. Липко, А. Тюрюмин, М. Попович, Н. Проханова, Л. Зайцева, С. Савицкая, Е. Мартова, М. Соловьева, Р. Шихина, Г. Корчуганова, Г. Бурьянов, И. Андриевский, Б. Константинов, А. Митронин, И. Сухомлин, А. Тимофеев, С. Дедух, Ю. Романов, Г. Пакилев, В. Коккинаки, И. Давыдов, Л. Уланова, Г. Ефимов, В. Авершин, Е. Никитин, А. Захаров, В. Белов, П. Якушин, М. Михайлов, А. Смирнов, А. Сушко, В. Святошнюк… О них мы читали в газетах, с привычной радостью отмечая очередной рекорд скорости, высоты, дальности полета. Мы действительно уже привыкли, что наши летчики в непрерывном штурме барьеров постоянно обновляют таблицу мировых достижений, прославляют Родину рекордами в небе. Это — наглядное подтверждение их высокого мастерства, отваги и мужества. Но мировой рекорд на современном самолете — это не только выдающееся спортивное достижение, но и свидетельство успешного решения очередной научно-технической задачи, показатель высокого развития авиационной промышленности.
Во второй половине пятидесятых годов конструкторский коллектив под руководством Генерального конструктора А. И. Микояна создал самолет с треугольным крылом. В октябре 1959 года на одном из опытных экземпляров этой машины, получившем обозначение Е-66, летчик-испытатель Г. К. Мосолов базу 15–25 километров пролетел со скоростью 2388 километров в час. Зарубежные специалисты включили МиГ в число лучших самолетов такого класса. Но вскоре американцы перекрыли рекорд. На бесхвостом самолете с треугольным крылом «Конвейр Ф-106А» была установлена скорость 2455,7 километра " час и на самолете «Мак-Доннел Вуду» с еще более форсированным двигателем — 2585. Однако Мосолов на Е-166 превзошел американцев, он пролетел со скоростью 2681 километр в час.
Тонкий профиль крыла, треугольная форма его в сумме с углом стреловидности 60 градусов — самое выгодное в конструкциях сверхзвуковых самолетов. Для сверхзвуковых МиГ-21 и Ту-144 как раз применимо такое крыло. И за рубежом много начали писать об истребителе «микояновской фирмы». МиГ-21 к тому времени уже эксплуатировался в ряде зарубежных стран. Испытали американские летчики его боевые качества и в воздушных схватках над Вьетнамом.
А в жизнь вступал новый истребитель — Е-266. На нем летчик-испытатель М. М. Комаров установил мировой рекорд по 500-километровому замкнутому маршруту, П. М. Остапенко побил рекорды в скороподъемности на высоту 25000 метров, 30000 метров. В январе 1975 года американские военные летчики Д. Петерсон и Р. Смит на истребителе Ф-15, который американцы называли «самолетом завоевания превосходства в воздухе», решили побить эти рекорды. С Ф-15 сняли вооружение, некоторую аппаратуру, оборудование и даже… смыли окраску. Машину облегчили почти на 2000 килограммов. Д. Петерсон поднялся на высоту 25000 метров за 2 минуты 41,025 секунды, Р. Смит — на высоту 30 000 метров за 3 минуты 27,99 секунды, и скороподъемность эту считали уже недосягаемой.
Однако спустя месяца четыре достижение американцев превзошли заслуженные летчики-испытатели Герои Советского Союза А. В. Федотов и П. М. Остапенко.
Еще несколько мировых рекордов установили эти летчики. Петр Остапенко пролетел по замкнутому 1000-километровому маршруту со средней скоростью 2920 километров в час. Этот полет принес советской авиации сразу три мировых рекорда: полет без груза, с грузом в одну тонну и с грузом в две тонны. Александр Федотов поднял на истребителе груз в две тонны на высоту более 30 000 метров, затем летчик достиг высоты 37 080. Им же установлен рекорд скорости полета по замкнутому 100-километровому маршруту — 2605 километров в час и абсолютный мировой рекорд высоты полета 37650 метров! Самолет идет вверх за счет запаса кинетической энергии, и набор высоты во многом зависит от его хорошей аэродинамики.
Но вернемся к концу двадцатых годов. У-1, Р-1, И-2, Р-3, ДИ-1, И-1, И-3, И-4, П-2, У-2, еще «Конек-Горбунок»… Бипланы с целым лесом стоек, расчалок, находящихся в потоке воздуха, с неубирающимся шасси, торчащим хвостовым костылем. Кабины открыты, лицо пилота защищается от потока воздуха лишь легким прозрачным козырьком, моторчики маломощные — прямо «на улице», не закрытые капотами. И все же есть первый советский мировой рекорд! Он мало кому известен. Членом Международной авиационной федерации (ФАЙ) Советский Союз стал в феврале 1936 года. С этого рубежа начался отсчет наших мировых достижений. А тогда… Впрочем, вот что пишет об этом событии «Рабочая газета» от 3 августа 1927 года:
«29 июля в 8 часов вечера летчик Жуков поднялся е Московского аэродрома, с тем чтобы подняться на высоту 4000 метров и побить существовавший до сего времени мировой рекорд.
По расчетам, «Буревестник» должен был подняться до высоты 4000 метров и опуститься через 40 минут. Однако прошел час, а Жуков не возвращался. На аэродроме поднялось волнение: не разбился ли он?
Прошло еще 20 минут. Жуков все не возвращался. Были пущены сигнальные ракеты, так как уже стемнело, С каждой минутой усиливалась уверенность, что Жуков разбился.
Когда члены комиссии окончательно разуверились в благополучном спуске «Буревестника» и ангары были уже закрыты, инженер Невдачин, конструктор «Буревестника», услышал отдаленное потрескивание мотора. Это возвращался «Буревестник».
Авиетка, спускаясь на аэродром, чуть не потерпела аварию. Летчик Жуков из-за темноты чуть не разбил авиетку, остановившись в двух шагах от забора.
Когда потерявшие было надежду члены комиссии подбежали к авиетке, из нее вылез полузамерзший Жуков и сказал: «Ужасно холодно. Поднялся, кажется, на четыре с половиной».
Когда из авиетки был извлечен аппарат, отмечавший высоту, то оказалось, что «Буревестник» поднялся на 5000 метров, побив мировой рекорд 1200 метров. Жуков рассказывает, что ему пришлось прекратить подъем из-за сильного холода. На высоте 5000 метров температура минус 15, а Жуков-был одет в кожаную тужурку…»
Так летчик-испытатель Александр Иванович Жуков на нашем отечественном самолете еще в 1927 году установил мировой рекорд.
Убедительной демонстрацией успехов советской конструкторской школы, советского самолетостроения стал и полет экипажа под командой летчика С. А. Шестакова, совершенный осенью 1929 года. АНТ-4, двухмоторный моноплан с гофрированной металлической обшивкой, прошел по маршруту Москва — Омск Хабаровск — Петропавловск-на-Камчатке — остров Атту — Сиэтл Сан-Франциско — Нью-Йорк общей протяженностью около 21 тысячи километров.
По компоновке, аэродинамике АНТ-4 намного опережал свое время. Самолет подобного типа мы пытались заказать в Англии, но на его разработку и изготовление англичане потребовали 2 миллиона долларов. И срок выполнения определяли в два года. Все это нас не устраивало, и машина была построена без услуг иностранных специалистов за девять месяцев при затратах всего в 200 тысяч рублей.
Осенью 1925 года на Центральном аэродроме летчик А, И. Томашевский выполнил на АНТ-4 первый семиминутный полет. Хорошие летно-технические и эксплуатационные качества АНТ-4 легли в основу конструкций многих наших бомбардировщиков. Самолет был признан и зарубежными конструкторами, они зачастую копировали его схему. АНТ стал эталоном для машин этого класса.
С моторами М-17 в 500–680 лошадиных сил в зависимости от взлетного веса (6200–7928 килограммов) скорость самолета у земли была от 184 до 207 километров в час. В варианте бомбардировщика — с полным стрелковым вооружением: шестью пулеметами, тонной бомб и экипажем из шести человек самолет развивал скорость 184 километра в час, набирал высоту — 4900 метров, дальность — 3000 километров.
Во второй половине 1928 года начался серийный выпуск АНТ-4. На нем же проводились и всевозможные эксперименты — заправка горючим в воздухе, работа наших первых ракетных ускорителей взлета, полеты с ракетными двигателями, разработанными в газодинамической лаборатории. На АНТ-4 проводились испытания по созданию летающего авианосца, несущего два истребителя. К слову сказать, истребителями управляли летчики-испытатели В. П. Чкалов и А. Ф. Анисимов. В «послужном списке» АНТ-4 и участие в эпопее спасения челюскинцев: именно на этом самолете пилот А. В. Ляпидевский вывез из ледового лагеря первую группу полярной экспедиции.
Однако настоящим триумфом прекрасной машины стая именно перелет Москва — Нью-Йорк.
…Как-то в начале 1929 года в аэронавигационный отдел НИИ приехал А. Н. Туполев и сообщил, что Советское правительство приняло решение послать самолет его конструкции в Америку — разрешение от властей США получено — и просил разработать возможные варианты маршрутов. Вскоре было подготовлено два варианта. Первый маршрут — через Европу, западную оконечность Африки, Атлантический океан, Южную Америку и дальше по побережью до Нью-Йорка. Второй — через Сибирь, Охотское море, Камчатку, северо-восточную часть Тихого океана и через Северо-Американский континент до Нью-Йорка. Я помогал прокладывать и рассчитывать эти маршруты на картах. А карты мы подбирали и сухопутные, и мореходные — различных масштабов, проекций. Решив остановиться на втором варианте маршрута, тщательно вымеряли расстояние между крупными ориентирами, определяли магнитные путевые углы, вычисляли таблицы восхода и захода солнца, наступления темноты, рассвета. Моторесурсы двигателей на самолете были ограничены — всего 60 часов, так что в пути их предстояло сменить дважды: общая продолжительность полета составляла 150 часов.
Экипаж для этого трудного дела назначили опытный. Возглавить его поручили Семену Александровичу Шестакову, участнику перелета Москва Токио — Москва. Бортмехаником он взял товарища по тому же перелету — Дмитрия Виссарионовича Фуфаева. Штурманом, или, как тогда еще называли, навигатором, — Бориса Васильевича Стерлигова. А вот со вторым пилотом дело обстояло несколько сложнее. Едва ли не треть пути — 8030 километров проходила над морем. Поэтому настоятельно требовался морской летчик. Из нескольких предложенных кандидатур выбор пал на Филиппа Ефимовича Болотова.
Наконец старт. Машина, на борту которой на русском и английском языках выведены слова «Страна Советов», взяла курс на восток.
В полете экипаж поджидало немало трудностей. Началось с того, что в районе Иркутска, где предстояла очередная промежуточная посадка, Шестаков решил лететь до Читы, Быстро надвигалась темнота. Озеро Байкал пролетели, но до Читы не дотянули — кончилось горючее. Вынужденная посадка в темноте на незнакомой местности закончилась аварией самолета — примерно в 80 километрах от города.
Экипаж срочно вернулся в Москву, там ему предоставили другой АНТ-4, и перелет был продолжен.
Уже в Хабаровске, на речном рейде, каждый из экипажа «Страны Советов» получил телеграмму от К. Е. Ворошилова. Нарком напоминал об ответственности перед Родиной за порученное дело. 12 сентября начался самый тяжелый морской этап перелета. В дождь, туман, порой в двадцати метрах над штормовыми волнами пробивалась отважная четверка к берегам Америки. «Дикой трассой» в шутку называли этот маршрут авиаторы. А в шутке была немалая доля правды: только 24 из 74 дней пути оказались летными.
И вот 1 ноября 1929 года «Страна Советов» — над статуей Свободы. На нью-йоркском аэродроме ее ожидали тысячи американцев.
«Уже с утра толпа начала собираться. Приезжали на собственных, нанятых автомобилях и в такси, иные добирались пешком. Были матери с детьми на руках. Были тысячи таких, кто имел красные повязки на рукаве с надписью «Друзья Советской России», — описывала встречу экипажа «Нью-Йорк таймс». На аэродроме собралось свыше 35 тысяч человек. Полицейский отряд был дополнен отрядом добровольцев. Когда в воздухе показался самолет «Страна Советов», энтузиазм толпы достиг апогея. Вскоре на торжество прибыл и американский национальный герой — летчик Линдберг. На крыше гигантского ангара состоялась его встреча с советскими авиаторами…»
Многие американские журналы и газеты давали высокую оценку техническим качествам самолета, созданного нашими инженерами и рабочими, мастерству и стойкости экипажа.
«Соединенные Штаты приняли группу воздушных визитеров, — сообщал журнал «Авиайшен». — Экипаж самолета «Страна Советов», построенного в России, состоит из храбрых и опытных людей. Мы предполагаем изучить их самолет с интересом, как оригинальный продукт национальной авиапромышленности, о которой мы знаем слишком мало…»
Пройдут годы. К проложенному экипажем «Страны Советов» маршруту через Сибирь, Дальний Восток и Тихий океан история еще вернется. Только теперь перелеты будут массовыми, и пойдут они с Аляски на Чукотку, затем в Якутию, на Красноярск…
В мае сорок второго Военный совет ВВС, выполняя решение Государственного Комитета Обороны, предложит главному штурману ВВС генералу Б. В. Стерлигову разработать воздушную трассу от наших союзников по антигитлеровской коалиции для переброски военных самолетов.
17 июня 1942 года президент США Ф. Рузвельт писал И. В. Сталину: «Посол Литвинов информировал меня, что Вы одобрили переброску американских самолетов через Аляску и Северную Сибирь на западный фронт…»[8].
Письмо от 23 июня: «…я готов отдать распоряжение американским экипажам, занятым перегонкой самолетов, доставлять Вам самолеты до озера Байкал»[9].
Сталин ответил: «…Советское Правительство уже дало необходимые указания об окончании в кратчайший срок проводящихся в Сибири работ по подготовке к приему самолетов… Что касается того, силами чьих летчиков доставлять самолеты из Аляски, то мне кажется, что это дело можно будет поручить… советским летчикам…»[10]
Вскоре после того как И. В. Сталин и Ф. Рузвельт обменялись посланиями, был образован специальный советско-американский комитет. 18 июля 1942 года Сталин писал Рузвельту:
«Ваше сообщение о назначении американскими представителями на совещание в Москве генерал-майора Ф. Брэдли, капитана Данкена и полковника Микелы мною получено. Американским представителям будет оказано все необходимое содействие в выполнении возложенных на них задач.
Со стороны СССР в совещании примут участие генерал-майор Стерлигов, полковник Кабанов и полковник Левандович»[11].
До конца октября состоялось пятнадцать заседаний комитета. На них были решены многочисленные вопросы, касающиеся перегонки самолетов. И самоотверженным трудом советских людей по трассе Аляска — Сибирь за короткий срок было создано все необходимое для этой важной работы. У затерянных в тундре поселков под взлетные полосы рубили кустарник, на носилках таскали грунт со дна рек. В строительстве аэродромов вместе со специалистами самоотверженно участвовало порой все местное население, даже школьники. К началу перегонки все аэродромы были в строю.
Для работы в крайне трудных условиях трассы из двадцати полков отобрали наиболее опытных авиаторов. Ведь перегонять боевые машины приходилось на большой высоте, в кислородных масках, при очень низких температурах. Морозы в районе Оймякона иногда доходили до 70 градусов. Но наши пилоты вели «бостоны», «китти-хауки», «аэрокобры» на фронт, проявляя мужество и высокое мастерство. Путь составлял около 14 тысяч километров: 3 тысячи — от заводов США через Канаду и Аляску до Фербенкса, 6,5 тысячи — от Фербенкса до Красноярска и далее до фронта примерно еще 4,5 тысячи километров.
«Дикая» межконтинентальная трасса действовала надежно в течение трех лет.
Но все это еще будет потом. А пока мы еще не знали слов: «вероломное нападение», «блокада», «сталинградский рубеж», «огненный таран». Мы еще не представляли, как провести самолет под градом зенитных снарядов, в скрещенных лучах прожекторов, как в неравном бою победить, выжить, всем смертям назло, и вернуться па аэродром «на честном слове и на одном крыле».
Мы только еще утверждали себя. Заставляли мир признать нас. И бесстрашно штурмуя пространство и время, жили лозунгом «Летать дальше всех, быстрее всех и выше всех!». Дерзновенным был этот вызов молодой Республики.
Глава пятая Ступени к высотам
Припомним обстановку тех лет применительно к истории Арктики. Людей давно тянула к себе эта неизведанная страна под созвездием Большой Медведицы. Попытки достичь Северного полюса или того района, который получил наименование «полюс относительной недоступности», предпринимались не раз. Но огромное водное пространство, покрытое дрейфующими торосистыми льдами, с низкими температурами воздуха, сильными ветрами, снегом и туманами, труднодоступно для человека. Возможно, потому с давних пор по Арктике и бродили «святые». Гукор «Св. Иоанн Златоуст» ходил на Грумант; беринговские бот «Св. Гавриил», гукор «Св. Михаил», пакетботы «Св. Петр» и «Св. Павел» вновь открывали открытый Семеном Дежневым и забытый Берингов пролив; «Вера, Надежда, Любовь» устюжского купца Никиты Шалаурова много лет пробивалась из реки Левы на восток. Еще были «Св. Фока», «Дмитрий Солунский», «Св. Анна». Но не только со «святыми» шли в студеный океан отважные мореходы.
Известны экспедиции английского мореплавателя Парри, предпринятые еще в 1827 году с острова Шпицберген, экспедиция герцога Абруцкого с острова Рудольфа (Земли Франца-Иосифа), которая проводилась в 1899 году. Окончились они неудачей. Лишь упорный труд американского полярника Роберта Пири позволил ему в 1909 году достичь Северного полюса. Экспедиция состояла из 24 человек, имела 19 саней, 133 собаки и была разделена, на шесть партий, из них пять вспомогательных — для прокладки пути, устройства остановок. Только одна, шестая партия достигла цели. Но Пири имел огромный арктический опыт он потратил почти двадцать лет своей жизни в труднейших подготовительных «путешествиях в полярную пустыню». Неизменный его спутник во всех экспедициях негр Хенсон в 1937 году присутствовал во время приема экипажа Чкалова в Нью-Йорке, мы имели возможность познакомиться с ним.
Однако приоритет открытия Северного полюса некоторые ученые отдают другому полярному исследователю — Фредерику Куку, который якобы прошел к полюсу годом раньше. И спор этот ведется вот уже семьдесят с лишним лет. А есть мнение такое: ни Пири, ни Кук не были на Северном полюсе. Они не вышли в воображаемую точку схождения воображаемых меридианов из-за несовершенства навигационных приборов, а были только в районе полюса.
И все же, в конце концов, если допустить ошибки в навигационных расчетах исследователей, разве не вызывает уважение сила духа, мужество первооткрывателей? Ведь военно-морской гидрограф Роберт Пири свою последнюю экспедицию из шести партий снарядил, когда ему было 53 года!
Исследователи Арктики предпринимали экспедиции к полюсу и с помощью дрейфующих льдов: они позволяли своему кораблю, снабженному всем необходимым на несколт. ко лет, вмерзнуть в лед и передвигаться по воле его дрейфа. Наиболее солидным предприятием достичь полюс была экспедиция норвежского исследователя Фритьофа Нансена, которая начала свой дрейф на вмерзшем во льды корабле «Фрам» летом 1893 года. Дрейф закончился через три года выносом корабля в Атлантический океан между Гренландией и Шпицбергеном. Нансену не удалось достичь Северного полюса, однако во время дрейфа «Фрам», двигаясь севернее Земли Франца-Иосифа, достиг 83°39/ северной широты.
Экспедиция Нансена во время дрейфа вела обширные океанографические, гидрологические, биологические и метеорологические исследования. Было установлено, что глубина океана в его центральной части местами превышает четыре километра, что в этот океан глубинным течением из Гренландского моря проникают сравнительно теплые и соленые атлантические воды, что льды в своем общем движении с востока на запад отклоняются от направления ветра примерно на 30 градусов под влиянием вращения Земли. «Фрам» был первой дрейфующей научной полярной станцией.
Русские экспедиции на судах в 1912–1914 годах имели задачей не только достижение Северного полюса, но и обследования прохода по Северному морскому пути — от Новой Земли до Берингова пролива. Экспедиция лейтенанта Брусилова на судне «Св. Анна» погибла, за исключением двух человек, вышедших к Земле Франца-Иосифа. Экспедиция геолога Русанова на корабле «Геркулес» погибла полностью, и трагедия гибели осталась неизвестной. Мужественно вела себя экспедиция полярного исследователя Седова на судне «Св. Фока». Сам Седов умер при попытке идти к Северному полгоду на санях. Остальная команда судна «Св. Фока» вернулась через два года в Мурманск.
Арктику пытались штурмовать и с воздуха. Для изучения ее применяли аэростаты, дирижабли, самолеты. В 1897 году попытки достичь Северного полюса на воздушном шаре предпринял отважный шведский исследователь Андрэ. Вся экспедиция в составе трех человек погибла. Остатки ее были найдены лишь через тридцать три года на острове Белый, севернее Шпицбергена.
В 1914 году русский летчик Нагурский производил полеты на аэродроме в районе Новой Земли — в поисках морских экспедиций Седова, Русанова, Брусилова, о которых уже два года не было известий. Следы этих экспедиций Нагурский не нашел, но его полеты для того времени были необычайно смелыми.
Через одиннадцать лет, в 1925 году, новую попытку достичь Северного полюса на двух летающих лодках «Дорнье-Валь» предпринял известный норвежский полярный исследователь Р. Амундсен. Экспедиция стартовала от берегов Шпицбергена и вернулась после вынужденной посадки в разводье на широте 88 градусов, не достигнув полюса.
Более удачным был полет на самолете американца Ричарда Берда в 1926 году. Он поднялся из той же бухты на Шпицбергене и через 14 часов 40 минут вернулся обратно, сделав над полюсом вираж. В том же году более обстоятельная экспедиция Амундсена в составе 16 человек пересекла всю Арктику от Шпицбергена до Аляски на дирижабле «Норвегия», который был над Северным полюсом.12 мая 1926 года. Путь экспедиции по воздуху составил около 6000 километров.
Новая попытка исследования полярного пространства была сделана в 1928 году итальянским воэдухоплавателем Умберто Нобиле на дирижабле «Италия». 24 мая экспедиция была над полюсом около двух часов, но, возвращаясь, при подходе к Шпицбергену, потерпела катастрофу. Часть экипажа, выброшенная на лед, была спасена советским ледоколом «Красин». Во время поисков пропавшей экспедиции погиб со своими спутниками на самолете «Латам» норвежский исследователь Амундсен.
Советские экспедиции в Арктике были в основном направлены на всестороннее и планомерное исследование северных морей, их островов и побережий. Такая задача была поставлена нашим полярникам в декрете Совнаркома от 16 марта 1921 года за подписью В. И. Ленина при учреждении Плавучего морского научного института. И с 1924 года в Арктике начинаются полеты советского летчика Б. Г. Чухновского, а за ним — Томашевского, Михеева, Бабушкина.
Однако мне с той поры запомнилась встреча с дирижаблем «Норвегия».
Весной 1926 года в печати появились сообщения о том, что Р. Амундсен намерен совершить новое исследование Арктики. Он готовился пролететь через Северный полюс на Аляску на дирижабле. Газеты также сообщали, что в апреле «Норвегия» некоторое время будет находиться в Ленинграде.
Мне очень хотелось ознакомиться с дирижаблем, с его аэронавигационным оборудованием, поэтому, узнав о полете, я тотчас же обратился к начальнику нашего учебного отдела А. П. Сегеди. Как воздухоплаватель, он, конечно, должен был заинтересоваться этим сообщением. Так оно и вышло.
— Задумано действительно грандиозное исследование Арктики. Хорошо бы изучить подготовку полета, — согласился со мной Сегеди и разрешил командировку в Ленинград.
15 апреля 1926 года дирижабль «Норвегия» полярной экспедиции «Амундсен — Эльсворт — Нобиле» опустился близ деревни Сализи (недалеко от Гатчины), где сохранился огромный эллинг. В нем нашлась соответствующая техника для обслуживания и подготовки дирижабля. Рядом был стационарный завод для добычи водорода, в котором дирижабль нуждался. Словом, помощь экспедиции оказали, и командир «Норвегии» — итальянский инженер-воздухоплаватель и строитель дирижабля полковник Умберто Нобиле сделал для студентов и преподавателей Ленинградского института инженеров путей сообщения подробный доклад об его устройстве, плане полета. Я внимательно слушал выступление Нобиле, стараясь запомнить все подробности и детали, касающиеся перелета в Аляску.
Интересным сооружением был этот дирижабль. Длина — 106 метров, объем 18,5 тысячи кубических метров, вес приблизительно 13 тонн, полезная нагрузка — до 7 тонн. Три мотора по 250 лошадиных сил развивали максимальную скорость — 113 километров в час.
Мне представилась возможность осмотреть дирижабль и гондолу для экипажа, состоявшего из 16 человек. Пояснения давал воздухоплаватель Атурин, хорошо знавший подготовку к арктическому полету. «Норвегия», оказалось, проделала уже немалый путь: Рим — Пульгейм — 1165 километров, Пульгейм Осло — 1011, Осло — Гатчина — 1139 километров. Здесь дирижабль готовили к дальнейшему маршруту: Гатчина — Вадзе — 1064 километра, Вадзе — Шпицберген 1008 и, наконец, Шпицберген — Аляска — 3051 километр.
Однако меня интересовали аэронавигационные приборы. На дирижабле их было более чем достаточно. Только для измерения высоты полета четыре альтиметра разных типов, в том числе один самопишущий. Воздушная скорость измерялась прибором с трубкой Вентури. Наклон дирижабля относительно продольной и поперечной оси фиксировался пузырьковым уклономером. Новостью был указатель набора высоты и снижения — вариометр. Для определения угла сноса и путевой скорости измерением времени пролета базы, равной высоте полета, предназначались специальные визиры. Но среди всего этого технического многообразия внимание мое особенно задержал «солнечный компас» фирмы «Герц». И хотя он предназначался для полета вдоль избранного меридиана, действовал только при ясной погоде и небольших высотах солнца, в районах, где магнитные приборы работали плохо, был просто незаменим.
В кабине кроме него находились еще три магнитных компаса, к ним таблицы девиации — для учета ошибок от действия металлических конструкций. Я поинтересовался, что хранилось в отгороженной будке дирижабля. Атурин многозначительно сообщил: «Приемно-передающая радиостанция…» — и подарил мне на память фотокарточку, на которой он был снят рядом с полковником Нобиле.
Поездка в Сализи дала интересный материал по аэронавигации того времени. Над решением многих вопросов этой молодой науки заставил задуматься и отважный перелет экипажа «Страны Советов». Подробное сообщение о маршруте Москва — Нью-Йорк сделал у нас в школе по возвращении из Америки штурман Б. В. Стерлигов.
Почти год ушел на подготовку и выполнение этого дальнего перелета. В аэронавигационном отделе НИИ велась разработка и испытание техники, позволяющей решать задачи слепого вождения самолетов. Автопилотом системы Ниренберга, предназначенным для АНТ-4 (ТБ-1), занимался Г. В. Коренев. Аппаратуру для слепой посадки со щупом создавали С. А. Данилин и летчик В. М. Жарновский. Позднее к ним присоединился известный радиоспециалист Н. А. Корбанский. Закончилась подготовка к изданию «Руководства по воздушной навигации», разрабатывалось первое наставление по аэронавигационной службе, в котором была попытка узаконить организацию новой службы, технику, терминологию, разные способы определения аэронавигационных элементов, правила подготовки и выполнения полета. Впервые здесь применялось слово «штурман» вместо «летчик-наблюдатель». Сама же организация дела пока еще не имела строгой определенности, о чем подробно и доложил в письме начальнику ВВС РККА Б. В. Стерлигов. Вскоре были созданы специальные службы аэронавигационная, аэрофотосъемочная, электрорадиотехническая, метеорологическая. Курс аэронавигации вошел в программу Военно-воздушной академии имени Н. Е. Жуковского.
В начале тридцатых годов наша авиация начала быстро расти. В постановлении ЦК ВКП(б) от 15 июля 1929 года «О состоянии обороны СССР», в частности, указывалось: «Считать… важнейшей задачей на ближайшие годы в строительстве красной авиации… скорейшее доведение ее качества до уровня передовых буржуазных стран, и всеми силами… насаждать, культивировать и развивать свои, советские научно-конструкторские силы, особенно в моторостроении»[12].
В это время на вооружение принимается истребитель И-5. Группа, возглавляемая автором общего вида самолета Н. Н. Поликарповым и участником проектирования Д. П. Григоровичем, добилась значительного снижения веса машины, улучшения ее маневренности. Высокая горизонтальная скорость (278 километров в час), минимальное время для выполнения виража, хорошая скороподъемность выдвинули И-5 в число лучших в мире истребителей.
На смену АНТ-4 (ТБ-1) пришел четырехмоторный тяжелый бомбардировщик А. Н. Туполева АНТ-6 (ТБ-3) — первый в мире свободнонесущий моноплан с четырьмя двигателями, встроенными по размаху крыла. Первый опытный экземпляр ТБ-3 в конце 1930 года испытал в воздухе М. М. Громов. А несколько позже на улучшенных экземплярах машины летчик А. Б. Юмашев установил пять международных рекордов.
Надолго классическим вариантом разведчика стал наш двухместный Р-5 конструкции Н. Н. Поликарпова. Деревянный самолет из сосны, фанеры и полотна на международном конкурсе в Тегеране, проводившемся в 1930 году, среди лучших машин авиационных фирм Англии, Франции, Голландии занял первое место.
Техническое перевооружение, задачи повышения боеспособности частей и соединений требовали значительного расширения и улучшения дела подготовки квалифицированных авиационных специалистов. Чтобы привлечь внимание народа к авиации, вызвать к ней глубокий интерес молодежи, Ленинский комсомол в 1931 году на IX съезде принял шефство над Воздушным Флотом страны. Тысячи юношей и девушек горячо откликнулись на призыв партии и комсомола. Лучшие представители рабочих и крестьян пришли в авиацию по комсомольским путевкам.
Одним из наиболее важных мероприятий партии во подготовке авиационных кадров с высшим образованием явилось восстановление командного факультета при Военно-воздушной академии имени Н. Е. Жуковского. Мне предложили вести на этом факультете аэронавигацию, и я согласился.
Академия того времени находилась в нескольких зданиях. Медицинская часть располагалась в бывшем загородном ресторане «Черный лебедь», склады академии — в бывшей церкви. В Петровском дворце обосновались кафедры и лаборатории инженерных факультетов. Кафедры командного факультета поместились в бывшем ресторане Скалкина на Красноармейской улице. Здесь я и нашел кафедру аэронавигации — на хорошо освещенном балконе большого зала. Занятия проводились одновременно с несколькими группами — по углам и вдоль стен ресторана.
А кафедра наша только еще становилась. Для начала в нее передали курс авиационных приборов, который вел на инженерных факультетах преподаватель В. Г. Немчинов.
— Кто же слушатели? — обратился я к начальнику учебного отдела академии Николаю Григорьевичу Хмелевскому. Это был молодой, энергичный и весьма инициативный работник.
— Ваши ученики, — спокойно, но твердо пояснил он, — слушатели командного факультета двух курсов — по четыре классных отделения на каждом. Но пока помогайте Немчинову и разрабатывайте курс аэронавигации. Начните с программы. А в зимнее время занятия по аэронавигации надо будет вести и на курсах усовершенствования начсостава. Там пять классных групп…
Вскоре выяснилось, что для командного факультета формируется большая кафедра тактики, кафедра оперативного искусства, а также кафедра связи, противовоздушной обороны, «огневая». Последняя объединяла курсы воздушной стрельбы и бомбометания. Возглавлял ее М. Н. Никольской — один из старейших летнабов, летавший еще на «муромцах».
— Вы, товарищ Беляков, организуйте взаимодействие с кафедрами комфака, — продолжал ставить задачи Хме-левский. — Да к тому же ищите преподавателей аэронавигации. Будем хлопотать о их назначении. А кроме того, готовьтесь к проведению летной практики со слушателями в авиационной бригаде академии.
Хмелевский ознакомил меня с проектом нового штата кафедры и ее лабораториями. То и другое значительно расширялось.
— Вот видите, начальником лаборатории должен быть один из преподавателей за счет некоторого уменьшения учебной нагрузки. Вы и будете… — ошарашил он меня новым заданием.
Все эти перспективы сначала казались мне трудными, но почетными. Чувствовалось, предмету аэронавигации уделяется внимание. Но когда ознакомился с очередным проектом учебного плана, понял, что программа солидного курса остается только в мечтах. Позднее я нашел выход из этого положения, придерживаясь методики, когда значительная часть материала переносилась на самостоятельную работу слушателей или включалась в решение тактических задач, где времени было достаточно.
А вскоре наша кафедра пополнилась. В качестве преподавателя мне удалось заполучить прежнего выпускника школы спецслужб Б. Г. Ратца, моряка Н. К. Кривоносова. Из Оренбургской школы к нам перевели преподавателя Н. Ф. Кудрявцева, Для занятий на курсах усовершенствования из НИИ ВВС мы привлекли И. Т. Спирина.
Хорошие специалисты подобрались и для лаборатории. Среди зачисленных лаборанток была и совсем юная Марина Раскова.
Доброе воспоминание осталось у меня и от совместной работы с нашей авиационной бригадой. Состояла она из трех эскадрилий: истребительной, легкобомбардировочной и тяжелобомбардировочной. Полеты производились в основном с Центрального аэродрома, а летом — с двух аэродромов лагерного базирования. По предложению начальника штаба авиабригады А. С. Алгазина летная практика слушателей планировалась параллельно с классными лабораторными занятиями. И мы, преподаватели, полетные задания составляли применительно к курсу летной подготовки строевых частей.
Когда начинались полеты, один из преподавателей аэронавигации непременно являлся на аэродром. Он контролировал готовность слушателей к тому или иному упражнению, оценивал его выполнение. Преподаватель и сам выполнял полетное задание, что учитывалось в зачетах по практике. Так незаметно я сдал экзамены за курс командного факультета. Многие его воспитанники в будущем проявят себя способными командирами, военачальниками, командуя авиационными частями, соединениями, объединениями. Среди выпускников будут К. А. Вершинин, П. Ф. Жигарев, Н. П. Каманин, Г. С. Косых, С. А. Пестов, С. И. Руденко, Н. Г. Селезнев, С. А. Худяков…
Вообще в академии мне довелось работать рука об руку с замечательными педагогами, знатоками своего дела. Многому я научился у преподавателей бомбометания. Например, М. Н. Никольской разработал и внедрил в практику боевой подготовки различные маневры. «Коробочка Никольского» — так назывался маневр, который представлял собой прямоугольный маршрут, одна сторона которого (обычно в плоскости ветра) была «боевым курсом». Другой бомбардир, переведенный к нам из школы летнабов, — Б. М. Карташов создал немало полезных тренажеров. Вместе с Никольским они усовершенствовали бомбардировочный тренажер на несколько кабин над движущимся полотном. Кроме того, в качестве тренажера бомбометания Карташов построил самодвижущуюся кабину. Вооруженная приборами, прицелом и сбрасывателем бомб, она ездила по воле слушателя по залу ресторана Скалкина, где диковинными пейзажами была разрисована карта местности и целей. Преподаватель аэрофоторазведки Г. Д. Баньковский, преподаватель связи Д. Н. Морозов, другие навсегда остались в памяти. Но особенно мой кругозор расширился в контакте с преподавателями тактики ВВС. С ними мне не раз приходилось составлять задания на боевые действия авиации, вырабатывать возможные решения, участвовать в проведении групповых занятий.
В этот период происходило деятельное укрепление авиации общевойсковыми работниками. Конница, представлявшая в свое время грозную подвижную силу, постепенно утрачивала свое значение, заменялась бронетанковыми машинами, боевыми самолетами. И когда в академии был организован новый, оперативный факультет, его слушателями стали не только командиры, имевшие большой опыт работы в авиационных соединениях, но и командиры стрелковых, кавалерийских бригад и дивизий. Мне довелось с ними вести занятия. Помню среди первых выпускников факультета были Ф. К. Арженухин, Г. А, Ворожейкин, Ф. Я. Фалалеев, С. А. Красовский, А. В. Никитин, В. И. Рябцев. Высшее военное образование на этом факультете получил и флаг-штурман ВВС Б. В. Стерлигов.
После школы спецслужб масштабы моей работы весьма расширились, работать приходилось напряженно. Трудовой день начинался рано утром и оканчивался к 8–9 часам вечера. Но выручала молодость, энтузиазм, на котором держались многие славные дела нашего поколения.
В 1931 году сменилось руководство Военно-Воздушных Сил. П. И. Баранов перешел на работу в авиационного промышленность, его заменил Я. И. Алкснис. Общевойсковой командир, Яков Иванович оказался исключительно деятельным организатором ряда важных мероприятий по укреплению Воздушного Флота, оснащению его новой боевой техникой. Большое внимание он уделял и подготовке командных кадров. Достаточно сказать, что в это время в военной авиации было не более пятнадцати авиабригад, но одну из них Алкснис полностью передал нашей академии. По его предложению в частях были установлены предполетная подготовка экипажей, периодическая проверка техники пилотирования летного состава, много внимания он уделял контролю за испытаниями боевых машин, внедрению полетов по приборам вне видимости земли.
Как-то, вскоре после назначения на должность, начальник ВВС РККА организовал в Москве проверочный слет командиров авиабригад. Им предписывалось самостоятельно рассчитать маршрут и в качестве штурманов прибыть в столицу на своих самолетах. На аэродроме отмечалось время их прилета, проверялись карты, бортовые журналы. Когда все собрались в военно-воздушной академии, Алкснис первым делом поинтересовался, какие оценки за полет получили участники слета. Обратив внимание на молодого авиатора с кубиками в петлицах, который стоял рядом с командиром одной авиабригады, Яков Иванович спросил:
— Товарищ Черний, кто это?
— Начальник аэронавигационной службы бригады, — ответил тот и добавил: — Взял с собой — пусть подучится на сборах.
Алкснис понял, что Черний хитрит и собственноручно поставил ему двойку.
Подобные же сборы были проведены с начальниками штабов авиабригад. Его участники прослушали лекции по аэронавигации, бомбометанию, аэрофотосъемке, выполнили учебно-тренировочные полеты в роли штурманов кораблей. Одновременно проводилась строевая подготовка. По гарнизону участники сбора ходили только строем. Это правило было введено и для аэродромов, на которых повсеместно действовал расписанный по минутам распорядок дня.
Требуя от авиационных командиров совершенствования их подготовки, Я. И. Алкснис уже в зрелом возрасте и сам обучился летать, причем в рекордно короткий срок — за один месяц. Затем со свойственной ему решительностью Яков Иванович принялся за штурманское дело.
— Сколько потребуется для этого времени? — спросил он Стерлигова.
Флаг-штурман ответил, что на обучение по программе школы стрелков-бомбардиров уходит полтора года.
— А если заниматься с утра до вечера?
— Ну месяца три… — снизил срок Борис Васильевич.
— Много, — решительно отклонил Алкснис, — у меня только один месяц отпуска, — и, помолчав, добавил: — Завтра же выезжаем с вами на подмосковный аэродром. Занятия в классе, полеты — и снова в класс. Программа обучения на ваше усмотрение…
Через месяц Яков Иванович сдал штурманский зачет по маршруту Москва Ейск протяженностью в тысячу километров. Посадку экипаж совершил с расхождением от расчетного времени только на две минуты.
В 1932 году командный факультет нашей академии впервые выехал в летние лагеря. Классные помещения и жилье для преподавателей были предоставлены в бывшем монастыре, расположенном неподалеку от Оки, а слушатели и личный состав авиабригады разместились в палатках. Учебные занятия заключались в основном в подготовке к полетам и самих полетах. Месяц прошел незаметно.
Вскоре меня вызвали к начальнику факультета.
— Сколько здесь преподавателей аэронавигации? — спросил он.
— Кроме меня еще один да лаборантка.
— Передайте им ваши группы слушателей, а сами завтра же отправляйтесь в распоряжение летчика С. А. Шестакова, командира эскадрильи тяжелых бомбардировщиков. У него получите задание.
Семена Шестакова я знал по его «дикой трассе» — полету в Америку. Это был среднего роста, подтянутый, очень приветливый и жизнерадостный человек.
— А я жду тебя, Саша! — радушно встретил меня Семен и кратко объяснил задачу: — Ты знаешь, на востоке неспокойно. Командование решило там укрепить нашу оборону, и тебе предстоит подготовить в штурманском отношении экипажи тяжелых кораблей к перелету в Приморье. Полетим вместе на ведущем самолете.
Не теряя времени, я принялся за работу. Промежуточные аэродромы посадки выбирал с Семеном: он их хорошо помнил. Маршрут на карте, соответствующие расчеты я произвел быстро, а вот инженерная подготовка перелета подзатянулась. В самолеты грузили различное техническое имущество, запчасти. Все надо было предусмотреть — лестницы, стремянки для осмотра и обслуживания моторов, чехлы, баллоны сжатого воздуха, запасные аккумуляторы. Часть двигателей, близких к выработке ресурсов, заменили на новые. Несколько моторов в качестве запасных отправили железной дорогой в различные города по пути на восток.
Через две недели все было готово, и эскадрилья Шестакова поднялась в воздух. Курс сначала взяли на Самару, оттуда — на Свердловск. Погода благоприятствовала полету, и Семен деловито, с чувством хозяина летел во главе девятки, временами поддерживая в строю порядок по радиосвязи (это была новинка того времени).
Первое «происшествие» произошло неподалеку от Новосибирска. На корабле Семена вышел из строя мотор. Быстро выбрав вблизи населенного пункта Юрт хорошее поле, комэск сообщил по радио: «Иду на вынужденную» — и передал командование своему заместителю. Получив запасной мотор из Новосибирска, эскадрилью мы догнали уже в районе Иркутска.
Для меня в этих краях было все восхитительно ново. Тайга началась еще от Новосибирска. А за Байкалом ей конца не видно. Здесь-то вскоре мне и передали телеграмму из Москвы — немедленно вернуться поездом к месту службы. Маршрут оказался богатой навигационной практикой и для меня, и для штурмана эскадрильи, сидевшего со мной рядом в передней кабине. Я проверил подготовку экипажей к перелету в район Хабаровска и спокойно отправился на вокзал.
А в лагере академии тем временем шла ускоренная подготовка к летно-тактическому учению, как итогу нашей работы за летний период. Хорошую подготовку получили тогда не только слушатели, но и преподаватели. Н. Ф. Кудрявцев составил учебник по аэронавигации и сборник задач к нему, Б. Г. Ратц — пособие по «службе времени», важнейшему элементу штурманского дела. Н. К. Кривоносов готовил пособие по авиационной картографии. Сам я участвовал в создании учебника по тактике бомбардировочной авиации, где разработал штурманский раздел. Силами кафедры мы построили штурманский тренажер. Рассчитан он был на 16 одновременно действующих кабин. Высота, скорость, курсы задавались в них с центрального пункта управления. Подвижное полотно местности показывало угол сноса. На этом групповом тренажере можно было проигрывать полет по маршруту целым классным отделением. Расчеты на проигрывание умело выполняли наши лаборантки М. Раскова и Е. Кузьмина.
Вскоре в академию поступил тренажер фирмы «Виккерс».
— Судя по описанию, на этом тренажере можно упражняться по аэронавигации и в бомбометании, но только одному человеку. Решили отдать его на вашу кафедру, — обратился ко мне начальник учебного отдела Н. Г. Хмелевский.
Это было приятное известие. Постепенно наука о бомбометании все-таки перекочевывала с «огневой» кафедры на штурманскую.
— Комната для тренажера выделена — с балконом, — добавил Хмелевский. Приступайте к установке.
Импортный тренажер был основан на проектировании изображения местности на неподвижный экран, устанавливаемый горизонтально. Аэрофотография местности представляла собой прозрачное стеклянное плато, которое с помощью фрикционных передач двигалось в любом направлении, имитируя полет. Направление бега местности регулировалось рулями поворота с сиденья летчика. Кроме того, в движении плато с пульта управления вводилось действие ветра. Мы скоро разобрались во всей этой премудрости, и тренажер был установлен на балконе в темной комнате. Упражнения на нем проходили шри свете проектора, с освещением приборов в кабине. Проиграть можно было полет по заданному маршруту с измерением угла сноса и путевой скорости оптическим прицелом, бомбометание по заданной цели. Разрыв сброшенной бомбы при этом имитировался зажиганием небольшой лампочки под экраном.
Слушателям новый тренажер понравился. После окончания классных занятий они охотно оставались на тренировки, ж основными их инструкторами были опять же лаборантки Раскова и Кузьмина. Девушки вели и консультации по домашним занятиям, которые обычно давались в виде навигационных задач. Все это требовало от сотрудников лаборатории продленного рабочего дня, однако интерес к аэронавигации был велик, и я не помню случая, когда кто-либо роптал на большую занятость внеурочной работой.
«Я попала в совершенно новый мир… — будет рассказывать потом о своих первых впечатлениях от аэронавигационной лаборатории Марина Раскова. Множество приборов, окружавших меня, ничего мне не говорили: тахометр, манометр, аэротермометр, аэропланшет, секстант, визир, ветрочет, указатель поворота и много, много других. Для меня это были еще мертвые слова…»
Мы полюбили наших трудолюбивых обаятельных девчат. Марина нередко делилась со мной не только своими тревогами, сомнениями, радостями по работе, но и житейскими проблемами. Ценя это доверие, я, как мог, принимал участие в решении их.
Родилась Марина в семье учителей. Отец ее преподавал пение, поэтому из дома Расковых часто доносились музыкальные гаммы, которыми ученики «распевали» свои голоса. Очень рано способности к музыке проявила и Марина. Когда девочку привели в музыкальную школу, где преподавала знаменитая Гнесина, она безошибочно спела романс Чайковского «Ах, уймись ты, буря»/ Было ей тогда только шесть лет.
Детский дом в бывшем Усачевско-Чернявском женском училище, детская колония в Марфино, под Москвой, потом детский очаг, где проводились цослешколъные занятия — в этих местах работала мать Марины, Анна Спиридоновпа. Девочка с ранних лет познала лишения, обычные для многих детей того времени.
А в десять лет Марину принимают в консерваторию. Когда детское отделение здесь закрыли, музыкальное образование пришлось продолжать по классу рояля в техникуме. Утомительные упражнения и гаммы не очень-то увлекали — Марина предпочитала играть то, что нравилось самой, а любила она произведения Шопена, Глиэра, Мендельсона. В школе дела шли и того успешней. Например, программу четвертого класса девочка усвоила за два месяца.
После окончания школы Марину направили практиканткой в лабораторию анилинокрасочного завода. Работая химиком-аналитиком, она по-прежнему увлекается музыкой, пением, театром. А вскоре переходит в нашу академию.
Позже Марина Михайловна Раскова — штурман прославленного экипажа самолета «Родина» с чувством глубокой благодарности будет вспоминать коллектив аэронавигационной лаборатории, свои первые шаги в штурманском деле: «Я не была слушателем академии, но неизменно в качестве ассистента, вернее, технического помощника присутствовала на лекциях. Оставалось только внимательно слушать и запоминать. Я слушала и запоминала. Перед слушателями академии у меня было то преимущество, что один и тот же материал я прослушивала много раз, и, кроме того, постоянно жила среди приборов, работала с ними, разбирала, чертила, изучала их устройство до мельчайших деталей…»
Отважусь привести душевные слова, которые Марина высказала однажды в мой адрес — они довольно точно характеризуют дух времени, рабочую обстановку, царившую в нашем коллективе, хотя не менее любопытна и наблюдательность молодой сотрудницы аэронавигационной лаборатории:
«Беляков обладает счастливой способностью делового человека — заранее предусмотреть абсолютно все, что ему может понадобиться в работе. Свои занятия со слушателями он подготовлял так, что время было высчитано буквально по минутам. Заранее предусматривалось, сколько времени понадобится на решение задачи, сколько на изложение предмета, сколько отнимут ответы на вопросы. Все, что ему нужно было во время лекции, — наглядные пособия, приборы, чертежи, бланки, бортжурналы, таблицы, — все было заранее приготовлено и имело определенное место. Он не отнимал у слушателей ни одной лишней минуты. Со свойственной ему методичностью Беляков заносил в свою маленькую записную книжечку вопросы, которые возникали в процессе преподавания. Аэронавигация — молодая наука. Много возникало вопросов, иной раз неясных даже самому преподавателю. Иной преподаватель из ложного стыда, боясь «уронить» себя в глазах своих учеников, не хочет признаться в незнании, в неумении ответить на возникающий вдруг вопрос. Беляков никогда не пытался изобразить из себя всезнайку. Если что-нибудь ему было неясно, он без смущения говорил:
— Это я не знаю, мне самому нужно продумать. В следующий раз расскажу.
И не было случая, чтобы в назначенный срок Беляков не приготовил исчерпывающего ответа.
У Белякова всегда можно найти следы его работы. Они хранятся в аккуратных папках в виде записей, чертежей, расчетов, вычислений. Все это он записывает очень четким, мелким почерком. Все, чем он обогащал свой ум, хранилось в папках в нашей лаборатории, и он давал возможность всякому знакомиться со своими материалами. Беляков был ярым патриотом своей лаборатории».
К тому времени в нашей авиабригаде была сформирована летно-испытательная станция (ЛИС), Ее возглавил авиационный инженер Н. А. Соколов-Соколенок, комсомолец двадцатых годов, впоследствии начальник Военно-воздушной академии имени Н. Е. Жуковского, Но ЛИС предназначалась для практической проверки результатов научно-исследовательских работ академии, поэтому находилась в ведении начальника научно-исследовательского отдела А. И. Шахурина. Алексей Иванович был человеком осведомленным о дальнейших путях развития авиации, умело направлял научно-исследовательскую работу кафедр. Через несколько лет он стал наркомом авиационной промышленности.
Как-то, с большим участием выслушав мой доклад, Шахурин спросил:
— Какие темы своего плана кафедра аэронавигации считает первоочередными?
Ответ мой был довольно пространным:
— Мы на кафедре ведем исследования в области применения новых приборов. По заданию НИИ ВВС в настоящее время работы по тактическому маневрированию самолетов в боевых порядках. Речь идет о маневрировании скоростью, высотой, курсом с помощью указателя поворота и скольжения…
— Вот мы и думаем предоставить вашей кафедре для испытательных работ самолет ЮГ, — сообщил мне Алексей Иванович приятную новость. — Начальник ЛИС уже имеет по этому поводу распоряжение.
ЮГ — трехмоторный самолет-бомбардировщик немецкого производства. Узнав о принятом решении, я попросил Шахурина допустить к полетам на этой машине механиков и лаборантов кафедры. Он согласился.
И когда за инициативу при испытаниях, старательность в работе было решено как-то отметить Марину Раскову и начальник академии спросил ее: «Только не знаем чем. Чего бы вы сами хотели?», Марина ответила:
— Научиться летать!..
Она получила эту награду. Полетам девушку обучили в Центральном аэроклубе в Тушино. И вскоре Раскова уже выполняла ответственные задания.
Осенью 1933 года на Черном море прокладывалась новая пассажирская гидроавиалиния Одесса — Батуми. Для изучения условий работы туда снарядили экспедицию, в которую вошли геологи, геодезисты, гидрографы, инженеры-строители, картографы. Фотосъемки и описание отрезков будущей трассы — дело штурмана. Его поручили выполнить Расковой.
Летать Марине приходилось порой по семь часов в день, нередко в сложных условиях, над штормящим морем. Но она настойчиво исследовала все побережье Крыма, Кавказа, Азовского моря, а когда вернулась и представила нам обстоятельный доклад о своей работе, всем стало ясно: Раскова состоялась как штурман. Оставалось оформить это звание документально, и тогда Марине разрешили сдать экстерном положенные экзамены, которые она блестяще выдержала.
Приказом по академии девушку зачислили на должность инструктора-летнаба. Теперь она стала появляться среди нас в синей юбочке, ладно сшитой защитной гимнастерке под ремень и с плечевой портупеей. На воротнике гимнастерки у нее красовались три красных квадратика, или три «кубаря», как мы называли эти командирские знаки различия. А в расписании занятий слушатели академии уже часто могли видеть графу: «Штурманское дело преподаватель Раскова».
Не сразу командиры из строевых частей, старше Марины по званию, опыту работы, возрасту, приняли ее как преподавателя. Несколько необычным для многих казался даже рапорт женщине о готовности к занятиям. Мы поддерживали Марину, по-отечески одобрял ее и начальник академии А. И. Тодорский. Так что вскоре Раскова стала не только инструктором по аэронавигации, но и хорошо знающим свое дело преподавателем.
А в августе 1935 года Марина участвует в первом групповом женском перелете по маршруту Ленинград — Москва, затем — во всесоюзных скоростных гонках легкомоторных самолетов по маршруту Москва — Севастополь — Москва. Вместе с Валентиной Гризодубовой вскоре устанавливает международный рекорд дальности полета. Весной 1938 года вся страна узнает о новом беспосадочном перелете женского экипажа — от Черного моря до Белого. Его совершили на гидросамолете Полина Осипенко, Вера Ломано и Марина.
Но самым выдающимся достижением в таблице мировых рекордов тех лет стал перелет Москва — Дальний Восток, совершенный Расковой вместе с В. Гризодубовой и П. Осипенко на самолете «Родина». Марина тщательно готовилась к нему: отрабатывала ведение радиосвязи, изучала международный переговорный код, склеивала карты, наводила справки о попутных аэродромах, собирала сведения о профиле маршрута. Для девяти контрольных точек институт имени Штернберга рассчитал высоту солнца на целый месяц — через каждые двадцать минут полета.
Вместе с Чкаловым я работал в правительственной комиссии по этому перелету. И, внимательно следя за подготовкой к нему, мы помогали девчатам. Каждая мелочь в таком полете имела значение, все надо было предусмотреть, поэтому Валерий настоятельно требовал тренироваться в управлении машиной при отказе одного мотора, в ночных условиях.
— Если хотите лететь, — заражал он их своей энергией, — перебирайтесь па аэродром сегодня же и установите строгий режим. Ничем больше не занимайтесь. Москва вам не нужна. А чтобы не подумали, что я только ругать умею, поедем сейчас закусим и поговорим обо всем.
На синей машине, которую Валерий привез из Америки, все отправились в ресторан на стадион «Динамо».
— Полная машина баб! — смеялся Чкалов.
— Что ты, Валерий Павлович, нас бабами называешь?
— А разве баба — плохое слово? — окая, не сдавался он. — Вон вы какое дело затеяли!..
С летной тренировкой экипаж «Родины» учился многому, даже стрельбе из охотничьего ружья и пистолетов. Но всякий раз возвращались к главному — все ли готово для дальнего перелета: укрепляли сумки с полетными картами, мешочки с продуктами, термосы для горячих напитков, карманчики для карандашей. По-хозяйски, по-домашнему бережно заделали уже все щелочки в кабине — чтобы не гуляя ветер в полете. Предусмотрели и особые спички — «как у Папанина», которые даже намокшие зажигались.
И вот 23 сентября получено разрешение на перелет, а на следующий день самолет «Родина» взял курс на восток.
Я не буду перечислять те трудности, которые ожидали на пути экипаж бесстрашных девчат, о том, как в полете началось обледенение, вышла из строя рация, стали замерзать приборы. Гризодубова и Осипенко поочередно управляли машиной, покрытой коркой льда, а штурман Раскова была на посту бессменно, до тех пор, пока ей не приказали прыгать с парашютом: самолет без горючего вынужден был садиться в тайге. Десять суток потом Марина пробивалась к своей машине. Без пищи, проваливаясь в болото…
Мы с тревогой ждали сообщений с места событий и наконец телеграмма: «…Беспосадочный перелет Москва — Дальний Восток совершен на самолете «Родина» за 26 часов 29 минут. Посадка произведена на болотистое поле у реки Амгунъ в ненаселенной местности. Экипаж здоров, материальная часть в исправности».
6450 километров, которые преодолели по маршруту на Дальний Восток Гризодубова, Осипенко и Раскова, — это был новый мировой рекорд дальности полета. Подвиг экипажа высоко оценило правительство. Вскоре мы поздравили Марину и ее подруг с присвоением им звания Героя Советского Союза.
Довелось нам вместе с Мариной участвовать и в первомайских воздушных парадах. На всю жизнь запомнились мне те волнующие праздничные полеты.
В строю кильватера девяток над Красной площадью должно было пройти около трехсот самолетов различных типов. Для этого в рассчитанное до минуты время над Мавзолеем Ленина появляется флагман воздушного парада. Он летит на самолете ТБ-3 в сопровождении двух истребителей. В колонне тяжелых бомбардировщиков сто с лишним самолетов. И вот весной 1933 года, по предложению Бориса Васильевича Стерлигова, флаг-штурманом этой колонны назначают меня.
Что там говорить, волнений было немало. Собрать такую армаду и в точно определенный отрезок времени провести машины над Мавзолеем, зная, что с трибун его следят за тобой, что пролет авиации строго согласовывается с прохождением наземных войск и ошибки исключены, — все это непросто.
В прикидочных полетах для первых воздушных парадов самолеты после взлета собирались вблизи аэродрома на круге, вернее, на кругах, количество которых зависело от численности группы. Построившись, колонна брала курс на Красную площадь. Однако попытки сгруппировать таким способом триста машин нередко терпели неудачу. К моменту взлета последних первые уже расходовали горючее, что вносило спешку, и уже безошибочно определить время прибытия самолетов па площадь было практически невозможно.
Тогда после ряда расчетов группы решили собирать на так называемой «петле», вдоль линейного ориентира. Делалось это так. На небольшом расстоянии от Красной площади, с той стороны, откуда должна была появиться авиация, выбирался заметный ориентир — главный контрольный пункт (ГКП), расположенный, допустим, возле шоссе. Взлетающие машины шли на ГКП, потом вдоль линейного ориентира — от Москвы. При этом флагман парада проходил главный контрольный пункт первым и летел от столицы столько, сколько требовалось для взлета всей группы. Затем экипажи, согласно расчетам, выполняли разворот на Москву и следовали уже по другой стороне линейного ориентира. Встретив флагмана, взлетевшие позже пристраивались к нему, занимали место в парадном строю, и к моменту вторичного прохода ГКП вся группа оказывалась в сборе. Этот метод оправдал себя. Ошибка в сроках пребывания на цель не превышала минуты. Кроме того, мы могли изменять время перелета по команде с Красной площади, если того требовала обстановка. В дальнейшем «петля» нашла применение при сборе в колонну нескольких авиасоединений, базирующихся на разных аэродромах.
А над Европой уже собирались черные тучи грядущей кровопролитной войны: поверженная в первую мировую, Германия бродила реваншистским духом.
«Когда мы говорим о новых землях в Европе, мы должны в первую очередь думать о России и подвластных ей пограничных государствах. Кажется, сама судьба указывает нам путь в этом направлении…» — сидя в Ландбергской тюрьме, писал в своей «Майн кампф» бывший ефрейтор Шикльгрубер (Гитлер). И вот забыт Версальский договор. США, Англия, Франция в 1932 году заключают с Германией соглашение, по которому немцам разрешено вооружаться. В 1933 году подписан Пакт согласия и сотрудничества четырех держав — Германии, Англии, Франции и Италии против Советского Союза. Ратифицировать его английский и французский парламенты не успели — у союзников разгорелись внутренние раздоры. А тем временем престарелый президент Германии фельдмаршал первой мировой войны Гинденбург назначил Гитлера на пост канцлера. Вскоре ефрейтор стал полновластным хозяином страны — фюрером, а фашисты — ударным отрядом международного империализма. Зарубежная реакционная печать затрубила о «крестовом походе против большевизма».
Мы готовились отразить возможную агрессию, бить захватчиков на их же территории, используя новейшие достижения военной науки и боевой техники. Совершенствовалось вооружение Военно-Воздушных Сил, отрабатывались вопросы наиболее эффективного использования их в тактическом и оперативном взаимодействии с другими родами войск. Так, в 1934 году впервые на войсковых маневрах Красной Армии было продемонстрировано в присутствии военных делегаций ряда капиталистических стран применение воздушного десанта с тактическими, а затем и с оперативными целями.
Весной этого же года стало известно, что Советское правительство планирует посылку полномочных делегаций в различные страны Европы. Мне предстояло быть штурманом группы, которая полетит в Польшу, Францию, Чехословакию.
Усиленно занимаюсь французским языком. Гимназическое образование дало основу для изучения языка, но какое же у меня, однако, дурное произношение. Преподавательница Военной академии имени М. В. Фрунзе мадам Нико приложила немало терпения, чтобы улучшить мое произношение, хотя бы до той степени, чтобы произнесенную фразу понимал француз. И в ожидании вызова я отправляюсь в лагеря, где по учебному плану организую летную практику слушателей.
А тем временем у нас на Центральном аэродроме готовятся для зарубежных маршрутов несколько кораблей АНТ-6. Они покрашены в нежный цвет топленого молока. Вооружение снято, В бомбовом отсеке просторная кабина с диванчиками для делегации. Высокие качества гражданского варианта этой машины прекрасно проявятся в 1937 году. Четыре самолета под управлением летчиков М. В. Водопьянова, В. С. Молокова, И. П. Мазурука и А. Д. Алексеева, имевшие взлетный вес свыше 24 тонн, вместо нормальных 18 тонн, совершат посадку на ледовом поле Северного полюса. Покажут себя и боевые варианты АНТ-6 (ТБ-3) в боях у реки Халхин-Гол, в Великой Отечественной войне.
Но вот на мое имя приходит вызов. Являюсь на Центральный аэродром к начальнику авиационной группы комбригу Адаму Залевскому. Это старый воздушный волк — командир авиационной бригады НИИ ВВС. Он отсылает меня к командиру первого корабля, молодому летчику — испытателю НИИ Георгию Филипповичу Байдукову. Знакомлюсь с ним, и мы приступаем к прокладке и изучению маршрутов.
Первый полет делегации — в Польшу. Глава делегации комкор С. А. Меженинов, подполковник старой армии и командующий 12-й армией в гражданскую войну. Я его давно знаю, так как он несколько лет был заместителем у Алксниса. Наш авиационный начальник в группе — начальник штаба ВВС комдив В. В. Хрипин. Его я тоже знаю — он читал у нас лекции.
Снаряжен еще один отряд воздушных кораблей — и Италию. Делегацию, в составе которой начальник нашей академии А. И. Тодорский и молодой авиаконструктор А. С. Яковлев, возглавляет председатель Осоавиахима СССР комкор Р. II. Эйдеман.
Оба отряда взлетели с аэродрома одновременно. До Киева шли вместе. Потом распрощались. Вскоре внизу показалась советско-польская граница, и мы совершили посадку возле Варшавы на аэродроме «Окенце» (по-нашему — оконце), где с исключительной вежливостью и предупредительностью были приняты авиационными властями. Поляки показали нам свой новый опытный истребитель, во многом напоминавший наш И-16, который проходил испытания, а также авиационный моторостроительный завод, построенный фирмой «Шкода».
Через несколько дней мы уже вернулись в Москву. Во время полета я поближе познакомился с Георгием Байдуковым и был просто восхищен его техникой пилотирования. Он безукоризненно и точно выполнял взлет, посадку, в совершенстве владел пилотированием машины вслепую, то есть по приборам. Плохая погода — низкая сплошная облачность, дождь, сильные западные ветры, сопровождавшие нас во втором полете, по маршруту до Парижа, — не стала помехой. Правда, перед вылетом я доложил В. В. Хрипину свой навигационный план: на полпути оценить расход топлива и, если хоть на одном корабле он окажется более половины, произвести посадку в Вене. Кроме погоды полет усложнялся тем, что на территории западных держав мы были ограничены многочисленными коридорами, обязанностью пролета определенных пунктов. И все же маршрут во Францию прошел действительно будто по плану.
Оценив расход горючего, сначала мы приземлились на аэродроме Асперн, близ Вены. Глава делегации И. З. Уншлихт был явно недоволен оборотом дела и ворчал. Байдуков — тоже, считал, что вторую половину пути можно было пройти, набрав высоту: расход горючего меньше. Но на следующий день в более благоприятных условиях мы долетели до Парижа.
В Париже нам показали Версаль, осмотрели мы и Пантеон — усыпальницу великих людей Франции.
Вот Триумфальная арка. Под ней — могила Неизвестного солдата, в надгробном камне которого пламя неугасимого огня. Вот собор Парижской богоматери с великим множеством готических башенок и окон, знаменитая Эйфелева башня — воздушная конструкция из железа и стали. Мы поднялись на балкон ее и любовались чудесным видом города. А потом нам показали в районе Реймса остатки укрепления оборонительной полосы периода первой мировой войны.
На аэродроме же гидом неожиданно стал Георгий Байдуков. Французы заинтересовались нашим громадным четырехмоторным АНТ-5 и принялись расспрашивать об его устройстве, летно-технических данных. По просьбе министра Донена Георгий даже совершил с ним полет.
Надо сказать, Франция сыграла большую роль в развитии мировой авиационной техники. Летчикам хорошо известны имена французских конструкторов. Блерио, Фарман, Вуазен — пионеры авиации. И не случайно Франция в свое время занимала по количеству создаваемых самолетов первое место. Но к середине тридцатых годов она уже утратила свое превосходство, работа авиационных конструкторов стала бесплодной в погоне за бесконечным количеством новых образцов машин. «Потеряв превосходство в воздухе, Франция должна поставить перед собой более скромную, но в то же время и более реальную задачу — добиться равенства с Германией или по крайней мере приблизиться к этому равенству», — писал бывший министр авиации сенатор Лоран Эйнак. Задача эта, однако, оказалась далеко не реальной.
В Германии строительством самолетов было занято около миллиона рабочих, а во Франции — только 50 тысяч. Бюджет немецкой авиапромышленности за три года до начала войны с Францией достиг 20 миллиардов, французской — лишь 8 миллиардов франков. А перед самой войной самолеты здесь выпускались лишь десятками, да и то такие, которые никак не могли соперничать с немецкими «мессершмиттами» и «юнкерсами».
Но вернемся к Парижу. Утопающий в зелени, со старинными домами, нарядными витринами, многочисленными кафе прямо на тротуарах, веселой, говорливой толпой парижан, город оставил у нас чувство симпатии. Здесь мы познакомились с известным политическим деятелем Франции господином Эррио, который, будучи мэром города Лиона, пригласил нас к себе в гостиницу и оказал делегации теплый прием.
Дальнейший наш путь лежал через Прагу — столицу Чехословакии, где мы должны были пробыть несколько дней. Но в день отлета погода опять испортилась: нависла низкая облачность, задождило. Я доложил Хрипину, что лететь нельзя.
— Но более мы не можем здесь оставаться, — твердо заявил он.
Пришлось вылетать. И снова эти коридоры, пункты, над которыми обязателен пролет. С трудом маневрируем между возвышенностями. Хрипин стоит между летчиками и следит за ориентировкой. Все устали, напряжены. Принимается решение произвести посадку в Страсбурге. А на следующий день мы в Праге.
Злата Прага встретила нас восторженно. Сотни людей толпились по краям аэродрома, полиции их сдержать не удалось — они ринулись на летное поле. И какое же волнующее впечатление на пражан произвели наши краснозвездные машины! А мы опять проводим несколько дней по уплотненной программе — с бесконечными приемами, визитами, экскурсиями…
В общем много любопытного увидел я за эти первые свои заграничные поездки. Что же касается моего особого интереса к новинкам зарубежной авиатехники, то банкеты и приятные осмотры местных достопримечательностей в этом отношении ничего не дали.
Я веду рассказ о событиях 1934 года.
Наша страна к этому времени прекратила закупку самолетов за границей. Быстро росли скорости, высоты, дальности действия отечественных машин, выводя советскую авиацию на одно из первых мест в мире. И вот конструкторское бюро А. Н. Туполева, существовавшее в качестве филиала ЦАГИ, получило правительственное задание на постройку нового самолета. По замыслу он должен был обладать дальностью беспосадочного полета порядка 10 тысяч километров, и коллектив А. Н. Туполева блестяще справился с поставленной задачей. 25 апреля 1932 года правительство заслушало доклад Я. И. Алксниса о ходе строительства самолета, и вскоре он был готов к испытаниям. Ему предстояли славные маршруты: абсолютные мировые рекорды дальности полета, беспосадочные перелеты из Москвы на Дальний Восток, через Северный полюс в Америку, Что же это за машина?
АНТ-25 — цельнометаллический свободнонесущий моноплан. Крыло размахом 34 метра, площадью 87 квадратных метров обеспечивало самолету с одним двигателем взлетный вес свыше 11 тонн. Вес пустого самолета — 4200 килограммов. В целях экономии баки для горючего были размещены таким образом, что стенки баков составляли конструкцию крыла. Максимальная вместимость их 7500 литров.
Для хранения запаса масла в центроплане самолета устанавливался бак емкостью 350 литров, а питание двигателя маслом производилось через расходный бак емкостью 150 литров. По мере надобности этот расходный бак, расположенный за приборной доской летчика, пополнялся из основного с помощью ручного насоса.
12-цилиндровый мотор с водяным охлаждением для АНТ-25 предложил конструктор А. А. Микулин. На взлете он давал 900 лошадиных сил. По мере набора высоты мощность свою уменьшал прямо пропорционально уменьшению атмосферного давления и плотности воздуха. Это означало, что мотор АМ-34 был невысотный. Вследствие этого свой потолок самолет набирал довольно быстро, и тем быстрее, чем больше он весил. Поэтому с расходом горючего максимальная высота машины увеличивалась, достигая в конце пути 7000 метров.
АНТ-25 имел богатое по тому времени оборудование авиационными приборами. В кабине первого летчика находились часы, высотомер, авиагоризонт, указатель скорости, указатель поворота и скольжения, вариометр, гирополукомпас (впоследствии был добавлен гиромагнитный компас). Кроме того, имелись приборы контроля работы двигателя: тахометр, измеритель температуры воды в системе охлаждения, температуры масла, бензиновой смеси, измеритель давления масла и бензина. Были в распоряжении летчика выключатели аэронавигационных огней, обогрева трубки ПИТО — приемника воздушного давления, включения кислородных приборов, подкрыльных осветительных ракет на случай посадки ночью.
Особый интерес наши летчики проявили к новому по тому времени прибору альфаметру. Стоял он на приборной доске летчика и показывал качество смеси (бензина и воздуха), поступающей из карбюратора в цилиндры двигателя. Стрелка двигалась по шкале, разградуированной в десятых и сотых долях единицы. Приемная часть альфаметра была установлена в выхлопной трубе двигателя. Качество смеси определялось по теплопроводности выхлопных газов. Пользуясь этим прибором, можно было сектором обеднения смеси, то есть увеличения подачи воздуха, подобрать оптимальное качество и, следовательно, оптимальный расход горючего. Справа от приборной доски стоял обычный жидкостный авиационный компас летчика и отдельно очень важный прибор измеритель расхода горючего, который был сконструирован на принципе водомера.
Несколько меньше авиационных приборов устанавливалось в кабине второго летчика и штурмана. Самолетовождение на большие расстояния на АНТ-25 обеспечивали солнечный указатель курса, радиокомпас, авиационный секстан и прибор (визир) для измерения путевой скорости и угла сноса. Для раскручивания гироскопов в авиагоризонте, указателе поворота, гирокомпасах на борту самолета были три мощных (высасывающих) трубки Вентури. Теперь подобные устройства покажутся, конечно, архаизмом. Но в то время новый самолет был рассчитан на квалифицированного летчика, освоившего технику пилотирования днем и ночью, в простых и сложных условиях полета.
В процессе доводки и испытаний АНТ-25 был приспособлен к полетам над морем, в Арктике. С этой целью ему была придана плавучесть за счет помещения внутри крыльев резиновых баллонов, наполненных воздухом. В случае вынужденной посадки на воду самолет мог держаться на плаву, чтобы экипаж выгрузил надувную лодку, запасы продовольствия, необходимое имущество.
Рекомендовалось первые 8 часов лететь на высоте 1000 метров, от 8 до 28 часов — 2000 метров и далее — на высоте 3000 метров. Регламентировались также обороты двигателя и показания указателя скорости. Если в начале полета обороты мотора надо было держать более 1700 в минуту, а приборную скорость 170 километров в час, то в конце — обороты не более 1400, а скорость — менее 140 километров в час. Всякие нарушения этого режима полет» вели к уменьшению дальности.
10 тысяч километров, предполагаемых для новой машины, и сейчас расстояние немалое. Чтобы совершить такой замкнутый маршрут, многое надо было учесть в расчетах, а прежде всего изыскать сам маршрут. Дело это поручили мне, и по моему предложению утвердили: Москва — Свердловск Симферополь — Москва. Два таких треугольника давали 10 тысяч километров. Дополнительно в районе Москвы был выбран малый треугольник — до 500 километров.
И вот в 1934 году летчик-испытатель М. М. Громов (второй пилот А. И. Филин, штурман И. Т. Спирин) совершил полет на продолжительность и дальность по замкнутому кругу, показав большие возможности машины. Был установлен абсолютный мировой рекорд, который держался много лет: за 75 часов экипаж покрыл расстояние свыше 12 тысяч километров.
«Ворошилову, Алкснису, — передал в полете радиограмму Иван Тимофеевич Спирин. — Счастливы донести о великой победе советской авиации. Мировой рекорд за Страной Советов. Только железная воля и настойчивость большевиков могли создать такой самолет и такой мотор, которые на сегодняшний день побили лучшие самолеты мира. Благодарим за доверие и исключительное внимание к нам. Громов, Филин, Спирин».
Трехсуточный полет на рекордную дальность проходил в трудных условиях. Не только профессиональное мастерство, но и мужество, огромная выдержка, самообладание потребовались от экипажа при выполнении его. За этот полет Михаил Михайлович Громов был удостоен звания Героя Советского Союза, Иван Тимофеевич Спирин и Александр Иванович Филин награждены орденами Ленина.
«Совершая этот удивительный подвиг, — писала французская газета «ЭВР», — советские летчики на 1800 километров перекрыли мировой рекорд, поставленный 26 марта 1932 года французскими летчиками Боссутро и Росси… Сможем ли мы снова отвоевать мировой рекорд? Едва ли…»
И в самом деле, потребовалось долгих двадцать два года, чтобы превзойти рекорд дальности по замкнутому маршруту, установленный советскими летчиками.
Осенью к нам в академию прибыла группа полярных летчиков и штурманов, в том числе И. В. Доронин, М. Т. Слепнев, С. А. Леваневский — летчики, отличившиеся при спасении челюскинцев. Мне было поручено вести в этой группе курс аэронавигации, и, конечно, мы не раз возвращались к эпопее, о которой говорил весь мир.
…Это произошло 13 февраля 1934 года. В Чукотском море затерло льдами теплоход «Семен Челюскин», который вслед за ледоколом «Сибиряк» пытался повторить переход по Северному морскому пути за одну навигацию. Когда этот беспримерный рейс был почти завершен, уже в Беринговом проливе, налетел тайфун и отбросил теплоход в полярные льды — на 150 миль к северу от побережья Чукотки. «Семен Челюскин» затонул, а научная экспедиция академика О. Ю. Шмидта — более ста человек — высадилась на льдину.
Правительственную комиссию по организации спасения челюскинцев возглавил заместитель Председателя Совнаркома СССР Валериан Владимирович Куйбышев. И полетели радиограммы: «Принять все меры к спасению экспедиции и экипажа «Челюскина» — в залив Лаврентия, где самолет А. В. Ляпидевского пережидал непогоду. «Выделить Молокову самолет» — на борт «Смоленска», который шел курсом к побережью Берингова моря с отрядом летчиков, возглавляемым Н. П. Каманиным.
5 марта Ляпидевский, вылетевший из Уэлена, достиг лагеря Шмидта и вывез на самолете АНТ-4 двенадцать человек — десять женщин и двух детей. На помощь челюскинцам летели известные летчики В. Л. Гадышев, М. В. Водопьянов, И. В. Доронин. С. А. Леваневский и М. Т. Слепнев с полярным исследователем Г. А. Ушаковым отправились за самолетами в Америку: к Уэлену предполагалось лететь с Аляски. В Ленинграде готовился ледокол «Красин». На Чукотке мобилизовались собачьи упряжки, и в эфире радисты ловили круглосуточно сигналы Э. Т. Кренкеля — из лагеря Шмидта.
На двенадцатые сутки «Смоленск» бросил якорь у мыса Олюторского. Отсюда до Уэлена около 2000 километров. И грозные заслоны Арктики: неистовые циклоны с туманами, снегопадами, шквальными ветрами, вершины обледенелых скал, адские морозы. Но, пополнив машины топливом в поселке Мейньшильгин, летчики каманинского звена пробивались к челюскинцам. До мыса Ванкарем добрались только двое — Н. П. Каманин и В. С. Молоков. Б. В. Бастанжиев и И. Л. Демиров потерпели аварию в сопках. К счастью, остались живы. Б. А. Пивенштейн отдал свой самолет Каманину, когда тот при вынужденной посадке в поселке Кайнергин налетел на заструги и повредил шасси. Сам Борис двое суток на собачьих упряжках добирался до бухты Провидения, оттуда — с бензином, ремонтным материалом — назад, чтобы все-таки исправить самолет и лететь дальше, к людям на льдине…
Надо было пережить атмосферу тех дней! Именно тогда раскрылся характер советского человека — мужественный, стойкий перед лицом смертельной опасности. Именно тогда родилось звание Героя Советского Союза, и первыми этой высшей в стране степени отличия удостоились летчики А. В. Ляпидевский, С. А. Леваневский, В. С. Молоков, Н. П. Каманин, М. Т. Слепнев, М. В. Водопьянов, И. В. Доронин.
Полеты на спасение челюскинцев завершились. Но интерес к Арктике, неизведанному северному краю, полному неисчислимых богатств, после героической эпопеи только возрос. «Наступление продолжается» — не случайно с такой статьей выступила газета «Правда». И семь летчиков — первые Герои Советского Союза — обратились к молодежи с призывом идти в авиацию, к полярным широтам. На этот призыв откликнулись тысячи комсомольцев. Предстояло строить базы для зимовок, новые радио- и метеостанции, прокладывать новые авиалинии. И на кафедре мы подробно обсуждали особенности курса аэронавигации для Арктики.
Суровая природа, продолжительная полярная ночь, летом незаходящее солнце, неустойчивая погода, прокладка курса в условиях сближения меридианов, большое магнитное склонение и малая величина горизонтальной составляющей силы земного магнетизма — все это отражается в разработке навигационных задач. И вот на одном из занятий, на котором изучалось самолетовождение при полете на острова Новой Земли с пересечением Карского моря, у меня в группе возникло недоразумение. Мой прежний сослуживец, теперь полярный летчик, А.Д.Алексеев поднялся и в довольно резкой форме спросил:
— А зачем нам решать такие задачи? — Поперек Карского моря!.. Да в Арктике никто так не летает!
Я понял, что это камень в мой огород: преподаватель, дескать, сам на севере не летал, а берется за решение навигационных задач.
— Так не летают сейчас — будут летать в недалеком будущем, — спокойно ответил я и предложил еще одну задачу.
На занятиях мы прорабатывали использование радиомаяков, наземных радиопеленгаторов, применение астрономической ориентировки. Изыскивали способы соблюдения заданного направления полета при неустойчивой работе магнитных компасов. И чем сложнее были вводные, тем больше они пробуждали в слушателях инициативы. Я и сам учился у них — пилотов, уже знакомых с суровой стихией Арктики.
Помимо решения задач слушатели получали немало других заданий, которые не обходились без наших консультаций по вечерам после классных занятий. В один из таких вечеров ко мне обратился Герой Советского Союза Сигизмунд Александрович Леваневский. Его, помню, интересовал вопрос: как же все-таки действовать летчику, если магнитный компас не работает?
— Я думаю, что заданное направление полета даже над льдами можно выдержать по наблюдению ледовой поверхности, — излагал он. — Поверхность эта неоднородная. В ней есть характерные трещины, полыньи, разводья, много торосов. Надо только в начале пути заметить верное направление по створу двух трещин, наблюдаемых из кабины летчика, а затем продолжать створ на какой-либо новый заметный ориентир. Так можно лететь без компаса продолжительное время.
Какое это продолжительное время, Леваневский обосновать не мог, и я постарался подробно разобрать несостоятельность предлагаемого метода самолетовождения, его ненадежность, вероятные ошибки. Кроме того, рассказал о возможности применения на самолете так называемого «солнечного компаса».
На кафедре у нас хранился экземпляр этого прибора, изготовленного фирмой Герц для экспедиции Амундсена. Он тогда использовался в полете к Северному полюсу, и я объяснил Леваневскому устройство «солнечного компаса».
Разговорились. Сигизмунд Александрович летал в Арктике уже несколько лет и со знанием дела рассуждал о перспективах Северного морского пути, Сибири. Он припомнил, как со штурманом В. И. Левченко отыскали однажды пропавшего американского летчика Джеймса Маттерна.
— Когда он совершал свой кругосветный полет? — удивился я.
— Именно так. От Берлина с посадками пилот добрался до Хабаровска. Затем вылетел в направлении Аляски и как в воду канул. Трудно нам было, но мы нашли Маттерна в Анадыре и доставили на Аляску…
Произошло это во время перегонки Леваневским самолета «Дарнье-Валь» из Севастополя на Чукотку. На летающей лодке над сушей, как говорится, «от воды до воды», — предприятие, конечно, рискованное. Но Сигизмунд Александрович хорошо отозвался о машине, напомнил, что еще Амундсен использовал ее для полета к Северному полюсу, и вдруг заявил:
— Но я хочу предложить самолет Туполева — АНТ-25. Его испытывал Громов и по замкнутому маршруту пролетел более двенадцати тысяч километров. Надо приспособить его для полетов в Арктике да махнуть из Москвы до Сан-Франциско через Северный полюс!..
Меня поразила эта смелая мысль.
— Руководство к полету относится с большим интересом, — продолжал Леваневский. — И я теперь занят подбором экипажа. Не примите ли участие в качестве основного или запасного штурмана?
Предложение для меня было совершенно неожиданным. Леваневский говорил о трудностях полета в районе географического и магнитного полюсов. Меня это, безусловно, заинтересовало, и я согласился.
— Да, вот еще, чуть не забыл, — снова обратился ко мне Сигизмунд Александрович. — В состав экипажа нужен летчик с отличной техникой пилотирования, умеющий летать вслепую. Нет ли кого на примете?
Я припомнил полет в Европу и тотчас же предложил Георгия Байдукова.
— Байдуков сейчас слушатель первого курса инженерного факультета академии. Я вам дам его домашний адрес.
Леваневский поблагодарил, и мы расстались.
А через два месяца в академию пришло решение правительства об организации перелета через Северный полюс. Я был включен в состав экипажа вторым штурманом. Георгий Филиппович Байдуков — вторым летчиком. Об этом нам сообщил наш новый начальник академии комкор А. И. Тодорский. Мне показалось, что он не очень-то был доволен всем происходящим, и я доложил ему свои соображения о перелете, который, на мой взгляд, мог содействовать укреплению престижа кафедры.
— Ну хорошо, Беляков, сдавайте ваши группы другим преподавателям и отправляйтесь в распоряжение Леваневского, — смягчившись, заключил Тодорский…
Вспоминается первая встреча с комкором Тодорским. Высокого роста, плотно сбитый, он собрал нас, преподавателей академии, для знакомства и, приветливо улыбнувшись, представился.
Родился в селе Тухани, Весьегонского уезда, Тверской губернии. Учился в духовной семинарии — так получилось, потому что отец был дьякон, а детей священнослужителей определяли по духовной линии. Потом перешел на высшие коммерческие курсы в Петербурге. Когда грянула первая мировая, отправился добровольцем на фронт. Так всю войну и пробыл в 24-м Сибирском стрелковом полку — младшим офицером, начальником саперной команды, командиром роты, командиром батальона.
Два ранения, шесть боевых орденов остались у комбата в память о войне. Когда свершилась Февральская революция, его избрали председателем полкового комитета, а в ноябре 1917 года по решению Военно-революционного комитета командиром 5-го Сибирского корпуса.
После демобилизации армии Александр Иванович вернулся в родной Весьегонск. Исполком поручил ему организовать издание газеты, и здесь открывается страничка истории, о которой начальник нашей академии охотно и с душевной теплотой рассказывал нам не один раз.
— Вызвал меня председатель нашего исполкома Григорий Терентьевич Степанов и говорит: губ ком партии дает тебе, товарищ, поручение составить к первой годовщине Октября годовой отчет о нашей работе, как мы тут в Весьегонске Советскую власть строили, чего достигли и чего недоделали. Дело новое было для меня. Стушевался, а он говорит: поможем, народ поможет. И действительно, все помогали — и исполком, и уком, а самое главное — народ. Каждый старался помочь, кто чем мог: справкой, советом, добрым пожеланием…
Словом, к 7 ноября 1918 года этот отчет, написанный А. И. Тодорским, был издан небольшой книгой под названием «Год — с винтовкой и плугом». Тираж (1000 экземпляров) быстро разошелся по уезду. Но книге редактора «Известий Весьегонского Совета» А. И. Тодорского была суждена долгая жизнь. Она попала на письменный стол В. И. Ленина, заинтересовала его и вызвала статью «Маленькая картинка для выяснения больших вопросов». «Товарищ Сосновский, редактор «Бедноты», — пишет Владимир Ильич, — принес мне замечательную книгу. С ней надо познакомить как можно большее число рабочих и крестьян. Из нее надо извлечь серьезнейшие уроки по самым важным вопросам социалистического строительства, превосходно поясненные живыми примерами. Это — книга товарища Александра Тодорского: «Год — с винтовкой и плугом», изданная в городке Весьегонске тамошним уездным исполкомом по поводу годовщины Октябрьской революции.
…Описание хода революции в захолустном уезде вышло у автора такое простое и вместе с тем такое живое, что пересказывать его значило бы только ослаблять впечатление. Надо пошире распространить эту книгу и выразить пожелание, чтобы как можно большее число работников, действовавших в массе и с массой, в настоящей гуще живой жизни, занялись описанием своего опыта»[13].
В. И. Ленин считал очень ценным обобщенный в книге опыт социалистического преобразования города и деревни. Спустя четыре года в политическом отчете ЦК XI съезду партии он снова возвращается к работе А. И. Тодорского и, приведя его слова: «Это еще полдела — мало буржуазию победить, доконать, надо ее заставить на нас работать», говорит: «Вот это замечательные слова. Замечательные слова, показывающие, что даже в городе Весьегонске, даже в 1918 году, было правильное понимание отношений между победившим пролетариатом и побежденной буржуазией»[14].
Тверские ходоки, вспоминая о встречах с Лениным, рассказывали, что Владимир Ильич очень был доволен изданной уездным исполкомом книжкой «Год с винтовкой и плугом». Об этом писал Ф. Ф. Образцов, потом А. А. Виноградов, побывавшие у Ленина. «Хорошая книжечка. Я читал ее, и мне особенно понравилось, как Весьегонский исполком, отобрав мельницу у какого-то мельника, поставил его же и управлять этой мельницей. Это совершенно правильный метод. Работа Весьегонского исполкома заслуживает внимания. Я слышал, что большинство членов его — бывшие петроградские рабочие. Правда это?» Виноградов подтвердил эти сведения и добавил: «…революция прошла у нас менее болезненно и благодаря главным образом именно лучшему подбору членов уисполкома. Влияние на исполком, в частности, как более развитого и сравнительно образованного тов. Тодорского весьма заметно». Ленин поинтересовался: «А где теперь Тодорский?» И, узнав, что он на фронте в Закавказье, попросил: «Передайте ему привет от меня»[15].
Александр Иванович в то время действительно сражался с врагами молодой Советской республики на Южном фронте, на Туркестанском, на Кавказе. «Личность товарища Тодорского как боевого, храброго и опытного комбрига, всегда находящегося на передовой линии и руководившего боем, запечатлена навсегда в памяти бойцов…» — такая характеристика на командира бригады А. И. Тодорского сохранилась в журнале 20-й стрелковой дивизии.
Но отгремели грозы гражданской войны, разгромлена контрреволюция и кавалер четырех орденов Красного Знамени А. И. Тодорский принимает активное участие в общественной и партийной жизни Закавказья, работает вместе с С. М. Кировым, Г. К. Орджоникидзе, А. Ф. Мясникяном.
Потом Александр Иванович учится в Военной академии РККА. Справедливо заслужив уважение и авторитет слушателей, преподавателей, профессуры, он возглавляет академическую партийную организацию и в годы жестокой борьбы с троцкистами проявляет себя несгибаемым большевиком-ленинцем.
Видные посты в нашей армии занимает А. И. Тодорский после учебы в академии. ЦК КП(б) Белоруссии избирает его в свой состав. А командующий войсками Белорусского военного округа А. И. Егоров и член Реввоенсовета С. Н. Кожевников так аттестуют командира 5-го стрелкового корпуса: «Громадный боевой опыт и командный стаж, отличное и твердое знание военного дела и его исторических основ, активная партийно-политическая работа, энергия и неутомимость в работе, образцовая дисциплинированность, такт и выдержка во взаимоотношениях, умение с необходимой глубиной и заботой охватить все стороны учебы, жизни и быта войск корпуса, дали возможность товарищу Тодорскому поставить боевую подготовку частей на должную высоту и зарекомендовать себя как крупного по компетенции, талантливого и с огромным авторитетом командира РККА… Как командир-единоначальник тов. Тодорский является одним из наиболее ярких и активных работников. Все указанные качества не только позволяют считать тов. Тодорского вполне соответствующим занимаемой должности, но и с полной ответственностью диктуют необходимость выдвинуть его вне очереди на должность помкомвойсками округа или начальника штаба округа».
В 1935 году А. И. Тодорскому было присвоено воинское звание комкор, за хорошее руководство академией в мирное время его награждают орденом Красной Звезды. И это была заслуженная награда: за два с половиной года работы в «Жуковке» Александр Иванович решительно поднял роль профессорско-преподавательского состава в учебном процессе, разработке научных проблем.
…В середине уже пятидесятых годов я снова встретился с А. И. Тодорским. Пережив большую личную трагедию, уже на седьмом десятке лет Александр Иванович вновь отдался кипучей общественной работе. Из-под пера пламенного большевика-ленинца вышли проникновенные книги и статьи о жизни героев гражданской войны, строителей Красной Армии М, Н. Тухачевского, С. С. Каменева, В. И. Шорина, И. Э. Якира, В. К. Путны, Н. Н. Кузьмина, А. И. Седягаша, П. А. Павлова, М. Д. Великанова, В. А. Авксентьевского, В. К. Трианда-фнллова и многих других. Писал Александр Иванович об этих людях не по архивным материалам — с ними прошел долгие годы борьбы за идеалы революции.
Вернулся он и к своей старой, весьегонской теме. В книге «Большое в малом» вместе с журналистом Ю. Арбатовым рассказал, как изменились за годы Советской власти захолустные края России.
Скромный, трудолюбивый, душевно щедрый — таким и остался в моей памяти комкор А. И. Тодорский.
Но вернемся к тем дням, когда я был включен в состав экипажа Героя Советского Союза Леваневского. В экипаже нас пять человек: командир и первый летчик — С. А. Леваневский, второй летчик — Г. Ф. Байдуков, штурман самолета — В. И. Левченко, запасной летчик В. Н. Гуревич и я — запасной штурман и тренер.
Впервые так вплотную передо мной встала проблема вождения самолета в Арктике. В то время мы, авиационные штурманы, в области аэронавигации руководствовались в основном работами НИИ ВВС. А они сводились к полетам в магнитном поле Земли с периодическим определением места самолета по земным ориентирам. Способы навигации, вождения самолета по заданному или избранному маршруту, детально разработанные для полетов в средних широтах, оказались недостаточными для маршрутов над ледовой пустыней. Радионавигация тогда была в стадии разработки. Самолетные радиополукомпасы к 1935 году только начали появляться. Полеты вдоль избранного меридиана в высоких широтах можно было выполнять лишь с помощью «солнечного компаса». Что же касается вождения самолета в гравитационном поле Земли, то к этому времени гироскопический полукомпас проходил испытания, он мог обеспечить удержание самолета на курсе относительно короткое время — 15–20 минут, после чего сам нуждался в корректировках.
Но при всех недостатках аэронавигации к полету надо было готовиться. И мы начали с карт. На европейскую часть СССР карт различных проекций и масштабов было достаточно. На территорию США и юга Канады нам пообещали их прислать. А вот на полярный район — и то частично — карты были только в проекции Меркатора.
В этой проекции меридианы изображаются прямыми параллельными линиями, отчего в высоких широтах конфигурации островов сильно искажаются. Для района Северного полюса не было никаких карт.
По моему предложению картографические органы согласились изготовить для нас в полосе шириной 1000 километров схему меридианов и параллелей в стереографической проекции с точкой касания на Северном полюсе. Предварительный подсчет расстояний мы могли производить по формулам сферической тригонометрии, но и тут встретились затруднения. Земля представляет собой не геометрический шар, а эллипсоид вращения, сплюснутый со стороны географических полюсов. В нашей стране при составлении карт за основу принимается эллипсоид Красовского. Американцы же строили свои карты и определяли широту и долготу точек по собственному эллипсоиду, отличавшемуся от нашего.
Расчет расстояний вдоль меридианов мы могли производить легко. А расчет расстояний по другим отрезкам ортодромии (в частности, расстояние от точки вылета до точки посадки) производился довольно сложно, по формулам.
Кроме карт для прокладки маршрута нужна была и карта магнитного склонения. Такая карта, изданная в Канаде, вскоре нашлась, но величины магнитного склонения в ней не вызывали доверия по причине малого числа магнитных измерений в Арктике. В недоступных районах вообще не было измерений.
Пользуясь тем, что удалось собрать, мы приступили к изучению маршрута. Вместе с Виктором Левченко разделили его на этапы. Первый этап — от Москвы до северного побережья Кольского полуострова. На нем основной способ аэронавигации — по магнитному компасу.
Второй этап — от Кольского полуострова до островов Земли Франца-Иосифа. Здесь способ самолетовождения также по магнитному компасу с использованием радиомаяка. Этот радиомаяк надлежало забросить на Землю Франца-Иосифа в летний период.
Таким же образом были намечены способы аэронавигации и на следующих этапах: от Земли Франца-Иосифа до Северного полюса, далее до первых островов Канадского архипелага, до северного побережья Канады и па остальные этапы в Америке. От Сиэтла и южнее предполагалось использовать карты и оборудование воздушной линии Сиэтл — Сан-Франциско. Изучение маршрута привело к выводам, что на участке полета от Земли Франца-Иосифа до берега Канады основной способ аэронавигации — по «солнечному компасу». Следовательно, Арктику предстояло пересечь, используя полярный день, видимость солнца и луны, а это где-то в период с мая по август.
Теперь предстояло наметить порядок работы в воздухе членов экипажа. Конструктором самолета экипаж был определен в составе трех человек: двух летчиков и одного штурмана. Радист на» самолете не предусматривался, поэтому обязанности радиста перекладывались на штурмана. Заменяя его в часы отдыха, второй летчик, следовательно, должен был управляться и за штурмана и за радиста.
Затем я предложил распорядок полета: 12 часов непрерывной работы, 6 часов отдыха. Два человека работают, третий отдыхает. Забегая вперед, должен сказать, что 12 часов непрерывкой работы для первого летчика (командира экипажа) оказались трудновыполнимыми, поэтому пришлось установить для всех 8 часов работы и 4 часа отдыха.
Принятый распорядок и распределение обязанностей стали основой подготовки экипажа.
Для изучения радиостанций, радиопередачи ключом, приема на слух всему экипажу, включая и меня, как запасного штурмана, были приглашены соответствующие специалисты. Мы без промедления приступили к ежедневным систематическим занятиям. А способы аэронавигации Байдуков, Гуревич и Левченко изучали под моим руководством.
Леваневский взял на себя наиболее трудную часть работы — подготовку АНТ-25 к длительному полету в Арктике, хлопоты по доводке, оборудованию и оснащению самолета. В наших глазах опытный полярный летчик был непререкаемым авторитетом. А на самолете работы хватало: надлежало заменить двухлопастный металлический винт на трехлопастный, обеспечить отопление кабины, сконструировать и поставить на самолет прозрачный полусферический обтекатель для солнечного указателя курса, произвести замеры расхода топлива, масла на различных режимах полета и на этой основе составить график высоты и скорости для достижения наибольшей дальности. Кроме того, самолету требовалось придать плавучесть на случай посадки на воду, укомплектовать снаряжением и аварийным продовольствием.
Текущие хлопоты отнимали у Леваневского много времени, поэтому он не очень-то усердно изучал конструкцию и эксплуатацию самолета да и подробности маршрута, особенности аэронавигации, видимо надеясь на второго летчика и штурмана. Но, много работая по подготовке АНТ-25 к полету, Сигизмунд Александрович требовал такого же упорного и инициативного труда от нас.
— За нашей подготовкой следит ЦК партии. Народный комиссариат иностранных, дел уже ведет переговоры с США и Канадой о перелете. По особо неотложным и важным делам я обязан обращаться к товарищу Куйбышеву, говорил он. — Мы все должны понимать, что сроки подготовки сжатые. Позднее августа лететь нельзя.
— А как же будет организована связь на таком большом маршруте? спросил я как-то его.
— Да, радиосвязь между самолетом и землей — дело очень важное. Без этой связи ни у нас, на Родине, ни за рубежом не узнают, как продвигается самолет по маршруту. Все наши полярные приемно-передающие станции будут работать непрерывно. Канада и США также предоставят свои радиостанции.
— Но мы плохо знаем английский язык. Лучше пользоваться каким-либо простейшим цифровым кодом, который должен быть известен у нас и за рубежом, — заметил я.
— Это правильно, — согласился Леваневский. — Вот, товарищ Беляков, и составьте такой код. Чем быстрее, тем лучше.
В скором времени на обсуждение всей группы мною были представлены девяносто девять закодированных фраз.
Когда по просьбе Леваневского для экипажа выделили самолет Р-5 с дополнительными баками, мы начали на нем тренировку в полетах на дальность до 1000 километров и проверили возможность работы с кодом. Получалось неплохо. В то же время после первых испытаний «солнечного компаса» обнаружили его непригодность для средних географических широт. Тогда по распоряжению Я. И. Алксниса НИИ ВВС взялся совместно с промышленностью построить отечественный солнечный указатель курса (СУК). Вскоре он был установлен на борту самолета. Все остались довольны.
Доводку и оборудование нашей машины производил отдел эксплуатационных и летных испытаний ЦАГИ, который возглавлял опытный летчик В. И. Чкалов. Непосредственно на самолете работал не менее опытный инженер Е. К. Стоман, в прошлом тоже пилот. И все же, несмотря на ясность задач, подготовка к полету двигалась медленно. Большую трудность составляло приспособление самолета для Арктики, его экипировка. Немало трудностей было и в изучении радиосвязи и аэронавигации в полярных широтах. Кроме того, тренировочные полеты на АНТ-25 совершались при полетном весе' не свыше 7,5 тонны — конструктор не гарантировал целость шасси при посадке с большим весом. Таким образом, маслопитание двигателя при длительной работе на максимальных оборотах испытано не было.
Но вот уже 20 августа 1935 года. С аэродрома Щелково назначается вылет АНТ-25. Маршрут — через Северный полюс в Америку. Леваневский, Байдуков, Левченко подъезжают к самолету. Там уже много провожающих. Туполев внешне спокоен, но, конечно, и он волнуется за свое детище — АНТ-25.
Я отправляюсь к другому самолету — АНТ-7, на котором вместе с Гуревичем будем сопровождать экипаж Леваневского на первом участке пути. Взлет Сигизмунд произвел безукоризненно. Мы взлетели вслед за ним по другой полосе. Погода благоприятствовала полету, и ничто не предвещало неудачи. Но, провожая АНТ-25 до Череповца, откуда мы вернулись обратно, я заметил, что Левченко зачем-то высовывал руку из кабины летчика и штурмана и протирал стекла кабины.
Когда мы приземлились в Щелково, Туполева здесь уже не было. Он давно уехал на Центральный аэродром, где помещался небольшой штаб перелета. Отсюда вели связь с экипажем Леваневского, и я последовал за конструктором. Туполев сидел в штабе, чем-то озадаченный и взволнованный. Стало известно: самолет АНТ-25 уже достиг Кольского полуострова, но экипаж сообщил: «Выбивает масло из-под капота двигателя». На наших тренировках такого случая не было. И вот новая радиограмма за подписью Леваневского: «Что означает зеленый цвет масломера?»
— Да что он? Неужели не знает? — раздраженно проговорил Туполев.
Я также был удивлен вопросом Леваневского, но решил успокоить Андрея Николаевича:
— Если Сигизмунд не знает, то Байдуков знает отлично. В этом я уверен.
Через некоторое время из Баренцева моря поступила новая радиограмма: «Течь масла не прекращается». Тогда штаб перелета рекомендовал Леваневскому не продолжать дальнейший полет к полюсу, и вскоре пришел ответ: «Возвращаюсь…»
Туполев еще больше помрачнел, собрал какую-то папку, которую всегда возил с собой, и уехал. Слово «возвращаюсь» для всех нас, находившихся в штабе, было подобно грому.
— Ну неужели они не могли разобраться с маслом! — возмущался начальник штаба Дмитрий Иванович Антиков, старый друг моей юности по городу Богородску, и принялся докладывать по начальству: в ГУ АН (Главное управление авиационной промышленности), наркому Орджоникидзе, Куйбышеву в ЦК партии, наркому Ворошилову, начальнику ВВС Алкснису и многим другим. Все удивлялись, досадовали: почему?.. Ждали ответа.
Что же произошло с самолетом? Это мы узнали позднее.
Вскоре после взлета, пилотируя самолет с сиденья первого летчика, Леваневский стал замечать на стеклах приборов осаждение мелкой масляной пыли. Стекла протерли ветошью, но пыль продолжала осаждаться, проникая о кабину откуда-то из-за приборной доски. Затем маслом начало покрываться остекление кабины, крыло самолета. Штурман Левченко, осматривая оптическим визиром нижнюю поверхность фюзеляжа, доложил:
— По борту течет темный волнообразный слой…
Это еще более взволновало Леваневского, и он решил, что где-то в расходном масляном баке или в маслопроводе возле двигателя образовалась течь.
Подкачали масло из основного бака в расходный — оно стало затекать внутрь кабины, на полу возле сиденья штурмана образовалась лужица. Через некоторое время масляная пыль стала осаждаться и на выхлопные трубы двигателя — в кабине самолета появился чад, сизый дым.
В этой обстановке Леваневский принял решение прекратить полет и по указанию штаба перелета взял курс на Ленинград. Настроение у экипажа было подавленное. Но неудачи для них в тот день еще не кончились. На самолете оставался большой запас горючего, которое предстояло слить, чтобы облегчить машину перед посадкой, и, отыскав тросы аварийного слива, Леваневский и Левченко с усилиями открыли отверстия баков.
Сгущались сумерки. Самолет уже подходил к аэродрому, а слив горючего еще продолжался. Наблюдавшие с аэродрома видели, как за самолетом тянется белое облако, и недоумевали.
Наконец облитая бензином машина пошла на посадку. Приземлились отлично. Когда Леваневский выбрался из кабины, он заметил, что навигационные огни остались невыключенными.
— Виктор! Выключи огни!.. — крикнул он штурману.
Дальше произошло необъяснимое. Погасли навигационные огни, но тут же внутри консоли левого крыла загорелись две ракеты Хольта. Эти ракеты предназначались для освещения земной поверхности в случае вынужденной посадки ночью. Обычно они выпадали через специальный лючок из плоскости самолета, повисали на тросе и затем воспламенялись. А здесь, на аэродроме, они загорелись внутри крыла, прожгли обшивку, и перкалевое покрытие плоскости стало затягиваться пламенем. Самолет еще не обсох от вылитого бензина. Над АНТ-25 нависла страшная угроза взрыва. Но экипаж Леваневского, пренебрегая опасностью, принялся сбивать с машины пламя. Горящие ракеты оттащили в сторону. Огонь укротили. Было установлено, что течь масла происходила через дренажную трубку, соединяющую расходный бак с атмосферой. Вскоре бригада от конструкторского бюро Туполева восстановила обгоревшую часть крыла, и экипаж Леваневского перелетел в Москву.
Всех вызвали в Политбюро. Выслушав подробный доклад о случившемся, Сталин задал вопрос:
— Что будем делать дальше, товарищ Леваневский?
Сигизмунд Александрович был готов к ответу:
— На одномоторном самолете лететь через Арктику слишком рискованно. АНТ-25 — машина недостаточно надежная. Нужен другой самолет многомоторный…
Таким образом, на некоторое время репутация самолета АНТ-25 оказалась «подмоченной». Работы по его доводке прекратились, самолет был задвинут в дальний угол цаговского ангара. Надолго ли? Покажет будущее…
Тогда же было решено командировать Леваневского в Америку — поискать там подходящий самолет. А нас пригласили к начальнику ВВС. Алкснис к экипажу отнесся сдержанно, как мне показалось, с пониманием и удовлетворил наши личные просьбы: Гуревича откомандировали в Гражданский воздушный флот, Байдукова определили летчиком-испытателем на авиационный завод, а я и Левченко были направлены учиться в школу летчиков в Севастополь.
В нашу новую школу мы с Виктором прибыли солнечным сентябрьским днем. Располагалась она у небольшой речушки Кача, поэтому ее называли Качинской или попросту Кача. Одна из старейших, эта летная школа выпустила немало прославленных авиаторов. В свое время инструктором здесь был выдающийся русский летчик М. Н. Ефимов, Первые «дальние» и «продолжительные» перелеты по России совершили качинцы Д. Г. Андреади, Б. Л. Цветков. Мужество, высокое летное мастерство в годы гражданской войны проявили выпускники школы красвоенлеты И. К. Спатарель, В. Ф. Вишняков, Г. С. Сапожников, многие другие.
Нас с Виктором определяют в эскадрилью, которой командовал летчик Петров. Мне уже 38 лет — ученик, конечно, не самый юный в знаменитой Каче, но в полной мере сил, а желания овладеть искусством полета — хоть отбавляй. Да, признаться, в программе обучения я не видел ничего неприступного. Очень сжатая, она рассчитывалась всего на четыре месяца. И за это время мы должны были выучиться летать на учебном самолете У-2, а затем на боевом Р-5.
Надежный и простой в пилотировании, самолет Р-5 выпускался в различных вариантах — как воздушный разведчик, торпедоносец, штурмовик. Программа обучения на нем была такая же, как на У-2. И все же овладение техникой, первые шаги человека в небе — дело всегда нелегкое, ответственное. А для инструктора тем более. У каждого — по шесть-семь учеников. Каждый день всем одно и то же — взлет, посадка, полеты по кругу, в зону. С одной стороны, инструктор совершенствует свою технику пилотирования, становится ценным летчиком. Такого с удовольствием возьмут в строевую часть. Но если он хороший пилот и опытный методист, то школа вовсе не заинтересована отпускать его.
Я сам посвятил в своей жизни много лет педагогической работе. Однако труд школьных летчиков-инструкторов, скажу не красного словца ради, ни с чем по сравним. Как летчику в то далекое прошлое время мне еще предстояло освоить не один самолет, что дало возможность активно участвовать в освобождении Западной Украины в 1939 году, в военном конфликте с белофиннами. И сейчас с чувством большой благодарности, я вспоминаю своих учителей — инструкторов Петрова, Койро, Литвинова, Юденкова. Вспоминаю и преклоняюсь перед их благородной профессией.
Окончив Качинскую школу летчиков, мы с Левченко отправились по прежним местам службы. Я — в. академию на должность начальника кафедры. Виктора назначили флаг-штурманом авиации Балтийского флота. Но перед вступлением на должность ему предстояло еще одно ответственное задание. Сигизмунд Леваневский, будучи в США, присмотрел подходящую для полетов в Арктике машину. Самолет надо было перегнать из Лос-Анджелеса в Красноярск, и для выполнения этого перелета в качестве штурмана экипажа командировали Левченко.
На кафедре академии меня встретили хорошо. Со многими сотрудниками я был давно знаком. Работал этот коллектив дружно, с подъемом. Но пробыл я там недолго. Начальник нашей академии А. И. Тодорский стал руководителем всех высших военных учебных заведений, а вместо него пришел известный комбриг начальник Ейской авиашколы 3. М. Померанцев. Недавно он посетил Италию, где познакомился с постановкой летного дела, и, очень одобрительно отозвавшись о моем усовершенствовании, разрешил летать в академической авиабригаде:
— Идите к командиру, там получите тренировку на Р-5 — сначала на лыжах, а потом на колесах.
Комэск Скрягин, проверив мою технику пилотирования, выпустил самостоятельно. Но вскоре вдруг меня приглашает кадровик и вручает какую-то бумагу;
— Вы назначены флаг-штурманом АОН!
— А где этот АОН? — спросил я.
— Штаб здесь, на аэродроме. Получайте предписание и сдавайте кафедру. В АОНе явитесь к командующему — комкору Василию Владимировичу Хрипину.
Что же это такое — АОН?
К 1935 году, в период второй пятилетки, наша промышленность изготовила немало тяжелых четырехмоторных бомбардировщиков ТБ-3 конструкции А. Н. Туполева, Все авиационные бригады на этих самолетах, расположенные в европейской части' страны, были сведены в одну крупную оперативную группу авиацию особого назначения (АОН). По существу, это было первоначальное объединение стратегической авиации, назначение которой предполагалось для нанесения мощных бомбовых ударов по объектам в тылу противника. Сторонником нанесения массированных ударов авиации по объектам, расположенным на значительном удалении от фронта, был начальник штаба ВВС комкор В. В. Хрипин. Он вскоре и оказался во главе этого авиационного объединения, нередко выдвигая смелые, принципиально новые предложения, которые могли быть реализованы в ближайшем будущем. Так, например, считал необходимым для каждой бригады иметь истребительное прикрытие района базирования и района подскока. Такие эскадрильи в дальнейшем были созданы на основных аэродромах. Комкор таким же образом обосновывал необходимость сопровождения бригад на пути к цели и обратно.
Все мы с большим одобрением относились к завидной широте взглядов, богатству тактико-технических идей Хрипина. Каждый командир нашего небольшого штаба чувствовал глубокое удовлетворение в своем труде и считал долгом проявить собственную инициативу.
Я Василия Владимировича знал давно. Будучи учителем, в 1915 году он закончил Александровское пехотное училище, потом по своей настойчивой просьбе поступил в Гатчинскую авиационную школу и через год стал летчиком. В сентябре 1917 года Хрипин был избран в состав солдатского комитета 4-й авиагруппы, а после Октябрьской революции — командиром 5-го истребительного авиационного отряда. Во время гражданской войны он занимал должность начальника авиации 10-й армии, заместителя начальника авиации Южного фронта, совершил много боевых вылетов.
В двадцатых годах Хрипин трудился совместно с П. И. Барановым, Я. И. Алкснисом. Разрабатывал новую организацию ВВС, переход от системы авиационных отрядов к системе эскадрилий, а далее к укрупнению их в бригады. Тактика различных родов авиации — разведывательной, истребительной, бомбардировочной, оперативное искусство были содержанием его деятельности, и не случайно он преподавал теорию боевого применения авиации на курсах усовершенствования летного состава в Военно-воздушной академии имени Жуковского. Здесь вместе с известным теоретиком ВВС А. И. Лапчинским Хрипин защитил идею возникновения штурмовой» авиации. Своих слушателей он убеждает в целесообразности нанесения точных ударов по наземным объектам противника с малых высот и выращивает плеяду последователей — будущих командиров частей. С большой дальновидностью комкор содействует развитию парашютного спорта, видя в нем возможность выброски крупных авиационных десантов с боевой техникой в тыл врага. Позже с помощью штаба ВВС организовал специальный институт по десантированию, возглавляемый летчиком Гроховским.
Вместе с Лапчинским Хрипин подверг обоснованной критике теорию итальянского авторитета Дуэ о возможности завершения войны только ударами авиации. В то же время он много внимания уделял формированию тяжелых авиационных бригад, тактике их боевых действий в тылу противника.
В 1933 году В. В. Хрипина назначили начальником штаба ВВС, что позволило ему широко, всесторонне при верить теорию боевого применения авиации на многочисленных летно-тактических учениях, маневрах. В свое время Василий Владимирович имел длительную командировку в Европу, где изучал авиационное дело в Италии, Франции, Англии. И это значительно расширило его взгляды.
Что же касается штурманской службы, то Хрипим считал, например, что бомбометание должно быть целиком передано штурманам и изъято из так называемой «огневой» службы. В дальнейшем это было реализовано, и комкора уже волновали вопросы точного выхода на цель, точное соблюдение заданного маршрута, подготовка данных для меткого бомбометания. Он защищал идею применения осветительных бомб в боевых вылетах ночью, добивался повышения скорости и потолка самолетов-бомбардировщиков: при нем были внедрены в части скоростной бомбардировщик СБ, дальний бомбардировщик ДБ-3.
На всю жизнь я оставил хорошее воспоминание о работе в штабе АОН, которая, по существу, была первой ступенью зарождения дальней авиации. Увлекательную творческую работу здесь я мог вести почти три года, одновременно совершив два- дальних перелета в составе экипажа Чкалова.
Глава шестая Зовут полярные широты
Неудача Леваневского в полете к Северному полюсу, гибель в том же году на Аляске известного по кругосветным перелетам американского летчика Вилли Поста послужили скептикам поводом для рассуждений о неприступности Арктики. Многие откровенно говорили, что на одномоторном самолете ледовитую пустыню не одолеть. Мы с Байдуковым не разделяли такого мнения. И вскоре после моего возвращения из летной школы Георгий как-то зашел к Чкалову — потолковать о забытом всеми самолете АНТ-25.
— Ну вот, Байдук, и встретились! Где же ты пропадал? — тиская Байдукова в объятиях, приговаривал Чкалов.
— А ты, Валериан, немного изменился, — заметил Георгий.
— Постарел, брат, постарел. Да и что ты хочешь — отец семейства. Пойдем-ка дочь посмотрим.
Посмеиваясь, Чкалов показал свою новую квартиру.
— Живу, как бог… — повторял он, потом участливо спросил: — Ну, а ты как?
— Так себе, Валериан. Разговор есть…
— Ну давай. Что ж не сказал сразу?
— Здесь неудобно — народу много.
У Чкалова действительно было много гостей.
— А у меня всегда так. Люблю, брат, народ, компанию…
Байдуков, согласно кивая головой, думал уже о чем-то другом.
— Ты знаешь, самолет, на котором мы с Леваневским пытались перелететь полюс, сейчас находится в переделке. Ну и что же, мне какое дело? Ведь это ваш самолет.
Георгий опешил, не зная, как подойти к Чкалову.
— Видишь ли, вчера на заводе мне сказали, что АНТ-25 в корне переделан и теперь стоит готовый в ЦАГИ, не находя себе применения.
Ольга Эразмовна, жена Чкалова, настороженно прислушивалась к разговору. Ей явно не нравилась эта тема — она смутно чувствовала опасность, и Георгий, уловив ее недовольный и укоризненный взгляд, умолк.
— Валерий, тебя же ждут гости, — пыталась оторвать Чкалова жена.
— Ладно, — предложил Чкалов, — пойдем на улицу, Егор, я тебя провожу…
Он заглянул в столовую, предупредил гостей и быстро оделся.
— При женах нельзя вести такие разговоры, будут напрасно волноваться, заметил Байдуков.
— Ясно. Ну, продолжай.
— Значит, самолет есть. Нужны лишь экипаж и разрешение.
— А как же Леваневский?
— Перед отъездом в Америку Леваневский заявил мне, что он намерен лететь на другой машине.
— Ну и что же?
— Тьфу, какой же ты, черт, несговорчивый!
— Как несговорчивый? Ты, Егор, что-то лепечешь непонятное…
— Вот я и говорю — давай-ка берись за это дело, а я помощником и махнем через Северный полюс!
— Эх, и дуралей же ты, Байдук! Так бы и сказал, — оживился Чкалов. Давай твоего штурмана, и завтра же пойдем в ЦАГИ…
Есть люди, у которых на всю жизнь сохраняются лучшие черты детской психики: радость бытия, непосредственность переживаний, свежесть впечатлений, искренность и наивность душевного выражения. Конечно, эти черты у них не в своем первоначальном, подлинно детском состоянии, а в перерожденном или преобразованном виде, но при всем том самая-то суть психологии детства остается в сохранности. Такие натуры в большинстве случаев бывают чрезвычайно привлекательны. Преимущества детской души сочетаются у них с преимуществами зрелого возраста. Опыт лет, налагающий на душу печать серьезности, деловой озабоченности, скрашивается у них незаглохшим предрасположением к очарованию сказок жизни. Мироотношение у них, соответственно возрасту, зрелое, умудренное, а мироощущение — детское, то есть неувядшее, непоблекшее. В их любознательности есть нечто уподобляющееся наивному любопытству ребенка. В напряженной работе мысли просвечивают черты, напоминающие детскую задумчивость.
Вот именно к числу таких натур принадлежал и Чкалов. Свежестью и цельностью души веяло от его обаятельной личности. Детское выражалось у него, так сказать, походя, непроизвольно и очаровательно — в житейском обиходе, в отношениях к людям, к делам, к идеям, в некоторых чертах характера, в навыках и приемах мысли. Он мог по-детски радоваться удачному для него полету и столь же по-детски огорчаться при неудаче.
Люди такого уклада духа всегда в высшей степени ценны, а в особенности в такое время, когда сгущается мгла грядущего…
Валерий, я уже знал, коренной волжанин. Родился в семье котельщика волжских пароходов Павла Григорьевича Чкалова в селе Василево. В этом селе издавна существовал затон — зимняя стоянка речных судов, на которой между навигациями ремонтировались пароходы. Павел Григорьевич и работал здесь мастером по ремонту судовых котлов.
Валерий оказался на редкость крепким парнем. Пудовой гирей он забавлялся шутя. Но хотелось испробовать силы в настоящем деле, самостоятельной работе, и он перешел кочегаром на землечерпалку. Землечерпалка расчищала русло реки Волги на мелях и перекатах, и Валерий видел пользу, которую работа их приносила судоходству, людям.
— Да, без нас ни одному пароходу не обойтись, на мель сядет, соглашался с ним его друг, тоже кочегар, Анфимов.
И вот землечерпалка поплыла в Казань. Парни получили новое задание: расчистить дно около пристани, сожженной белыми, и поискать на дне оружие.
А в голове молодого Чкалова уже роились дерзкие мысли: податься к красным, в какую-нибудь часть, и вместе с красноармейцами сражаться с врагами.
Вот почему, вернувшись в Василево, Валерий все чаще подумывал переменить профессию, чтобы быть поближе к делам Красной Армии. Как-то встретил его дальний родич, сосед по слободке Володя Фролищев.
— И долго ты еще, Волька, кочегарить собираешься? — полюбопытствовал Владимир. — А вот я в Нижнем авиационным механиком работаю.
И рассказал он Валерию о том, что в Канавине, пригороде Нижнего Новгорода, стоит 4-й военный авиационный парк, где ремонтируют и восстанавливают аэропланы.
Валерий решил твердо: еду с Владимиром в Нижний, поступаю в авиапарк, но тут же вкралось сомнение: примут ли? Ведь ему было всего лишь 15 лет…
Шел 1919 год. По стране гремела гражданская война. Наши авиационные отряды на фронте остро нуждались в исправных боевых самолетах. Вот почему, когда Валерий вместе с Фролищевым явились в 4-й авиационный парк, командир охотно согласился принять парня учеником слесаря-сборщика и зачислил его молодым красноармейцем. Валерию выдали обмундирование и поставили «на довольствие с котла».
Так Чкалов сделал в своей жизни важный и решительный шаг. Он приобщился к авиации, которой затем посвятит без остатка всю свою жизнь.
Для начала — ремонт и сборка «фарманов», «ньюпоров», «вуазенов», пока малоизвестных ему самолетов. Нетрудно было постичь искусство заплетать тросы для расчалок, обтягивать поверхность крыльев перкалем, покрывать его защитной краской и лаком.
Занимаясь ремонтом самолетов, Валерий изучал их устройство. В его обиход по-хозяйски входили новые, ранее незнакомые ему слова: фюзеляж, плоскости, стабилизатор, хвостовое оперение, рули поворота и высоты, элероны, лонжероны, шасси, амортизаторы… Перед Чкаловым раскрывалась внутренняя силовая конструкция аэроплана — этой доселе незнакомой машины, обретающей подъемную силу при движении в воздухе.
Аэропланы улетали в боевые отряды, и Валерий, провожая их взглядом, горел желанием поскорее научиться летать. Он все настойчивее осаждал командира авиапарка просьбами перевести его в учлеты. И в 1921 году мечта сбылась: за отличную работу на производстве Чкалов был направлен в город Егорьевск в Теоретическую школу авиации. Это была старейшая русская авиационная школа, основанная еще до революции в городе Гатчина под Петроградом. Во время гражданской войны она была эвакуирована в Егорьевск.
Валерий, обладая отличной памятью и способностями к учебе, схватывал и усваивал все легко и быстро, чем удивлял своих учителей. Пригодились знания по устройству самолета, полученные еще в авиационном парке. Сдавая зачеты и экзамены, Чкалов никогда не получал оценки ниже 10 по существующей тогда двенадцатибалльной системе.
И вот в начале 1923 года Теоретическая школа окончена. Всем ученикам присвоили звание «красного командира». В то время в Теоретической школе никаких полетов не производилось. Для обучения полетам все выпускники направлялись в другие школы.
Школ летчиков у нас было тогда всего две, и обе в Севастополе: одна для сухопутных самолетов, другая — для гидро. Но к 1923 году в городе Борисоглебске организовалась еще одна школа летчиков, для размещения которой были предоставлены кавалерийские казармы. Учебное поле конницы было превращено в аэродром, а конюшни и манежи переделывались в ангары для хранения самолетов.
В Борисоглебскую школу летчиков в 1923 году и был направлен весь выпуск из Егорьевска.
Первая работа учлетов состояла в перестройке одного из манежей в ангар. В ожидании первых полетов Чкалов работал с энтузиазмом. Попутно изучил учебный самолет «авро». Когда формировалась первая летная группа, в нее зачислили только десять человек, в том числе и Чкалова. Так заветное желание стать летчиком все более приближалось к реальности. Он был зачислен в группу инструктора Очнева в отряде Попова.
Лето 1923 года прошло в учебных и тренировочных полетах. После соответствующего количества провозных Чкалов был допущен к первому самостоятельному полету. Он ждал этого дня с нетерпением, ожидали его и инструкторы: они видели, что Чкалов отличается от остальных учлетов особой реакцией, сильным и твердым характером.
В октябре 1923 года, когда вся программа на учебном самолете была закончена, Чкалов в составе лучшей десятки, завершив обучение, был направлен в Москву, в Авиационную школу высшего пилотажа. Там ему предстояло освоить полеты на боевых самолетах. В аттестации Борисоглебской школы записали: «Чкалов являет пример осмысленного и внимательного летчика, который при прохождении летной программы был осмотрителен, дисциплинирован…»
Прибыв в Ленинградскую истребительную эскадрилью, Чкалов продолжал отрабатывать технику пилотирования. Все летчики этого подразделения в совершенстве владели высшим пилотажем, а Валерий летал настолько мастерски, что с полным правом заявлял: «На самолете я чувствую себя гораздо устойчивее, чем на земле». И в самом деле, метрах в пятидесяти от земли он мог пройти в перевернутом полете — вверх шасси, выполнить при этом расчет на посадку, а затем, довернув машину в нормальное положение, точно приземлиться у посадочного знака.
И все же не полет, как таковой, а воздушный бой считал Чкалов настоящим призванием летчика-истребителя. «Высокий воинский дух и желание драться одни только освещают назначение воздушного бойца», — говорил он и настойчиво вырабатывал в себе бойцовские качества.
Как-то Чкалов участвовал в маневрах Балтийского флота. По условиям учений предполагалась высадка десанта, о чем надо было передать на флагманский корабль — линкор «Марат». Но оборвалась радиосвязь. Тогда командование решило доставить вымпел с донесением с помощью авиации.
Дело это было нелегкое. Прежде всего, участвовавшие в учениях боевые машины не рассчитывались для полетов над морем. А тут еще и погода ухудшилась: не на шутку разыгрался сильный шторм, полил дождь — поиск корабля в открытом море в таких условиях казался почти невозможным. Но приказ есть приказ, и, выбирая для выполнения задания двух наиболее опытных летчиков, комэск предложил Валерия Чкалова.
Едва взлетев, боевые машины тут же скрылись в непроглядной осенней мути. Аэродром напряженно замер, ожидая их возвращения. Но время тянулось мучительно медленно. Когда, по расчетам, горючее в баках должно было кончиться, с задания вернулся один летчик. Поиски корабля оказались бесплодными. А Чкалова все не было. Уже сгустились сумерки. Тяжелое предчувствие катастрофы обошло притихшую самолетную стоянку. Вдруг звонок!.. Это к телефону вызывали командира эскадрильи. Летчик Чкалов докладывал, что задание командования выполнено: вымпел с донесением сброшен па борт линкора «Марат».
Как потом выяснилось, Валерий летал метрах на двадцати над бушующим морем и читал надписи на бортах кораблей. Когда обнаружил «Марат», сбросил донесение и, на последних каплях бензина успев дотянуть до суши, благополучно приземлил машину на берегу.
«Не мог же я вернуться, не выполнив задания…» — объяснял он свое решение. И в этом был весь его решительный бойцовский характер, который потом даст право назвать Валерия Чкалова великим летчиком нашего времени.
Но прежде ему предстояло еще пройти немало суровых испытаний. «Так как мои полеты выделяются из других, то это нужно как-то отметить, — с горечью писал он жене Ольге Эразмовне. — И вот отмечают, как «воздушное хулиганство»…
Конечно, неправильно было работу молодого пилота Чкалова окутывать этаким ореолом ухаря, которому все нипочем. Пролететь, мол, под мостом пожалуйста. Разогнать с помощью самолета базар — пожалуйста. Да, случалось; что Валерий мастерски, с блеском выполнял рискованные полеты, но никогда не были они для него самоцелью, погоней за дешевой популярностью. У меня сохранился журнал «Вестник Воздушного Флота» тех лет, где есть любопытная мысль о требованиях, предъявляемых к военному летчику.
«Летчик должен обладать:
1. высоким воинским духом, основанным на гражданской доблести,
2. решительным характером,
3. нервным и быстрым темпераментом,
4. умственным и физическим развитием,
5. виртуозностью в пилотаже,
6. виртуозностью в стрельбе,
7. отличным знанием свойств своей машины и оружия».
Всеми этими качествами летчик-истребитель Валерий Чкалов обладал, можно сказать, в превосходной степени. Возможно, потому достаточно высоки были и предъявляемые к нему требования.
Так, 15 августа 1928 года Чкалов летел по маршруту Гомель — Брянск и решил потренироваться в управлении машиной на малых высотах. Но пошел дождь, летчик снизился до бреющего полета и налетел на телеграфные провода. Машина рухнула, разлетелась на части. Валерий остался жив.
Непомерно тяжелое наказание вынесли тогда пилоту за эту аварию — год тюремного заключения…
И вот, полный сил, энергии, дерзновенных планов, Чкалов оказался в камере-одиночке. «Как истребитель, я был прав и буду впоследствии еще больше прав», — пишет Валерий Ольге Эразмовне.
Однако вернуться в свою эскадрилью Чкалову не довелось. Вскоре его освободили, но уволили из рядов Воздушного Флота. С трудом Валерию удалось устроиться в Осоавиахим.
«Бывший военный летчик.
Истребитель.
Когда-то летал. Сейчас подлетывает на «юнкерсе».
Скучно и грустно смотреть на вас, Валерий Павлович.
Самолет вам не подходит по духу.
Ну, а в общем — катайте пассажиров. И то хлеб!»
Такую вот надпись сделал Чкалов в то время на своей фотографии. И как бы друзья ни просили начальство перевести его в боевую авиацию, ответ был один: недисциплинированные не нужны… Тогда Громов, только что совершивший перелет на самолете «Крылья Советов» но европейским столицам, и Юмашев обратились к Алкснису:
— Мы ведь тоже повинны в тех нарушениях, за которые поплатился Чкалов, но мы похитрее, делаем все, что диктует нам наш молодой темперамент, не на глазах, а поодаль. А Чкалову скучно в части, он полон энергии и во знает, во что ее вылить. Дайте ему настоящую работу летчика-испытателя. Там ему придется голову поломать…
— Вот это, пожалуй, аргумент убедительный, — согласился тогда Алкснис, и Чкалов получил работу испытателя в Научно-исследовательском институте Военно-Воздушных Сил.
Мелкие стычки с отдельными лицами в прошлом, приносившие Валерию много неприятностей, тонули в общем подъеме жизни страны, нашей первой пятилетки, в той динамичной работе летчика-испытателя, в которую Чкалов окунулся с головой.
Подробно ознакомился он вскоре со всеми данными самолета АНТ-25, получил разрешение опробовать его в воздухе и машиной остался очень доволен. Больше всего ему понравилась отменная устойчивость самолета в полете, легкость управления, богатое оборудование. Вместе с Байдуковым Чкалов внимательно изучил маршрут, вник во все подробности испытания и доводки самолета и пришел к твердому убеждению, что АНТ-25 — машина, при некоторых доделках, вполне пригодная к дальнему арктическому полету.
Обуреваемые страстным желанием снять незаслуженное пятно с отличного творения отечественной авиационной мысли, Чкалов и Байдуков решили обратиться к наркому тяжелой промышленности Серго Орджоникидзе, изложить ему свои соображения и просить разрешения испробовать самолет еще раз в дальнем полете на север.
На просьбу моих друзей Серго ответил, что сам он подготовку к полету разрешить не может, и обещал их свести со Сталиным. Такой случай представился на одном из совещаний в Кремле, куда Чкалов и Байдуков были приглашены как летчики-испытатели.
Во время перерыва они подошли к Серго Орджоникидзе и спросили, как же решен вопрос о дальнейшем беспосадочном полете.
Орджоникидзе ответил, улыбаясь:
— Не сидится вам, все летать хотите… Я сам не возьму на себя разрешения такого большого и сложного вопроса. Я спрошу у товарища Сталина.
И действительно, вскоре он подвел Чкалова и Байдукова к Сталину, Серго представил летчиков и, продолжая улыбаться, сказал:
— Вот все пристают… Хотят через Северный полюс лететь.
Сдерживая улыбку, Сталин попыхивал своей трубкой. Летчики стояли взволнованные и ждали ответа.
— Зачем лететь обязательно на Северный полюс? — спросил он. — Летчикам все кажется не страшным. Рисковать привыкли. Зачем рисковать без надобности? Надо хорошо и подробно все изучить, чтобы наверняка уже лететь туда. Помолчав, внимательно взглянул на летчиков и добавил: — Вот вам маршрут для полета: Москва — Петропавловск-на-Камчатке…
Утром мы собрались в ЦАГИ. Предстояло выбрать командира экипажа. Чкалов долго упирался, но я и Георгий единогласно утвердили его кандидатуру. Мы знали, что в этом человеке помимо воли, ума, мастерства летчика есть замечательное чувство товарищества и доверия к людям, а это — главное в работе экипажа самолета.
В тот же вечер мы распределили обязанности и стали готовиться к полету.
В 1935 и 1936 годах многие из наших летчиков были награждены орденами и медалями. Чкалов за испытательную работу — орденом Ленина. Мою штурманскую и преподавательскую работу в академии отметили орденом Красной Звезды.
После вручения орденов всех нас собрали в ЦДКА — Центральном Доме Красной Армии. В теплой, дружественной обстановке награжденных поздравляли руководители партии и правительства. И вот, выступая, Сталин сказал тогда, что в ближайшее время организуется беспосадочный полет из Москвы на Дальний Восток.
Эти слова ободрили нас и вместе с тем напомнили, что с подготовкой к полету медлить нельзя. Весь экипаж переселился в Щелково.
Прошло более двух месяцев. Мы изучали маршруты, осваивали радио, готовили снаряжение, испытывали самолет.
И вот последний контрольный полет.
Погрузив в кабину АНТ-25 имущество, мы приняли на борт инженера, радиста и поднялись в воздух. Приступили к уборке шасси.
Вдруг откуда-то снизу послышался треск. Все встрепенулись. На доске приборов ни одна сигнальная лампочка не горела. Ось лебедки, поднимающей шасси, не вращалась, хотя рубильник электромотора был включен. Одна нога застыла в полуубранном положении.
Чкалов в это время сидел за штурвалом и набирал высоту.
— Что-то неладное с шасси, — сказал Байдуков подошедшему инженеру. Сигнальные лампочки не горят, хотя сеть исправна. И лебедка не вращается.
— Не понимаю, что случилось, — ответил инженер, направляясь к подъемнику и тросам шасси. Вскоре он вернулся опечаленный.
— Дело плохо. Тросы, возможно, оборвались…
Что делать? Как спасти при посадке машину? Ведь впереди маршрут?.. Столько труда и времени потратили на подготовку — и такая неувязка…
Чтобы легче разобраться в повреждении, Георгий нарисовал схему подъема и выпуска шасси. Затем, сменив Чкалова, сел на заднее пилотское кресло. Я сообщил по радио о повреждении самолета и просил летчиков не подлетать близко: нам некогда было наблюдать за окружающим воздушным пространством.
Инженер тем временем поднял переднее сиденье пилота и убедился в том, что лебедка, поднимающая и выпускающая шасси, повреждена. Тогда Чкалов, разорвав единственный парашют, прикрепил лямки к выпускному тросу и начал тянуть изо всех сил в надежде, что шасси дойдет до переднего положения. Но даже огромной силы Валерия оказалось недостаточно. Натянутый трос и сдвинул левую ногу шасси вперед только на несколько сантиметров. Я с инженером начал было помогать — нога оставалась в прежнем положении.
— А что, если ногу удержать чем-нибудь, когда рывками троса она будет подаваться вперед? — предложил Георгий. — Может быть, мы потихоньку и поставим ее в крайнее положение?
Инженер взял маленький ломик и скрылся внутри левого крыла. С трудом пробирался он сквозь переплет лонжеронов, подкосов. Ломиком пробив крыло, увидел злосчастную стойку шасси. Тогда Георгий закрепил лямки за трос и позвал на помощь меня и радиста.
— Раз, два, взяли! — кричал он, а мы изо всех сил тянули.
Инженер закреплял каждый завоеванный сантиметр троса, пока наконец не вспыхнула зеленым огоньком лампочка левой ноги самолета.
Чкалов радостно крикнул:
— Ребята! Все в порядке!
Только тут мы заметили, что солнце уже скрылось за горизонтом и над лесами ложилась вечерняя пелена тумана.
Мы принялись за вторую ногу шасси — она не двигалась.
Я полез в передний пилотский отсек к Чкалову.
— А что, если попробовать сесть с одним колесом? Помнишь, Валерий, как ты садился раньше? Покажи свое мастерство и на этот раз — самолет будет спасен.
— Ладно, пошли на посадку, — принял решение Чкалов, — а то ночью будет садиться хуже…
Затаив дыхание, ждали мы встречи с землей. Вот мелькнули верхушки сосен. Валерий выключил зажигание. Замелькала трава. Мгновение — и самолет плавно коснулся земли одной левой ногой и хвостовым оперением.
Он бежал ровно, слегка кренясь набок, с каждой секундой замедляя бег. Наконец крыло коснулось земли, и самолет остановился.
Мы вылезли из кабины. Машина была цела. Подломился только узел правой ноги, которую нам в полете не удалось вытянуть.
Конструкторы пообещали исправить поврежденный узел в два-три дня. А под шестерней подъемной лебедки самолета мы обнаружили… сверло — результат чьей-то небрежности.
Наконец все работы закончены. Оставалось уточнить порядок радиообмена с землей. Связь эта была необходима для руководства полетом, она позволяла получить и немедленную помощь в случае вынужденной посадки. Отсутствие же связи, даже при благополучной посадке в малонаселенной местности, а тем более на лед, могло оказаться для нас гибельным.
На самолете стояла специально построенная коротковолновая радиостанция. Ее предварительные испытания показали, что при соответствующей выучке и навыках, пользуясь этой станцией, можно добиться двусторонней связи на несколько тысяч километров.
Главными пунктами связи были Москва и Хабаровск, а две другие земные станции, находящиеся на острове Диксон и в Якутске, должны были дублировать передачи.
Не менее важная задача заключалась в выборе волн, на которых должны были работать станции. Сделать это оказалось совсем не так просто. Огромное количество радиостанций самых разнообразных типов и мощностей, расположенных как на территории Союза, так и соседних стран, непрерывно излучали в эфир различные сигналы. Поэтому нам приходилось выбирать наиболее свободные участки диапазона волн и, кроме того, считаться с их так называемой проходимостью.
Все это повело к установлению особого, строгого расписания двусторонней связи самолета с землей. Самолет был обязан передавать на землю ежечасно сведения о своем местонахождении, о работе материальной части и самочувствии экипажа. Земля же должна была передавать на самолет необходимые сведения раз в три часа.
Мы подробно договорились о содержании радиограмм, которые должны были передаваться на самолет. Каждая радиограмма должна была содержать порядковый номер. Затем следовали оперативные указания, которые для быстроты передачи кодировались двузначными числами; дальше шли сведения о погоде, которую встретит самолет. Эти сведения также кодировались, причем, для того чтобы не затруднять передачу длинными названиями местности, весь район предполагаемого маршрута был разбит на соответствующие прямоугольники, обозначенные цифрами.
Все эти мероприятия значительно облегчили нам в полете связь с землей. А пока, сидя в разных комнатах, мы отрабатывали прием и передачу ключом, добиваясь, с чтобы радиограммы получались достаточно краткими и в то же время содержательными. Этот тренаж позволил нам отшлифовать все шероховатости кода, изучить его настолько, что перед полетом мы его знали почти наизусть.
И вот мы снова в Кремле. В небольшом зале я увидел сидящих за столом членов правительства. В стороне за отдельным столиком сидел Сталин. Он встал, подошел к нам, радушно поздоровался.
Попросив разрешения повесить на стену карту перелета, Чкалов стал подробно рассказывать о том, какими путями можно долететь из Москвы до Петропавловска-на-Камчатке.
Нами были разработаны три варианта. Мы защищали северный вариант маршрут с выходом за Полярный круг. С одной стороны, этот маршрут был удобен тем, что пролегал в районе многочисленных радиостанций Северного морского пути, с другой стороны, выход за Полярный круг в период арктического лета избавлял нас от полета в темноте в течение двух ночей из трех.
Сталин разобрался во всех обстоятельствах каждого предложенного варианта и сказал:
— Летите из Москвы до Земли Франца-Иосифа, оттуда свернете на Северную Землю и пересечете Якутию. От Петропавловска-на-Камчатке надо вернуться на материк через Охотское море к устью реки Амур, а дальше можете продолжать путь до тех пор, пока будут благоприятные условия погоды и хватит горючего.
Когда мы стали уходить, он поинтересовался:
— Скажите по совести, как у вас там, все ли в порядке? Нет ли червяка сомнения?
Мы хором ответили, что сомнений у нас никаких нет.
Представитель Наркомата тяжелой промышленности в это время доложил Молотову проект постановления правительства об организации полета. В проекте был пункт, в котором говорилось, что управление производится с земли с помощью радиостанций: экипажу в случае надобности могут быть отданы с земли те или иные распоряжения об изменении маршрута.
Сталин, услышав об этом, заметил:
— Какое управление с земли? Надо это вычеркнуть.
Мы поняли, что нам во время полета предоставляется широкая инициатива. Вместе с этим повышалась, конечно, и наша ответственность.
Из Кремля уходили радостные, взволнованные, с твердым намерением выполнить трудный беспосадочный перелет.
К вечеру 19 июля все было готово.
Врач, наблюдавший за нами, требовал, чтобы мы укладывались спать. Подъем рано — с рассветом, в два часа. И я слышал, как мои друзья, Валерий и Георгий, посмеивались надо мной:
— Ну, Саша умеет: приказал себе — и уснул, вот характер.
Чкалов завозился на постели, потянулся за трубкой.
— Накуриться нужно, трое суток придется воздерживаться.
— Да, брат, кури, я все выбросил из крыла, ни пачки табаку, — заметил Байдуков.
— Неужели, Егор, все выбросил? Врешь, поди? Наверное, где-нибудь оставил?
— Даю слово… — клялся он.
— Ну да, ведь ты теперь наш доктор! — улыбнулся Валерий и вылез из-под одеяла.
— Знаешь, я думаю взять прокуренную трубку, будем хоть сосать — и то ладно.
До подъема оставалось два часа…
— Валериан, а как думаешь насчет полюса?
— Не разрешат, Егор.
— А если дать радиограмму с Земли Франца-Иосифа: «Просим прямо до полюса»?
— Неудобно. Но на всякий случай карты нужно иметь.
— У нас все приготовлено — и карты, и справочники, и даже расчеты к полюсу.
Чкалов сел на койке, подобрав под себя ноги.
— Пролетим по этому маршруту, экзамен выдержим, тогда уж обязательно разрешат прямо через полюс.
— А всего-то от полюса пройдем в пяти часах полета.
— Верно, почти рядом…
Утро подкрадывалось медленно, расталкивая темноту. На аэродром мы приехали раньше срока, и, когда стало совсем светло, краснокрылый гигант послушно потащился за маленьким буксиром-тягачом. А в 2 часа 44 минуты 20 июля 1936 года тяжело перегруженный самолет АНТ-25 надолго отделился от Щелковского аэродрома и лег курсом на север.
Георгий сидел сзади Чкалова, по-детски радостно пожимая сильные плечи пилота, хвалил его за хороший взлет.
Итак, прямо на север, к острову Виктория! Какое странное спокойствие на корабле. Чкалов сидит за штурвалом, поглядывая вниз, любуясь красивыми перелесками. Георгий записывает очередную радиограмму. Я ложусь отдыхать. Словно тысячу раз летали мы в такие рейсы — все идет уверенно, гладко, без тени напряжения.
Но это обманчивая видимость. И хотя в нашем небольшом двузначном коде для связи по радио есть фраза «Все в порядке» (по коду — цифра 38), хотя Георгий и я пользуемся ею часто — почти в каждой передаче на землю, однако уже есть сигналы трудностей. При нормальной работе мотора вдруг происходит выхлоп в карбюратор. На фоне ровного гула, к которому ухо привыкает настолько, что и не замечаешь работы мотора, раздается сильный хлопок, значительно превосходящий гул мотора. Начиная с высоты 2000 метров Чкалов начал пользоваться обеднением и подогревом смеси в двигателе. После хлопка он уменьшает обеднение и подогрев и ждет. Хлопков больше нет. Чкалов постепенно доводит обогрев и обеднение смеси до предписанной нормы.
Через девять часов полета мы вышли на северный берег Кольского полуострова. Далее перед нами — безбрежное Баренцево море. Летим в том самом отроге высокого атмосферного давления, которое, по мнению метеорологов, обеспечит спокойный вход в Арктику. Летим выше облаков. Они настолько ярко освещены солнцем, что приходится надеть очки со светофильтрами.
Баренцево море от Мурманского побережья до Земли Франца-Иосифа не пересекал еще ни один самолет. Пролетали только дирижабли «Норвегия» да «Италия» из экспедиции Амундсена и Нобиле, которые направлялись на Шпицберген. Летал дирижабль «Цеппелин», который в 1931 году пересек море от Архангельска до Земли Франца-Иосифа. И Чкалов смело прокладывает новый воздушный путь.
Но вот Валерий уже устал, просит смены. По масляному баку к нему пробирается Георгий. Начинается смена. Чкалов на своем сиденье первого летчика отодвигается влево и, придерживая рукой штурвал, переносит обе ноги на левую педаль. Георгий протискивает свои ноги правее летчика — ставит их на правую педаль. Затем Чкалов откидывается назад и вылезает из передней кабины. Смена летчиков трудна. Но Байдуков уверял, что сменяться таким образом даже интересно — отвлекаешься от однообразного длительного полета. Однообразие клонит ко сну, внимание летчика притупляется. Бывали случаи, когда кто-то из пилотов клевал носом. Самолет при этом тоже клевал и выводил летчика из сонного оцепенения.
Наше местонахождение я определяю расчетом времени и астрономическими наблюдениями. С помощью секстана беру высоту Солнца, пользуясь таблицами предвычислений, которые для нас изготовил астрономический институт имени Штернберга, наношу на карту линию равных высот. Расчеты показывают, что мы уже достигли острова Виктория, хотя его и не видно из-за облаков. Это значит, что пролетели уже 2700 километров.
Пишу записку Чкалову, сидящему за штурвалом. В записке новый курс — на восток. Валерий улыбается, указывает рукой в сторону Северного полюса.
— Чешем напрямую — через полюс в Америку!.. — шутит он.
Около 20 часов по Гринвичу облачность стала редеть, под нами открылся редкой красоты зимний пейзаж Земли Франца-Иосифа.
Многочисленные острова во многих местах занесены снегом, проливы между островами забиты сплошным льдом. Только черные скалистые очертания кромки берегов показывают, что под нами действительно острова. Суровая неизведанная пустыня простирается кругом — никаких признаков жизни. Вот она Арктика…
Самый северный из островов архипелага Франца-Иосифа — остров Рудольфа. И невольно вспомнились стихи Ивана Андреевича Бунина: «Окраина земли, безлюдные пустынные прибрежья, до полюса открытый океан…»
Чкалов снял шлем. Мы почтили память полярного исследователя старшего лейтенанта Георгия Яковлевича Седова, погибшего здесь в 1914 году. Он шел на санях до Северного полюса и умер в пути. Матросы Г. В. Линник и А. М. Пустотный, сопровождавшие Седова, захоронили его тело на одном из мысов острова.
Могилу Георгия Седова пытались найти. В конце двадцатых годов на Земле Франца-Иосифа, в бухте Тихой, где некогда зимовало судно Седова «Св. Фока» и откуда отважный исследователь направился к полюсу, строилась первая советская полярная станция. Отто Юльевич Шмидт решил обследовать берег мыса Бророк на ледокольном пароходе и достиг широты 82 градуса. Но следов захоронения Георгия Седова не обнаружил. И только в 1938 году зимовщики полярной станции на острове Рудольфа Я. Либин, Ф. Зуев, И. Лебедев, В. Бобков, И. Мельников, Н. Мартынов, М. Нестерович, С. Воинов, В. Сторожко, Р. Райхман отыщут на каменистом берегу истлевшие куски брезента, веревок, меховой одежды, небольшой топорик и флагшток. На флагштоке сохранились лоскутки русского трехцветного флага и медная соединительная втулка с надписью: «Polar Expedition Sedow. 1914»… Этот каменистый берег и был местом захоронения Георгия Седова.
— Саша, доставай скорее свой фотоаппарат, сними-ка Землю Франца-Иосифа, а то опять ее закроют облака, — предложил Валерий.
Я быстро достал ФЭД и запечатлел на пленке общий вид островов. Особенно хорошо вышли на снимках отдельные возвышенности в виде небольших гор столбового и башнеобразного типа. Их еще называют куполами. Ледяные вершины-купола покрывают почти девяносто процентов территории, и на Земле Франца-Иосифа, как подсчитано сравнительно недавно, таких куполов 350, а островов — 191. Уникальный архипелаг из базальта и льда был открыт 30 августа 1873 года экспедицией плененного льдами австро-венгерского судна «Тегетгоф».
Пройдя эти острова, мы продолжали путь над ярко освещенной водной поверхностью. Стали появляться отдельные льдины, затем ледяные поля. Летим в условиях полярного дня — бессонного незаходящего солнца…
Но вскоре появился верхний слой облаков. Это обеспокоило — признаки приближения к мощному циклону. Пытаемся обойти его с севера. Изменяем курс девятнадцать раз. Земли не видно. Летчики часто меняются. Я работаю без отдыха.
Валерий лег в спальный мешок, хочет уснуть, но не прошло и тридцати минут, как он поднялся и начал подкачивать масло. Трудоемкая, важная работа. Чкалов успешно ее закончил и, вздрагивая от холода, вновь кутается в спальный мешок. Через три часа он снова попытался поесть шоколада, но отложил его в сторону. Нет аппетита — признак начавшегося кислородного голодания. Выпив воды, он полез сменять Георгия. Замечаю улыбку на его лице. Довольный, что у штурмана все в порядке. Байдуков пошел на маслобак — наше постоянное место отдыха, чтобы попытаться уснуть.
Суровому испытанию подвергает Арктика самолет и экипаж. Но мы все же двигаемся на восток, к островам Северной Земли.
Циклон остался позади. Вот уже пересекли широкую ленту реки Лены, летим над просторами Якутии. Внизу сизая дымка при незаходящем низком солнце. Появились горы. Пересекли хребты Кулар, Бао-Хой, хребет Черского.
В 13 часов 10 минут Байдуков передал на землю подробную радиограмму: «Все в порядке… Убедились сегодня в коварности Арктики, узнали, какие трудности она несет и какие вместе с тем сказочные прелести таит она в себе. Неуклонно выполняем задание, трудности нас не пугают. Всем привет, Байдуков».
19 часов 30 минут. На борт поступает радиограмма:
«Самолет АНТ-25.
ЧКАЛОВУ, БАЙДУКОВУ, БЕЛЯКОВУ.
Вся страна следит за вашим полетом. Ваша победа будет победой Советской страны. Желаем вам успеха. Крепко жмем ваши руки.
СТАЛИН, МОЛОТОВ, ОРДЖОНИКИДЗЕ,
ДИМИТРОВ».
22 июля, три часа по Гринвичу. После надоевших облаков неожиданно открылось «окно». Внизу — город. Мы над Петропавловском. Перелет на Восток через Арктику совершен!
Радость и волнение охватили наш экипаж. Срочно написали привет жителям Петропавловска и сквозь нижнее окно самолета опустили вымпел.
Я вычислил курс на Николаевск, Георгий сменил Валерия и повел самолет по курсу 277 градусов на Николаевск. Справа торчала окутанная курчавой шапкой облаков Коряцкая сопка, дальше — бескрайнее море облачности. Облака закрывали всю камчатскую землю и видимую часть Охотского моря. Лишь временами появлялось «окно» в облаках, и сквозь него, с высоты 4200 метров, мы видели волны одного из самых бурных морей.
Шли напряженные часы, последние часы перелета. Запросили Николаевск и Хабаровск о погоде. По радио дали совсем не то, что нам нужно: Охотское море — штормовой ветер, туман с дождем, Николаевск — нулевая видимость, густой дождь с туманом.
Экипаж напрягал все силы и нервы, стараясь трезво взвесить обстановку.
Предложили Валерию снизиться, чтобы войти в Амурский лиман и ночью лететь над Амуром. Чкалов пошел на крутое снижение, перед Сахалином выскочили на высоте 50 метров и началась неимоверная болтанка.
Усиленно стараемся вызвать Николаевск-на-Амуре, но он молчит.
Самолет резко болтает, хвостовое оперение вздрагивает. Дождь стал настолько сильным, что определить расстояние до воды невозможно. Но вот мелькнуло восточное побережье Сахалина. Мы точно вышли на маршрутный пункт. Земля облегчила вождение самолета, однако остров кончился — и вновь только буруны Татарского пролива перед нашим взором да стена дождя.
Вдруг слева, выше плоскостей, мелькнула гора. Очевидно, мыс Меншикова. Дальше лететь небезопасно, и мы приняли решение пробиться вверх и своим излюбленным методом — полетом над облаками — пойти на ночную посадку в Хабаровске. Чкалов набирал высоту. Быстро двигалась стрелка альтиметра. Уже 1500 метров. Началось быстрое падение температуры воздуха. Стабилизатор самолета покрывался льдом — признак весьма скверный.
Тянулись тяжелые секунды. Высота — 2500. Обледенение прогрессировало. Окна затянулись слоем льда. Чкалов убавил газ и пошел на снижение.
Было 9 часов 25 минут. Все же Байдуков успел передать радиограмму: «Туман до земли. Беда. Дайте немедленно хабаровскую широковещательную. Срочно запускайте десятикиловаттную. Обледеневаем в тумане. Давайте наш позывной непрерывно словами. Байдуков».
Напряжение достигло предела. Дождь, туман, лед… Чкалов продолжал снижаться. Мы еще делаем попытки связаться по радио с Николаевском. Безрезультатно. Закончив передачу радиограммы в Хабаровск, Георгий начинает ловить в эфире отдельные слова: «…Приказываю прекратить полет… Сесть при первой возможности… Орджоникидзе».
Сесть. Но куда? К берегу можно безопасно пробраться, только пройдя над поверхностью моря. На материке же самолет обязательно воткнется в какую-либо сопку. Мы берем курс обратно — к водам Татарского пролива. Чкалов сбавил газ. Самолет планирует. По мере снижения обледенение проходит. От дождя лед довольно быстро тает. Тряска прекратилась.
Наконец мы снова оказываемся над бушующим морем на высоте 20–30 метров и еще раз пытаемся пробиться к берегу.
При вторичной попытке обнаружили низменные острова. Над одним из них пролетали уже несколько раз. Остров представлял собой узкую косу, а может быть и отмель, на которой еле виднелись какие-то постройки. Проверяя курс, которым пролетали вдоль острова, я нашел, что он расположен с северо-запада на юго-восток. Рассматривая карту, я отыскал подобный остров в заливе Счастья. На карте значилось: о. Ур.
Итак, все возможности пробиться на материк были исчерпаны. Дальнейшие розыски устья реки Амур в темноте могли окончиться ударом самолета о береговые возвышенности. Рисковать мы не имели права. Решили садиться.
Залив Счастья, вероятно, не раз спасал мореплавателей от шторма. Теперь ему еще раз приходилось спасать, но уже не моряков, а летчиков.
Строения, которые мы заметили на острове, оказались рыбхозом, то есть рыбачьим поселком. Шум мотора огромного краснокрылого самолета, носившегося над островом, взбудоражил все его население. Люди выскакивали из домов и, подняв головы, следили за самолетом. Две коровы, задрав хвосты, метнулись через овраг.
Вдруг группа людей выбежала как раз на то место, которое Валерий Павлович облюбовал для посадки. Тогда Байдуков решил бросить вымпел с объяснением, что самолет будет садиться. Он вложил записку в жестяную коробочку с яркой широкой лентой и сбросил вымпел недалеко от людей. Наблюдаем за результатом. Два человека подняли вымпел и старательно рассматривают ленту. Они не догадываются, что надо открыть круглую жестяную коробочку.
Вымпел не действует. Валерий Павлович заходит несколько в сторону от группы людей и начинает посадку. Он кричит Байдукову, чтобы тот приготовился выпускать шасси. Рубильник включен на выпуск. Электромоторчик сматывает трос, и шасси быстро становится на свое место. Теперь самолет готов для посадки.
Чкалов отыскивает площадку вдоль длинной стороны островка и сбавляет газ. Самолет приближается к земле, но в самый последний момент перед приземлением Валерий Павлович замечает огромную выемку, наполненную водой. Полсекунды промедления — и самолет был бы изломан. Однако движения Чкалова точны и быстры. Левая рука привычно дает газ, и наш безотказный мотор легко перетягивает самолет через последнее препятствие.
Газ убран до конца. Самолет подходит к земле и тремя точками касается ее поверхности. Маленький пробег… Сразу стало как-то необычайно тихо.
Самолет неподвижен. Я открыл задний люк. Через несколько секунд мы, усталые, вылезаем из машины.
При моросящем тумане в меховых унтах выглядим, очевидно, чудовищами. Подходят гиляки, русские рыбаки и смотрят настороженно — очевидно, смущает иностранная надпись на крыльях. Первое, что бросилось в глаза, — мужчины носят косы.
— Откуда прилетели? — спрашивают сразу несколько голосов.
— Из Москвы!
Изумление и недоумение выражают лица спрашивающих. Мне хочется рассеять подозрение собравшихся, рассказать им о полете, но сейчас некогда, уже темнеет, надо немедленно сообщить о посадке.
— Как называется селение? — в свою очередь спрашиваю я.
— Рыбный промысел Удд.
— Как Удд? — говорю я. — У меня на карте написано остров Ур.
— Такого не знаем, — отвечают мне. — Наш остров называется Удд.
Появляется Чкалов. Он расспрашивает, имеет ли рыбный промысел какую-либо связь с Николаевском. Оказывается — нет. Байдуков, немного отдохнув, начал осматривать антенну. Она была своевременно смотана и сейчас находилась в полном порядке. Закончив осмотр, Георгий Филиппович предложил мне наладить питание радиостанции от аккумулятора и передать сообщение о нашей посадке. Мы влезаем в кабину и вместе составляем текст радиограммы.
Так как название острова продолжает оставаться неясным, отыскиваем на карте широту и долготу места посадки. Стемнело настолько, что в кабине пришлось зажечь огни. Аккумулятор работает прекрасно, и лампочки светят ярко. Дождь не перестает, и мы уже порядочно вымокли. Закрыли крышку люка, и в кабине стало даже уютно.
Чувствую, что головная боль у меня почти прошла. Вялость — тоже. Голова работает хорошо.
Я подготавливаю радиостанцию. Выпускаю антенну, которую Байдуков одним концом привязывает за скобу под плоскостью самолета. Превозмогая усталость, стараюсь четко воспроизвести ключом знаки Морзе и передаю радиограмму: «Сидим на острове Удд. Экипаж в порядке, нужна техническая помощь для вылета…»
В это время местные жители с любопытством рассматривают наш самолет. Они ходят кругом, трогают его руками.
Стемнело настолько, что едва различаем расположенные в полукилометре от нас домики. Чкалов уже несколько раз кричал нам, чтобы мы прекратили работу и выходили из самолета. Байдуков вытаскивает из плоскости один из аварийных мешков с продовольствием. Я убираю радиожурнал в сумку, чтобы его не замочило дождем. Плотно прикрываем люк, захватываем спальные мешки и отправляемся в поселок.
Из местных жителей около самолета уже никого нет: дождь разогнал всех по домам. Наши унты промокли насквозь.
Идем на огонек и попадаем в квартиру начальника лова товарища Тен-Мен-Лена. Нас приветливо встречает хозяйка Фетинья Андреевна Смирнова, предлагает отдохнуть. Хозяина нет. Он ушел искать коров… Мы вспоминаем двух коров, мчавшихся от нашего самолета куда-то в глубь острова, но пока об этом дипломатически молчим.
Разрезав продовольственный мешок, торопимся поскорее закусить. Аппетит восстановился; чувствуем, что мы голодны, но от усталости не можем есть, хочется спать…
В аварийном запасе продовольствия имелся коньяк. В эту минуту он был для нас прекрасным подкреплением. С благодарностью вспоминаем организаторов перелета за ассортимент и качество продуктов.
Опустошив несколько банок консервов, наскоро выпив чаю, расстилаем на полу спальные мешки и валимся, как убитые, спать, хотя в ушах еще гудит ровная песнь мотора и позывные РТ и УО.
Слышим, как вернулся хозяин дома. Коровы найдены. Домик погружается во тьму. Только здоровый храп троих усталых гостей нарушает его тишину.
На следующий день все газеты Советского Союза опубликовали официальное сообщение:
«Беспосадочный дальний перелет летчиков ЧКАЛОВА, БАЙДУКОВА и БЕЛЯКОВА
Экипажу самолета АНТ-25 было дано задание: пролететь без посадки по маршруту Москва — Баренцево море — Земля Франца-Иосифа — мыс Челюскина до Петро-павловска-на-Камчатке. В дальнейшем, при наличии благоприятных условий и погоды, самолету следовать дальше по направлению Николаевск-на-Амуре Чита.
Экипаж самолета блестяще справился с поставленным заданием. Пробыв в воздухе пятьдесят шесть часов двадцать минут, самолет покрыл расстояние в девять тысяч триста семьдесят четыре километра, из них восемь тысяч семьсот семьдесят четыре километра по заданному маршруту и шестьсот километров на обход циклонов в районе Северной Земли и Охотского моря.
При полете экипажу самолета пришлось преодолеть исключительные трудности. В районе Северной Земли АНТ-25 попал в сильный арктический циклон с многоярусной облачностью. В течение пяти с лишним часов экипаж пробивался на высоте более четырех тысяч метров слепым полетом при лобовом ветре, временами доходящем до семидесяти километров в час, при обледенении самолета.
Героический экипаж АНТ-25 преодолел все трудности перелета через Становой хребет.
Успешно достигнув Петропавловска-на-Камчатке, самолет, сбросив над городом вымпел, взял курс на Николаевск-на-Амуре.
В Охотском море на пути из Петропавловска на Ни-колаевск АНТ-25 попал в исключительно сильный южный циклон, с густым туманом и сильной облачностью, что привело к сильному обледенению самолета.
Как только Наркомтяжпром получил сообщение об исключительно тяжелых метеорологических условиях полета, народный комиссар тяжелой промышленности товарищ Орджоникидзе, считая, что задание уже выполнено экипажем, отдал командиру АНТ-25 товарищу Чкалову по радио приказ прекратить дальнейший полет.
В тринадцать часов сорок пять минут товарищ Чкалов с исключительным мужеством и мастерством, в сплошном густом тумане, совершил посадку западнее Николаевска-на-Амуре, на маленьком прибрежном островке Удд.
Из девяти тысяч трехсот семидесяти четырех километров пройденного пути самолет АНТ-25 пролетел над Баренцевом морем, Северным Ледовитым океаном, Охотским морем около пяти тысяч ста сорока километров.
Самочувствие товарищей Чкалова, Байдукова и Белякова, несмотря на колоссальное напряжение сил, которого потребовал беспримерный перелет, хорошее. Самолет в порядке.
Главное управление авиационной промышленности Наркомтяжпрома».
Сотни телеграмм и тысячи приветствий посыпались к нам от граждан всей нашей необъятной страны. Валерий удивлялся:
— Ну что мы особенного сделали»? Я, ребята, думаю, что каждый бы так выполнил задание, как мы, грешные, — и, посасывая трубку, долго ходил по маленькой комнатушке, о чем-то раздумывая…
В этот день, ранним утром, с самолета, прилетевшего из Николаевска, к нам пришло приветствие и поздравление из Кремля:
«Экипажу самолета АНТ-25
ЧКАЛОВУ, БАЙДУКОВУ, БЕЛЯКОВУ
Примите братский привет и горячие поздравления с успешным завершением замечательного полета.
Гордимся вашим мужеством, отвагой, выдержкой, хладнокровием, настойчивостью, мастерством.
Вошли в Центральный Исполнительный Комитет Союза ССР с ходатайством о присвоении вам звания Героя Советского Союза и выдаче денежной премии комаш диру самолета Чкалову в размере тридцати тысяч рублей, летчику Байдукову и штурману Белякову — по двадцать тысяч рублей.
Крепко жмем ваши руки
СТАЛИН, МОЛОТОВ, ОРДЖОНИКИДЗЕ, ВОРОШИЛОВ, ЖДАНОВ».
…Остров Удд оказался отлогой узкой косой, выступающей из воды всего на 8 — 10 метров. Длина острова около 18 километров. Поверхность — галька и песок, растительность скудная. Зимой залив Счастья, где расположен остров, замерзает и покрывается снегом.
25 июля Чкалов предпринял сложную попытку взлететь. Для этого жители острова перетащили наш самолет с помощью канатов и веревок на более ровную площадку. Но здесь была такая же галька. Взлет оказался невозможным. Тогда Чкалов предложил устлать досками полосу длиною хотя бы метров четыреста и с такой просьбой обратился к маршалу Блюхеру, находившемуся в Хабаровске. Вскоре на острове началось строительство взлетной полосы в виде настила бревен и досок. Потребовалось около 12 тысяч кубометров пиломатериалов. Их доставляли к острову баржами.
И 1 августа взлетная площадка на острове была готова: узкий настил из досок шириною 50 метров и длиною около 500 метров.
На следующий день Чкалов с непревзойденным мастерством произвел взлет. При плохой погоде мы пролетели более 600 километров и опустились на аэродроме в Хабаровске. Среди встречавших нас дальневосточных жителей был и маршал В. К. Блюхер.
Много оказалось желающих повидать экипаж Чкалова, послушать рассказы о перелете. А нам не терпелось лететь в Москву. 7000 километров АНТ-25 легко бы преодолел, но Орджоникидзе потребовал выполнять посадки в Чите, Красноярске, Омске.
Западно-Сибирская равнина с полями, лесами, озёрами и болотами, особенно путь от Новосибирска до Омска, вызвали много воспоминаний у Георгия Филипповича Байдукова. Здесь в 1907 году он родился в семье железнодорожного рабочего — на разъезде Тарышта. В Омске окончил профшколу. В 1925 году добровольно поступил в Красную Армию, в школу летчиков, и на Каче, возле Севастополя, в 1927 году совершил свой первый самостоятельный полет.
И вот под нами его любимое озеро Убинское, полное зарослей и дичи. По радио сообщили, что отец и брат Байдукова вылетели в Омск. Георгий с волнением ожидал этой встречи и жалел, что не увидит мать Ирину Осиповну. Вот уже река Омь, за ней полноводный Иртыш, на его берегах город Омск.
Интересна первая встреча этих дорогих моему сердцу людей.
Впервые с Георгием Байдуковым Чкалов познакомился на испытательном аэродроме, куда он прибыл с группой молодых инструкторов для допуска к ночным полетам. Позднее Георгий вспоминал, как Чкалов подошел к нему и низким, немного осипшим голосом спросил:
— Как фамилия?
— Байдуков.
— Сколько лет летаешь?
— Пять!
— На чем летал?
— На разведчиках.
— Да не то я спрашиваю. На Р-1 летал?
— Так точно. — Георгий отвечал, слегка пораженный грубоватым тоном и тем, что Чкалов обращается на «ты».
— Ну так бы и сказал, что летаю на Р-1, а то на разведчиках! Помолчав, добавил: — Садись в самолет, я сейчас приду.
Не сказав, где стоит самолет, Чкалов скрылся.
— Сердитый мужик, — прокомментировал кто-то из молодых.
— Да, странно, как это он смело и просто обращается на «ты», как будто знает нас уже давным-давно.
Байдуков заспешил к самолетам, чтобы отыскать, а вернее, угадать машину, на которой должен был отправиться в экзаменационный полет.
Пробегая вдоль ряда машин, он старался услышать хорошо запомнившийся голос Чкалова, чтобы узнать, где же самолет, на котором лететь. Но гул моторов не позволял отыскать инструктора. И тогда Георгий, надеясь вызвать его на голос, крикнул:
— Чкалова к командиру! — и натолкнулся на двух пилотов.
— Чего орешь? К какому командиру? Это был Чкалов. Георгий замолчал, соображая, как выкрутиться из глупого положения.
— К какому командиру? — вновь повторил вопрос Чкалов и, чувствуя что-то неладное, подошел вплотную, зажег спичку. Освещая лицо, он вдруг засмеялся: — Байдуков, ну чего молчишь?
Резкие складки его лица на мгновение размякли, но спичка угасла, и Георгий в темноте видел лишь силуэт — короткий, широкоплечий и какой-то спокойный в движениях.
— Закури! Сейчас пойдем…
Шумело от свиста рассекаемого воздуха, на небе блуждали синие, красные, белые огоньки самолетов. Вскоре подошли к двухместному биплану, и Георгий облегченно вздохнул — этот тип машины был хорошо знаком по строевой части.
— Чего вздыхаешь? — спросил Чкалов и добавил: — Почему тебя перевели к нам?
— Приказом, товарищ командир!
— Все мы приказом, да все по разным причинам… Давно не летал ночью?
— Давненько, полгода будет с осенних маневров, — ответил Георгий.
— Ну, давай в кабину… Задание — простой полет по кругу.
Механик самолета шепотом напутствовал Байдукова:
— Смотри не подкачай. Чкалов не любит, чтобы потихоньку, а то будет «возить», страшно не любит трусливых полетов.
Через несколько секунд машина уже неслась над крышами ангаров. Отблеск ли спокойно ожидающих глаз инструктора, которые Георгий заметил в переднем зеркале самолета, или совет механика подействовал на его психику — после ангара он заложил такой глубокий разворот, что даже самому показалось странным, как это самолет так терпеливо исполняет капризы летчика.
И совершенно неожиданно перед носом Георгия вырос огромный палец руки инструктора, задранный вверх. Этот преднамеренно смелый и грамотно выполненный разворот на малой высоте решил участь новичка. После посадки Чкалов вылез из задней кабины и, перевесившись через борт, сказал:
— Хорошо, ничего не скажешь. Лети в зону и потренируйся сам, в чем чувствуешь нужду. А мне нечего с тобой возиться.
— Есть, товарищ командир!
— Ну ты заладил — «товарищ командир», зови просто Чкалов, ты ведь тоже командир и такой же инструктор, как и я.
— Хорошо, товарищ Чкалов! — ответил Байдуков, улыбаясь.
— Да! А зовут-то тебя как?
— Георгий!
— Ну-ну, значит, Егор, а по-нашему, по-волжскому, Егорушка… Вот и дуй, Егор, а я еще с другими должен заняться на этой машине.
На следующее утро Георгий узнал, что остальных его товарищей Чкалов так и не выпустил в ту ночь, когда он сделал разворот «по душе инструктору», не любившему трусливых полетов…
Но вот приближался к финалу полет, который оказался «по душе» не только летчикам Чкалову и Байдукову. Известие о беспосадочном дальнем перелете чкаловского экипажа облетело весь мир. «Для американцев перелет Линдберга через Атлантический океан летом 1927 года был выдающейся вехой в истории авиации, но я уверен, что каждый американец, включая самого Линдберга, признает, что перелет «АНТ-25» является новой вехой равного значения, писал корреспондент «Нью-Йорк таймс». — Этот полет будут приветствовать по всему миру, как великий шаг в области человеческого прогресса, и каждый советский гражданин, как мне кажется, имеет полное право неизмеримо гордиться им».
И полет наш действительно приветствовали.
Из Парижа в редакцию «Правды» позвонил известный летчик и авиаконструктор Луи Блерио, совершивший в 1909 году исторический перелет через Ламанш:
«Я только что узнал из газет о прекрасном перелете, совершенном тремя советскими летчиками. Этот перелет будет иметь большое значение, поскольку он сопровождался длительной, образцовой подготовкой и был совершен в чрезвычайно трудных условиях. Советские летчики выбрали трассу, проходившую по совершенно не исследованным районам. Они сами предпочли тяжелую борьбу с трудностями установлению рекорда в более легких условиях.
Я был бы рад познакомиться с конструктором моноплана АНТ-25 Туполевым и надеюсь его увидеть в Париже во время предстоящей в ноябре Международной авиационной выставки».
Маршал английской авиации Джон Салмонд в обращении к читателям «Правды» сказал:
«Перелет Чкалова и его спутников поражает человеческое воображение своей грандиозностью. Чудесна сила авиационной техники, которая позволяет преодолеть без остановки такие колоссальные пространства, к тому же явно недоступные для другого вида транспорта.
Перелет был совершен советским пилотом на советской машине, с советским мотором. Это демонстрирует перед всем миром блестящую техническую оснащенность Советской страны».
В Лондоне же летчик-рекордсмен Скотт, совершивший рекордные перелеты в Австралию, тоже отозвался о нашем перелете:
«Только тот, кому приходилось проводить в воздухе долгие часы за рулем, за летательными приборами, может по-настоящему оценить все трудности дальнего беспосадочного полета. Чкалов и его товарищи летели тысячи километров над полярными областями, где природа занимает особенно неприступные позиции, но люди, советские люди победили.
Перелет Чкалова — замечательное, выдающееся достижение. Оно дало всему миру неопровержимое свидетельство высокого технического уровня советской авиации и исключительного мастерства ее пилотов».
С огромным интересом за полетом АНТ-25 следила вся польская, румынская, шведская, турецкая, японская, китайская печать.
В одной лишь Германии факт дальнего беспосадочного перелета советских летчиков обошли молчанием. Только газета «Франкфуртер цайтунг» и поместила краткое сообщение своего московского корреспондента, отметив тщательность подготовки полета да усовершенствованное оборудование самолета.
Но удивительно, насколько пророческими оказались слова знаменитого американского исследователя Арктики Стифансона, сказанные в те дни по поводу дальних перелетов. Выразив восхищение нашим экипажем, Стифансон заявил:
«Перелет показывает, что советские машины делают возможными арктические перелеты между Советским Союзом и США. Если бы Чкалов перелетел такую же дистанцию через Северный полюс, он бы достиг Чикаго или Сиэтла».
Так оно и вышло. Спустя год мы достигли Америки, преодолев Северный полюс. Но в те памятные для нас дни слова известного полярника, признаться, затерялись в общем потоке приветствий и поздравлений. По пути в Москву мы останавливались в Чите, Красноярске, Омске, всюду нас встречали восторженно, несказанно радостно. Это уже был не полет по маршруту, а триумфальное шествие нашей авиации.
Когда мы прошли Свердловск, затем Казань, штаб перелета предупредил, что самолет должен приземлиться в Щелково точно в 17 часов. Почему такое загадочное требование? Мы подсчитываем время. Ветер нам помогает, поэтому прилетим в Щелково раньше 17. Чкалов просит сообщить на землю: «Ввиду избытка времени разрешите до посадки в Щелково зайти на Москву». Через некоторое время получаем ответ: «Вас встретит эскадрилья легких самолетов у станции Черусти. Можете зайти на Москву. Ждем вас в Щелкове к 17 часам».
Скоро нас встретила группа самолетов, мы прошли над Москвой и повернули вдоль шоссе на Щелково. Сбавляем газ, делаем большой круг над аэродромом, выпускаем шасси, заходим на посадку. Сердце у всех стучит быстрее, глаза горят, на лицах радостная улыбка.
Приземляет АНТ-25 Чкалов. Пробег у нашей машины порядочный, тормозов нет. Поэтому надо терпеливо ждать остановки самолета. Дюралевые листы обшивки и боков похрустывают, как косточки. Мотор на малом газу работает тихо-тихо. Наконец самолет останавливается. Перелет окончен.
Я и Георгий выпрыгиваем на землю, чтобы легче было рулить. Сейчас подъедет или подбежит техник с колодкой под колеса, без чего самолет не может развернуться.
Около здания поста управления на границе аэродрома видим много рядов встречающих нас людей. Но что это? От ворот аэродрома отделяются легковые автомобили. Они быстро движутся по летному полю и направляются к севшему самолету. Вот первая из них останавливается рядом с самолетом, открываются дверцы, и выходит Орджоникидзе, затем Ворошилов, Сталин.
Валерий в это время еще стоял на крыле самолета. Машу ему рукой и кричу:
— Спрыгивай!
Увидев приехавших и в спешке не нащупав ногой стремянки, он скатывается по красной полированной обшивке крыла на землю. Поправив свою короткую куртку, крупными шагами, почти бегом, идет рапортовать об окончании маршрута членам Политбюро.
Весело и дружески улыбнувшись, Сталин широко раскинул руки и крепко обнял Чкалова.
Мы идем к трибунам. Среди встречающих наши близкие.
Митинг открывает Серго Орджоникидзе, и после поздравительных речей говорит Чкалов.
— Мне здесь хочется сказать, — громко разносится его голос, — что нас не три человека, а нас тысячи человек, которые также могут выполнить любой маршрут по заданию Родины.
Его слушают, одобряют пришедшие на митинг летчики, инженеры, техники, радисты научно-испытательного института, в котором Валерий работал несколько лет. А потом нас везут в Москву в автомашинах, украшенных гирляндами цветов. В городе экипаж приветствуют тысячи москвичей. Словно снег, с крыш, балконов, из окон летят навстречу нам приветственные листовки.
В Наркомате тяжелой промышленности на площади Ногина мы — гости Серго Орджоникидзе. Накрыты столы. С нами наши семьи, работники наркоматов, корреспонденты. Все поздравляют и слушают наши бесхитростные рассказы о трудностях законченного полета.
Через несколько дней Председатель ВЦИК СССР Михаил Иванович Калинин вручил нам грамоты о присвоении высокого звания Героя Советского Союза. Чкалов поблагодарил Всесоюзного старосту и от имени экипажа обещал приумножить достижения. Мы понимали: высшая награда Родины накладывает на нас новые обязательства.
И когда руководители партии и правительства в Кремле, в Георгиевском зале, чествовали экипаж по случаю завершения дальнего полета, Чкалов сказал:
— За великую награду, за такую высокую, оценку разрешите нам повторить дальний беспосадочный полет.
Мы уже думали о перелете через Северный полюс в Америку…
В сентябре нам был предоставлен отдых на юге. Поехали мы туда с женами.
И вот в один из дней, когда уже заканчивался нага отпуск, раздался телефонный звонок. Вызвали Чкалова. После короткого разговора Валерий сообщил нам:
— Сегодня в четыре часа дня мы приглашены в гости. — И, сделав паузу, добавил: — К товарищу Сталину…
Собрались мы значительно раньше, чем было нужно. Однако в последний момент все же чуть было не опоздали, так как у нашего командира «заел» крахмальный воротничок, и он никак не мог его приладить.
Наконец Чкалов махнул на воротничок рукой, надел косоворотку и бросился нас догонять.
Чем ближе мы подъезжали к даче, где отдыхал Сталин, тем больше росло наше волнение. К нашему вполне понятному волнению примешивалось и другое. Каждый из нас надеялся, что, может быть, удастся урвать минуту и еще раз повторить Сталину нашу просьбу — разрешить перелет в Америку…
Сталин встретил нас в саду. С ним был А. А. Жданов.
— Ну, походите кругом и посмотрите, что здесь насажено, — предложил он и пошел вместе с нами.
Гуляя по саду, мы обратили внимание на незнакомую нам породу деревьев.
— Это эвкалипт — очень ценное дерево. — Сталин сорвал несколько листьев, растер пальцем на ладони и дал нам понюхать. Запах, напоминающий запах скипидара, защекотал ноздри.
Мы заметили, что около дачи растет какая-то сосна в длинной пахучей хвоей.
— Здесь раньше рос дуб, но он был чем-то болен, и мы решили его заменить сосной. Узнав об этом, агрономы и садоводы стали уверять, что сосна здесь расти не будет, но мы все-таки решили попробовать, и, как видите, сосна растет, и даже очень хорошо.
— Видно, товарищ Сталин, — сказал Чкалов, — всякое дело можно выполнить, если к нему руку приложить.
— Да, верно, только не нужно унывать при неудачах. Если не выходит, надо второй раз попытаться. Если прямо нельзя взять, надо со стороны обойти…
Жданов оказался знатоком сельского хозяйства и метеорологии. Он объяснил, что внизу, у подножия холма, ночью бывает холодней, потому что наступает инверсия — обратный ненормальный ход температуры, когда она повышается с высотой. После упоминания инверсии разговор как-то естественно перешел на авиационные темы. Сталин хорошо знал, что на больших высотах летчики страдают от холода. Он начал сетовать на то, что авиационные люди мало занимаются вопросами обогрева кабин и электрически обогреваемой одежды. Попутно упомянул, что напрасно летчики рискуют и не пользуются парашютом даже в тех случаях, когда положение становится явно угрожающим.
— Вот недавно был случай. Один из наших самолетов потерпел аварию в воздухе. На нем было четыре человека. Трое выпрыгнули, а один остался на самолете и погиб. Когда мы вызвали тех, которые благополучно спустились на парашютах, и стали расспрашивать, как это все произошло, то один из летчиков, докладывая, стал извиняться, что он принужден был выпрыгнуть с парашютом. Он считал себя в этом виноватым. Какая у вас, летчиков, ломаная психология. Мы его хотели наградить за то, что он выпрыгнул с парашютом, а он стал доказывать нам, что виноват.
Наступила темнота, и нас пригласили в столовую. Чкалов по пути завел разговор о событиях чв Испании и стал просить у Сталина, чтобы его послали туда добровольцем. Ведь все признают, что он мастерски владеет самолетом, сколько знает таких пилотажных фигур, которые не предусмотрены ни одним наставлением. Он осмотрителен, внимателен в воздухе — наверняка заметит противника первым и атакует. Сколько стрельб, бомбометаний и учебных воздушных боев закалили его энергию для того, чтобы неизменно выходить победителем. Почему же не поехать добровольцем в Испанию? В боях за республику он показал бы фашистам, где раки зимуют!..
Сталин слушал Чкалова с явным сочувствием и ответил, что для него есть другое задание: в конце 1936 года предстоит перегнать самолет АНТ-25 во Францию на Международную авиационную выставку и там демонстрировать его посетителям. Пусть европейцы подивятся результатам советской авиационной промышленности.
Постепенно разговор перешел на тему дня — о полете нашего экипажа из Москвы на остров Удд. Чкалов посчитал, что наступило удобное время поговорить о дальнейших делах. Он встал и в обстоятельной форме, обоснованно изложил Сталину просьбу разрешить нам в будущем году беспосадочный полет через Северный полюс в Америку. Видимо, Сталин и сам в душе этому сочувствовал, выслушал Чкалова внимательно. Но как-то по-дружески стал отговаривать и не соглашаться, ссылаясь на то, что самолет одномоторный и что мы не знаем, какую погоду встретит экипаж в центре Арктики.
Тогда Чкалов, ища поддержки у своих товарищей, торжественно и проникновенно обратился к нам:
— Саша, Егор! Давайте попросим хозяина еще раз!
Мы встали и хором поддержали просьбу. Но Сталин ее отклонил.
Здесь меня осенила мысль. Сталин упирает на то, что мы не будем знать погоду в центре Арктики. Но мы уже тайком знали, что Главсевмориуть будет готовить экспедицию на самолетах для высадки полярной станции на Северном полюсе. Вот тогда-то информация о погоде будет обеспечена.
И я обратился к Сталину:
— Мы знаем, Иосиф Виссарионович, что полярники готовят высадку станции на Северном полюсе. Можно ли надеяться, что после этого нам будет дано разрешение на полет в Америку?
Сталин помолчал, а затем неожиданно для нас сказал:
— Мне об этой экспедиции ничего не известно…
Наступила минута прощания, и тогда я подошел к Сталину и попросил его написать в мой блокнот хотя бы два слова. Он заметил, что сейчас уже поздно, все устали, и обещал удовлетворить мою просьбу завтра.
Мы уехали.
Я, конечно, никогда не думал, что Сталин запомнит свое обещание. Каково же было мое удивление, когда на следующий день я получил фотографию с надписью: «т. Белякову на память. И. Сталин».
Глава седьмая Через полюс в Америку
После отдыха Чкалов и Байдуков вернулись к своей прежней работе заводских летчиков-испытателей. Я продолжал выполнять обязанности флаг-штурмана соединения тяжелой авиации, и, когда Валерий подготовил самолет АНТ-25 к Международной выставке, мы взяли курс на Францию.
Погода стояла плохая — осенне-зимняя. Первую посадку нам предстояло сделать в Кенигсберге, главном городе Восточной Пруссии. Это гитлеровские власти поставили условие: посадка в Кенигсберге для таможенного досмотра и на обратном пути — в Кельне.
В Кенигсберге экипаж встретил наш советский консул, На стеклянных дверях отеля, куда мы заехали с ним, выпуклыми буквами было написано: «Евреи для отеля нежелательны».
— Саша, что там написано? — спросил Валерий.
Я перевел. Товарищи мои задумались над гримасами капиталистического мира.
В Париже мы сели на аэродроме Ле Бурже. Аэродром этот весьма скромных размеров, неправильной трапециевидной формы. Там обзавелись прекрасно изданным авиационным справочником с описаниями всех видов аэродромов Европы и многих других стран, в том числе французских и английских колоний. Вскоре прибывшие за нами представители посольства объяснили, что самолет наш будет разобран и перевезен по частям в авиационный салон выставки.
Мы размещаемся в гостинице на берегу Сены. Теперь ежедневно с утра являемся в павильон, рассказываем посетителям выставки о нашем отечественном самолете АНТ-25, осматриваем машины других стран. Наша авиационная промышленность выставила еще несколько новых самолетов, которые Чкалову были уже хорошо знакомы. Поэтому он с жаром окунулся в изучение иностранных самолетов, их оборудования и наземной техники, выставленной в салоне. Особенно широко была представлена промышленность Франции.
Я и Георгий подробно ознакомились с аэродромным оборудованием, оснащением воздушных линий. Были интересные новинки; резиновый антиобледенитель на кромку крыла самолета, вождение самолетов по линиям (радиогидаж) с помощью наземных радиопеленгаторов, радиосистема захода на посадку в сложных метеоусловиях в плохой видимости и многое другое. Мне представилась возможность поупражняться в разговорном французском языке, что меня очень радовало.
В свободное время осматриваем Париж, его предместья. Побывали у Стены коммунаров, видели богатейшие сокровища Лувра, гробницу Наполеона, Эйфелеву башню, собор Парижской богоматери. На выставке мы познакомились с пресс-атташе посольства А. А. Игнатьевым. Бывший граф жил во Франции с 1916 года, но тосковал по России. Он все-таки вернулся на родину и долго работал в системе военных академий. Многие знают А. А. Игнатьева по его книге «50 лет в строю».
Для практического ознакомления с радиогидажем самолетов на французских воздушных линиях мы слетали на самолете фирмы «Эр Франс» из Парижа в Марсель и обратно. И когда выставка закрылась, наш АНТ-25 снова перевезли на аэродром, собрали и подготовили для обратного полета через Германию в Москву.
Шла зима тридцать шестого. Нас по-прежнему тянуло к бескрайним просторам воздушного океана, к вольным и далеким льдам Арктики. Мы мечтали о беспосадочном перелете из Москвы в Америку.
— Принимайтесь, ребята, за работу, — говорил Чкалов. — Я возьму на себя хлопоты о разрешении, а вы осмотрите самолет. Составьте подробный список того, что нужно на нем переделать.
Часто длинными вечерами потихоньку беседовали мы, не возбуждая подозрения у жен и не прекращая своей основной работы. Байдуков и Чкалов по-прежнему испытывали новые самолеты. Я обучал штурманов искусству воздушной навигации. Но каждый из нас думал про себя: «Разрешат или откажут?» Все же мы продолжали упорно работать над собой и готовить самолет. «Разрешат — будет кстати проделанная работа. Откажут — тренировка, кроме пользы, ничего не принесет».
И все это время настойчиво добивались через Главное управление авиационной промышленности разрешения на перелет.
Чкалов и Байдуков побывали у наркома обороны К. Е. Ворошилова, заручились его согласием и поддержкой.
Однако мы все еще слышали заявления о том, что район Северного полюса не изучен, неизвестно, мол-, какая там погода. Если неблагоприятная погода заставит экипаж совершить вынужденную посадку на лед, говорили нам, то помощь оказать будет трудно.
Нам очень помогло то обстоятельство, что весной 1937 года готовилась в Арктику большая экспедиция Северного морского пути. Четыре многомоторных самолета должны были вылететь из Москвы к Северному полюсу. Но так как тяжелые самолеты не способны пройти такое большое расстояние без пополнения горючего, решено было для будущей экспедиции организовать базу на острове Рудольфа (архипелаг Франца-Иосифа). От него до полюса 900 километров тяжелого пути.
Мы тщательно изучали, как готовится экспедиция, и старались использовать опыт полярников, в особенности в отношении одежды, выбора продовольствия, приготовления пищи и способов передвижения в Арктике. С нетерпением ждали вылета экспедиции О. Ю. Шмидта. Неожиданно Валерий пригласил меня с Байдуковым к себе и торжественно объявил:
— Ребята, начинаем готовиться вплотную. Разрешение на вылет получено.
Затем он назвал срок вылета, который мне показался несоответствующим нашим предположениям.
— Да ты, Валерий, проверь. Так ли это?.. — уговаривал его Георгий.
Но Валерий вместо проверки уехал на аэродром и там тоже рассказал, что перелет разрешен. На следующий день я и Георгий стали упрашивать Чкалова проверить полученные сведения. Так и оказалось: они были ошибочными. Впрочем, это обстоятельство помогло нам продвинуть вперед подготовительные работы.
В это время эскадра кораблей экспедиции Шмидта перелетела в Амдерму, а оттуда на остров Рудольфа.
Наступил май. Закончился традиционный воздушный парад. У меня в связи с ним было много работы. Георгий задался целью установить новый советский и международный рекорд скоростного беспосадочного полета с грузом в пять тонн. Я принял участие в тренировке. Но в решительный полет — Москва — Мелитополь и обратно протяжением 2000 километров мне пойти не удалось. Самолет под управлением Байдукова и Кастанаева покрыл расстояние в 2002,6 километра за 7 часов 8 минут 11,7 секунды со средней скоростью 280 километров 246 метров в час.
У Валерия выдалось несколько свободных дней, и он уехал отдохнуть и поохотиться: еще не прошел тетеревиный ток. В один из этих дней неожиданно позвонили но телефону на квартиру и вызвали в Кремль, но быстро найти Валерия было невозможно.
— Тоже охотник! — сердился на него Георгий, когда Валерий вернулся. Показывай, чего убил там? Чкалов отшучивался:
— Как ни выстрелю — дробь кольцом около птицы. Ни одна дробинка не угодила!
Валерий ходил как в воду опущенный, негодовал на несвоевременную поездку. Разрешения все не было.
21 мая самолет М. В. Водопьянова доставил четырех отважных зимовщиков на Северный полюс. Молнией облетело весь мир сообщение о блестящей высадке советской экспедиции на дрейфующую льдину. И. Д. Папанин, П. П. Ширшов, Э. Т. Кренкель, Е. К. Федоров остались на ней с запасом продовольствия и научными приборами на много месяцев. Чкалов тогда не выдержал и позвонил Молотову. Он просил его сообщить, каково же мнение Сталина о нашем предложении лететь в Северную Америку.
— А как у вас с материальной частью? — спросил Молотов.
— Все готово.
— Как все готово? Ведь разрешения нет!
— А мы на всякий случай… Молотов рассмеялся:
— Хорошо, товарищ Чкалов. На днях обсудим ваш вопрос.
И действительно, через несколько дней, 25 мая, Чкалова вызвали к телефонному аппарату и сообщили, что нас приглашают на совещание в Кремль.
Я в этот день был в полете. На совещание поехали Чкалов и Байдуков.
Только поздно вечером, когда я пришел к Чкалову, у которого уже был Байдуков, они, перебивая друг друга, рассказали мне о том, что было в Кремле.
Еще по дороге в Кремль Чкалов и Байдуков самым тщательным образом подготовились к своему докладу. Наиболее «спорным пунктом» оставался вопрос о том, как сказать, что машина уже готова к перелету.
— Наш доклад должен быть кратким и убедительным, — говорил Чкалов. Надо все рассчитать по минутам.
Они так спешили на прием, что позабыли получить пропуска и вспомнили о них только в воротах Кремля. Остановили машину в раздумье. Как быть, не вернуться ли за пропусками? Но подошедший дежурный взглянул на них и, улыбнувшись, сказал:
— Пропусков не надо. Вас уже ждут.
Чкалов и Байдуков вошли в зал, где кроме них было много летчиков. В 16 часов за дверью послышались шаги и голоса, и в зал вошли Сталин, Молотов, Ворошилов.
Байдуков начал рассматривать кабинет Сталина и заметил у него на письменном столе модель нашего самолета. У Байдукова сразу же отлегло от сердца.
Иосиф Виссарионович, поглядывая на них с улыбкой, спросил:
— Что, опять земли не хватает? Опять собираетесь лететь?
— Да, товарищ Сталин, — ответил Чкалов, — время подходит, пришли просить разрешения правительства о перелете через Северный полюс.
Все сидящие за столом смотрели на них и улыбались.
— Куда же вы собираетесь лететь? Кто будет из вас докладывать? — вновь спросил Сталин.
Чкалов начал рассказывать наши планы и просить разрешения совершить перелет.
— Экипаж — наша прошлогодняя тройка, — сказал Чкалов, — готов к полету, самолет также приготовлен…
Он дал характеристики нашего самолета, на котором можно было бы совершить полет через Северный полюс в Северную Америку. Напомнил, что свой предыдущий полет мы прервали из-за метеорологических условий, имея в баках тонну бензина. И так увлекся, что едва не рассказал о том, как, пролетая над Землей Франца-Иосифа, мы чуть было не решили изменить курс и лететь через Северный полюс в Америку. Байдуков быстро дернул его за пиджак, он замолчал, но Сталин, улыбаясь, сказал:
— Продолжайте, товарищ Чкалов.
Второй раз дернул его за пиджак Байдуков, когда он проговорился о «контрабандных» работах. Позабыв об уговоре, Валерий незаметно для себя рассказал о том, что все подготовительные работы уже сделаны. Байдуков даже изменился в лице, но опять раздался голос Сталина:
— Продолжайте, товарищ Чкалов.
«А вдруг мы поспешили с подготовкой? — с тревогой подумал Чкалов. Ведь постановления-то правительства еще нет». Взглянул на Байдукова — в глазах у него та же тревога. Беседа длилась уже более полутора часов. Сталин спросил одного из руководителей авиационной промышленности:
— Так, значит, как обстоит у них дело с машиной?
— Они давно готовы, товарищ Сталин. Ведь вы слышали.
— Да, слышал, — рассмеялся он. — Впрочем, я об этом знал раньше.
На душе у Чкалова отлегло. Значит, Сталин знал о нашей подготовительной «контрабандной» работе. Ну, а если знал о подготовке, значит…
— Что же, разрешим перелет? — спросил Сталин у присутствующих на совещании.
Молотов и Ворошилов сразу же согласились. Принципиально дело было предрешено. Однако Сталин, немного подумав, сказал, что все же следует вызвать и спросить мнение непосредственного руководителя авиационной промышленности…
Ожидая приезда руководителя авиационной промышленности, он начал расспрашивать моих друзей о самолетах, которые они испытывали. В частности, Байдукову пришлось рассказать о новой машине, на которой он недавно установил два скоростных международных рекорда.
Затем разговор перешел на боевые свойства наших истребителей, американских самолетов. Сталин подробно интересовался, что можно взять у американской авиации, чему у них следует поучиться.
В дружеской беседе присутствующие сравнивали свои самолеты с американскими, находя в последних хорошую отделку и поучительные мелочи, которые нам следует перенять.
— Товарищ Чкалов, на нашем самолете все-таки один мотор… — заметил Сталин, — Этого не надо забывать.
— Но мотор отличный. Это доказано, и нет оснований беспокоиться. А кроме того, — пошутил Чкалов, — один-то мотор — сто процентов риска, а четыре — четыреста.
Присутствующие засмеялись. Наступал самый решающий момент, Сталин, задав еще несколько вопросов, немного задумался, а потом сказал:
— Я — за!
Когда первый пункт решения правительства о перелете был записан, Сталин предложил пункт о том, чтобы обязать экипаж в случае прямой опасности произвести немедленную посадку.
Через несколько дней после вызова в Кремль мы переехали в подмосковное местечко Щелково на берегу Клязьмы. Поселились в просторной комнате близ летного поля и начали готовиться к перелету.
Самое главное — надо было провести повторное испытание самолета, чтобы заранее определить режим полета, поставив себе задачей достижение наибольшей дальности.
Испытанием самолета занялись Чкалов и Байдуков.
Каждый самолет может летать на разных скоростях — от посадочной до максимальной. Но каждая скорость соответствует определенному режиму работы мотора, режиму, который в свою очередь зависит от высоты полета и от веса самолета. Для того чтобы рассчитать режим, нужно знать, какую держать скорость на различных высотах и на различных участках пути; нужно произвести точные замеры расхода горючего; нужно знать, какая получается истинная скорость относительно воздуха.
Валерий просыпался с рассветом и шел на аэродром. Всю ночь над самолетом работали техники и инженеры. Безветренная погода радовала Чкалова. При наличии ветра и особенно восходящих токов, так называемых рему, испытательный полет становится затруднительным, летчику трудно выдержать скорость и соблюсти точно заданную высоту полета.
Для проверки скорости Валерий и Георгий летали вдоль мерного километра, концы которого были обозначены хорошо заметными предметами. Они вели самолет на разных скоростях — сначала на большой, потом скорость постепенно уменьшали, доводили до минимальной. И каждый раз сидящие в самолетной кабине инженеры производили засечку времени. В результате этих испытаний составили график режима полета на весь предстоящий маршрут.
— Вот смотри, — говорил я Валерию, показывая график, — первые восемь часов мы должны идти на высоте в тысячу метров. При этом скорость нужно держать сто шестьдесят восемь километров в час. Оборотов мотора должно быть тысяча семьсот двадцать.
— Да, вижу… — отвечал Чкалов.
— А после восьми часов полета мы должны набрать две тысячи метров высоты, — продолжал я. В разговор вмешался Георгий.
— График-то хорош, да вот позволит ли погода выдержать его в точности?
Но и на этот случай есть соответствующие расчеты. На графике было обозначено, какой процент перерасхода горючего получался от несоблюдения высоты или скорости.
Еще одно дело занимало моих товарищей. Это тренировка во взлете с постепенно увеличивающейся нагрузкой. Наш самолет без горючего и масла, но с полным снаряжением и экипажем весил около пяти тонн. Для аэродромных полетов мы брали горючего немного — одну-две тонны; вес самолета доходил, таким образом, до семи тонн. Для того чтобы приобрести навыки в производстве взлета на машине, еще более загруженной, мы брали с собой балласт и доводили вес самолета до восьми-девяти тонн. Но так как шасси было рассчитано на благополучное приземление при весе не свыше семи с половиной тонн, то перед посадкой балласт мы выбрасывали.
Чкалов и Байдуков по очереди производили взлеты по бетонной дорожке. Они изучали все оттенки поведения машины во время взлета с полным весом в одиннадцать с лишним тонн.
В тренировочных полетах мы проверяли приборы, связывались по радио с землей. Это были репетиции большого перелета. Мы тщательно изучили предстоящий маршрут, не раз мысленно уже пролетали по нему. Но пока я и Георгий склеивали карты, на которых помимо маршрута и расстояний обозначали магнитные путевые углы, магнитные склонения, радиостанции, аэродромы; отмечали на них возвышенности, которые могут явиться препятствием для полета, наносили астрономические точки. Московский астрономический институт приготовил вычисления высот и азимутов Солнца для разных широт. Эти вычисления нам сильно облегчили в полете астрономическую ориентировку и свели наши расчеты к минимуму. А это очень важно: в длительном полете, особенно на большой высоте, мысль работает вяло; часто бывает трудно произвести даже простейшее арифметическое действие. Наступил день, когда и Чкалов засел за изучение маршрутных карт. Я с Байдуковым в этот день тренировался в приеме и передаче радиограмм. Устройство радиопередатчика и приемника мы знаем еще с прошлого года, когда летали на остров Удд. Трудней нам дается прием и передача по азбуке Морзе на ключе. Скорости приема 60 знаков в минуту мы достигли быстро, но к 70–80 знакам подвигаемся довольно медленно. Нас тренирует инструктор-радист. Помимо цифр нужно знать еще международный код, чтобы связываться с американскими станциями.
— А ну-ка, товарищ Беляков, отстучите по международному коду фразу: «Хорошо ли меня слышите?»
Эту фразу я знаю наизусть и передаю ее знаками Морзе.
Инструктор обращается к Георгию Филипповичу:
— Товарищ Байдуков, хочу проверить вашу передачу. Передайте отрывок из сегодняшней передовицы «Правды».
Георгий сосредоточенно водит пальцем левой руки по газетным строчкам, а правой рукой со скоростью 80 знаков в минуту отстукивает текст.
Инструктор прерывает:
— У вас не удается буква «б». Держите руку свободно, старайтесь давать точки более редко и плавно.
Работали мы усердно. Иногда с Байдуковым выходили на лесную опушку и, расставив мачту с подвешенной антенной, развертывали нашу радиостанцию на «аварийную сеть». Бензиновый моторчик трещал изо всех сил и вращал маленькую динамо-машину. На опушке жарко. Мы снимали верхние рубашки. Георгий Филиппович обычно располагался в нескольких десятках метров от меня. В конце тренировки я радирую:
— Сели вынужденно на опушке леса. На сегодня чаем работать. Пойдем, Георгий, отдыхать, Байдуков удовлетворенно кивал и начинал свертывать приемную радиостанцию.
Однажды к нам пришел военный врач и сказал, что прикомандирован к нашему экипажу. Он показал образцы продуктов — сухари, шоколад, галеты — и ознакомил с содержанием трехдневного пайка в полете.
— А вы, — с улыбкой обратился он к Байдукову, — будете моим заместителем на самолете, то есть доктором. Я вас снабжу всеми медикаментами и материалами.
Для Байдукова это не было новинкой. Он уже был доктором в прошлогоднем перелете, хотя ему и не пришлось прибегать к своей дополнительной специальности.
В состав нашего снаряжения входил целый мешок с перевязочными средствами, всевозможными порошками и витаминными препаратами против цинги. Время от времени доктор проверял медицинские знания Георгия.
— Это что такое? — спрашивал он Байдукова, показывая на какой-то порошок.
— Это от живота, — отвечал Георгий.
— Что вы, что вы! — приходил в ужас врач. — Это же от кашля!
Впрочем, вскоре Байдуков восстановил в памяти все свои медицинские знания.
Моя, и притом очень серьезная, работа состояла в проверке магнитных компасов, вернее, в определении девиации — отклонения магнитного компаса от правильных показаний вследствие влияния железных и стальных частей на самолете.
Но не меньше занимал нас вопрос рабочего распорядка. Необходимо было заранее распределить, кому и когда отдыхать, в какое время заниматься астрономией, приемом и передачей радиограмм. Мы уже накопили опыт прошлых перелетов и теперь лишь вносили поправки, вырабатывали таблицу, по которой все наше время было распределено в минутах. Каждый из нас будет восемь часов работать и четыре часа отдыхать. Валерий будет восемь часов вести самолет и четыре часа отдыхать. Георгий обязан четыре часа пилотировать, четыре часа работать за штурмана и четыре часа отдыхать. Я буду работать восемь часов в качестве штурмана и четыре часа отдыхать. Таким образом, мы заменяем друг друга.
И наконец, еще одно хозяйственное дело отнимало у нас немало времени. Это — обмундирование и снаряжение. Мы подробно обсуждали: какие продукты надо брать в полет и на сколько дней? стоит ли захватить охотничье ружье? какие лыжи брать? какую посуду признать наиболее подходящей?
Все вещи складывались в соседней комнате. Каждую вещь взвешивали.
Чкалов и Байдуков удивлялись:
— Ух, какая тяжелая!
Постепенно все вещи разделились не на хорошие и плохие, а на легкие и тяжелые. Лучшими вещами признавались наиболее легкие. Байдуков придирался и выкидывал даже мелочь. Он выкинул колышки для палатки, затем шлемы из нерповой кожи. Учитывал каждый грамм веса.
Я, со своей стороны, записывал в блокнот все, что интересовало меня как штурмана. Изучил расписание работы радиомаяков мыса Желания и острова Рудольфа. Маяк на острове Рудольфа служил верным ориентиром при полете к полюсу. Этому учил опыт воздушной экспедиции на Северный полюс. Также записал сведения о работе новой радиостанции УПОЛ на дрейфующей льдине станции «Северный полюс», рассчитывая связаться в полете с Эрнстом Кренкелем. Наконец, я имел радиограмму с Северного полюса, которую получил на мой запрос. Вот что сообщал мне штурман полярной экспедиции И. Т. Спирин:
«Москва, штурману Белякову. Первое: магнитные компасы работали до самого полюса. Требуют очень тщательного соблюдения режима полета. Работал вяло гиро-полукомпас. Второе: гироскопический магнитный работал хорошо до 87°. Дальше наблюдались значительные колебания. Третье: гироскопическим магнитным компасом можно пользоваться надежно. Четвертое: радиомаяк ориентирует правильно. Пользовался приемником «Онега». В полете Рудольф полюс часто подолгу не слышал маяка, хотя шли правильно. Маяк работал нормально. Пятое: радиопеленгаторы Рудольфа и Мурманска не работали. Шестое: в пути Рудольф — полюс надежно пеленгуются с борта самолета Диксон и Мурманск. Седьмое: магнитное склонение в районе полюса минус 110°. Восьмое: основным надежным видом ориентировки надо считать астрономию. Привет».
В один из последних дней подготовки нас навестил представитель Амторга, знающий север Канады, и рассказал о многоводной реке Макензи, радиостанции в Сиэтле, о маленьком поселке Аклавик, в районе которого мы должны пролетать.
— Где лучше переваливать горы?.. — спрашивал Чкалов, разглядывая коричневые пятна на карте Канады. В напряженном труде прошло еще несколько дней. Наконец мы закончили всю навигационную подготовку. 16 июня совершили последний контрольно-тренировочный полет. Мотор, приборы и все части самолета работали превосходно. День старта приближался.
Утром 17 июня Чкалов и Байдуков уехали в Москву. Я остался в Щелково и занялся приведением в порядок американских карт, которые были получены только накануне. На них были обозначены аэродромы западного побережья США, радиосветовые маяки, сигналы, а также маркеры — маленькие наземные радиостанции, автоматически излучающие в эфир одну или две буквы по азбуке Морзе.
По телефону мне сообщили, что дано разрешение вылетать завтра. Самолет поставили под заправку горючим. Продовольствие и снаряжение уже отправлены к ангару и укладываются.
Днем приехали из Москвы Валерий и Георгий, Втроем пошли в столовую. Сейчас уже не хотелось говорить о технических деталях перелета. Хотелось, чтобы голова немного отдохнула; завтра начнется настоящая напряженная работа.
Обед сегодня неважный. По предписанию врача нас угощают каким-то жиденьким бульоном. Валерий ест с аппетитом. Он считает, что самое главное сделано — разрешение на вылет получено. Байдуков также весел. Рассказывает, как уговаривал метеорологов.
— Когда мы с Валерием приехали в бюро погоды, то метеорологи в один голос заявили, что погода для вылета неблагоприятная, — рассказывал он, приканчивая тарелку бульона. — На пути будет много циклонов, циклончи-ков и фронтов. «Черт возьми, — говорю, — а будет ли погода лучшая, чем сегодня?» Начали спорить. Метеорологи в конце концов согласились с нами…
Действительно, было одно обстоятельство, которое заставляло нас торопиться с вылетом. Последние дни в районе Москвы стояла прохладная погода; по утрам, несмотря на июнь, температура не поднималась выше 10 градусов. Это благоприятствовало вылету, так как мотор на нашем самолете при температуре воздуха выше 15 градусов обладал способностью перегреваться на большом числе оборотов. Между тем по всем картам выходило, что через два-три дня средняя европейская часть Союза будет охвачена мощным теплым воздушным потоком; тогда установится жаркая погода, и при температуре 18–20 градусов набор высоты будет невозможен из-за перегрева мотора.
Кроме того, 18 июня весь участок нашего пути до 75° северной широты предполагался свободным от всяких фронтов. Небольшая облачность намечалась только на Кольском полуострове.
В некоторых пунктах Новой Земли зимовщики должны были отметить пролет нашего самолета и тем самым выполнить обязанности спортивных комиссаров. Но от захода на Новую Землю, над которой мы предполагали пролететь при условии видимости земли, пришлось отказаться. Новая Земля будет закрыта мощным слоем облаков.
Покончив с обедом, вернулись в свою комнату. Радисты, инженеры и врачи о чем-то спорили и перекладывали с места на место наше имущество. На учете был каждый грамм. На столе я увидел раскрытую книгу Стифансона «Гостеприимная Арктика». Брать ее с собой или оставить? Положил ее на сверток, предназначенный к полету. Валерий в это время был занят также проверкой своего рюкзака. Его беспокоило главным образом, положены ли туда спички, табак и трубка. Кое-что он перекладывал из рюкзака в карманы кожаных штанов. Все лишнее долой! Это относилось также к моим ботинкам и к черным брюкам, в которые я был одет. Но, вспомнив о том, как в прошлом году на острове Удд мы оказались без подходящей для земной жизни одежды, я незаметно от товарищей положил в мешок кое-какие вещи, не предусмотренные расписанием. Чкалов и Байдуков делали втихомолку то же самое. Кто знает, может быть, ботинки еще и понадобятся.
Вошел в комнату врач и начал уговаривать нас лечь в кровати. До вылета оставалось еще шесть часов. Я решил перед сном побриться. Во время полета о бритье нечего и думать. Валерий и Георгий бриться не стали.
— Отращу бороду, — шутил Байдуков, ложась в кровать, — буду отпугивать на льду любопытных медведей.
Но как трудно уснуть! Чкалов и Байдуков лежат на кроватях и курят. Валерий испытывает свою новую трубку.
— На Новую Землю заходить не будем, — говорит он, обращаясь ко мне.
— Знаю. Георгий мне говорил об этом еще два часа назад, — отвечаю я, стараясь скорее заснуть.
— Значит, чешем прямо на Землю Франца-Иосифа, — продолжает Чкалов, выпуская струйку дыма. — Настроимся на радиомаяк острова Рудольфа, а оттуда пойдем по солнечному указателю курса.
Валерий хорошо усвоил разнообразные приемы воздушной навигации, которые нам придется применять в полете.
— Спать, ребята! — говорит Чкалов командирским тоном и натягивает на себя одеяло.
Но я отлично вижу: он возбужден, и ему, как и мне, не спится. Каждый из нас понимает всю важность и сложность перелета. Завтра мы начнем дело всей страны. Но мы спокойны и полны решимости. Радиостанции Северного морского пути приведены в действие: завтра радисты будут самым внимательным образом слушать сигналы нашего самолета. Ни одно тире и ни одна точка но пропадут в эфире бесследно. Они будут приняты и зафиксированы во многих пунктах. Все принятые радиограммы будут переданы в штаб перелета в Москву. Здесь их сличат, отбросят все сомнительное и точно установят текст, переданный с борта самолета.
Пароходы и ледоколы Северного флота приведены также в готовность. Если понадобится, команды их окажут нам немедленную помощь.
В Канаде и США подготовлена сеть радиостанций для приема наших радиограмм и для передачи нам сведений о погоде. Народный комиссариат иностранных дел обо всем подробно договорился с представителями США. Из Нью-Йорка в Сиэтл выехал советский инженер. Он будет бессменно дежурить на радиостанции и отвечать на наши запросы.
Что касается самолета, то в нем мы уверены. В прошлом году перед полетом на остров Удд он безотказно поднялся в воздух с весом в 11 250 килограммов. Никаких причин к тому, чтобы не повторить спокойного взлета, нет.
Я думал обо всем этом, а усталость с каждой минутой все больше охватывала меня. Чкалов и Байдуков уже спали. Мною овладела дремота, которая через несколько минут перешла в глубокий сон.
Коротка июньская ночь. За окном тихо шелестел березовый лес, и было еще совсем темно, когда я проснулся от громкого крика Георгия. Он кричал на всю комнату:
— Саша, Валерий, вставайте!
Я поспал бы еще с наслаждением: предстартовые работы на аэродроме, вероятно, не были еще закончены. Но пришлось подчиниться.
Укладываю в чемоданчик карты, бортовой штурманский журнал и радиожурнал. Штурманский журнал — толстая книга из ватманских листов в красивом красном переплете. Бортовой радиожурнал — в голубом. Приятно держать эти журналы в руках. Два-три дня — и каждый из них станет документом, которому не будет цены.
Одновременно я стараюсь не забыть мелочи: резинки, карандаши, транспортир, циркуль. С особой осторожностью укладываю для радиостанции кварцы — небольшие черные эбонитовые кубики со штепсельной вилкой. Кварцы важная вещь. Для того чтобы наша самолетная радиостанция передавала точно на выбранной волне, необходимо, как принято говорить, волну стабилизировать кварцем. На каждом кварце цифрой отмечена длина волны в десятых и сотых долях метра. Кварцы мы испытали в тренировочных полетах и убедились в их превосходной работе.
Минуты бегут.
Валерий торопится к самолету.
— Я поеду вперед, надо проверить, закончена ли подготовка самолета, говорит он.
— Автомобиль-то не задерживай, — кричит Байдуков ему вдогонку. — Скорей присылай машину обратно.
Начало рассветать. На горизонте заалела тонкая полоска зари. Пелена предутреннего тумана низко стелилась над притихшей землей.
Мы с Георгием уже одеты в летное обмундирование. Шелковое белье облегает мое тело. Поверх него — тонкое шерстяное. На ногах — шелковые и шерстяные носки, высокие сапоги из нерповой кожи с мехом внутри. Сапоги, чтобы не спадали, имеют длинные клинья с петлей, продетой за пояс. Кроме того, на мне фуфайка, шлем, толстые кожаные штаны и куртка на гагачьем пуху. Впервые чувствую, как сильно греет эта одежда. Куртку приходится снять.
Сели в автомобиль и поехали к месту старта. Команда красноармейцев уже тянула перегруженный самолет за колеса и шасси по ровной, прямой, как стрела, дорожке, выложенной шестигранными плитами, на бетонную горку.
Иногда самолет останавливался. Остановки необходимы — иначе разогреются буксы. Чкалов, слегка переваливаясь, тяжело ступал в высоких унтах и наблюдал за работой бойцов. На его поясе висела финка в чехле. Голову прикрывала серая кепка.
Инструктор-радист в последний раз напомнил мне правила передачи:
— Самое главное, не торопитесь во время передачи. Сигналы давайте четко и медленно. Повторяйте радиограмму не менее двух раз.
Грузиться в самолет еще нельзя. Решаем поехать в столовую позавтракать.
На аэродроме много народа. Одни направляются к бетонной горке, на которой скоро будет установлен самолет, другие стоят около ангара, где идут приготовления к старту. Некоторые пытаются с нами заговорить. По дороге корреспонденты и фоторепортеры. У нас на счету каждая минута, и мы вежливо уклоняемся от встреч.
В столовой, к нашему счастью, было безлюдно. Мы выпили по стакану крепкого чаю, съели по бутерброду и позвали метеорологов. Еще раз с метеорологами разобрали последние карты и сводки погоды. По сравнению со вчерашними условия мало изменились.
Солнце еще не взошло, когда мы поехали к самолету. Около него столпились провожающие. Я проверил по списку вещи — не позабыто ли что-нибудь — и по лесенке взобрался в кабину.
Прежде чем описать старт, расскажу, как была оборудована кабина нашего самолета и что она собой представляла.
Кабина похожа на длинную металлическую овальную трубу. Ее основу составляет металлический каркас из дюралевых шпангоутов и стрингеров. Снаружи каркас обшит также дюралем, внутренние же стенки обшиты тонкой шерстяной тканью, которая скрадывает звук и делает кабину похожей на маленькую, длинную, хотя и тесную, но уютную комнатку с оконцами и двумя люками.
Переднее сиденье летчика имеет откидывающуюся спинку. Летчик, управляя самолетом, может облокотиться. На сиденье лежит парашют. Когда летчик должен смениться, он сначала откидывает спинку, тем самым освобождая пространство, чтобы мог пролезть другой летчик.
За спиной первого летчика, на уровне его сиденья, находится масляный бак. Бак занимает в пилотской кабине пространство более метра. Над ним откидная полка. Бак и полка — это место для лежания в самолете.
Непосредственно за сиденьем летчика на стенке кабины укреплена небольшая металлическая черная коробочка. Называется она РРК. Это распределительно-регуляторная коробка электрического самолетного хозяйства. Электричество добывается динамо-машиной, установленной на моторе. Кроме нее имеется большой аккумулятор емкостью на 65 ампер-часов. Электрическое оборудование устроено хитро. Если динамо-машина вырабатывает ток с избытком, то ток через реле идет на дозарядку аккумулятора. Если, наоборот, динамо-машина дает ток недостаточно (а это может быть, например, при электрифицированном подъеме шасси), то реле часть тока берет дополнительно от аккумулятора.
Я и Георгий очень внимательно изучили эту черную коробочку. Кто знает, в полете могут возникнуть перебои, и они приведут к отсутствию тока. В полете Москва — остров Удд у меня была такая неприятность: прекратилась подача тока на радиостанцию. Но так как мы хорошо знали устройство самолета, то быстро обнаружили неисправность и устранили ее.
За масляным баком в кабине стоит высокая прямоугольная рама; в нее заключена приемно-передающая радиостанция. У нас один передатчик для волн от 20 до 40 метров и от 50 до 80 метров. Приемников два. Один — прошлогодний, выдержавший испытание, — супергетеродин; он дает устойчивый, мелодичный прием земных станций. Другой — новый, поменьше, но гораздо большего диапазона, всеволновый. Он принимает волны от 15 до 2000 метров. К нему мы еще не привыкли — взяла его как запасной.
Возле радиостанции проходят тяги от элеронов. Здесь надо двигаться осторожно. Георгий уже не раз дергал меня за ногу, когда я пытался наступить на тягу.
А дальше — штурманская кабина с четырьмя оконцами по бокам. Над моей головой — целлулоидный колпак. Через него солнце ярко освещает самый важный прибор на нашем самолете — солнечный указатель курса. Этот прибор напоминает теодолит; в нем есть часы со стрелками. Часы всегда должны показывать среднее солнечное время, соответствующее меридиану, на котором в данный момент находится самолет. Это мое штурманское дело следить за тем. чтобы часы показывали правильное время. Для этого я должен знать долготу, на которой находится самолет, и переставлять стрелки часов. Солнечный указатель курса позволит вести самолет вдоль любого выбранного меридиана. В районе Северного полюса мы значительно приблизимся к магнитному полюсу, магнитные компасы будут работать все хуже и хуже, давать неверные показания. Самолет, уклонившись от правильного пути, может занять неизвестное для экипажа положение. Из-за этого дальнейший учет магнитного склонения будет неправильным, самолет может уклониться от курса. Плохая работа магнитных компасов особенно скажется на участке от Северного полюса до берегов Канады. Вот тут-то нас и выручит солнечный указатель, по которому мы будем выдерживать курс.
Мое штурманское сиденье — это небольшой цилиндрический бак, вроде ведра. В нем 30 литров воды с примесью спирта. Эта смесь нужна нам на тот случай, если в радиаторе и в системе водяного охлаждения воды окажется недостаточно.
Я буду сидеть на круглой кожаной подушечке, положенной на крышку ведра. Водой я не заведую. Подкачивать ее будет летчик с помощью небольшого альвейера (ручного насоса).
Справа от меня к стенке кабины прикреплен откидной столик. На нем большой медный ключ для радиостанции. Ключ мягок в пользовании и очень удобен для радиопередачи. На столик, когда мы взлетим, я положу бортовой штурманский журнал. В него буду время от времени записывать курс, часы, местонахождение самолета, воздушную скорость, высоту полета, обороты мотора, температуру наружного воздуха, показания бензосчетчика.
Под моим столиком лежит оптический визир. Иногда я буду открывать круглое отверстие под ногами, вставлять в него визир и производить измерение. Таким образом я узнаю путевую скорость самолета, в какую сторону его сносит ветер.
Но визиром я смогу пользоваться только тогда, когда будет видно землю. Если же ее не видно (а это в дальних перелетах бывает часто и на продолжительное время), то местонахождение самолета я буду определять с помощью секстана. Мне придется для этого сделать несколько наблюдений Солнца. Секстан хранится в специальном ящичке позади моего сиденья. Тут же, поблизости, на кронштейне укреплен другой ящик, в котором на резиновых подушечках покоится хорошо выверенный хронометр. Штурман должен знать точное время. Наш экипаж будет жить по гринвичскому времени, которое отстает от московского времени на три часа.
В моей кабине, кроме того, имеется высотомер и указатель скорости. А немного далее, около хвостовой части, в стенки кабины вделаны карманы и сумки. В них уложены пронумерованные карты.
Что касается нашего снаряжения, то оно размещено в крыльях. Там лежат в прорезиненных мешках: продукты на полтора месяца, спальные меховые мешки, рюкзаки, ружья, револьверы, патроны, примус, кастрюли, сковородки, канадские лыжи, топорик, лопата, альпеншток для расчистки льда, электрические фонарики, шелковая палатка.
Резиновая надувная лодка в сложенном виде находится на сиденье второго пилота. А под сиденьем — прорезиненный мешок с запасной питьевой водой. Кроме всего этого нами взяты шесть термосов, наполненных черным кофе, горячим чаем с лимоном и коньяком.
Часть пути нам придется лететь на большой высоте. Поэтому на самолете имеются три кислородных прибора. Запас кислорода рассчитан на девять часов.
Самолет наш отапливается. Наружный чистый воздух, проходя по трубам через коллектор выхлопных патрубков, будет нагреваться и, не смешиваясь с выхлопным газом, поступать в кабину.
С таким оборудованием и снаряжением отправляемся мы в далекий путь…
Три часа утра. Солнце еще не взошло. Вместе с Байдуковым мы изучаем по карте расположение циклонов, ложбин, гребней, фронтов и прочих метеорологических мудростей. Метеорологи даже занумеровали все циклоны и гребни, чтобы лучше в них разбираться. До полюса метеорологи обещают встречные ветры. В Баренцевом море есть отрог высокого давления. Новая Земля закрыта облаками. В Канаде сначала высокое давление, но у гор — грозовая деятельность. На это пока не обращаем внимания. За два дня многое может измениться.
Байдуков переставляет свои часы на единое мировое время по Гринвичскому меридиану. И мы сразу «возвращаемся» к началу суток — 20 минут 18 июня. Надо и нам торопиться: самолет уже стоит на бетонной горке.
С этой горки мы стартовали год назад, вылетая на Дальний Восток, отсюда стартовал М. М. Громов в 1934 году в свой знаменитый дальний перелет, отсюда поднимал в воздух тяжелый груз самолет Коккинаки…
На старте члены правительственной комиссии по организации перелета, командиры, летчики и друзья, пришедшие пожелать нам хорошего и… «длинного» пути.
Но, как и в прошлом году, наших семей нет. Так лучше. И нам и им меньше волнений. Как родные, берем в объятия ведущего инженера Евгения Карловича Стомана, отдавшего много сил нашей машине. Он нервничает, на его глаза наворачиваются слезы волнения. Андрей Николаевич Туполев улыбается и трясущимися руками обнимает нас всех по очереди.
В воздухе свежо и тихо. Скоро взойдет солнце. Мы укладываем в самолет наше последнее имущество. Я проверяю по списку, не позабыто ли что-нибудь. Спортивные комиссары девятью пломбами тщательно опечатывают бензиновые и масляные баки и барографы, которые отметят в полете высоту, на какой пройдет самолет.
Начальник Центрального аэроклуба вручает нам письма, адресованные спортивным комиссарам США.
Все формальности выполнены. Заграничные паспорта, пилотские свидетельства и деньги — в кармане.
В это время борттехник уже подает команду «К запуску». Вот два-три судорожных движения мотора, и винт послушно завертелся, напоминая о близости полета. От мотора к фюзеляжу передается ровная приятная дрожь малых оборотов. Она дает летчику неуловимую для других уверенность в том, что мотор работает правильно, плавно и равномерно. Техник прогревает мотор. Это необходимая процедура перед всяким вылетом. Теперь он прибавляет мотору обороты и следит за стрелкой водяного термометра. Когда она дойдет до 50°, можно будет опробовать мотор на полном газу и после этого уступить место летчику.
Чкалов недалеко от самолета стоит с товарищами. Он следит за пробой мотора, стараясь в его ровном шуме уловить хотя бы малейшие перебои. Валерий слушает внимательно, хотя, небрежно попыхивая папиросой, и делает вид, что мотор его совершенно не интересует, — привычка, выработанная многолетним летным опытом.
Наконец проба мотора закончена. Все вещи уложены, Я прошу убавить газ и хочу вылезти через задний люк, чтобы проститься с провожающими.
— Куда ты еще? — слышу я голос Байдукова. — Сейчас же вылетать будем.
Невольное волнение охватывает нас. Нам хочется каждому из провожающих крепко пожать руку, сказать что-нибудь хорошее. Но провожающих на аэродроме много. Еще больше их там, за пределами аэродрома. Ведь снаряжала и готовила нас вся страна.
Наконец наш командир целуется с взволнованными товарищами и поднимается через передний люк на своз место.
Кажется, все готово. Мотор прогрет и опробован. Из задней кабины мы с Байдуковым пожимаем десятки дружеских рук. Я закрываю люк…
Валерий последний раз начинает внимательно осматривать показания всех приборов, трогает некоторые краны, не спеша закрывает над своей головой люк и всматривается в лежащую впереди ровной лентой бетонную дорожку. Ее конец почти не виден. Провожающие нестройной гурьбой спешат вдоль дорожки ближе к выходу с аэродрома, чтобы увидеть, как самолет оторвется и пойдет в воздух.
Из своей кабины я не могу видеть сигналов для взлета, но это предусмотрено. За сигналами следит Чкалов. Байдуков поместился на масляном баке и приготовился убирать шасси. Я достаю бортовой журнал и слежу за часами.
Шипя, взметнулась ввысь красная ракета.
— Самолет готов!
В 3 часа 50 минут — вторая ракета.
— Просим старта!
В 4 часа 04 минуты ответная белая ракета отвечает вам:
— Путь свободен!
Самолет двинулся… Ревущий на полных оборотах мо-" тор тянет тяжелую машину вниз с горки, С каждым мгновением мы набираем скорость.
Наш самолет весит 11 180 Килограммов. Это значительно превосходит нагрузку, дозволенную обычными нормами, и поэтому если при разбеге что-нибудь случится с колесами или шасси, то самолет может навсегда выйти вз строя.
Но мы уже пережили ответственный момент взлета в прошлом году. Все было в порядке. Поэтому и сейчас у каждого из нас полная уверенность, что все будет благополучно.
В мое окно видны крыло и борт дорожки. Я смотрю направо. Вот самолет поднял хвост и теперь катится на двух, а вернее, на четырех колесах, так как каждая нога имеет два спаренных колеса.
Чувствую, что самолет на мгновение оторвался, затем, легко прикоснувшись колесами еще раз к бетонной поверхности, уверенно начал набирать высоту.
Я записал в бортжурнале: «Взлет — 1 час 04 минуты по Гринвичу 18 июня 1937 года. Температура наружного воздуха плюс 8°. Начальное показание бензосчетчика 3500 литров».
Байдуков быстро убирает шасси. Мелькнули трубы щелковских заводов. Чкалов плавно развернул самолет вправо и взял курс 0°.
Итак — на Север! Трансарктический перелет СССР — Северный полюс — США начался.
Вскоре радио по всему миру разнесло сообщение правительственной комиссии о нашем перелете:
«Беспосадочный перелет по маршруту Москва — Северный полюс — Северная Америка.
Правительство удовлетворило ходатайство Героев Советского Союза товарищей Чкалова, Байдукова и Белякова о разрешении им полета через Северный полюс в Северную Америку…
18 июня 1937 года на рассвете в 4 часа 04 минуты со Щелковского аэродрома близ Москвы был дан старт, и самолет взял курс по маршруту: Москва, через Белое море, Кольский полуостров, Земля Франца-Иосифа, Северный полюс и дальше через Северный Ледовитый океан в Северную Америку».
Перелет начался. Я вспомнил, что не написал записку жене. Но теперь думать об этом уже поздно. Мои вещи кто-нибудь доставит домой, — наверное, доктор. Впереди трудное дело: перелет — из СССР в Америку. Краснокрылая птица, освещенная лучами восходящего солнца, легла на курс к Северному полюсу.
Байдуков после взлета и уборки шасси занимает штурманское место. Я лезу на бак и укладываюсь отдыхать. Вижу, как за нами гонятся два сопровождающих нас самолета. Один — старинный двухмоторный АНТ-6 и другой — современный скоростной моноплан. Чтобы легче подстроиться, моноплан не убирает шасси. На этом самолете старый опытный пилот Дедюлин. На другом — Рыбко. Вот белоснежный моноплан все-таки убрал шасси, быстро обошел наш тихоходный корабль и, сделав над нами два прощальных круга, развернулся назад в Москву. За ним последовал и АНТ-6.
Я стараюсь заснуть. Но холодный воздух, идущий откуда-то сбоку (наверное, у Валерия открыто боковое окно), дает себя знать. Прошу у Георгия кожаную куртку и укрываюсь потеплее. В окно вижу Волгу и город Ка-лязин. Вспоминаю, что у меня со школьниками Калязина переписка. Они обещали мне в этом году показать на переходных испытаниях отличные знания по русскому языку. Надо бы побывать у них на испытаниях, но теперь — ни о чем не думать и скорее, скорее заснуть.
В 5 часов по Гринвичу я сажусь на свое место. Самолет идет к северу. Находимся в районе Лекшм-озера. За это время Байдуков связался по радио с Москвой и передал несколько радиограмм о местонахождении самолета. Мы уже набрали 1300 метров высоты. В 5 часов 10 минут передаю свою первую радиограмму:
«Нахожусь Лекшм-озеро. Высота 1370 метров. Все в порядке. Беляков».
Погода отличная, землю хорошо видно, солнце светит ярко. Настроение бодрое и спокойное. Георгий, сидя на баке, о чем-то переговаривается с Валерием. Затем он вместо отдыха принимается качать масло. Я припоминаю, что за все время полета нам надо подкачивать масло всего два раза. Хочется спросить, зачем Георгий качает масло. Но некогда: я занят радиостанцией. Что-то уж очень долго он качает, а масло в главном баке горячее и идет оно очень легко. Затем я вижу, что Георгий ложится отдыхать, предварительно достав из своего рюкзака трубочный табак под названием «Капитанский». Название подходящее. Наше плавание весьма дальнее. Валерий, набив трубку, притих, как ребенок, которому дали соску. Георгий не удержался и тоже сделал несколько затяжек.
Скоро Белое море. Пока самолет еще над сушей, надо измерить углы сноса и определить ветер. Достаю визир и открываю небольшой круглый люк возле ног. Воздух врывается теплой струей и брызжет чем-то в лицо. На полу около люка замечаю капли масла. Крышка, которую я вынул, оказалась также вся в масле.
В голове вихрем проносятся мысли: масло течет. Откуда? Неужели нам придется возвращаться? Около радиостанции сквозь щель в полу начинают продавливаться внутрь самолета густые черные струйки. Это тоже масло. Кричу Георгию:
— Течет масло!
Но он и сам видит.
Теперь спокойствие! Прежде всего обследуем, откуда оно может течь. Просовываем визир глубоко вниз и осматриваем брюхо самолета. На нем во всю ширину — слои масла. Под влиянием воздушной струи масло передвигается мелкими волнами к хвосту самолета. Георгий режет на тряпки какой-то мешок. Вытираем масляную лужицу у радиостанции, но она появляется снова. Советуемся, что делать дальше. Решаем: полет продолжать и следить, перестанет ли течь масло.
Георгий в глубоком сомнении. Он подкачивал масло при показании масломера 80 килограммов. Это почти половина расходного бака. При таком показании надо обязательно подкачивать. Но сколько он ни старался добавить масла в расходный бак, масломер упорно показывал 80 килограммов. Стало быть, масломер не работает, и, очевидно, в баке масла гораздо больше 80 килограммов. Мы добавили туда излишки, которые теперь вытекают через дренажную трубку. Но как проверить, сколько масла в расходном баке? Георгий поворачивает краны масляной магистрали и начинает перекачивать масло из расходного бака в главный. Через некоторое время он ложится отдыхать.
В 6 часов 00 минут получили по радио метеосводку, В наушниках сильный треск. С трудом принимаем: «В квадрате 1 и 2, то есть на Кольском полуострове, ложбина — холодный фронт, малоподвижный. Рекомендуется идти прямо. Прогноз погоды — в квадрате 2 дождь, видимость удовлетворительная, температура плюс 15 градусов, облачность сплошная, слоистая, высотой 400 метров». Итак, впереди трудности. Погода готовит препятствия на пути самолета. Эти препятствия мы должны преодолеть. Спокойствие и выдержка.
В 6 часов 30 минут проходим небольшой городок Онегу и выходим в Белое море. Передаю на землю: «№ 5. Вашу радиограмму № 2 принял. Мешают атмосферные разряды. Бензосчетчик 4400, высота 1430. Все в порядке. Нахожусь г. Онега. Беляков». О течи масла умалчиваю. Думаю: зачем зря беспокоить людей? Может быть, все ото окажется пустяками. В 8 часов 00 минут выходим на берег Кольского полуострова. Немного сносит вправо. Я несколько раз вытираю масло. Как будто стало течь меньше. Самолет постепенно подлезает под верхний слой облаков, У нас уже 2000 метров. До Онеги путевая скорость была 165 километров в час. Это неплохо для начала. На Кольском полуострове землю застлали низкие облака. Итак, мы между двумя слоями облаков. Это не очень приятно. Горизонт впереди туманный.
В 9 часов по Гринвичу летчики меняются. Валерий интересуется течью масла, но тоже укладывается отдохнуть. Температура воздуха минус 4 градуса. Это Байдукова беспокоит. Если придется залезть в облака, возможно обледенение. Он старается найти лазейку вправо или влево, но облака окружают самолет, и в 9 часов 36 минут начинается слепой полет.
Через 15 минут замечаем первые признаки обледенения. Передние стекла в кабине летчика сделались матовыми. Боковые стекла возле моего места также тускнеют. Начинается тряска в моторе. Георгий тормошит Валерия — требует пустить в ход антиобледенитель.
— Давай, давай скорее давление на антиобледенитель!
— Сейчас! — во все горло кричит Валерий и, быстро спустившись с бака, начинает работать насосом.
Когда Георгий открыл капельник, то вместо капель пошла солидная струя. Потянуло запахом спирта. Жидкость течет по лопастям винта, не дает осаживаться льду, и самолет стал спокойнее, удары уменьшились, Лишь хвостовые стяжки, отяжелев, разбалтывают фюзеляж сильными рывками.
Вспоминаю, что после десятичасового полета следует переходить на другую волну. Для этого надо смотать десятиметровую антенну и оставить пятиметровую. При сматывании обнаруживаю, что вся моя антенна в масле и что поверх масла осели кристаллы воды в виде снега, «Вот еще не хватало, подумал я, — антенна в масле, да еще обледенела. Какая же у меня теперь будет передача?» Настраивая передатчик, я, однако, убедился, что ток в антенне нормальный. Следовательно, все в порядке.
Самолету прибавлен газ, обороты увеличились, и он медленно, но настойчиво набирает высоту. В 10 часов 24 минуты в облаках начинаются разрывы, проглядывает солнце, и снова у нас хорошая погода. У меня в журнале радостная запись: «Ура! Впереди ясно». Облачная вата, окутывавшая самолет, остается внизу.
Земля и берег Кольского полуострова где-то под облаками. По моим расчетам, самолет уже вышел в Баренцево море. Куда сносит, неизвестно. Нет земной или водной поверхности, поэтому нельзя измерить снос. Итак, первый фронт пройден. Он окончился благополучно. Берусь за секстан. Он должен мне помочь определить место самолета. Пузырек уровня долго не появляется. Неожиданно чувствую знакомый запах жидкости. Этого достаточно. чтобы понять, что с уровнем в секстане не все в порядке — вытекает жидкость. Однако, несмотря на неисправность, пузырек в уровне все же появляется, и я определяю высоту Солнца.
Проходят положенные четыре часа, Байдуков уступает место Чкалову. Мы уже двенадцать часов в полете, Я отработал свои восемь часов и хочу отдохнуть. Но Байдуков тоже нуждается в отдыхе. Он не спал сначала из-за масла, а затем вел самолет вслепую. Это нелегко. Через некоторое время договариваемся, и я сдаю Георгию свою вахту. Мы идет над Баренцевом морем, закрытым облаками. Погода хорошая. В И часов по Гринвичу в облаках были небольшие разрывы. Были видны темно-синяя рябь морской поверхности и судно, направлявшееся на северо-запад. Передаю об этом на землю по радио.
Облака под самолетом поднимаются все выше и выше. К 14 часам по Гринвичу Валерий набрал уже 3000 метров высоты. Это совсем не по графику. Облака становятся перед самолетом стеной. Справа видны голубые полоски горизонта: там облачность ниже. И Валерий начинает обход облачности к востоку. Лезть внутрь облаков ни у кого из нас нет желания.
Георгий будит меня, дергая за ногу.
— Начинаем обход облачности, — говорит он.
Я прошу его записывать курсы и дать мне возможность отдохнуть. Более часа самолет идет ломаными курсами на восток. Мы в Арктике. Тут полярный день, солнце не заходит. Представление о дне и ночи исчезает.
Сейчас 17 часов по Гринвичу. В Москве теперь 8 часов вечера. Валерию надоело обходить облака, да и курс истинный все время 80–90° ведет нас на восток. Мы все меняемся местами. Теперь Байдуков на первом сиденье, я на штурманском. Валерий может отдыхать.
Проверяю, продолжает ли течь масло. Остатки его еще видны на крышке отверстия для визира, но новое масло нигде не показывается. Георгий давно уже поправил масломер. Оказалось, что стеклом придавило стрелку. Теперь масломер показывает верно. Мы работаем масляным альвейером только для того, чтобы убедиться, что расходный бак наполнен маслом более чем наполовину.
Байдуков, усевшись на первое место, оценивает обстановку. Мы идем между двумя слоями облаков. Дальнейший обход становится бесполезным. Надо пробиваться к Земле Франца-Иосифа. Курс на север — это по компасу 343°.
В 17 часов 15 минут самолет снова погружается в облачное молоко, и начинается слепой полет.
Температура наружного воздуха минус 24 градуса. В кабине стало холодно. По теории — обледенение маловероятно. Георгий увеличивает скорость самолета за счет небольшого снижения. Ведь мы почти на потолке. Рули начинают работать вяло.
Теория оказалась несостоятельной. Сначала стекла, а затем кромка стабилизатора и крыла, расчалки и рамка радиокомпаса начинают покрываться неровным слоем непрозрачного белого льда. Валерий не спит и снова работает антиобледенителем на винт. Обледенение самолета, казавшееся сначала легким, стало интенсивно увеличиваться. Снова тряска в моторе и вздрагивание хвостового оперения.
Минуты кажутся часами. Скорей бы проскочить опасные слои! Мотору полный газ! Впереди начинает светлеть, 22 бесконечно длинные минуты слепого полета.
Мне хорошо видно рамку радиокомпаса. В лучах солнца она играет переливами нового ледяного кольца, которое появилось за время нашего, хотя и короткого, но богатого впечатлениями, пребывания в облачном месиве. Эта ледяная корка, появившаяся при температуре минус 24 градуса, долго держится на самолете. Тряска мотора постепенно исчезает. Мотору дается нормальный газ.
Получаю сообщение от летчика, что отказал водяной термометр. Теперь будет очень трудно следить за правильным охлаждением мотора. Его можно перегреть, тогда вода закипит. И, наоборот, можно остудить — это еще хуже.
Уже недалеко до Земли Франца-Иосифа. Пробую настроиться на радиомаяк, но принимать невозможно, потому что обледенели рамка и антенна.
Облака поднимаются все выше. В 19 часов 00 минут делаем большой круг для набора высоты. В 19 часов 10 минут высота 4250 метров. За окнами кабины совсем Арктика, температура минус 25 градусов. В кабине также по-полярному минус 6 градусов. Мотор довольно часто дает выхлопы в карбюратор. Записываю показания бензосчетчика.
Обход облачности к востоку и борьба с циклоном, заставившая нас пойти на обледенение, сильно задержали самолет в Баренцевом море. Свежий северо-западный ветер силой до 50 километров в час принудил потратить лишние три часа, чтобы добраться до Земли Франца-Иосифа. Обходы и борьба с обледенением окончательно спутали наш порядок смены для работы и отдыха. Летчики менялись чаще. Байдуков слезал с первого сиденья усталый и ложился отдыхать. Высота более 4000 метров давала себя знать. Мы уже посасывали кислород. Температура в кабине опустилась до минус 8 градусов. Я старался отдыхать, как только представлялась возможность. Если место на баке было занято, то ложился прямо на пол около своего сиденья. После циклона и обледенения мы пытались позавтракать. Пищу глотали с трудом: абсолютно никакого аппетита. Для пищеварения тоже нужен кислород, а его было недостаточно.
В 20 часов 20 минут в разрыве облаков увидели острова с возвышенностями, покрытыми снегом.
— Земля, земля! — кричит Валерий, как мореплаватель, не видевший землю несколько недель.
Знакомая очаровательная картина! Вот они, острова Земли Франца-Иосифа. Наконец-то!.. Давно мы вас ждали. Хорошо, что видно землю, а то бы, не заметив островов, так и прошли над облаками. Жаль, не видно бухты Тихой. Валерий с 19 часов на переднем сиденье. Он в темных очках, иногда попыхивает трубкой. Георгий должен отдыхать, но он вместе санами любуется полярной природой.
В 21 час принимаем метеорологическую сводку из Москвы. Расстояние до Москвы почти 3000 километров, но слышимость удовлетворительная, и только вследствие треска и разрядов нельзя полностью принять радиограмму. Высота 4100 метров. Голова работает вяло. Хочется сидеть не двигаясь, ничего не делать. Нужно усилие, чтобы расшифровать радиограмму.
В 22 часа 42 минуты по радиомаяку определяем, что вышли на меридиан острова Рудольфа. Теперь прямо на север к полюсу и берегам Канады. Курс устанавливаем по солнечному указателю курса. Можно немного отдохнуть. Слышимость маяка быстро ослабевает. Очевидно, это результат обледенения антенны и попадания на нее масла.
От 23 часов 18 июня и до 1 часа 19 июня Валерий и я спали. Байдуков один вел самолет по заданному курсу на север. Безбрежное море облаков расстилалось под самолетом. Оно по-прежнему было ярко освещено солнцем.
Истинный курс по солнечному указателю 0°. Я должен поставить часы на местное время меридиана, по которому мы идем. 58° восточной долготы — это значит, что к гринвичскому времени, которое я беру с хронометра, надо прибавить 3 часа 52 минуты. Доворачиваем самолет так, чтобы изображение солнца — яркий зайчик — пришлось в крест нитей солнечного указателя курса. Для этого проверяю установку на широту, верно ли поставлено склонение солнца и верно ли прибор стоит по уровню. На магнитном компасе штурмана 340°. Это и есть курс к Северному полюсу. Летчик замечает курс по гиромагнитному компасу и ведет самолет до новых моих поправок, которые я делаю только тогда, когда зайчик на СУКе уходит далеко от креста нитей.
Байдуков уступил место Чкалову и ложится отдыхать. Наш порядок смены и отдыха спутался — меняемся по мере надобности. Валерий жалуется, что ноет нога. Когда-то в детстве он сломал ее, и теперь это неожиданно дает себя знать.
Однако надо проверить, как мы расходуем горючее, К моменту последней записи мы израсходовали 7180 минус 3500, это равняется 3680 литрам. К этому времени самолет был в воздухе уже 24 часа 06 минут. Раскрываю книгу графиков. Там 12-й график называется «Расход в литрах по часам». Нахожу, что 3680 литров мы должны были израсходовать в полете за 26 часов, а сожгли за 24. Итак, перерасход горючего 300 литров, по времени — на 2 часа. Но если учесть весь наш предполагаемый путь, то это будет уже 4 часа, так как расход горючего в конце пути значительно уменьшится. На высоте 3000 метров при весе самолета в 5 тонн он расходует в конце полета всего 0,32 килограмма горючего на воздушный километр. 300 литров, или 216 килограммов, — это почти 680 километров дальности. Облака, излишний набор высоты съедают нашу дальность. В моем журнале короткая, но горестная запись: «Перерасход на 2 часа».
На всякий случай заглядываю в другой график: «Путь по расходу в литрах». Нахожу: израсходовали 3680 литров и прошли по своему заданному маршруту 3750 километров. Ставлю в графике точку № 1. Она приходится между черной и красной линией и указывает, что дальность в 10 тысяч километров еще достижима. Но в распорядке, принятом на самолете, отдыхающий обязан подкачивать масло. Я замечаю, что Байдуков движет ручкой масляного альвейера довольно медленно. Сказывается высота.
Мы приближаемся теперь к району Северного полюса. Путь лежит по 58-му меридиану. Весной этого года здесь уже прошли самолеты с красными звездами на крыльях. Небывалая воздушная экспедиция к центру Арктики была задумана для доставки туда группы полярных исследователей, и еще в середине марта 1937 года четыре самолета АНТ-6 и один АНТ-7 (Р-6) были уже готовы к полету. Но рассчитанный флаг-штурманом экспедиции И. Т. Спириным маршрут Москва Холмогоры — Нарьян-Мар — Маточкин Шар — остров Рудольфа — Северный полюс поддавался медленно, трудно. И все же экипажи пробивались к полюсу. На флагманской машине летели пилоты М. В. Водопьянов, М. С. Бабушкин, штурман И. Т. Спирин, механики Ф. И. Бассейн, К. И. Морозов, П. П. Петенин, радист А. А. Иванов. На борту этого самолета находились еще начальник дрейфующей станции «Северный полюс» И. Д. Папанин, радист Э. Т. Кренкель, гидролог П. П. Ширшов, астроном Е. К. Федоров, кинооператор М. Трояновский. Другими самолетами управляли летчики В. С. Молоков, А. Д. Алексеев, И. П. Мазурук и П. Г. Головин.
В историю Арктики вошла дата 21 мая 1937 года. В 11 часов 35 мину# по московскому времени самолет «СССР Н-170» приземлился на суровые и безжизненные льды Северного полюса.
«На несколько секунд в отсеках воцаряется мертвая тишина. Люди словно прислушиваются: как поведет себя льдина под неожиданным грузом? Корабль стоит спокойно. Льдина выдержала!
Общее молчание вдруг сменилось бурным взрывом радости. А что было потом — вообще трудно рассказать…» — вспоминал Иван Тимофеевич Спирин о первых минутах приземления на полюс.
Полюс! Сколько мечтаний и жертв… Где-то совсем рядом работают на льду, почти за тысячу километров от ближайшей зимовки, те четыре смельчака ученых: И. Д. Папанин, Э. Т. Кренкель, П. П. Ширшов, Е. К. Федоров. Жаль, что их не будет видно. Облака мощным слоем отделяют от нас земную поверхность. Наверное, там внизу идет снег, может быть, и дождь. Вероятно, пасмурно и холодно.
А вот что записал тогда в опубликованном впоследствии дневнике дрейфующей полярной станции И. Д. Папанин:
«19 июня. Необычайно напряженный день. Всю ночь напролет Эрнст дежурил на радио, следил за полетом Чкалова… Мы встали. Через некоторое время я услышал шум самолетного мотора и закричал: «Самолет, самолет!» Женя выскочил на улицу — ничего не видно. Но тут же прибежал обратно и кричит мне через дверь: «Да, это Чкалов, но самолета не видно, сплошная облачность. Мотор слышу отчетливо». Все выскочили. Послали тысячу проклятий облакам…»
В 4 часа 15 минут по Гринвичу мы находимся в районе Северного полюса по широте 89°. Ничего не видно, кроме облаков, ярко-белые вершины которых мы рассматриваем сквозь темные очки. Однако облачность вскоре уменьшается, и начинают проглядывать льды. В 4 часа 30 минут под нами необозримые ледяные поля. Я давно уже не имел возможности измерить путевую скорость. Теперь скорее визир на место! Замеряю: 4200 метров прошли за 1 минуту 23 секунды.
Ого! Путевая скорость 180 километров в час. Сомнерова линия показывает, что самолет уже за полюсом. А курс у меня еще 0°, то есть на север. Широта 90°. Пора изменить курс на 180°. Теперь ведь мы идем на юг.
От Северного полюса любое направление идет на юг. Надо направить самолет так, чтобы он шел вдоль 123-го меридиана западной долготы. Это наш заданный маршрут. Решаю переставить СУК на местное время 123-го меридиана в момент, когда по Гринвичу будет ровно 5 часов 19 июня. Кручу стрелки часового механизма и поворачиваю головку прибора на 180 градусов. Зайчик снова приходит в крест нитей, — значит, все в порядке. Итак, в 5 часов утра 19 июня по Гринвичу наш СУК стал жить по тихоокеанскому времени и оказалось — 20 часов 48 минут 18 июня. Время пошло назад. Теперь наши сутки удлинились до 33 часов, и я передал радиограмму в штаб перелета о выполнении первой части задания:
«Мы перевалили полюс — попутный ветер — льды открыты — белые ледяные поля с трещинами и разводьями — настроение бодрое».
Человек проникал в Арктику, имея базу на островах или на берегу материка. Если учесть это обстоятельство, то будет ясно, что самые недоступные места Ледовитого океана лежат не у Северного географического полюса, а немного в стороне от него, как бы сдвинутые к берегам Аляски и Берингову проливу. Этот район получил название «Полюс относительной недоступности».
Наш самолет держится самого края этой области. Здесь еще никогда не ступала нога человека. Да и нужно ли это теперь, в наш век, когда с самолета можно за короткое время обозреть десятки тысяч километров?
В 7 часов 42 минуты еще раз измеряю путевую скорость: 4000 метров пройдено за 1 минуту 12 секунд. Мы идем 200 километров в час. Нам помогает легкий попутный ветерок — наша истинная воздушная скорость всего 181 километр в час. Это радует, так как до Северного полюса мы потеряли много времени на обходах и на встречных ветрах. Мы должны были бы достичь полюса через 21 час после вылета, а потратили на это 27 часов.
Последнюю радиограмму в Союз я отправляю в 8 часов 10 минут. «№ 27. Все в порядке. Перехожу на связь с Америкой. Путевая скорость 200 километров в час.
В 10 часов 40 минут рассчитываю достичь острова Патрик. Беляков». В 9 часов 00 минут стараемся настроиться и принять американские станции, в первую очередь Анкорредж, который находится на южном берегу Аляски. Там мощная 10-киловаттная коротковолновая станция. Но все мои старания напрасны.
У Валерия ноет нога. Он требует частой смены. В 10 часов 00 минут у нас 5100 метров. В 10 часов 25 минут — 5300.
Мотору дан полный газ для набора высоты. В 10 часов 45 минут — 5500 метров. Обходим горы облаков. Экипаж надел очки и кислородные маски. Магнитный компас штурмана суетится. Даже при незначительных кренах он уходит вправо и влево на 40–50°.
Справляюсь в графике: наш вес через 34 часа полета 7,5 тонны, потолок 5750 метров. Следовательно, мы взяли все, что можно было взять от самолета. На потолке он часто проваливается и плохо слушается руля. Указатель скорости показывает всего 130 километров в час.
После того как в Баренцевом море при температуре минус 24 градуса самолет обледенел, у Байдукова и Чкалова нет никакого желания еще раз забираться внутрь облаков. В 11 часов 45 минут облака поднимаются выше нашего потолка. Самолет беспомощно разворачивается и некоторое время идет обратно к полюсу. Мы определяем это по солнцу: если стать на правильный курс к берегам Канады, то солнце будет у нас позади и слева. Каждый час занимаюсь астрономией. Пузырек в секстане угрожающе растет. Скоро нельзя будет им пользоваться. Высота 5600 метров — и самолет отказывается карабкаться наверх. Выхлопы в карбюратор не прекращаются. В 12 часов 00 минут снова устанавливаем самолет на истинный курс 180°. Если теперь нырнем в облака и солнце не будет просвечивать, то одна надежда на гиромагнитный компас. Прошу Байдукова заметить его показания, так как здесь магнитное отклонение очень велико и малодостоверно.
Наши запасы кислорода быстро убывают. Байдуков хотя и в кислородной маске, но скоро устает. Напряжения хватит еще на полчаса. Больше нет сил, и самолет погружается в облачную вату. Чтобы проскочить быстрее слой облаков, мы почти пикируем 2500 метров. Опять удары, и опять стекла становятся непрозрачными. Но облака не очень густые, и обледенение слабое. Байдуков все же беспокоится и, обернувшись, тормошит Валерия. Я вижу, что стекла передней кабины совсем замерзли, как окна в трамвае в морозный день. Валерий подает Байдукову нож, ж тот, просунув руку в боковое отверстие кабины, прочищает снаружи во льду небольшую щелку. Оказывается, из мотора выбросило воду, и она, попав на стекла кабина, моментально образовала на них ледяную корку.
Мотору совсем не полагается выбрасывать воду, тем более из расширительного бачка и тем более в условиях Арктики. Поплавок сразу понизился, показывая, что в расширительном бачке мало воды. Сейчас 3150 метров. Я приоткрываю боковое окно и с радостью устанавливаю, что облачный слой кончился и что где-то далеко внизу есть второй рваный слой облаков. Сквозь него ясно вижу темно-коричневые возвышенности земли, местами покрытые снегом.
Прочищаем стекла. Самолет идет горизонтально. Курс держим по гиромагнитному компасу 60° (магнитное склонение 130°). Как странно — самолет идет будто бы на северо-запад, а фактически продвигается на юг.
Отмечаю время и место. В 13 часов 27 минут вышли на Перкер-Пойнт (северо-восточный берег Земли Бенкса). Остров Патрик остался вправо и сзади. Под нами светло-коричневая земля в виде огромной равнины. Только у берегов она как бы обрывается в море, и можно понять, что она выше моря на 100–200 метров. Земля освещена солнцем, которое просвечивает сквозь верхний слой высококучевых облаков. Воздух прозрачен, как кристалл. Видимость исключительная — более 200 километров. Вот где настоящий «арктический» воздух.
Поверхность островов испещрена многочисленными оврагами, речушками и озерами. В оврагах лежит снег. Озера затянуты грязновато-зеленым льдом. Часть речушек темно-синяя, почти черная, — снег, по-видимому, тает. Светло-коричневая тундра очень бедна растительностью. Местами встречаются поля снега. Все проливы, куда ни взглянешь, забиты льдом. Поверхность льда ярко освещена солнцем, и хорошо видно ее мозаичное строение. Лед как бы склеен из огромного количества небольших неправильных кусков разных оттенков. Есть куски голубоватые, зеленые, почти прозрачные. Есть куски с остатками снега.
Чистую воду — большое круглое озеро среди льдов — мы видели только к югу от Земли Бенкса. Идем на высоте 3000 метров. Наша жизнь быстро входит в норму. Возвращается аппетит. Достаем мешки с продовольствием. Наш завтрак яблоки и апельсины. Жаль только, что они замерзли. Отогреваем их на отоплении.
За три часа полета мы пересекли все острова, расположенные к северу от Канады. Знаменитый американский ученый и исследователь Вильямур Стифансон провел на этих островах четыре года. Землю Бенкса он прошел вдоль и поперек несколько раз. Несмотря на большое желание рассмотреть повнимательнее эту землю, я чувствую непреодолимую потребность в отдыхе.
В 16 часов 15 минут вышли на берег Канады. Ура! Мы уже в Америке. Под нами Пирс-Пойнт — пункт, который я сотни раз просматривал на карте, готовившись к полету.
При очень хорошей погоде, отдыхая на высоте 2700–3000 метров, мы дошли до Большого Медвежьего озера. Теперь у нас есть связь с Америкой. В 20 часов 05 минут самолет выходит на реку Макензи. Наша широта 64°, долгота 124°. Маршрут идет прямо на юг. Но высокие вершины облачных гор снова преграждают путь. Даем мотору еще раз полный газ. В нарушение всяких графиков Самолет послушно полез вверх. Высота 4400 метров, затем 5700. Сначала лавируем между громадами облаков, но они уже почти сомкнулись и образуют внизу сплошной слой. Земли не видно. Влево, то есть к востоку от самолета, весь горизонт затянут высокими облаками, которые еще тысячи на две метров выше нашего самолета. Решаем, что будем обходить облака справа, то есть к западу.
Временами в просвете облаков под самолетом проглядывают горы. Они угрюмые, серо-стального цвета. На склонах выделяются белые полосы снега. Мы пересекли горы Макензи. Облачность окончательно сомкнулась, и казалось, самолет плыл по огромным застывшим волнам океана. Стремимся на запад, где видна голубая полоска неба. На юг свернуть нельзя. Все занято высокими облаками разгулявшегося циклона.
Кислород быстро убывает. У меня осталось только 20 атмосфер; пишу об этом записку Байдукову, который сидит в пилотской кабине. Он неодобрительно покачивает головой. В 22 часа 35 минут высота 6150 метров. Из мотора выбрасывает воду. Ему много раз подбавляли воды из резервного бачка. Но в 22 часа 50 минут обнаруживается, что альвейер уже не забирает воду из бачка. Байдуков поднимает шум — «давайте воды». Я пошел проверить, действительно ли бачок пуст. Отвернул пробку, опускаю линейку. Она суха. Сейчас добавим воды из резинового мешка. Валерий помогает мне его достать. Мешок с самого отлета стоит вертикально у заднего сиденья. Более 45 часов мы не переставляли и не перекладывали его — и вот результат. Мешок холодный и твердый. Вода замерзла. Но где-то внутри слышно бульканье. Финкой режем мешок пополам, и литров пять холодной воды течет в бачок. Байдуков работает альвейером, и мотор на время утоляет свою жажду. Надолго ли? Лед из мешка разбиваем на мелкие кусочки и кладем на вогнутую крышку бачка под мое сиденье. Тает он очень медленно.
Начинается новый день — 20 июня. Но это по Гринвичу, и меня не занимает. Недостаток кислорода сказывается с возрастающей силой. Пропускаю прием по радио в 24 часа и два очередных срока передачи. В 0 часов 40 минут у меня и у Валерия кислород иссяк. Байдуков знаками требует карту, просит показать местонахождение самолета. Я ползу на четвереньках к первому сиденью, но силы мне изменяют. Неприятный позыв к рвоте, головная боль, соображаю с трудом. Ложусь беспомощно на масляный бак. У Валерия из носа показалась кровь.
По расчету мы уже достигли побережья. Теперь можно снижаться, и в 0 часов 48 минут начинаем пробивать облака вниз. Через 12 минут вздох облегчения. Самолет вынырнул из облаков на высоте 4000 метров. Внизу второй слой облаков, и в просветах темнеет вода. Путь ясен. Немного к берегу и вдоль него на юг и юго-восток. Мы над Тихим океаном.
В 2 часа 10 минут передаю по радио: «№ 42. Пересекли Скалистые горы, идем над морем вдоль берега. Все в порядке. Беляков».
Временами сквозь облака проглядывают прибрежные острова. У берегов рябь и буруны. Белая цена, как кружево, окаймляет суровые темные скалы. У нас высота 3500 метров, можно жить и без кислорода. В 3 часа принимаю Анкорредж. Длинная радиограмма со сведениями о погоде. В горах она плохая. Теперь это нам не страшно, так как горы слева, а над водой препятствий никаких нет.
Вдоль западного берега Канады идем между двумя слоями облаков. Берег нам виден, как огромное количество темных скалистых островов, что-то вроде финских шхер. Очертание островов нельзя разобрать. Дальше на берегу горные цепи с дикими и угрюмыми снежными вершинами и снегом по склонам. Населенных пунктов не видно.
В 3 часа 40 минут повторяю радиограмму, сообщающую, что мы пересекли Скалистые горы и идем вдоль побережья. Теперь у меня в радиожурнале запись идет русскими словами, но латинскими буквами. Объясняюсь по-русски, а также с помощью нашего небольшого кода. Небо сверху начинает проясняться. Солнце все более и более склоняется к закату, предупредительно напоминая о том, что когда-нибудь для самолета наступит ночь.
4 часа 42 минуты. Наступил срок астрономических наблюдений. Теперь надо изловчиться взять секстаном высоту Солнца и Луны по естественному горизонту. Открываю верхний люк и высовываюсь из самолета. Поток холодного воздуха обжигает нос и щеки. Пальцы в перчатках быстро стынут. Надо работать проворнее. Наконец с большим трудом высоты измерены: Солнце совсем низко у горизонта. Ищу на карте положение точки, для которой вычислена высота Солнца и Луны. Вот она, точка № 25, для нее вычислены высоты. Две сомнеровые линии на карте дают позицию самолета у островов Королевы Шарлотты.
Вместе с Валерием рассматриваем землю и без труда «узнаем» северо-восточную оконечность островов Грахам. Передаю по радио: «№ 43. Все в порядке. Находимся острова Королевы Шарлотты. Бензосчетчик 10462. Беляков». Доходит ли наше донесение до Москвы? Если доходит, то сообщения о показаниях беизосчетчика, наверное, ждут в штабе с нетерпением.
Хватит ли нам горючего, чтобы продержаться до утра? Смотрю снова в график. Конец бензина — это 11460 по счетчику. Следовательно, наш ресурс 1000 литров. Если считать с навигационным запасом в 20 процентов, то хватит на десять часов. Без запаса — на одиннадцать с половиной часов, то есть на полторы-две тысячи километров, в зависимости от ветра. Беру по карте расстояние до Сан-Франциско 1900 километров. Долететь можно только при исключительно благоприятных условиях. Надо идти строго по графику, то есть экономить горючее и стараться, чтобы ветер не препятствовал, а помогал.
Просторные карманы на бортах фюзеляжа набиты запасными картами, справочниками, календарями и инструкциями. Ищу в заднем кармане. Там должен быть астрономический календарь на 1937 год. Он мне сейчас нужен для подсчета, сколько времени для нашего самолета будет продолжаться ночь. Подсчет довольно хитрый. Самолет за ночь продвигается на другую широту и долготу. У меня приготовлен график времени наступления темноты и рассвета па 15 июня по местному среднему времени.
Итак, впереди ночь продолжительностью около шести часов. Надвигается она быстро, и в 6 часов 30 минут наступает темнота. Заря еще долго остается на северо-западе и севере. Внизу темно. Теперь уже плохо различаем, где границы облаков. Впереди и справа сквозь влажную пелену тускло просвечивает луна. Валерий вечером успел немного отдохнуть ж теперь снова сменил Байдукова. Самолет набирает высоту. В кабине светло и уютно. Высота в 7 часов 00 минут 3950 метров, но недостатка кислорода не чувствуем. Мой столик и радиостанция ярко освещены кабивными электрическими лампами. На переднем сиденье почти темно. Валерий гасит все огни, чтобы лучше вглядеться в темноту. Временами по вздрагиванию самолета и по отсутствию луны замечаю, что самолет прорезает облака. Слепой полет, да еще ночью…
Мы с Байдуковым верим Валерию. Я стараюсь облегчить ему выдерживание курса. Настраиваюсь на Беленгейм. Это мощная земная радиостанция вблизи Сан-Франциско. Теперь указатель радиокомпаса работает. Мы идем по ортодромии в направлении на Сан-Франциско, постепенно приближаясь к берегу.
Я как будто уже научился отдыхать урывками. Приближается очередной срок передачи на землю по радио. Меня беспокоит, какая погода ожидает нас утром, когда мы выйдем на побережье. Несколько раз передаю: «Сообщите погоду в Сиэтле и Сан-Франциско на утро». Отчетливо принимаю несколько радиограмм: «Слышу самолет хорошо. Где вы находитесь? Как самочувствие экипажа?» А сведений о погоде все нет и нет. В 7 часов 42 минуты еще раз подсчитал горючее. Будем садиться между Сиэтлом и Сан-Франциско. Надо об этом сообщить по радио на землю, чтобы не ждали там, где не надо. Передаю радиограмму: «№ 44. Посадку будем делать утром. Если не хватит бензина до 78 (Сан-Франциско) — сядем на одном из аэродромов между 76 и 78 (то есть между Сиэтлом и Сан-Франциско)». Получили поздравление экипажу. Подпись: «Атташе». Сначала не понял, очевидно, наш военный атташе находится в Сан-Франциско.
Вспоминаю, что американские широковещательные радиостанции нормально работают только до 12 или 1 часа ночи. Дальше всем честным людям надо спать, и уважающая себя станция прекращает работать. Стрелка радиокомпаса успокоительно помахивает своим хвостиком на доске первого летчика. Если надеть наушники, то хорошо слышна музыка. Настройка на 440 килоциклов подтверждает, что самолет идет правильно. Надо ли объяснять, как все это успокоительно действовало на жителей кабины самолета.
Скорее надо передать на землю нашу просьбу, чтобы широковещательная станция Беленгейм не прекращала работать всю ночь. В 8 часов 47 минут работаю ключом вне расписания: «№ 45. Просим Беллингам работать всю ночь. Идем по радиокомпасу в облаках».
Мы все сильно утомились. Мало сна, сильно недостает кислорода. Не замечаю, как делаю в радиограмме ошибку — прошу «Беллингам» вместо «Беленгейм». Узнаю об этом только после посадки. К счастью, на земле понимают больше, чем мы думаем, и все обошлось без недоразумения.
Наконец в 9 часов принимаю целую страницу. Погода на участке Сиэтл Сан-Франциско сплошная облачность, высота в футах: Медфорд — от 2000 до 5000, Ванкувер — от 1000 до 3000. Мало утешительного.
Светлая полоска зари переместилась на север и постепенно скользит к северо-востоку. Через верхний люк иногда вижу звезды. Чувствую непреодолимое желание лечь хотя бы прямо на пол и заснуть.
Утро 20 июня наступило для самолета незаметно. Предрассветные сумерки заходили откуда-то сзади и сбоку и смешивались с бледным сиянием луны. Побережье начало постепенно оживать. Еще ночью морской маяк мигал на горизонте.
Подсчитываю путевую скорость, которую мы имели от островов Королевы Шарлотты. Всего 135 километров в час. Досадно! Ветер опять не помогает, а, наоборот, задерживает. Берег теперь где-то под самолетом, но из-за сплошной облачности береговой черты его не видно. Указатель радиокомпаса перестал работать. Беру наушники — музыки не слышно. Значит, широковещательная станция перестала работать. Она честно волновала эфир всю ночь, как мы ее просили, а теперь, утром, очевидно, тоже хочет отдохнуть.
Поворачиваю ручку настройки радиокомпаса, чтобы поймать какую-либо другую станцию, и вдруг мелодичный тон повторяет уверенно букву «А». Здравствуйте, мистер радиомаяк! С вами мы рады познакомиться. Сколько килоциклов в настройке? 242! Скорее навигационную карточку. Странно, 242 килоцикла — это радиомаяк в Окленде (близ Сан-Франциско).
Прошу Байдукова надеть шлем с наушниками и включаю его на радиокомпас. Теперь мы слушаем оба. Через каждые 30 секунд маяк дает позывные «5А», что означает Сиэтл.
Пока мы с Георгием разбирались в радиомаяках, Валерий на нас негодовал. Он считал, что мы путаем и что лучше идти на побережье, снизиться к воде и идти вдоль берега. Но где это побережье? Его не видно из-за облаков. Надев наушники, Валерий убедился, что самолет идет по радиомаякам. В 14 часов 12 минут бензосчетчнк показал 11239. Если он не врет, то бензина осталось всего 220 литров, то есть на два с четвертью часа полета. Сообщаю об этом Чкалову. Ему, конечно, как и нам с Байдуковым, хочется пролететь как можно дальше. Он идет к бензиномерному стеклу, чтобы по его показанию проверить остаток горючего в центральных баках. Бензиномерное стекло показывает остаток горючего более 500 килограммов, не считая бака, в котором еще 120 килограммов. В воздухе мы находимся уже 61 час.
«Хватит до Сан-Франциско и дальше!» — заявил нам Валерий. Я усомнился в его словах и решил сам посмотреть показания бензиномерного стекла. С помощью специальных кранов эта стеклянная трубка может быть соединена или с центральными баками или со средним. Дренаж бензиномерного стекла выведен наружу за борт самолета. Действуя кранами, я получил в трубке уровень бензина в центральных баках более 500 килограммов, то есть то же, что и Валерий. В это время Байдуков, чувствуя по усилению слышимости маяка приближение к Портленду, решил снизиться под облака и проверить, действительно ли самолет по маяку и радиокомпасу выходит к названному городу.
Мы с Валерием ломали себе головы над тем, откуда могли взяться лишние 300–400 килограммов горючего? Сначала возникла теория, что взятое нами горючее имеет удельный вес сравнительно меньший, чем в прошлом году, и что, дескать, поэтому бензосчетчик мог наврать и насчитал больше, чем нужно. Но эта теория оказалась несостоятельной, потому что бензосчетчик «Наяда» отмеривает горючее не по весу, а по литражу.
Затем возникло предположение, что, может быть, перед отлетом залили нам избыток горючего и ничего об этом не сказали, Но и эта теория казалась маловероятной. Пока мы занимались этими рассуждениями, Байдуков, пройдя Портленд, набирал высоту и слепым полетом шел в облаках дальше по трассе воздушной линии Сиэтл — Сан-Франциско.
Самолет идет вслепую вдоль трассы воздушной линии, а в кабине еще продолжается спор о количестве оставшегося горючего. Я помогаю Байдукову оценить рельеф местности. Надо срочно набирать высоту, иначе самолет натолкнется на какую-нибудь возвышенность.
Но сейчас мотор работает с особенной четкостью. Его 12 цилиндров и винт поют победную песню. В каждой детали — труд наших рабочих.
Самолет мягко врезается в облачную мглу. Он летит уверенно и твердо. Наберем высоту до 3000 метров и тогда наверняка выйдем из облаков.
Прислушиваемся к сигналам радиомаяка Портленда. Они понятны. Но тут неожиданно появились новые сигналы о том, что наше горючее подходит к концу: в расходном баке стал понижаться уровень бензина.
Если в центральных баках еще остался бензин, то с помощью альвейера можно взять горючее и дополнить расходный бак. Байдуков работает альвейером, но он качает только воздух. Георгий показывает знаком, чтобы Валерий тоже потрудился. Но и это напрасно.
«Может быть, в бензопроводе — воздушная пробка, и при быстрых движениях альвейером бензин все-таки потечет в расходный бак», — подумал я, берясь за альвейер. Но вскоре убедился, что добавить бензин мы не можем. Произошло короткое совещание в облаках на высоте 2500 метров. Просветов еще нет. «Если даже и есть бензин в центральных баках, мы не может подать его в расходный бак. Можно ли лететь дальше?» «Нельзя», — говорит Валерий.
В расходном баке бензинометр достиг уже зеленого цвета. Значит, осталось всего 60 килограммов. Решаем вернуться обратно в Портленд. В 15 часов 41 минуту — разворот обратно, и по радиомаяку, снижаясь, идем к месту посадки. Решаем садиться на военном аэродроме.
В книжке со сведениями об аэродромах смотрю снимки и описания Портленда и Ванкувера. Военный аэродром в Ванкувере легче отыскать по двум огромным мостам через реку. Передаю снимок Валерию и Байдукову. Признаки настолько приметны, что я совершенно спокоен. Байдуков выведет самолет по радиомаяку на реку, а затем по двум мостам найдет аэродром.
Перед посадкой я начал наводить в кабине порядок. Моя низкая обитель, в которой я провел почти три дня, напоминала крохотную комнатку студента, готовившегося к дипломному проекту. На деревянном штурманском столике лежали отточенные карандаши, циркуль, линейка, резинка, треугольники, использованные карты, бортовой журнал и радиожурналы. В глубоких матерчатых карма-пах, вделанных в стенки кабины, помещались инструкции, справочники. Некоторые карты и штурманский журнал могли мне понадобиться для справок в первые, же минуты на земле. Укладываю их в портфель. Всякую же ненужную мелочь выбрасываю в окошечко.
Газ сбавлен, самолет несется уже низко над землей. Еще мгновение — и моноплан, плавно опускаясь, касается колесами земли. Он быстро катится по мокрой примятой траве, слегка потряхивая длинными остроконечными крыльями, и останавливается в двухстах метрах от границы аэродрома на своих широко расставленных ногах.
Вот она земля! Пусть тяжелый трехлопастный винт еще вращается по инерции, но мы уже на твердой почве, все пережитое за эти дни — позади. Сквозь забрызганное капельками дождя боковое оконце я вижу серо-пепельное небо. Облака низко плывут над мокрыми аэродромными постройками, от которых отделяются какие-то точки. Это бегут к нам люди.
Наконец наш АНТ-25 останавливается около ангара. Я читаю: «Военный аэродром Пирсон-Филд». Георгий выключает двигатели. Полет окончен.
Усталость овладевает мною. Мы пробыли в воздухе 63 часа 16 минут. За это время самолет покрыл по воздуху 11 430 километров. Земной путь — 9130 километров. Однако чувство огромного удовлетворения побеждает ее, вызывая прилив новых сил. Мне даже не хочется вылезать из самолета — хочется продлить приятную минуту сознания выполненного долга перед своей страной и народом.
Валерий, как командир экипажа, хочет первым выйти на землю.
Небритый, в толстой кожаной куртке, черных штанах, в нерповых сапогах, с длинным меховым клином, лихо засунутым под ремень, стягивающий туловище, Чкалов походил на медведя. Тем не менее он ловко пробирался по узкому коридору, протискиваясь между моим столиком, радиостанцией и приборной доской с рычажками и циферблатами.
Я открыл люк. Душный, влажный воздух ворвался в кабину. Валерий вылез через горловину и, держась руками за скользкий, мокрый борт самолета, первым спрыгнул на землю.
Мы с Байдуковым предвкушали удовольствие понаблюдать, как будет Валерий при помощи жестов объясняться с американцами. Из моего окошечка было видно, как он отошел на несколько шагов от самолета и вынул из кармана портсигар. Навстречу ему шли военные и штатские. Вскоре его коренастая фигура скрылась в небольшой группе, но минуты через полторы-две он вновь появился у борта самолета и, постучав широкой ладонью по обшивке фюзеляжа, крикнул:
— Ребята, вылезайте! Нас генерал приглашает к завтраку.
Байдуков и я были немало удивлены таким неожиданным оборотом дела. Мы недоумевающе посмотрели друг на друга. Как же это Валерий сумел так быстро договориться с иностранцами? Но вскоре все объяснилось. На аэродроме присутствовал солдат, поляк по происхождению, немного знавший русский язык. Командующий корпусом и авиационными частями генерал Маршалл захватил его с собой из штаба, когда увидел идущий на посадку моноплан с огромными буквами «1155Н» на крыле.
Я выглянул из люка и сказал Валерию:
— Куда там завтракать, да еще у генерала. Надо побриться сначала, привести себя в порядок.
Но Валерий настаивал на своем. Пришлось вылезти.
Было пасмурно, моросил дождь. В теплом обмундировании мы выглядели неуклюже. Тем не менее появившиеся откуда-то репортеры пожелали нас сфотографировать. Пришлось встать у фюзеляжа самолета. Вдруг вспыхнули прикрепленные к фотоаппаратам лампочки и на мгновение осветили наши небритые, утомленные лица.
Может быть, в самом деле следует поехать в какую-нибудь гостиницу отдохнуть, привести себя в порядок? Я пытаюсь в разговоре с переводчиком выяснить этот вопрос, но тот отвечает:
— Генерал предлагает вам свою машину. У него вы можете побриться ж отдохнуть, — и представляет нас генералу.
Тем временем к воротам аэродрома начали стекаться толпы людей. Многие шли с раскрытыми зонтиками. Автомобили образовали длинную цепь.
Генерал усадил Чкалова и Байдукова в машину, мне предложил сесть вместе с ним в другую, и мы выехали на шоссе.
Вдогонку нам раздалось громкое приветствие:
— Ура русским ребятам! — кричал американский солдат.
Ехать пришлось недолго. Автомобили миновали ворота парка и остановились под навесом, примыкавшим к жилому дому. Мы вышли из машин и направились за генералом в дом. Ставить автомобили в гараж не было необходимости, так как навес выполнял роль гаража.
За короткую поездку я успел рассмотреть генерала Маршалла. Это был высокий сухощавый блондин с обветренным лицом и седеющими волосами — старый вояка. Его заботы о нас были непритворны. Он понимал, что мы нуждаемся в отдыхе, поэтому пусть не сердятся на него военные и штатские Ванкувера, но он не считает возможным впустить посторонних в дом.
Генерал ведет нас в опальную и ванную, приносит бритвы и удаляется в соседнюю комнату звонить по телефону, вероятно докладывать по начальству. Затем он вновь появляется в нашей комнате и на спинку кровати вешает три халата. Но, очевидно, генералу кажется, что одних халатов недостаточно; он оставляет нас и через минуту возвращается, держа в руках три пары туфель. Ему кажется, что и этого мало. Он приносит еще три пижамы. Нам безумно хочется спать, и мы готовы от всего отказаться.
Впрочем, когда-нибудь нужно же сменить наши нерповые сапоги, фуфайки и тяжелые куртки на более легкую одежду.
Через переводчика я даю понять генералу, что мы хотели бы приобрести костюмы. Но по случаю воскресенья все магазины закрыты.
Генерал немного озадачен. Спустя минуту его лицо светлеет, и он говорит переводчику:
— Передайте моим гостям, что я постараюсь их просьбу выполнить.
Направляемся в ванную комнату. Ее стены выложены изразцом, блестят, как в операционной. В углу возвышается постамент с углублением из тщательно отполированного беловато-желтоватого камня. Эта овальная чаша — ванна. Едва успели мы побриться и вымыться после дальней дороги, как в дверях появился переводчик и сказал:
— Кого-нибудь из экипажа просят к телефону. Из Москвы!
— Отрядим для разговора тебя, Егорушка, — сказал Чкалов.
Байдуков пошел в соседнюю комнату. Было слышно, как он громко разговаривал. Нас поздравляли. Мы со своей стороны были счастливы доложить, что перелет закончен благополучно.
Теперь оставалось совершить перед сном последнюю процедуру — поужинать. На столе «хеменекс» — яичница с ветчиной — традиционное американское блюдо. Мы выпили кофе и, охваченные дремотой, легли спать.
Первые несколько секунд я еще смутно слышал какие-то телефонные звонки, потом все сразу оборвалось. Покой и глубокий сон овладели нами.
А жизнь в генеральском доме тем временем бурлила. Генерал Маршалл по телефону давал интервью репортерам.
— Русские летчики, — говорил он, — приземлились на военном аэродроме, потому что на нем больше порядка, чем на гражданском.
Это расценивалось как особая честь, которую мы оказали американской армии; военные были очень довольны. Прилет наш привел в движение не только жителей Ванкувера, но и других городов. Рузвельт, несмотря на воскресный день, отправил нам приветственную телеграмму. Генерал Маршалл во время нашего безмятежного сна делал по телефону полпредству СССР подробное донесение о посадке самолета. Полпред СССР в Америке А. Трояновский немедленно вылетел на «Дугласе» из Сан-Франциско в Ванкувер. Звонки беспрерывно трещали. Мы продолжали спать.
Было около четырех часов дня, когда я открыл глаза и увидел стоящего у изголовья невысокого человека в светлом песочном костюме. Он сказал:
— Я — советский посол. Здравствуйте!
Седеющие виски выдавали в нем человека, который много повидал на своем веку.
Пока мы обменивались приветствиями, комната наполнилась шумом.
Генерал выполнил свое обещание, он заставил одну из фирм города открыть, несмотря на воскресный день, магазин ж привезти для нас костюмы. И вот сейчас приказчики раскладывали в нашей комнате пиджаки, брюки, туфли с пряжками, белье, шляпы, сорочки, галстуки, носки, запонки. На примерку ушло не более получаса. Теперь мы одеты по-американски и готовы быть безупречными представителями нашей Родины.
Я подошел к окну и увидел жителей Ванкувера, толпившихся перед домом генерала. Многие по-прежнему держали в руках раскрытые зонтики.
В комнату вошли пожилая дама в светлом платье и молодая девушка.
— Познакомьтесь, моя жена леди Маршалл, — сказал генерал по-английски. — Моя дочь, — добавил он, указывая на девушку с белокурыми волосами.
Мы познакомились. С помощью полпреда и прибывших с ним товарищей объясняться стало проще. Завязалась непринужденная беседа.
Я огляделся. Квартира нашего хозяина была обставлена богато, но со строгим вкусом. На стенах висели фотоснимки, по которым можно было установить, что генерал Маршалл в империалистическую войну участвовал с экспедиционным отрядом в военных действиях в Европе.
Нас пригласили к обеденному столу. Обед начался с глотка холодной воды и дыни «канталоп» — таков американский порядок блюд. Против дыни Георгий не возражал. Относительно же воды развел целую теорию о том, что это, мол, вредно. Впрочем, мы вскоре привыкли и к дыне «канталоп», и к воде. Когда впоследствии в Европе нам давали обеды без холодной воды, казалось, что именно ее не хватает.
Кончился обед, началась наша «дипломатическая» работа на территории Соединенных Штатов Америки. Мы уже превратились в «рашен флайерс» — русских летчиков. Чкалов стал «чиф-пайлот», что означало командир экипажа, Байдуков стал «копайлот», меня называли «нэвигейтор».
Предстояло выйти на террасу и выступить перед радиомикрофоном с кратким сообщением о нашем перелете. Передача, организованная крупнейшей компанией «Нэшонал бродкастинг компани», транслировалась по Америке и передавалась в Советский Союз.
На террасе нас поджидали фоторепортеры и корреспонденты. Не успели мы занять позиции перед микрофоном, как к нам отовсюду потянулись руки, в которых мелькали блокноты и автоматические ручки самых различных систем. Я понял, что у нас просили автографы. Первые автографы мы вручили леди Маршалл и ее белокурой дочке.
Пока Валерий отвечал на вопросы представителей радиокомпании, я осведомился, почему в Америке так развито собирание автографов. Оказывается, для американцев — это коммерческое дело, бизнес. После смерти известного человека его собственноручная подпись высоко ценится, и обладатель такого автографа может продать его по высокой цене.
Наш рассказ о полете слушали по радио не менее 12 миллионов американцев. Когда мы закончили рассказ, к микрофону подошел генерал Маршалл и поделился впечатлениями о встрече с нами.
— Я польщен, — закончил он свою речь, — что на мою долю выпала честь принять в своем доме этих отважных джентльменов.
Мы слышали также, как диктор зачитывал приветственные телеграммы президента США Рузвельта и министра иностранных дел Хэлла.
А поодаль от нас, метрах в пятидесяти от балкона, все увеличивалась толпа зрителей, все больше и больше появлялось зонтиков и разноцветных плащей.
День клонился к вечеру. Мы вернулись в Квартиру генерала Маршалла. Там нас ждала дорогая» желанная телеграмма из Кремля. Мы прочли:
«Горячо поздравляем вас с блестящей победой.
Успешное завершение геройского беспосадочного перелета Москва Северный полюс — Соединенные Штаты Америки вызывает любовь ж восхищение трудящихся всего Советского Союза.
Гордимся отважными и мужественными советскими летчиками, не знающими преград в деле достижения поставленной цели.
Обнимаем вас и жмем ваши руки».
Как на родной земле, почувствовали мы себя, читая эти строки… Радость охватила нас. Самое трудное было позади. Расстояния между СССР и США не существовало в эти минуты, которые не забыть никогда.
Байдуков начал писать ответ. Я и Чкалов помогали. Мы сказали в этом ответе все, что чувствовали и переживали.
Затем мы составили подробное донесение в Москву о полете и договорились о нашем дальнейшем пребывании в США.
Было решено утром следующего дня, 21 июня, сделать визит властям городов Ванкувера и Портленда, а в 15 часов вылететь в Сан-Франциско.
Открывалась новая страница нашего путешествия — земное странствование по Северной Америке.
Глава восьмая Американские впечатления
Я хорошо помню этот день — 21 июня 1937 года. Всю ночь лил дождь, я утро выдалось хмурое, неприветливое. Еще вчера с воздуха мы наблюдали причудливые очертания многоводной реки Колумбия, пересекающей земли штатов Орегон и Вашингтон. А сегодня нам предстояло побывать в двух городах, стоящих на ее берегах — Ванкувере и Портленде, соединенных великолепными мостами. Затем предстояла встреча с местным гарнизоном.
Однако прежде всего мы занялись некоторыми формальностями, связанными с нашим перелетом. По правилам ФАЙ (Международной авиационной федерации), обработка барограмм, регистрирующих полет, производится в той стране, которая организует его. Так что барографы нашей машины должны были отправиться в Москву, через американских спортивных комиссаров.
На аэродроме нас встретил майор — старый американский летчик, служивший в армии еще в первую мировую войну. Он прошел к самолету, охраняемому двумя часовыми, и Байдуков принялся показывать ему краны, пробки для слива воды, горючего, масла. Майор оказался не только командиром авиационной части, но и уполномоченным ФАЙ. Он должен был специальным протоколом засвидетельствовать время и место посадки нашего самолета. Появились газетные репортеры, снова защелкали фотоаппараты.
Валерий вынул барографы, снял пломбы. Я решил взять из самолета карты, справочники, календари, инструкции. Все это, конечно, могло остаться в моей штурманской кабине в матерчатых карманах, но по опыту прошлогоднего пребывания на острове Удд я знал, что на длительной стоянке в самолет просачивается вода. На аэродроме Ванкувера не было ангара, в котором мог бы поместиться наш АНТ-25. Лучше убрать документы!
А что делать с продовольствием, раздумывал я. В нашем хозяйстве оставался еще немалый запас шоколада, икры, коробок с концентратами супа, сыром.
Около самолета ходили американские солдаты. Некоторые из них помогали нам в выгрузке снаряжения.
— Ребята, подите-ка сюда! — крикнул густым басом Чкалов, вмиг разрешив мои раздумья. — Возьмите добро. Делайте с ним что хотите.
И мы отдали мешки с продовольствием американским солдатам.
Позже нам рассказывали, как американцы были удивлены нашим поступком. По мнению многих, из такого мероприятия, как перелет из Москвы в Америку, можно было сделать хороший бизнес. Кто-то даже советовал разделить запасы продовольствия на мелкие порции, упаковать в небольшие пакетики с надписью, что шоколад и концентраты супа побывали над Северным полюсом, и продать как сувениры по пятьдесят центов.
Нам и в голову такое не могло прийти. Закончив выгрузку из самолета снаряжения, мы отправились в штаб к генералу Маршаллу. В честь нас, советских летчиков, в гарнизоне устраивался военный парад.
На лесной полянке выстроился отряд солдат. Оркестр заиграл национальный гимн. Затем наступила пауза, и подошедший к нам военный атташе сказал:
— Генерал просит передать, что оркестр хотел бы сыграть «Интернационал», но музыканты не успели найти ноты.
Вдруг раздался пушечный выстрел. За ним — другой, третий… Это был салют! По американскому уставу надлежало дать девятнадцать выстрелов. Весь строевой плац заволокло сизым дымом, а пушки все гремели…
Поблагодарив генерала, мы тронулись в дальнейший путь по Америке.
Автомобили мчали нас по прекрасным дорогам Соединенных Штатов. Мелькали встречные машины. Их было так много, что перед каждым светофором и поворотом образовывался затор. Но нас сопровождал эскорт полисменов на быстроходных мотоциклах «харлей», и остановки сокращались. Запомнились эти поджарые парни, одетые в наглухо застегнутые куртки, подпоясанные ремнем с патронами, в галифе и крагах. Они мчались как угорелые — со скоростью до ста пятидесяти километров в час! Желтые очки со светофильтром и патронташ придавали им грозный вид. Полисмены были действительно мастерами своего дела, первоклассными ездоками: они то вдруг резко тормозили, то на узких стритах, развернувшись на сто восемьдесят градусов, мчались нам навстречу, очищая дорогу. Душераздирающий, пронзительный вой их сирен слышался более чем за километр. Иногда казалось, что ревущие мотоциклы вот-вот лягут плашмя на асфальтированную мостовую — такой крутой крен закладывали ездоки в сторону разворота. Проделывали они это с такой лихостью, что создавалось впечатление не просто езды, а циркового представления. Шоферы, увидя издали эти «харлеи», сворачивали в сторону, ближе к тротуару. И полисмены, дирижирующие движением на перекрестках, пропускали наши автомобили вне очереди.
В ушах у меня гудел еще вой сирен, когда мы остановились перед зданием городского управления. Здесь нас ждали мэр города Ванкувера и большая толпа встречающих. Американцы бурно приветствовали нас: со всех сторон тянулись руки для рукопожатий, некоторые похлопывали нас по плечу, просили дать автографы.
Визит к мэру Ванкувера закончился довольно быстро, и вот мы опять несемся в автомобилях, теперь уже в город Портленд.
Пасмурный с утра день разгулялся. Солнышко пригревало, стало жарко. На тротуарах, мостовых сотни американцев приветствовали наше появление. Эскорт полисменов из Ванкувера сопроводил нас до моста через реку Колумбия. На противоположном берегу уже ждал другой наряд полиции — из Портленда.
Здесь, в торговой палате, был устроен торжественный обед. Кроме мэра присутствовал губернатор штата Орегон Чарльз Мартин, так что в прочувствованных речах и приветствиях недостатка не было.
Гости уже приступили к закуске, слышался легкий звон бокалов, постукивание ножей, вилок, как вдруг раздался удар, словно по барабану. Это мэр города призвал к тишине с помощью огромного молотка, которым он стучал по деревянной подушке. В зале мгновенно воцарилась тишина. И тогда мэр начал свою речь. Выступать пришлось и нам. Переводил Трояновский. После речей три миловидные девушки надели каждому по венку из роз, и мэр после банкета попросил нас принять участие в торжественном шествии по городу в этих венках. Мы согласились.
По Портленду в сопровождении властей прошли мили полторы. Приветствующие нас жители города стояли по обеим сторонам магистрали. Часто до слуха доносилось короткое «гратулейшен» — «поздравляем», возгласы на русском языке.
На одном из перекрестков от толпы отделилась монахиня, одетая в черное с белыми отворотами платье. Она быстро подошла и… благословила меня, потом Чкалова, Байдукова. А может, невеста господня на всякий случай решила оградить Портленд от «налета» большевиков?.. По всему было видно, что появление экипажа краснозвездной машины произвело на американцев большое впечатление.
Наконец шествие закончилось, мы простились с представителями города и отправились на военный аэродром Ванкувера. От этого возвращения в памяти сохранился один эпизод.
Когда огромная толпа окружила нас, стремясь прорвать цепь полицейских, мы услышали вдруг возгласы чисто по-русски:
— Да пустите же меня к ним! Я ведь вятская! Смотрим — стоит американка. Попросили пропустить ее к нам.
— Родимые мои, да я же ваша, русская!.. — взволнованно повторяла женщина, бросаясь от Чкалова к Байдукову, ко мне. — Двадцать шесть лет здесь живу. А вот говорить не разучилась. Дайте хоть посмотреть на своих земляков…
Валерию понравилась непосредственность русской американки: «Я ведь вятская!» И шуткой он часто потом повторял эти слова. У Чкалова тот день был вообще радостный. Он получил от сына, отдыхавшего в пионерском лагере «Артек», телеграмму. Не заботясь о расстоянии, разделявшем нас, Игорь приглашал всех на пионерский костер.
Но вот мы подкатили к трапу, приставленному к открытой дверце «Дугласа», и начались наши проводы в путешествие через континент. Среди провожавших был генерал Маршалл, представители властей Ванкувера, наши новые знакомые. Валерий поблагодарил генерала за гостеприимство и попросил имущество, оставленное в его квартире, переправить в Вашингтон.
Нам перевели ответ:
— Генерал Маршалл с большой готовностью сделает это и, со своей стороны, передает просьбу магазина, приславшего для вас костюмы, разрешить выставить на витрине кожаные брюки и куртки, в которых вы летели через Северный полюс.
— Согласны, — ответил, окая по-волжски, Чкалов, начинающий, кажется, понимать, что такое американский бизнес.
И вот мы, почетные гости пассажирского общества «Юнайтед эйрлайнс», уже на высоте трех тысяч метров. Сидим в удобных креслах самолета, пьем кофе, любуемся красотой гор под крылом «Дугласа», не думая ни об углах сноса, ни о запасах горючего. Валерия окружили корреспонденты крупных американских газет, с помощью военного атташе берут интервью. Нам с Байдуковым хочется использовать полет для изучения авиационной техники, разобраться в оборудовании трассы, понять, какая разница между нашими самолетами и американскими. Может быть, что-то и пригодится.
Пилоты пассажирской машины не возражают, охотно знакомят с кабиной, ее оборудованием, управлением. Один из летчиков уступает место, предупреждая, что автопилот включен. Я прошу отключить его и пробую управлять самолетом обычным способом.
Веду машину по направлению к горе Шаста, Высота ее 4800 метров. Это самая высокая гора в районе. Один советский инженер рассказал мне, что название этой горы произошло от русского слова «счастье». Здесь много русских поселенцев. Американцам трудно произнести слово «счастье», и поэтому они гору Счастье переименовали по-своему — в Шаста.
Величавая снежная вершина сияла на фойе голубого неба. А у подножия горы, я знал, располагался радиомаяк Прошу летчика показать, как им пользоваться. Пилот покрутил где-то у потолка кабины ручку, и я тотчас же явственно услышал в наушниках сплошной тон, гудение, прерываемое через каждые тридцать секунд позывными. Это означало, что самолет я веду точно по курсу.
Американский «дуглас» мы видим впервые. Сиденья первого и второго летчика в кабине этой машины расположены рядом. Для пассажиров 18–20 кресел — довольно просторно. Два двигателя воздушного охлаждения, убирающееся шасси, поворотное заднее колесо — все это новинки. Но большее изумление у нас вызвало качество отделки кабины и система для поддержания внутри ее нормальной температуры. На какой бы высоте самолет ни находился на большой или на малой, достаточно перевести стрелку автомата — и установится желаемая температура. Для нас в то далекое время такое техническое усовершенствование было еще диковинкой.
— Не слишком ли жарко? — спрашивает стюардесса.
Она готова установить любую температуру. Однако «климат» «Дугласа» вполне устраивает. И тогда девушка преподносит нам огромный торт, на котором флажки: красный — Советского Союза и с сорока восемью звездами (по числу штатов) — США. На торте выведено по-русски: «Привет советским летчикам!»
Быстро проплывает мимо гора Шаста, за ней открывается обширная зеленая долина. А на горизонте уже вырисовываются два больших южных города Сан-Франциско и Окленд. Вот они все ближе, ближе… Любуюсь с воздуха широким заливом, глубоко врезавшимся в материк, хорошо вижу океанские пароходы, два огромных висячих моста, перекинутые через залив.
— Где же мы совершим посадку?
— В Окленде, — отвечает нам командир экипажа и рассказывает, как между городами Сан-Франциско и Оклендом шел опор, кому принять самолет. Власти обоих городов настаивали на том, чтобы «дуглас» сел именно на их аэродроме. Спор решила авиационная компания, которой принадлежали самолет и воздушная линия, — в пользу Окленда.
Перед входом в залив мы оказались в облаках. Они нависли низко над землей и водой — не выше ста метров. Я вспомнил, что в этом районе вследствие близости океана часто бывают туманы и низкая облачность. И если посадка невозможна, самолеты летят дальше, до города Сакраменто.
Но сегодня тумана нет, и американские пилоты, искусно лавируя между возвышенностями, ведут самолет на посадку.
Мелькают бетонированные полосы аэродрома. «Дуглас» уже катится по земле и быстро подруливает к аэровокзалу.
Еще из окна кабины я заметил вереницы автомобилей и толпы людей перед воротами аэродрома. Но то, что мы увидели и услышали на земле, превзошло все наши ожидания.
Огромная толпа лавиной двинулась вперед в ту минуту, когда мы спускались по трапу. На нас были еще венки из роз, которые нам преподнесли в Портленде. Наш вид привел американцев в неистовый восторг. Они начали бросать в воздух шляпы, кепи, выкрикивать слова приветствий.
Оказывается, в Окленде был организован комитет для нашей встречи. В комитет входили городские и районные должностные лица, представители Торговой палаты и американские коммунисты. В аэропорту, ярко освещенные солнцем, развевались флаги Советского Союза и Соединенных Штатов Америки. Нам опять преподнесли венкb и букеты из пунцовых рое. Навстречу шли представители Коммунистической партии штата Калифорния. На одном из плакатов было написано: «Коммунистическая партия Калифорнии приветствует героических советских летчиков за их выдающееся социалистическое достижение».
Мы поднялись на трибуну, и вновь приветственные возгласы огласили поле.
В одно мгновение кто-то из присутствующих укрепил микрофон. Начался митинг. Валерий Чкалов в своей речи сказал:
— При современном состоянии науки и техники трансполярные полеты станут через год-два обычным явлением. Обратный перелет был бы легче, ибо мы летели бы при попутном ветре.
И вновь в моем сознании возникли картины недавнего полета: море облаков, ледяные поля, глетчеры. Вспомнились кислородные маски, которые мы держали у рта, багровая луна, опускавшаяся в Тихий океан, небо с мириадами звезд. Восток в то утро розовел, граница облачности была резко очерчена, и казалось, что там, впереди, высится огромный зубчатый хребет. Появился из-за горизонта Юпитер, дымчатая полоса все светлела и ширилась, где-то внизу пробуждался от сна угрюмый океан…
Митинг кончился, крики приветствий вернули меня к действительности. Нас ждали в советском консульстве, где мы должны были переночевать.
Проснулся я с радостной мыслью о том, что провел ночь, как мне казалось, на крохотном участке нашей родной земли. Нам опять предстоял деловой день, насыщенный «дипломатической» работой. Еще в Портленде мы уже стали настоящими дипломатами. Наша жизнь теперь состояла из непрерывной цепи завтраков, обедов, приемов.
Едва я успел позавтракать, как ко мне подошел живой и очень подвижный человек, наш консул в Сан-Франциско, и сказал:
— Товарищ Беляков, вас ожидают русские переселенцы — молокане. Они прибыли в наше консульство и хотят с вами поговорить.
Внизу, в приемной, я застал человек пятнадцать русских сектантов-молокан. Они имели забавный вид русских крестьян на американский лад. У многих на заграничных жилетах висели серебряные цепочки с огромными старинными брелоками. Сидели они на стульях степенно, положив руки на колени и широко расставив ноги.
— Здравствуйте, — сказал я, оглядывая молокан.
Первым поднялся с кресла рослый детина с широким лицом, одетый в модный пиджак и коверкотовые брюки, заправленные в русские сапоги.
— Щукин Василий Петрович, — представился он.
Вслед за Щукиным протянул руку Яков Данилович Саянин, из-за широкой спины которого выглядывали Иван Фатеевич Сусоев и Иван Иванович Рудометкин с женой и дочерью.
— Чем же вы занимаетесь? — опросил я.
— Грузчики мы. Поденные рабочие, — ответили они хором.
А Сусоев добавил:
— Живем в Сан-Франциско, на улице Дигаро. Там целые кварталы русских.
— Мы бежали от царского гнета еще в тринадцатом году, — перебил Рудометкин, с любопытством разглядывая меня. — С юга России тогда переселилось более двух тысяч семейств.
— А куда же девался Василий Петрович Пичугин? — неожиданно спросил кто-то из молокан.
— Да ты не беспокойся, — умиротворенно, с достоинством ответил Рудометкин, — он пошел купить пару шюз.
Я сначала не понял ответа Ивана Ивановича Рудометкина, но вскоре сообразил. Рудометкин хотел сказать, что его знакомый пошел купить пару ботинок. Чувствовалось долгое пребывание этих людей на чужбине. Русскую речь они пересыпали иностранными словами.
— А есть ли в Америке русские поселки в сельских местностях? — спросил я.
— Как же, как же, — закивал Иван Фатеевич Сусоев, — например, Чередан, Сапта-Роза…
— Далеко ли они от Сан-Франциско?
— Да нет, близко… Всего пятьдесят майлов, то бишь миль, — поправился он.
Им всем хотелось поговорить со мной, прилетевшим из далекой, родной для них страны, и они наперебой засыпали меня вопросами: как теперь живут крестьяне? как обрабатывается земля?..
Я рассказал им, что земля в Советском Союзе принадлежит теперь не помещикам, а является всенародным достоянием, закрепленным за колхозами навечно. Колхозами и совхозами обрабатывается почти вся посевная площадь. Сельское хозяйство, раньше представлявшее океан мелких и мельчайших хозяйств, теперь является самым крупным в мире.
Молокане точно окаменели и несколько секунд стояли с широко раскрытыми глазами. Молчание прервал мужчина средних лет, немного сутулый, грузчик с улицы Дигаро.
— Старая, царская Россия была для меня мачехой. Теперь это новая страна. Про нее рассказывают много всяких чудес, — задумчиво произнес он и протянул мне на прощание сухую, крепкую руку.
Я простился с грузчиками-молоканами и поехал вместе с товарищами к мэру города Окленд. Нам предстояло посетить «треугольник» властей Сан-Франциско. Власть в этом городе сосредоточивалась у трех лиц: мэра города, генерала командующего округом и адмирала — начальника морской базы.
Наши автомобили неслись по одному из висячих мостов над заливом. Мосты эти — чудо современной техники. Они вызывали невольное восхищение.
По краям моста, перекинутые через металлические устои высотою до ста метров, тянулись два стальных каната — каждый толщиною более метра. На вершинах устоев светились вращающиеся маяки. Ночью они предостерегали летчиков об опасности. Где-то под нами проплывал океанский пароход. Солнце освещало широкую автостраду, по отполированному гудрону которой мчались, словно по паркету, тысячи автомобилей. Безудержная спешка, царство бега и шума, — кажется, что вся жизнь как поезда, пролетающие с железным лязгом на мостах воздушной железной дороги. А в узких улицах толпы — грохочущим водопадом — страшное видение суеты, многоголосый рев усилий, преодолеваний, борьбы, низменных интересов и преходящих страстей. Это — Америка.
По висячему мосту мы проехали около десяти километров и очутились в городе Сан-Франциско. На площади у городского управления нас опять ждала большая толпа. В вестибюле здания был организован митинг.
Валерий Чкалов в своем выступлении сказал:
— Мы принесли вам на крыльях нашего самолета дружбу советского народа.
Потом он благодарил присутствующих за теплую встречу. Я, выступая после Чкалова, также отметил радушный прием американцев.
День был расписан по минутам, и мы поехали с визитом к командующему округом, которому Байдуков от имени нас троих выразил признательность за предоставленную во время перелета радиосвязь.
Генерал повел нас на площадь. Там выстроился почетный караул. Грянул оркестр. В честь полпреда СССР и советских летчиков-полярников произвели салют — девятнадцать выстрелов.
Оставался последний визит — к начальнику морской базы.
Адмирал встретил нас в кабинете. Это был широкоплечий, почти седой человек. Разглядывая его внушительную фигуру в черном кителе со светлыми пуговицами, я подумал: «Наверное, мистер Смит — большой специалист своего дела» — и решил спросить его:
— Осуществимо ли, по вашему мнению, адмирал, путешествие к Северному полюсу на подводной лодке, подобно тому, как это пытался сделать Уилкинс?
Адмирал, очевидно, не ожидал такого вопроса. Он слегка опешил и, что-то прикинув в уме, сказал:
— Кто другой, а я бы воздержался…
После обеда мы еще раз проехали по улицам и мостам в сопровождении эскорта полисменов, расчищавших наш путь, как и в Портленде.
Сан-Франциско — большой, шумный город, с пестрой толпой, с целыми кварталами тридцати- и сорокаэтажных домов, многочисленными автомобилями, беспрестанно двигающимися по прямым стритам и авеню.
Из окна советского консульства, где мы остановились, открывался чудесный вид на залив. Посредине залива возвышался островок, окруженный высокой стеной с башнями.
Я заинтересовался этой постройкой, похожей на крепость, и начал расспрашивать о ней консула.
— Это знаменитая тюрьма, — сказал он. — Из нее невозможен побег. Если преступник каким-либо образом и выберется из здания тюрьмы, то ему нужно проплыть до берега расстояние в несколько километров. Это очень существенное препятствие для побега.
— Чем же знаменита эта тюрьма?
— Она знаменита тем, что в ней сидит самый известный американский бандит Аль-Капоне, — ответил консул.
Не так давно этот бандит держал в страхе огромный город Чикаго. При Рузвельте была начата кампания по ликвидации бандитизма. Были составлены списки самых опасных бандитов, и Аль-Капоне занимал там первое место. В конце концов Аль-Капоне был пойман. Бандитская организация, которой он руководил, располагала очень большими средствами. Финансовые органы подсчитали, что в распоряжении Аль-Капоне были огромные суммы, подлежавшие по закону обложению подоходным налогом. Ему был предъявлен иск к оплате огромного налога. Этот налог Аль-Капоне не внес, и его осудили на десять лет тюремного заключения.
На следующий день мы были приглашены Торговой палатой Окленда на коктейль.
К моменту нашего прихода гости уже сидели за столиками. Это были чиновники из городского управления, промышленники, летчики, владельцы магазинов и корреспонденты газет. Присутствовал и мэр города. Он произнес в нашу честь тост.
Сказал тост и начальник аэропорта:
— Сан-Франциско может похвастаться своими двумя висячими мостами. Они являются действительно чудом мировой техники. Но советские летчики, которых мы сейчас чествуем, перекинули третий мост, не менее замечательный, чем наши мосты, — мост, связывающий Советский Союз и Соединенные Штаты Америки через Северный полюс.
Затем говорил Чкалов. В своей речи он выразил уверенность в том, что американские летчики не замедлят сделать ответный визит и через Северный полюс прилетят в СССР из Америки.
Мы уезжали из Торговой палаты с приятным сознанием того, что познакомились не только с представителями власти, но и с летчиками. Среди них были и те, которые летали через Тихий океан из США в Китай. Было очевидно, что этот летный мир с большим уважением относится к успехам советской авиации.
Наше настоящее земное путешествие по Америке началось вечером 23 июня. Именно в этот теплый летний вечер, когда сумерки еще единоборствуют с дневным светом и автомобили мчатся еще без зажженных фар, мы выехали из Сан-Франциско в Чикаго по Южной Тихоокеанской железной дороге.
Предстояло пересечь Америку по параллели. В Чикаго наш вагон должны прицепить к другому поезду, который пойдет до Вашингтона. Там мы должны были нанести визит американскому правительству.
Расстояние до Чикаго — 3600 километров — поезд преодолел за 64 часа, со средней скоростью 60 километров в час. Но этот экспресс не самый скорый, В Америке был поезд обтекаемой формы, носящий название «Стрим-ляйн». Его средняя скорость более 100 километров в час.
Американская железнодорожная колея несколько уже, чем колея в СССР. Поэтому и вагоны несколько другие: в них теснее, чем в наших.
Поезд, в котором мы ехали, был составлен из двадцати металлических вагонов. Однако их без труда тянул один мощный паровоз.
Всю ночь поезд карабкался в гору, извивался змеей, объезжая глубокие ущелья и крутые склоны, покрытые густым хвойным лесом. На рассвете я увидел снежные вершины. Это был хребет Сьерра-Невада. Из-за горы поднимался багряный солнечный шар, причудливо озаряя снежную даль.
Вскоре поезд пошел под уклон. Горы вначале точно не хотели отставать от поезда. Они мелькали в окнах — высокие, угрюмые, темно-зеленые. Но с каждой сотней миль горы становились все ниже и ниже, переходя в холмы с чахлой растительностью.
Вскоре раскинулось однообразное, светло-коричневое выжженное солнцем плоскогорье. Поселки попадались реже. Мы ехали по пустыне Сьерры-Невады.
В нашем вагоне семь человек: мы — трое летчиков, полпред со своим секретарем, военный атташе и представитель кинопромышленности. Каждый занимал отдельное купе.
Прислуживал в вагоне проводник-негр. В американских поездах проводники — негры. Капиталисты ставят на черную работу тех, кого считают низшей расой. Проводник-негр обязан выполнять малейшие прихоти белого и обладать выдержкой безропотного слуги.
В пустыне, которую мы пересекали, было нестерпимо жарко: вероятно, градусов 28–30 в тени. Но в нашем вагоне прохладно. Окна в купе и коридоре плотно закрыты. Охлажденный воздух непрерывно подается через особые камеры, которые на станциях заполняют искусственным льдом. Вся эта система охлаждения воздуха называется «Эйр кондипш».
В железнодорожных вагонах действует сравнительно простая система. В городах же для получения кондиционированного воздуха существуют более усовершенствованные системы. В дни нашего путешествия по Америке мы видели кафе, кино, театры и магазины с большими вывесками: «Эйр кондишн». Слова «Эйр кондишн» часто были написаны более крупным шрифтом, чем название кинокартины.
Охлажденный воздух — один из рекламных способов привлечения покупателей и зрителей.
Я вспоминаю, с каким удовольствием в жаркий полдень заходили мы, бывало, в прохладное помещение магазина и иной раз, сами того не желая, покупали какую-нибудь мелочь.
Я подхожу к окну вагона. Иногда около дорожной насыпи вижу ремонтных рабочих в кепи и синих комбинезонах. Они меняют шпалы.
Скоро наступит ночь, я вызову проводника, и он соорудит из мягких кресел, между которыми сейчас стоит столик, широкую кровать. А пока можно продолжать работу.
Мне нужно отправить статьи в «Правду», «Известия», привести в порядок записи, сделанные во время полета.
Я раскладываю на столике бортовой и радиожурнал, карты, счетную линейку и начинаю заниматься подсчетами.
Валерий сидит с нашими спутниками в соседнем купе. Они играют в преферанс.
«Почему же получился излишний расход горючего?» — говорю я самому себе и начинаю по графику искать часовой расход.
Записываю: «Израсходовали 5600 килограммов за 63 часа 15 минут». Но шум в соседнем купе прерывает мои занятия.
К концу дня вижу из окна вагона унылые берега озера, покрытые белым налетом. Показалось, что это соль. И действительно, вскоре мы подъехали к железнодорожной станции города Большое Соленое Озеро.
Здесь, поблизости, на аэродроме в 1929 году садился самолет «Страна Советов». В те годы это был триумф советской авиации. Как же далеко вперед шагнула моя страна!
Самолет «Страна Советов» летел тогда через Сибирь и Тихий океан. Наш же АНТ-25 — через Северный полюс, и мы собирались идти на посадку в районе Сакраменто или Большого Соленого Озера, если западное побережье будет закрыто низкой облачностью.
Проехав озеро, поезд остановился в городе Огдэн — центре района, в котором живут ковбои.
Я слышал, что в Огдэне ковбои ежегодно устраивают пышные празднества, показывая борьбу и искусство верховой езды. Я рассказал об этом моим товарищам, и мы вышли из вагона на перрон, надеясь увидеть какого-нибудь ковбоя.
Нас встречал мэр города. К нашему удовольствию, он был одет в синий ковбойский костюм — короткую рубашку, отороченную кожей, и брюки с лампасами и бахромой.
— Не покажет ли он нам искусство ковбоев? — попросил Валерий спросить у мэра.
Но мэр города нас огорчил. Он оказался не настоящим ковбоем и чистосердечно в этом признался.
Мы вернулись в вагон. Поезд тронулся дальше. Я начал устраиваться на ночлег.
Постель помещалась у окна, вдоль стены, по движению поезда. Но уснуть на ней было трудно. На поворотах меня бросало то в одну, то в другую сторону. Поезд развил большую скорость. Я долго перекатывался на пружинной кровати, пока наконец не уснул тревожным сном. Утром разбудили друзья.
День 25 июня был похож на предыдущий. Зато вид местности совершенно изменился. В окнах мелькали фермерские участки, огороженные заборчиками, каменные и деревянные домики с мезонинами и служебными постройками. На каждом участке обычно возвышалась металлическая башенка с многолопастным ветряком. Кое-где на полях работали тракторы, чаще виднелись лошади. Мы ехали по стране мелких фермерских хозяйств. Я вспомнил 360 тысяч тракторов, работающих на полях Советского Союза, и чувство гордости за мою Родину охватило меня. Наш тракторный парк производит работу, гораздо большую, чем тракторы или комбайны в Соединенных Штатах, где любой из них неизменно упирается в границу принадлежащей соседу земли.
Кукурузные и пшеничные поля с редкими группами деревьев долго, почти весь день, тянулись по сторонам железнодорожного полотна. По широким асфальтовым дорогам параллельно рельсам мчались автомобили. Многие из них не отставали от поезда.
В полдень поезд прибыл в Чикаго. В этом городе мы могли пробыть не более шести часов — до отхода поезда, отправлявшегося в Вашингтон.
На вокзале в Чикаго нас встретила огромная толпа русских рабочих и работниц. Увидя нас, они запели «Интернационал». Сердце мое забилось частыми ударами. Кто-то одобрительно хлопал меня по плечу. К Чкалову и Байдукову тоже тянулись сотни рук. Вдруг из толпы вышла старушка, напомнившая мне мою мать. Она бросилась к нам и стала всех нас по очереди обнимать и целовать.
Что она переживала? Соскучилась ли по родному языку? Или тосковала по стране, которую давным-давно покинула?..
— Какие же они хорошие да молодые! — говорила она по-русски, всхлипывая и ковыляя за нами, пока мы пробирались по вокзальной площади к своим автомобилям.
В потоке машин мы помчались осматривать достопримечательности города. Иногда наши машины ныряли под эстакады — тогда к шуму улиц примешивался грохот поездов, проносившихся над головой.
Над серыми громадами небоскребов в безоблачном небе кружился самолет. На длинном выпущенном тросе он тянул за собой гигантскую рекламу.
Какой-то пешеход подошел к автомату, бросил в отверстие мелкую монету, и автомат выкинул завернутую в конфетную бумажку резиновую жвачку. Эта жвачка — весьма выгодный продукт потребления, дающий фабрикантам большие прибыли. Пешеход положил «конфетку» в рот и отправился дальше.
Мы прибавили шагу и продолжали идти по шумному стриту, заполненному пестрой толпой.
Из-за угла показалась реклама, рекомендующая освежающий напиток «кока-кола». Я опустил в первый попавшийся автомат пять центов и получил стакан «кока-колы». Сам напиток, говорят американцы, стоит одни цент, второй цент — нажива, три цента обходится реклама.
У нас уже пестрело в глазах от ярких реклам вина, виски, жвачки, отелей, мыла, фотоаппаратов, холодильников, меблированных комнат, пылесосов. Мы проголодались и направились в небольшой ресторанчик-кафетерий, где нам дали завтрак, состоящий из дыни, курицы и чан.
Георгий Филиппович от холодной воды отказался и приступил к дыне и курице. Мы с Валерием решили соблюсти американский обычай — сначала выпили холодную воду, закусили дыней, а потом разделались с курицей, запив ее стаканом горячего чая.
Сегодня мы были свободны от «дипломатической» работы и поэтому, позавтракав, поехали осмотреть Технический музей, где демонстрировался механизированный способ добычи каменного угля.
Лифт опустил нас на огромнейшую, как нам показалось, глубину, и мы очутились в шахте. Экскурсовод начал показывать механизированную погрузку и откатку угля. Потом он предложил нам сесть в вагонетку и объехать шахту.
Путешествие это показалось мне бесконечно длинным. Вагонетка то катилась в сторону, то под уклон, то сворачивала в сторону. Я спросил экскурсовода: «Когда же наконец будет остановка?» — и был крайне удивлен его ответом. Оказывается, вагонетка все время стояла на одном месте. Иллюзия же длительной поездки создавалась полная.
Лифт поднял нас из шахты, и я узнал вторую новость: мы опускались не на большую глубину, а всего лишь на десять метров.
— Поедемте, ребята, на Мичиган, — сказал «чиф-пайлот» Чкалов, выходя из музея. — Говорят, что это озеро напоминает море.
Действительно, мы увидели громадное водное пространство. По его волнующейся поверхности скользили парусные яхты и лодочки. На берегу гуляли отдыхающие. В парке, близ озера, играли в гольф и занимались другими видами спорта. Особенно мне запомнился стрелок, который из ружья разбивал дуплетом на лету глиняные тарелки.
Время наше было ограничено, и мы, посоветовавшись, решили посмотреть негритянские кварталы. В автомобиле я вспомнил о негре-боксере Джо Луисе. Он был раньше рабочим у Форда, увлекся боксом и стал знаменитым боксером. За несколько дней до нашего приезда в Чикаго Джо дрался с белым боксером за звание чемпиона мира и на восьмом раунде победил его. Негры в честь победителя устроили грандиозный праздник.
Завоевав звание чемпиона мира, Джо Луже сразу разбогател.
В Америке очень увлекаются боксом. Еще в Сан-Франциско, в те минуты, когда решалась судьба негра Джо, полпред подвел нас к радиоприемнику, и мы слушали рассказ диктора о борьбе. По его тону можно было заключить, что сам он весьма бурно переживает борьбу. В конце раунда он буквально кричал в микрофон:
— Джо Луис ударил противника по скуле! Противник получил страшный удар по челюсти! Джо Луис — чемпион мира!
Думая о Джо, я не заметил, как мы очутились в негритянских кварталах мире нищеты и бесправия. По обеим сторонам узеньких улочек, вымощенных булыжником, теснились низенькие дома. Оборванные ребятишки барахтались в канавах, в застоявшейся грязной воде. Капиталистическое общество Америки даже здесь, в цивилизованном центре, лишило людей черной расы элементарных человеческих и гражданских прав. Негры имеют право жить только в специально отведенных для них кварталах и домах. Да, да, черным в Америке запрещено жить в одном доме с белыми! В южных штатах, которые в прошлом были рабовладельческими, белый может ударить негра по лицу, и это остается безнаказанным. Белый вправе зацепить крылом своей машины негра, переходящего улицу, и это даже считается хорошим тоном!
Изумительная величайшая техника и величайшая несправедливость в распределении благ, которые техника дает человеку! Такова Америка!
С чувством негодования покидали мы негритянские кварталы. В сущности, можно было уже ехать на вокзал, но в запасе у нас еще было время, и мы решили посмотреть кино.
В просторном зале кинотеатра я еще раз убедился в высоком уровне американской техники. На экране демонстрировалась кинохроника нашего прилета в Ванкувер.
Мы увидели самих себя на аэродроме, у самолета, на балконе дома генерала Маршалла, когда мы выступали по радио и раздавали автографы. Кинокартина обогнала нас в пути. Это было удивительно.
Вслед за нами на экране появился чемпион мира по боксу Джо Луис. Его шоколадное тело с могучей мускулатурой было словно отлито из бронзы. Борьба происходила на высокой трибуне, отгороженной от зрителей канатом.
Замедленной съемкой были показаны последние удары поединка Джо Луиса.
Между тем стрелка часов продвигалась к шестнадцати, и мы поспешили на вокзал.
Чикаго провожал нас своим гулом. Все в нем кипело, как в гигантском котле, все находилось в движении — реклама, люди, машины. И только полисмен в широкой шляпе и темных защитных очках был вправе приостановить кое-где движение. Если драйвер — водитель авто — нарушал правила уличной езды, словно из-под земли вырастал полисмен и совал в руки виновного заранее приготовленную повестку в дорожный суд.
Дальше все идет как по маслу. На следующий день суд вызывает нарушителя и присуждает его к штрафу в размере десяти долларов. При этом судья ударяет молотком.
Попробуйте возразить судье, доказать, что вы не виноваты, — судья стучит второй раз молотком и заявляет: «Двадцать долларов!» Если вы неопытны и продолжаете возражать, судья стучит в третий раз молотком и коротко говорит: «Тридцать долларов!»
Нет, лучше покоряйтесь сразу, соглашайтесь с первым приговором суда и, вежливо распрощавшись с судьей, поскорее уходите.
Но случается и по-другому. Если вы сшибли на перекрестке пешехода, причинили ему увечье или столкнулись с другой машиной, судебное дело может и не возникнуть. Все автомобили в Америке, так же как и жизни их владельцев, застрахованы. Если произошло столкновение, водители выходят из машин, вежливо раскланиваются, жмут друг другу руки и расходятся в разные стороны. Страховая компания все равно уплатит премию пострадавшему.
Бывают случаи и трагикомические. Уже перед самым отходом поезда мне рассказывали, как один автомобилист сшиб прохожего:
— Если бы вы только видели, как прохожий радовался полученному увечью… Лицо его выражало неподдельный восторг. Три года он был безработным ж потерял всякую надежду на заработок. Сегодня стал счастливейшим человеком. Страховая компания должна до конца жизни платить ему пенсию.
Проводник-негр провел нас в купе, и мы опять помчались по незнакомой стране. В последний раз посмотрел я в окно на Чикаго, город из камня и железа, город, в котором все — ввысь или вниз: земли не хватает — под землю; земля прорыта — в небеса. Одна забота — полезность. Один принцип максимализм — веса, объема, вышины. Циклопические камни строений, претенциозный размах перспектив. Об эстетике думать некогда. Красота неосторожная случайность. Прошлое — кляча: где ей поспеть за фордовским автомобилем.
И невольно припомнились мне мои родные края, старинный русский городок Богородск…
В Богородске Московской губернии сразу же после Октябрьской революции, в 1917 году, организовался уездный Совет. В самом городе жителей было немного — тысяч десять или одиннадцать. А пригород насчитывал крупные текстильные фабрики: в Глухове мануфактура Морозовых, в селе Истомкино фабрика Шибаева, тонкосуконная фабрика в Купавино. Народу много. На одной только морозовской фабрике было более десяти тысяч.
Я хорошо помню хозяина Глуховской мануфактуры и его сыновей. Старик появлялся на фабрике верхом на лошади в сопровождении другого конного. По заведенному обычаю, при встрече перед ним снимали шапку. Если кто не поклонился, фабрикант оскорблялся:
— Ты что? Ты что? Меня не знаешь? Снимай шапку! Увидев завалявшийся где-нибудь гвоздь, он останавливал первого встречного:
— Стой! Видишь гвоздь? Подними и снеси на лесной Настоящими же хозяевами мануфактуры являлись его сыновья — Петр и Сергей Морозовы.
Во время войны, в 1916 году, один из них уехал в Америку с поручениями от Русского военно-промышленного комитета и не вернулся. Другого, Сергея Морозова, после революции фабком назначил специалистом по организации производства.
Через некоторое время в Москве было организовано управление всей текстильной промышленностью Республики во главе с известным партийным деятелем Виктором Павловичем Ногиным. В молодости В. П. Ногин работал л а Глуховской мануфактуре, знал многих мастеров и специалистов по производству ниток, пряжи, хлопчатобумажных тканей. Он пригласил С. Морозова в Москву в правление текстильного синдиката, где тот честно и долго трудился. Это не единственный пример умелого использования нашей партией старых буржуазных специалистов в социалистическом производстве.
После смерти В. П. Ногина Богородск, по желанию и просьбе трудящихся, был переименован в город Ногинск.
А неподалеку от Богородска, километрах в семи, и раскинулась деревня Починки. Здесь в 1908 году по инициативе уездного агронома было организовано своеобразное для того времени кооперативное объединение сельскохозяйственное общество. Основной задачей общества была пропаганда среди крестьян агрономической науки, подъем уровня производства полевых работ и урожайности. Этому способствовали беседы, чтения уездного агронома, внедрение в крестьянский обиход более усовершенствованных сельскохозяйственных машин и орудий.
К тому времени единственной техникой у крестьян был одноконный деревянный плуг с железным лемехом да деревянная борона с железными зубьями. Так что многие работы — сев, жатва, молотьба, веяние — производились вручную. Правление общества явно не справлялось с возложенными на него задачами, нуждалось в укреплении. На должность учителя в деревню нужен был человек, знающий сельское хозяйство, и вот выбор пал на моего отца.
Починки — два ряда домов. У каждого — приусадебный участок. Всего дворов сто. В этой деревне мы поселились всей семьей, и здесь отец прожил до конца своих дней — более пятидесяти лет.
Жизнь в деревне Починки я вспоминаю с особенным светлым чувством добра и удовлетворения. Это был замечательный период в жизни всей нашей семьи. Вскоре после переезда в деревню мы разработали небольшой участок кустарника, превратив его в пахотную землю. Через год приобрели лошадь. И вот на этой земле, а также на пришкольном участке отец установил четырехпольный севооборот с занятым вико-овсяной смесью паром и с носовом многолетних трав. На пришкольном участке, кроме того, выращивали корнеплоды — кормовую свеклу для скота. Эти мероприятия были конкретным показом крестьянам прогрессивных способов землепользования, а для школьников — примером труда на нашей далеко не плодородной супесчаной земле.
Я в то время стал гимназистом 1-й рязанской мужской гимназии. Учился хорошо. Но жизнь в городе казалась мне ограниченной, поэтому на каникулы приезжал домой и летом с удовольствием пахал, бороновал, сеял, косил траву, сушил сено, жал рожь, молотил на гумне цепами, веял зерно, выучился уходу за лошадью, коровой. Труд на земле — тяжелый, но полезный труд на вольном воздухе — был источником здоровья нашей семьи и благодарного отношения, любви к природе.
С тех пор прошло уже более полувека, а запомнилась мне эта лесоустроительная работа на родной земле, которую немало исходил и изъездил. Я и сейчас покажу бывшую лесосеку по дороге от Горьковского шоссе на железнодорожную станцию Монино, которую отводил купавинцам в 1918 году. Но тогда мог ли я подумать, что именно в этом лесу, принадлежавшем когда-то владельцам фабрики «Бабкины сыновья», через десять лет будет военная академия, городок для слушателей, куда я вернусь уже доктором географических наук, профессором, одним из первых открывателей неведомых воздушных трасс, которым рабоче-крестьянская республика доверила пронести красные звезды на крыльях к чужедальним странам…
Нахлынувшие воспоминания без остатка смывает темнота ночи. Поезд мчит нас к столице Соединенных Штатов — Вашингтону. Позади уже Ванкувер, Портленд, Окленд, Сан-Франциско, Чикаго. Всюду безудержная спешка, царство бега, нескончаемого шума. В Америке, кажется, вся жизнь несется, как наш поезд, пролетающий с металлическим лязгом по мостам воздушной дороги. И первое впечатление — здесь все напоказ, чтобы ошарашить, раздавить приезжего необычайным видением мощи, размаха, миллионов. И над всем величием американская одинаковость. Все производится сериями: города, одежда, ходячие идеи массового употребления. Все рассчитано на многомиллионного потребителя, читателя, зрителя. По данному плану, будто бы прямо с модной картинки, выбрасываются на рынок 500 тысяч безупречно схожих шляп. В один прекрасный день все, как по команде, насадят их себе на голову. Сразу же строится тысяча домов — точно по одной форме отлиты, и в них многие тысячи людей. Не отличишь одного от другого, на первый взгляд меньше разницы, чем в шляпах: та же работа в конторе, та же резинка во рту после обеда, с той же вечерней газетой столкнутся у входа в один из десятков кинематографов, все равно у которого, ведь один и тот же фильм демонстрируется во всех кинотеатрах, принадлежащих какому-нибудь тресту. Поговоришь с ними — одинаковые слова, схожие мысли, все наполнены одной и той же духовной начинкой. Оказывается, не только продукты массового потребления вырабатывает Америка, но и массовое производство умственного штампа, выбрасывание на рынок человеческих серий, в которых выучка, пресса и общая нивелировка раз установленного строи исправили или уничтожили досадные отличия беспокойной оригинальности.
Но вот и Вашингтон.
Город расположен недалеко от Атлантического океана, примерно на той же широте, что и Константинополь. Климат здесь влажный, жаркий. Летом бывают частые грозы и ливни, после которых снова наступает солнечная погода.
Конечно, и Вашингтон — Америка, но не та Америка — кричащая и ошеломляющая числами и этажами. Здесь архитектура не давит и не глушит: линии столичных зданий тут словно дышат некой державной благопристойностью, благолепием. Величественный Вашингтон заботился о том, что презренно в деловой Америке: об эстетике. Это единственный город выдержанного стиля. Правда, есть в этом стиле какая-то чужеземностъ, искусственность: недаром по римскому образцу построен необъятный Капитолий — вместилище сенаторов и депутатов, памятник президенту Линкольну — дорический храм, и древнегреческие портики ведут в мраморное казначейство. Он все заимствовал со стороны, этот самый европейский из американских городов, — и только циклопические камни его строений, только пышный размах его перспектив опять напоминает о Новом свете.
Он немного чопорен, этот город американских владык и иностранных послов, холодком державности веет от его домов с зеркальными окнами, он хочет быть аристократом среди бешеных выскочек своей страны. Не хватает ему, правда, своей аристократии: титулы большинства знатных обитателей Вашингтона занесены не в геральдические книги, а в банковские рисконтро, и неизменный герб их — решетка долларовой монеты.
Если пройти днем по улицам Вашингтона, у всех тротуаров тысячи пустых автомобилей ждут своих владельцев, работающих в правительственных учреждениях или совершающих хождения по мукам и кругам бюрократического чистилища.
Отсюда управляют. Здесь издают законы и подписывают договоры в Большом зале Белого дома. Здесь в самой большой типографии мира печатаются синие доллары, паспорта с государственным гербом и марки с портретами Вашингтона. Отсюда из министерств и департаментов посылают распоряжения, правила, увещевания от океана до океана. Отсюда исходят электрические волны, зажигающие страсти партий и честолюбие вождей, здесь за власть борются тресты и организации, здесь разрабатывают ходы и гамбиты, которые от севера до юга и с востока на запад повторяют миллионы пешек. Отсюда правят державой и завоевывают мир потомки квакеров, еретиков и революционеров.
Может быть, правильно, что столица — не громокипящий Нью-Йорк, не скотобойный Чикаго: для законодателей и правителей, для чиновников и иностранных гостей выстроен особый город — вне суеты и шума, без небоскребов и подземки. Понятна мысль тех, кто его строил: для трудной работы управления нужна некая отрешенность. Уединенность города, отрыв физический думали они превратить в духовную независимость правящего страной государственного аппарата. Конечно, это не получилось. На первый взгляд Вашингтон может представиться особым миром, но тысячами нитей связан он с той самой американской жизнью, над которой простирается его власть. Управляют сенаторы и министры — подсказывают банкиры и короли трестов. Тих Белый дом в кущах мирного сада, но где, как не в его торжественных покоях слышнее горячка чикагской биржи и нью-йоркского Уолл-стрита?! Сюда, в тихую уединенную столицу, направлены требования промышленников, воля банков, замыслы трестов, искания партий, чтоб претвориться, через работу немногих, в ясные формулы американской политики. И под спокойно-мудрой оболочкой тишины и бесстрастия кипит неустанная деятельность. Внешне все благостно и выдержанно. Но за зеркальными окнами правительственных зданий бритые сенаторы и седые дельцы затевают новые войны, замышляют битвы на нефтеносных полях и рудоносных приисках, и летят их распоряжения по радио на линии огня — в канцелярии посольства, на запасные позиции — в конторы трестов, банков и газет.
Вашингтон — гостиная Америки. В других комнатах спят, едят, работают там усовершенствованные машины, практичная мебель и никаких украшений. В вашингтонских парадных покоях — как и в старосветских европейских столицах стильные кресла, зеркало паркета и зеркала стен, роспись потолков и портреты предков.
Из любого конца города виден исполинский гранитный обелиск с алюминиевой пирамидой, сверкающей высоко в небе. Это памятник Вашингтону полководцу и отцу отечества, основателю города ж первому президенту. На площадях и в парках статуи его сподвижников и современников: мудрый Франклин в длинном сюртуке, заложив руку за спину, сохраняет пыл юности на лице всезнающего старца; благородно тучен Визерспун, подписавший акт о независимости, вероятно, с тем же достойным видом, с каким сейчас глядит он с каменного пьедестала своего памятника; за ним Лафайет, полковник Гамильтон — мраморно-бронзовая плеяда мужей, создавших это государство, определивших его законы, мечтавших об его великом будущем.
Недалеко от обелиска — памятник Линкольну. На холме, поднимающемся террасами, здание в виде греческого храма с неохватными колоннами. Внутри мраморный Линкольн, вытянув тонкие руки, сидит в широком президентском кресле, а по бокам, на серых голых стенах, высечены слова его посланий к народу, огромные колонны поддерживают четырехугольный свод: светло, холодно и величаво. Если спуститься в город, если проехать по улицам возле Капитолия, то можно увидеть и театр Форда — здесь актер Бут убил Линкольна, А ведь президент хотел американского единения и отмены рабства. На этих улицах, при аресте, погиб и сам Бут от руки солдата.
Здесь кипела борьба за рабство и против рабства и началась гражданская война между Севером и Югом. Там, где высится великолепный отель «Капитолий», был некогда рынок рабов; сюда сгоняли негров, и плантаторы в высоких сапогах и с хлыстом под мышкой оценивали крежость зубов и упругость мускулов двуногого товара.
Наши автомобили остановились у подъезда дома «М 1119 на 16-й стрит, где помещалось советское полпредство. Мы немного отдохнули и поехали по раскаленным от жары улицам на прием, который в честь нас устраивал начальник воздушных сил США генерал Оскар Вестовер. На приеме я увидел авиационных командиров, а так» же летчиков, прилетевших в Вашингтон для встречи с нами. Они были в военной форме — френч защитного цвета и брюки навыпуск. Генерал Вестовер был в белом штатском костюме. В Америке военные часто появляются " штатском не только на официальных приемах, но и на службе.
Вестовер был с нами любезен и явно польщен тем фактом, что советский самолет совершил посадку на военном аэродроме.
— Я сожалею, — сказал он, — что не мог встретить и лично поздравить вас с величайшим вкладом, который вы внесли в дело укрепления связи между нациями.
И тут же рассказал, как он достиг положения начальника воздушных сил американской армии. Свою службу Вестовер начинал наблюдателем на дирижабле.
Попрощавшись с Вестовером, мы поехали с визитом к министрам. Министр земледелия Уоллес, к которому мы в первую очередь направились, так же как и президент Рузвельт, — представитель либеральных элементов страны. Но господина Уоллеса мы не застали в министерстве. Впрочем, Уоллес, узнав, что мы у него были, счел нужным явиться вечером в наше полпредство и лично поздравить нас. В разговоре с нами он особенно интересовался работой магнитных приборов во время перелета.
В беседе с Уоллесом мы еще раз выразили американскому правительству признательность за все услуги, которые нам были оказаны.
Наше правительство просило Канаду и Соединенные Штаты обеспечить перелет метеорологическими сводками, то есть еще задолго до начала перелета регулярно давать сведения о погоде по нескольку раз в день. Для этого необходимо было на многих метеостанциях вести дополнительные наблюдения. И эта работа Канадой и Соединенными Штатами была проведена безвозмездно.
Советский Союз просил, кроме того, выделить на время полета в Канаде и на Аляске несколько передающих радиостанций и пунктов для постоянного прослушивания самолёта и приема радиограмм с его борта. Все эти средства связи правительство Соединенных Штатов предоставило также совершенно бесплатно.
Американские радисты работали на совесть. Часто бывало, что из пятнадцати — двадцати выделенных пунктом только два-три сносно принимали наши радиограммы. Тогда радисты этих пунктов немедленно передавали содержание радиограмм в другие пункты.
Только за внутренние телеграммы и телефонные переговоры, которые вели советские представители в пределах страны, надо было платить большие суммы: междугородный телефонный разговор или телеграмма обходятся в Америке дорого. Но связь работает надежно и быстро.
Вы живете в Вашингтоне, и вам надо поговорить не телефону со знакомыми, живущими в Сиэтле, на другом конце материка. Не огорчайтесь, если вы забыли номер абонента и не помните его точного адреса. Через пятнадцать минут вашего знакомого разыщут и позовут к телефону.
Вы написали неправильный адрес на телеграмме или ваш адресат не проживает в данном доме — его все равно, разыщут, и настойчивый агент вручит ему телеграмму.
Работу связи возглавляет министр почт и телеграфа. Мы познакомились с ним в первый же день пребывания в Вашингтоне. Министр интересовался, возможно ли, по нашему мнению, установить воздушное сообщение из Америки в СССР через Арктику.
Мы ответили, что на ближайшее время считаем реальной воздушную связь с Советским Союзом через Аляску. Наша страна уже разрабатывает план таких рейсов черен Чукотку и Берингов пролив. Эта линия, безусловно, имеет будущее. И быстрая доставка почты не только в СССР, но и в Азию играет здесь не последнюю роль. Кроме того, заметили мы, вполне возможно воздушное сообщение; СССР — Соединенные Штаты и через Арктику.
Разговор этот происходил в присутствии государственного секретаря мистера Хэлла. Этот высокий худой старик, министр иностранных дел, еще 20 июня, в день посадки нашего самолета на аэродром Ванкувера, прислал на имя советского полпреда приветственную телеграмму:
«Примите мои сердечнейшие поздравления по поводу успешного окончания рискованного полета трех советских летчиков из Москвы в Соединенные Штаты через Северный полюс. Прошу выразить летчикам мой восторг по поводу их блестящего достижения».
Сейчас мы имели возможность лично поблагодарить министров за прием, который встретили в стране, и за услуги, оказанные нам американским народом.
Как и всякий американский деятель, мистер Хэлл интересовался, какими приборами пользовались мы во время полета от полюса до Северной Америки. Это было не простое любопытство. Он понимал, что во время полета через Северный полюс надо было решить очень сложную навигационную проблему вождения самолета вблизи магнитного полюса. Министр признал, что мы эту проблему разрешили.
У подъезда советского полпредства нас ждал бьюик, поблескивавший под горячими лучами солнца.
Мы готовились ехать с визитом к президенту.
Перед тем как садиться в машину, я одернул пиджак Валерия. Мне казалось, что он не совсем ровно лежит на его широкой спине.
— Повернись-ка, я посмотрю на твой галстук, — сказал я.
Меня немного смущало то обстоятельство, что к президенту США мы отправились в тех же костюмах, которые приобрели в Ванкувере.
— В Америке гораздо меньше считаются с этикетом, чем в Европе, — сказал нам полпред. — Президент примет нас в своем рабочем кабинете, а для делового посещения костюмы вполне приличны.
— Я предлагаю остановить машину и пройти пешком до резиденции президента, — сказал Чкалов, когда мы подъехали к окруженному парком Белому дому.
Белый дом — двухэтажное здание с балюстрадами и колоннами, наподобие хорошего помещичьего дома. Фонтаны бьют среди клумб, газонов и портиков, огромные сосны, канадский бук и мохнатые ели осеняют его входы. Зелень и мрамор. Тишина.
Мы прошли сначала к секретарю президента. В просторной приемной могло свободно поместиться полсотни посетителей. При нашем появлении из-за письменного стола поднялся небольшого роста старичок. Он приветствовал полпреда и нас. На столе секретаря лежали две-три книги. На ярко-зеленом сукне стоял один-единственный телефон.
— У нас в месткоме и то больше телефонов, — заметил Георгий Филиппович и, разочарованный, отошел к окну…
Дверь в это время открылась, и секретарь пригласил нас в кабинет президента.
Мы вошли в обширную комнату с открытыми окнами, выходившими в тенистый парк. Оттуда врывался запах цветов и зелени. Около входной двери справа стоял большой письменный стол, заваленный книгами и бумагами. Рузвельт сидел за столом и писал.
Полпред стал знакомить нас с президентом, начиная с «чиф-пайлота» Чкалова.
— Ко-пайлот Джорджи Байдукоф, — продолжал полпред, представляя Георгия Филипповича и делая ударение на букву «а» в фамилии Байдукова.
— Нэвигейтор Александр Белякоф, — указал полпред на меня.
Я пожал широкую руку президента и быстро окинул взглядом его энергичное морщинистое лицо.
Крупная фигура президента едва умещалась на небольшом круглом стуле. Я заметил, что Рузвельт не встает со стула. Он страдал трудно излечимой формой ревматизма — тяжелой болезнью, которую он стоически переносил уже не первый год.
Одет был Рузвельт просто. Рубашка с галстуком заправлена в брюки под ремешок.
— Я рад приветствовать советских летчиков, — сказал он, поворачиваясь на своем вращающемся стуле и внимательно оглядывая нас, — Блестящий перелет свидетельствует о высокой технической культуре Советского Союза. Благодаря вашему перелету границы Советской страны стали нам неожиданно близки. Перелет будет записан в историю. Я не сомневаюсь, что в недалеком будущем мы установим воздушное сообщение между СССР и Америкой через Арктику.
Но вот мы уже прощаемся. Мы еще раз жмем президенту руку и направляемся к двери.
Президент поворачивается на своем стуле. Его рука тянется за каким-то документом, а слегка седеющая голова вновь склоняется над кипой очередных и неотложных дел.
Вечером 28 июня наше полпредство устроило большой прием в честь первого беспосадочного перелета из Москвы в Америку.
В здание полпредства на 16-й стрит было приглашено свыше восьмисот человек. Среди них были государственные и общественные деятели — ученые, члены конгресса, представители различных партий и газет.
Мужчины и дамы, одетые в вечерние туалеты, поднимались из вестибюля по широкой лестнице.
Чкалов, Байдуков и я стояли у входа в зал на верхней площадке мраморной лестницы. Полпред представлял нас гостям. Каждый из нас должен был пожать восемьсот рук, приветствуя входящих, и сделать немногим меньше рукопожатий при прощании. Каждый же гость считал нужным не только пожать руку, но и улыбкой выразить на своем лице удовольствие при знакомстве с нами. При атом часто произносилось слово «гратулейшен» — поздравляю, что удлиняло церемонию.
Первые рукопожатия напоминали мне игру. Но когда количество их дошло до четырех сотен, я почувствовал усталость.
Между тем гости, поздоровавшись с нами, проходили в зал и приступали к ужину, Мы продолжали стоять на одном месте, не меняя позы. Время шло томительно медленно. Я уже простоял не менее трех часов, а конца людскому потоку еще не было видно. На лбу Валерия выступила легкая испарина. Но он, как и я с Байдуковым, не сдавался и продолжал пожимать руки.
Наконец все гости вошли. Я надеялся, что церемония рукопожатий уже окончилась, как начался разъезд гостей. Из зала нескончаемой вереницей начали выходить сытые гости. Каждый из них считал нужным снова подойти к нам и, сделав обаятельную мину, еще раз на прощание пожать наши руки.
Когда вестибюль наконец опустел, Валерий вытер платком пот со лба и сказал, облегченно вздохнув:
— Ну, а теперь пойдем в зал и выпьем за здоровье ушедших. Есть хочется, ребята.
На следующий день у нас опять было много дел. Но мы уже освоились с положением путешественников. Наша жизнь состояла из завтраков, обедов, приемов, встреч. Нас узнавали: на улицах, в кино, в ресторанах, кафе. К столику, где Ш сидели, ежеминутно подходили любопытные. Мы по-прежнему подвергались атакам со стороны любителей автографов.
29 июня мы отправились к министру торговли Ропперу, которому подчинялась американская гражданская авиация.
Министра интересовало, что же именно требуется, чтобы практически осуществить воздушное сообщение между СССР и Америкой через Арктику.
Мы высказали свои соображения: нужно произвести, изыскания трассы, оборудовать ее радиостанциями, световыми и радиомаяками; в районе островов архипелага Парри необходимы аэродромы.
— Да… — согласился мистер Роппер. — Со стороны Америки еще мало сделано для освоения этих островов.
После визита к министру торговли мы с Георгием Филипповичем поехали в конгресс — американский парламент, в котором обсуждаются и принимаются законы.
В момент нашего приезда шло заседание в зале о высоким куполом. Обсуждался билль — законопроект о помощи фермерам.
Байдукова и меня провели наверх, оттуда хорошо был виден весь зал и слышны речи ораторов.
Председательствующий, узнав о нашем присутствии, подошел к нам и пожал руки.
Приближался час отъезда в Нью-Йорк. Последний вечер решили провести среди членов советской колонии.
На небольшой даче, где живут советские работники, мы ели настоящий русский борщ, пели под аккомпанемент рояля, много шутили и смеялись.
Перед нашим отъездом в комнате установили экран, погасили свет и показали узкопленочный цветной фильм, заснятый в первые дни нашего пребывания на американской земле.
На экране мы увидели лесную полянку, на которой давал парад генерал Маршалл, его пушку с девятнадцатью дымными выстрелами, шествие с венками по улицам Портленда, полет на «Дугласе» и поездку по висячему мосту из Окленда в Сан-Франциско.
И вот я опять покачиваюсь на пружинном сиденье в прохладном купе металлического пульмана. Экспресс несется со скоростью сто километров в час.
Еще два-три часа езды, и мы увидим множество судов, гигантское скопище небоскребов, людей и автомобилей — поразительный и самый большой город мира — Нью-Йорк.
В два часа дня 30 июня экспресс остановился в тоннеле Пенсильванского вокзала.
Не успели мы сойти с подножки вагона, как к нам подошли члены советской колонии. Тут же я увидел многотысячную толпу друзей Советского Союза, пришедших встретить нас.
На перроне я сразу узнал знаменитого полярного исследователя доктора Стифансона. Его лицо было знакомо мне по портретам.
Мы обменялись приветствиями и направились к выходу. Толпа, забрасывая нас цветами, не переставала кричать по-русски и по-английски:
— Да здравствует Советский Союз!
— Да здравствуют советские орлы!
Нас посадили в открытые автомобили, и, сопровождаемые эскортом полисменов и пронзительным воем сирен, мы опять помчались по улицам Нью-Йорка к мэру города.
Сан-Франциско, Чикаго и Вашингтон подготовили нас к Нью-Йорку. В первые минуты этот город меня не ошеломил. Лишь некоторое время спустя я увидел, как он грандиозен. В своем великолепии и сверкании, размеренный и неудержимый. Нью-Йорк — это то, чего достигла Америка, высшее проявление американского духа. На узком, скалистом острове Манхеттен — 13 миль в длину, две в ширину — за одно столетие вырос величайший город мира. 10 миллионов живет на этом пространстве. Тысячи судов входят в главный порт американской метрополии, много линий железных дорог вытягиваются лучами, пучками рельсов — во все стороны — из подземных вокзалов.
Вокруг Нью-Йорка много фабрик, и они работают на Нью-Йорк. Из десяти миллионов его жителей половина работает для того, чтобы другая половина могла жить, работать, есть и веселиться. Миллионы заняты тем, чтобы изо всех сил, с величайшим напряжением поддерживать ни на секунду не прекращающийся бег всего того сложного механизма, который гонит деньги и переделывает лицо земли.
Здесь в каждом небоскребе — тысячи клеточек и людских загородок. Они не для жилья. Все это конторы и канцелярии, штабы армии, солдаты которой находятся где-нибудь за тысячи верст отсюда. Вот здание «Стандард ойл компани», той самой, которая до войны держала в своих руках 90 процентов мировой добычи нефти. Отсюда отправляются экспедиции для исследований и открытий; ученые дают свои заключения биржевикам, финансисты обдумывают Планы дипломатических кампаний или решают судьбы войны и мира. Это не преувеличение: «Стандард ойл компани» имеет своих дипломатических представителей во всех странах. Именно из ее кабинетов некогда последовало решение начать войну в Мексике, где обосновались главные керосиновые соперники — англичане. Из Нью-Йорка отправляли ружья генералу Карранце, когда Лондон начал посылать их генералу Вилла. Финансисты и торговцы, бывалые политики и опытные организаторы составляют командный состав этого подлинного государства в государстве.
Все правления банков, акционерных компаний, трестов и синдикатов, весь мозг американской промышленности и финансов засели в химерических строениях скалистого Манхеттена — и весь Нью-Йорк точно одна исполинская контора и деловой кабинет. Он приказывает, организовывает, и он же получает прибыли или терпит удары биржевых бурь. И для того чтобы наилучших результатов достигло это управление, для того чтобы беспроигрышной оказалась игра, чтобы множилась сила акций и денег, отчетливая работа разума и рационализация здесь доведены до абсурда: ведь логика и математика всегда достигают сверхчеловеческого. Докажите, что ваше изобретение, предложение, проект полезен, даст конкретные результаты, — и десяток гладко выбритых стариков будут обсуждать расходы экспедиции на Венеру — будущую колонию Земли. Все возможно, предел не поставлен, открыты все пути изобретательности, авантюризму, смелости, использованы все ресурсы знания, таланта, науки, техники. Погоня за долларом, стремление к наживе, нагромождение богатств, борьба трестов и миллиардеров — вся низменная алчность тщеславия и корысти приобретает пламень страсти, доходящей до головокружительной отвлеченности, до подлинного пафоса и гордости. Все в неудержимом движении — расчерченном циркулем, по строгим линиям, по законам неукоснительности. Все — до пределов, до исчерпания, до полной отдачи, — так, чтоб до изнеможения работал мускул, чтоб до смертельного разрыва билось сердце, чтоб до облаков возносилось строение, до бесконечно малого дошел бухгалтерский расчет, до цифр непредставляемых — богатство.
Но Нью-Норк знает не только тех, кто чего-нибудь добился — на его шумных улицах или во вне их. Он хорошо знает и неудачников, тех, кто проиграл в дикой войне за себя против всех, кого не приняла жизнь. А ее закон беспощаден за океаном — упавшего затопчут ослепленные легионы, ведущие борьбу за доллар. И в этом испытании борьбой, трудом, голодом хуже всего пришлось эмигрантам. В Нью-Йорке сотни тысяч безработных. Цена человеку ничтожная, одну пару рук всегда нетрудно заменить другой, на смену одному неустоявшему придет целая толпа его голодных и покорных собратьев. Я видел их понурые лица, их потрепанные пиджаки и шарфы вокруг шеи, когда в зловещем сумраке нью-йоркского утра они убирали мостовые, готовя их к дневному движению. Я видел стариков с трясущимися, посиневшими руками — эти руки много работали, но ничего не скопили. В маленькие бары, куда не любит заглядывать полиция, нью-йоркское море выбрасывает обломки крушения отработанный человеческий материал, ненужные рабочие руки, деклассированных жизненных калек, обреченных на медленную смерть или тюрьму. В этом огромном капиталистическом городе четырнадцатилетние, пятнадцатилетние девочки-негритянки предлагают себя:
— Только доллар!.. Только доллар!..
В Нью-Йорке нас встречал сам мэр города, приземистый человек с полным румяным лицом. Когда-то мэр был американским консулом на Балканах и поэтому знал много славянских и русских слов.
— Как вам нравится село Нью-Йорк? — спросил он.
Мы поделились нашими первыми впечатлениями. Потом мэр попросил нас вместе с ним сфотографироваться. В Америке отказаться от этого нельзя. Больше того: во время съемки нужно обязательно принять ту позу, которую вам предлагают.
Меня и Георгия Филипповича попросили стать боком к аппарату и, повернув головы, смотреть в объектив, Валерий жал руку мэра.
Сделав официальный визит городским властям, мы поехали в советское консульство, расположенное в небольшом особняке на 61-й стрит. Эта тихая улица выходит к Центральному парку.
Я с Георгием Филипповичем вышел осмотреть парк. День был жаркий, мы сняли пиджаки.
В Америке можно ходить по улицам без пиджака, но войти в дом или в магазин, не надев пиджака, считается неудобным.
В парке мы долго бродили по дорожкам и висячим мостикам, осмотрели зверинец, полюбовались озером. На траве под деревьями лежали отдыхающие. В Нью-Йорке в сильную жару разрешается даже спать в парке.
Незаметно мы обошли холмистую местность, на которой расположен парк, и вернулись в консульство.
В этот день клуб полярных исследователей, Русско-американский институт культурной связи, Географическое общество, Музей естественной истории и Торговая палата устраивали обед в честь перелета.
В огромном зале отеля «Валдорф Астория» на Пэрк-авеню, которая иначе называется улицей миллионеров, собрался ученый и культурный мир Америки.
Среди географов, журналистов, профессоров и государственных деятелей я увидел Вильямура Стифансона, Хэтти и Маттерна, летавших через СССР в Америку, летчика Кеньона, участника экспедиции Эльсворта на Южный полюс, и седого, худощавого негра. Это был Матью Хэнсон, единственный оставшийся в живых представитель экспедиции Роберта Пири к Северному полюсу. Стифансон настоял на том, чтобы негр Хэнсон сидел вместе с нами в президиуме.
Обед, как полагается, начался с холодной воды и дыни. И сразу же начались речи. Стифансон говорил от своего имени и от имени людей, приславших со всех концов Америки и Европы приветственные телеграммы.
Вильямур Стифансон в то время был известен всему миру как полярный исследователь. Ему было 58 лет, но он бодр, моложав и полон надежд на окончательное завоевание Арктики. Прямая рослая фигура путешественника, закаленного в суровых переходах, в борьбе со льдами, с пургой и вьюгой, подчеркивала в нем человека твердой воли, покорителя и сына природы.
Стифансон подолгу бывал в Арктике. Его экспедиция 1913–1918 годов, задуманная как исследование островов архипелага Парри, расположенных к северу от берегов Канады, и прилегающей к островам части Ледовитого океана, была хорошо снаряжена. Экспедиция располагала несколькими судами, которые должны были двигаться летом вдоль северных берегов Канады и вдоль берегов отдельных островов и устраивать в намеченных местах базы.
Однако исследовательские работы Стифансон проводил очень ограниченными группами — по три-четыре человека. Иногда он не брал даже собак. С 1913 по 1918 год Стифансон исходил и изъездил всю западную часть архипелага Парри.
Экспедиция продолжалась пять с половиной лет. Стифансон подробно изучил американский север в условиях зимы и лета. Он знал, что такое полярная ночь и что такое полярное лето. Едва ли кто другой из исследователей обладал таким разносторонним опытом передвижения и существования в Арктике, как этот скромный и простой человек.
Экспедиция Стифансона была чрезвычайно продуктивна. Он открыл новые острова, о существовании которых до него не было никаких сведений: остров Борден, расположенный на 78-й параллели, остров Мейген на 80-й параллели и остров Лоуфид на широте 77°30′. Стифансон не только открыл эти острова, но и сделал их географические начертания с подробным описанием.
К островам этим нет доступа по воде, подобно тому как, например, к нашим островам Земли Франца-Иосифа. В летнее время суда стифансоновской экспедиции могли только пройти к берегам самого южного острова — Земли Бенкса. К остальным островам Стифансон проходил на лыжах, в редких случаях на собаках. Опасность подстерегала отважных полярных путешественников на каждом шагу. Арктика не прощает ошибок! В декабре 1916 года на Земле Бенкса погибли два участника экспедиции Бернард и Томсон.
От полуострова Изаксона, расположенного на 79°30′ широты, Стифансон проделал санный рейд в Ледовитый океан и достиг широты 80°30′. Экспедиция Стифансона открыла на острове Мельвиля залежи бурого угля, годного к употреблению как местное топливо. Экспедиция установила, что на островах водятся мускусный бык, карибу (северный олень), белые медведи, волки, песцы, тюлени. Стифансон делал неоднократные переходы, не взяв с собой почти никакого продовольствия, — убивал карибу, нерпу, медведя и готовил из мяса пищу. Стифансон собрал огромный исследовательский материал о погоде в Арктике в условиях лета и полярной ночи.
По научным результатам полярная одиссея Стифансона не менее значительна, чем экспедиция Амундсена, предпринятая знаменитым норвежским ученым, в 1903 году для изучения магнитного полюса и установившая так называемый Северо-западный проход.
Из своих исследований Стифансон сделал обобщение огромной важности: Арктика не так уж сурова, как иногда ее изображают. При некоторых навыках человек может существовать здесь, занимаясь охотой.
Эти взгляды Стифансон изложил в большом труде, который он назвал «Гостеприимная Арктика». В дни подготовки к нашему перелету через Северный полюс мы использовали эту книгу, переведенную, хотя и не полностью, на русский язык. В ней мы нашли и подробные географические описания, и рассказы о способах передвижения по островам и по льду, и приемы приготовления пищи, и способы охоты, и много других ценных сведений, которые мы прочли с интересом и с благодарностью к автору.
А со страниц объемистой книги на нас смотрело мужественное лицо человека, идущего покорять природу, не боящегося трудностей и лишений.
И вот сейчас этот человек сидит перед нами. У него мягкие черты лица. Светлые, тронутые сединой волосы зачесаны назад. Взгляд серых глаз простой, ясный. Говорит Стифансон не спеша. Жесты размеренны и неторопливы. Он рад быть нам полезным даже сейчас, после нашего перелета. Поэтому он иногда встает со стула и что-то ищет для справок.
Стифансон хорошо знает не только свою, американскую, но и советскую Арктику. Он знаком со многими нашими полярниками и признает, что СССР в работе по освоению Севера далеко опередил другие страны. Стифансон тепло отзывается о советских ученых и с уважением относится к нашей стране.
Полярный исследователь пришел в советское консульство пешком. Я заметил, что он принес с собой какой-то сверток.
— Какова ледовая обстановка в Арктике и в районе архипелага Парри? поинтересовался Стифансон в первую очередь.
— Везде сплошной лед, — сказал Валерий, — Чистую воду мы видели только у берегов Канады, близ Пирс-Пойнта.
— Мало чистой воды, — подтвердил Байдуков, — Небольшое озеро…
Стифансон оживился:
— Я так и знал! В июне там обстановка еще вполне зимняя.
Мы попросили доктора Стифансона рассказать о характере льдов в том районе, где он путешествовал. Он очень обрадовался нашему вопросу и начал подробное и обстоятельное повествование:
— Летом в полосе двести — триста миль от берега появляется много больших разводий. А затем эта чистая вода покрывается молодым льдом. Под влиянием ветров н течений молодой лед торосится. Огромные ряды остроконечных ледяных нагромождений делают эту зону труднопроходимой. А дальше, в глубь океана, лед имеет возраст в несколько лет. Торосы там сглажены дождем, ветром и солнцем, местами покрыты снегом. На сплошном ледовом покрове океана между трещинами и торосами встречается много ледяных полей, на которые может сесть самолет. После моей последней экспедиции мне стало ясно, что только авиация поможет нам исследовать просторы Арктики.
— Почему острова Мельвиля, Патрика и Бенкса кажутся с самолета желто-коричневыми? — спросил я Стифансона.
— Это очень интересное явление, — ответил Стифансон. — Поверхность всех островов, расположенных западнее сотого меридиана западной долготы, даже зимой не полностью покрыта снегом. Растительность на этих островах довольно скудная, и поэтому земля имеет желто-коричневую окраску. Причина кроется в малом количестве осадков, которые выпадают зимой в этом районе. Острова же восточнее сотого меридиана и вся Гренландия, наоборот, покрыты ледниками. То, что за лето успевает растаять, с избытком компенсируется осадками в виде снега, который летом превращается в лед. Толщина ледников может достигать там нескольких сот метров.
Мы с интересом слушали рассказ Стифансона. Он поднялся с кресла и распаковал сверток. В нем оказались карты и книги на английском языке. Это были его труды — описание экспедиции в Арктику. Каждому из нас он подарил свою книгу с надписью и карту. Последняя представляла для меня особую ценность, так как на ней были обозначены все радиостанции, посты и зимовки в американской Арктике.
— Я вам тоже кое-что подарю, — сказал Байдуков. — Вот двадцатикопеечная монета. Она была у меня в кармане во время перелета через Северный полюс.
Байдуков был прав, предлагая такой «подарок». Американцы ценят различные сувениры. Стифансон остался очень доволен.
— Советский Союз, — сказал он, — больше, чем другие страны, прикладывает усилий к исследованию Арктики. Во имя науки советские летчики перелетели впервые в мире из СССР в Америку через Северный полюс. А ведь другие страны давно бы могли послать аэропланы в Арктику. Вы перелетели Северный полюс во время полярного дня. Но я считаю, что вы перелетите Арктику еще раз — полярной ночью.
Стифансон еще долго излагал свои мысли о том, что полярной ночью в Арктике бывает достаточно светло от луны и от северных сияний, что в это время часто стоит безоблачная погода, отличная видимость и что экипаж самолета будет себя чувствовать не хуже, чем полярным днем.
Стифансон расспрашивал нас о советских исследователях Арктики и о высадке научной экспедиции на Северном полюсе. Он выразил твердую уверенность, что в недалеком будущем мы наладим регулярное воздушное сообщение между СССР и Америкой через Арктику.
2 июля состоялась самая интересная из наших встреч — митинг американских рабочих и коммунистов с вашим участием.
Это было грандиозное мероприятие. Его устраивали Общество друзей Советского Союза и редакция журнала «Совиет Рашен тудей» («Советская Россия сегодня»).
Еще задолго до начала у дверей манежа 71-го полка на 34-й стрит выстроилась многотысячная очередь желающих выразить свои симпатии летчикам Советского Союза.
Зал манежа напоминал закрытый спортивный стадион — его размеры позволяли проводить футбольные тренировки. Трибуна была украшена флагами СССР и США. Висели огромные плакаты: «Америка приветствует советских пионеров воздушных сообщений!», «Вперед — к организации регулярных трансполярных рейсов!».
Двенадцатитысячная толпа, ожидая нашего появления, пела международный пролетарский гимн. Едва мы успели переступить порог манежа, как многотысячный зал встал со своих мест. Рукоплескания и оглушающие крики приветствий слились со звуками «Интернационала». Мы стали жестами просить собравшихся сесть на свои места. Но это вызвало лишь новый взрыв аплодисментов. Прошло десять минут. Буря начала утихать. В верхнем ярусе я увидел много негров и негритянок.
Митинг открыл руководитель Хайденского планетария. Свою речь он начал словами на русском языке:
— Добро пожаловать, товарищи.
Далее он отметил значение нашего перелета.
— Американский народ восхищен советскими летчиками. Мы приветствуем вас как товарищей, — обратился он к нам. — Мы вас любим, потому что вы помогли нам лучше узнать Советский Союз. Вы не только покорители арктических пространств, но и вестники человеческой правды.
Потом выступал Вильямур Стифансон. Он говорил об огромной научной работе СССР на Севере, о том, что исследователи Арктики во всем мире благодарны Советскому правительству за активную и постоянную поддержку, которую оно оказывает в течение нескольких лет исследователям Арктики.
Теплую речь произнес и летчик Кеньон, принимавший участие в экспедиции на Южный полюс.
— Я не оратор, а рабочий-летчик, — сказал он. — И я очень хорошо понимаю, какие трудности пришлось преодолеть нашим гостям во время полета через Арктику.
Зал гремел рукоплесканиями. Где-то в глубине манежа раздалась песня «Авиационный марш». Песня ширилась, неслась навстречу нам. Присутствующие поднялись со своих мест, захлопали в ладоши, в знак одобрения засвистели. Напрасно председательствующий старался успокоить зал. Овации, не утихали. Чкалов долго не мог начать говорить.
Наконец приветственные крики стихли. Но достаточно было Валерию произнести первую фразу, сказав, что наш полет принадлежит рабочему классу всего мира, как с новой силой вспыхнули овации…
Приближался час нашего отплытия в Европу. Решено было отправиться на пароходе «Нормандия», в первом классе. Тут свои порядки. Вечером, например, мужчины должны появляться в парадных костюмах для приемов или токсидах (так в Америке называется смокинг). Мы были озабочены приобретением вечерних туалетов.
Георгий, конечно, заупрямился. Он начал доказывать:
— Для меня обычаи капиталистического мира не обязательны. Токсиду покупать не буду. Можно появиться в салоне и в сером костюме.
Валерий, как «чиф-пайлот», ведал у нас международными вопросами. При подобных разногласиях голос его приобретал весьма убедительный оттенок.
— Ты пойми, Егор, ведь не для себя делаем, а для народа! — говорил он.
В конце концов мы уговорили Байдукова и вместе отправились за покупками. На примерку и тому подобные хлопоты ушел весь день. В магазине Георгий насупился и ворчал: смокинг с блестящими шелковыми лацканами не очень-то шел к его бритой голове.
В Америке с бритой головой ходят лишь люди, недавно покинувшие тюрьму или сумасшедший дом, и мы всячески уговаривали Георгия сделать в этом пункте уступку американским обычаям. Но Байдукову было жарко, он остался непреклонен и, вопреки нашим просьбам, обрил голову наголо.
С угрюмым лицом стоял он теперь перед зеркалом в неимоверно длинных брюках, отдав себя в распоряжение портного, который суетился вокруг него, что-то подрезая и примеривая.
Но покупкой одних смокингов дело не ограничилось, и это также беспокоило Георгия. К парадному костюму полагались лакированные туфли, черные носки, стоячий крахмальный воротничок с уголками, галстук бабочкой и сорочка с «вафельной» грудью. К сорочке требовались запонки в виде крохотных шариков, а белый батистовый платочек, который обязательно должен быть виден из нагрудного кармана, завершал наряд.
В американских магазинах покупки не принято брать с собой, и они были доставлены нам в консульство.
Билеты на пароход были уже куплены. Выяснилось, что мы едем вчетвером: до Парижа нас будет сопровождать сотрудник торгпредства, свободно владеющий английским языком. Теперь у нас было больше свободного времени, и мы могли познакомиться с обыденной жизнью огромного капиталистического города.
Георгий успел побывать в Гарлеме — негритянском районе Нью-Йорка. По гарлемским улицам Байдуков со своим спутником проходил глубокой ночью и вдруг услышал позади торопливые шаги. Его догнал негр с широким приветливым лицом.
— Я хочу пожать вашу руку, — сказал негр на ломаном русском языке. — Я вас знаю, я вас встречал на Пенсильванском вокзале, я видел вас на митинге в манеже 71-го полка. Передайте привет всем своим товарищам из Советского Союза.
Интересен Нью-Йорк ночью. Огромный город сверкает мириадами огней. По черному небу стремительно летят, переливаясь всеми цветами радуги, буквы, и кажется, вот-вот они заденут за крыши небоскребов. Это английская фирма «Кунард» рекламирует с помощью самолета свои пароходы. Огненные водопады низвергаются с вершин серых великанов. Рестораны, отели, магазины, аптеки, кинофирмы и торговые компании рекламируют свои блюда, изделия, танцевальные залы, фильмы, автомобили, жвачку и кока-колу.
«Двадцать миль на галлон!» — вспыхивает реклама автомобильной фирмы «Шевроле». «Шесть в цене четырех!» — набегают на нее голубые буквы. Это значит, что «Шевроле» выпустила новую модель автомобиля с шестицилиндровым двигателем и он стоит столько же, сколько старый, четырехцилиндровый.
Сияние исчезает, вновь вспыхивает, то расходится лучами, то рисует на черном небе узоры.
А в узких улицах неисчислимые толпы — удручающее зрелище суеты, толкучки, многоголосый рев усилий, напора, низменных интересов, преходящих страстей. Внизу все это не так замечаешь — чересчур оглушает лязг и звон трамваев, дрожь автомобилей. Внизу на тротуарах, в окнах магазинов разыгрываются целые представления. В дорогих нарядах стоят манекены. Сквозь зеркальные стекла видны залы, полные первоклассных автомобилей. За витринами игрушечных магазинов слоны поднимают хоботы, птицы качают головами, ползают ящерицы и прыгают мартышки. Неоновые и аргоновые трубки, излучая разноцветный мигающий свет, будто перекликаются с бесконечными огнями небоскребов и уличными фонарями. Рекламы бегут, прыгают, летят, гаснут, вновь зажигаются.
И вот в одну из ночей мы поднялись на смотровую площадку сто второго этажа «Эмпайр-Стейт-Билдинг». Гигантский город лежал внизу. И сюда, на высоту, поднимался какой-то, будто приглушенный, стон земли, здесь, наверху, где рассеивается копоть и дым, было слышно, как монотонным, но пронзительным криком вопила долина доллара, суеты и обольщений.
Мы долго смотрели вниз. Чкалов был молчалив.
— О чем задумался, Валерий? — спросил я.
— В Москву надо ехать, вот что… — ответил он тихо. — Как туристы мы всегда успеем сюда приехать. А сейчас надо домой, и как можно скорей приниматься за работу.
Наши мысли совпали. Он помолчал немного и добавил:
— Как я буду счастлив, когда мы наконец приедем домой, на родину…
Наступил день нашего отъезда. 12 июля пришло радостное известие: из Москвы вылетел по нашему маршруту самолет с экипажем: Громов, Юмашев, Данилин. Телеграмма была получена через полтора часа после взлета. С этой минуты консульство превратилось в штаб: беспрерывно звонили телефоны, приходили депеши. Когда машина Громова прошла над Северным полюсом, я раскрыл бортовой журнал и начал сравнивать, какое время для достижения полюса затратили мы и экипаж Громова. Мне сразу стало понятно, что вторая советская тройка совершает полет в более благоприятных погодных условиях. К моменту достижения Северного полюса у Громова был выигрыш во времени — три часа с лишним. А когда его самолет долетел до берегов Канады, то он уже достигал пяти-шести часов.
Посадка экипажа Громова ожидалась 14 июля утром.
Накануне отъезда я решил осмотреть аэропорт Нью-Йорка. Называется он Ньюарк и расположен в предместье города, в сорока пяти минутах езды на автомобиле.
Ньюарк — был самым оживленным аэропортом мира. Сюда прибывали и отправлялись до 150 самолетов в день (парижский аэропорт Ле-Бурже — 55 самолетов, Темпльгоф в Берлине — 50 самолетов). Обширное летное поле Ныоарка с севера закрыто высокими зданиями и фабричными трубами, которые по ночам освещены сильным боковым электрическим светом. Другие подобного рода препятствия выделены светящимися неоновыми трубками. Границы же аэродрома обозначены часто расположенными белыми огнями.
Я посетил центральный пост управления с пультами, откуда ведется управление всем освещением аэродрома. Рядом — диспетчерская. На столах карты воздушных линий. Дежурный диспетчер вел точную регистрацию прибытия и отправления самолетов, давал разрешение на вылет, назначал летчику высоту полета, отмечал на карте продвижение самолета, место и время его посадки.
Две комнаты — отделение бюро погоды. Оно работало как отдел министерства земледелия. Сведения о погоде поступали сюда со всей страны; на основании их составлялись четыре карты в сутки: в 1 час 30 минут, в 7 часов 30 минут, в 12 часов 30 минут и в 19 часов 30 минут — они с кратким анализом состояния погоды и прогнозом на ближайшие дни.
Такая карта аккуратно четыре раза в сутки вручалась каждой авиационной компании, а их в нью-йоркском аэропорту четыре. Впрочем, каждая частная авиакомпания имела своих специалистов, снабжающих летчиков перед вылетом и во время полета метеорологическими сведениями.
Осмотрел я и аэродром и не сказал бы, что в нью-йоркском аэропорту исключительная чистота, что там нет пыли, что ангары его новы. Но все нужное оборудование для бесперебойного и безопасного сообщения там имеется, и используется оно полностью.
Уезжал из аэропорта Ньюарк ночью. Одна сторона аэродрома была ярко освещена: производились общественные работы в порядке «ликвидации безработицы». На посадку заходил «Дуглас». На его носу, как у циклопа, мифологического великана с одним круглым глазом посередине лба, светился яркий свет посадочной фары.
14 июля отходил в Европу наш пароход. Мы отправились на пристань «Френч-Лайн». Через несколько минут мы увидели набережную с высоким барьером и причалы, вдающиеся в Гудзонов залив. Но моря за огромными корпусами судов и зданий пароходных компаний не было видно.
Но что это за гигантское сооружение? Когда наши автомобили остановились на набережной, я сразу обратил на него внимание. Сооружение оказалось носом, парохода. Это была «Нормандия» — самое большое пассажирское судно в Атлантическом океане, обладатель «голубой ленты», которая дается за наибольшую скорость рейса из Америки в Европу. Теплоход бортом пришвартован к многоэтажному морскому вокзалу. На борт перекинуты крытые трапы, похожие на тоннели. Внутри их двигались пассажиры.
Не успели мы окинуть взглядом помещения морского вокзала, как наши чемоданы с привязанными к ним этикетками исчезли. При выходе на набережную я снова увидел их плывущими по длинной ленте транспортера куда-то вверх. Когда мы вошли на теплоход, багаж уже был размещен в каютах.
Последние минуты прощания… Нас провожают сотрудники полпредства, друзья Советского Союза, доктор Стифансон…
Теплоход «Нормандия» настолько велик, что разворачиваться в Гудзоновом заливе самостоятельно не может. К нему подходят крохотные буксиры. Они упираются своей носовой частью в борт нашего плавучего города и разворачивают его на 90 градусов.
Мы стоим на палубе и наблюдаем открывшуюся панораму Нью-Йорка. Над общим уровнем домов возвышаются желтоватые громады небоскребов. Это остров Манхеттен. Справа я вижу статую Свободы. На фоне домов-великанов она кажется совсем небольшой. Мы проплываем мимо островка, который, как я узнаю, является чистилищем для прибывающих в Америку бедняков. Здесь помещается карантин.
Океан спокоен. Погода ясная. Дует приятный теплый ветерок. Теплоход идет ровно, не покачиваясь, рассекая своим гигантским носом изумрудную воду. За кормой от винтов перекатываются мощные буруны, но теплоход не реагирует на легкое волнение волн.
Мы плывем вот уже несколько часов, а Нью-Йорк все еще виден. Как я ни стараюсь убедить себя, впечатления, что мы вышли в океан, у меня не создается. Наоборот, мне начинает все больше казаться, что я нахожусь в большой американской гостинице с залами, салонами, ресторанами.
На лифте я поднялся на палубу. Теплоход продолжал идти вдоль берегов, которые виднелись к северу от линии нашего пути. Я поинтересовался: как же проходит морской путь Америка — Франция? Оказывается, первую треть пути теплоход, пренебрегая некоторыми удлинениями, уклоняется к югу, обходя Ньюфаундлендскую отмель. Она опасна не столько своими незначительными глубинами, сколько обилием рыбачьих судов и суденышек. Столкновение вполне возможно, особенно ночью. Поэтому маршрутная линия отклоняется к югу, а затем, начиная с долготы 45°, - к порту Саутгемптон в Англии и заканчивается на севере Франции — в Гавре.
Понемногу мы знакомимся с устройством теплохода «Нормандия» и его порядками.
Вес судна 84 тысячи тонн. Это в два с половиной раза больше любого современного линкора.
Байдуков восемь раз обошел теплоход по периметру палубы и уверен, что совершил прогулку в четыре километра.
Население теплохода — 1500 человек команды и 1500 пассажиров. У «Нормандии» восемь этажей. Мы целыми часами бродили по коридорам, заходили в рестораны, в богато украшенные салоны, похожие на зимние сады, в концертные залы, бассейны для плавания, в кинотеатр, в гостиные, обставленные мягкой мебелью, статуями, картинами, — и все же четырех суток путешествия не хватило на то, чтобы изучить все помещения.
Каждый час я открывал что-нибудь новое: то новый зал для танцев или игр; то салон, где можно написать письмо или почитать; то магазины, торгующие книгами, парфюмерией, мануфактурой; то костел с органом и ликами святых (здесь каждое воскресенье пастор проводит богослужение); то радиостудию и специальное бюро, откуда вы можете послать радиограмму в любую часть света. «Нормандия» все время поддерживает связь с материком. Еще за сутки пути до берега можно разговаривать по радиотелефону с любым пунктом Соединенных Штатов.
Мы отдыхали как бы в городских квартирах. В каюте платяной шкаф, большое зеркало, настольные лампы, телефонная книжка около аппарата, дверь, ведущая в ванную. И только иллюминаторы с двойными стеклами напоминали, что мы находимся в Атлантическом океане.
Голоса в соседней каюте прервали мой отдых. Это Чкалов и Байдуков надевали токсиды и брюки с шелковыми лампадами. Мои товарищи готовились к обеду. Я последовал их примеру и, переодевшись, вышел в вестибюль. На одной из стен увидел списки всех пассажиров с указанием номеров занимаемых кают. Среди пассажиров была известная киноактриса Марлен Дитрих с дочерью и мужем и доктор Кун — китайский министр финансов.
Принято считать, что на каждом порядочном океанском пароходе находится по меньшей мере один итальянский или испанский граф, американский миллионер и русская аристократка, великолепно знавшая царя. У нас на «Нормандии» с некоей горделивостью американцы произносили еще имя какого-то лысого финансиста на кривых ножках, ибо был он одним из воротил Уолл-стрита и прославился тем, что от богатств своих пожертвовал миллион долларов на постройку какой-то грандиозной «грандоперы».
Миллионер спросил Чкалова, богат ли он, и в ответ услышал:
— Да. Очень богат.
— В чем же выражается ваше богатство? — явно заинтересовался американец.
— У меня сто семьдесят миллионов!
— Сто семьдесят?! Чего? Рублей или долларов?
— Нет! Сто семьдесят миллионов человек, которые работают на меня так же, как я работаю на них, — спокойно ответил Чкалов.
Океанская качка не рассеивала забот миллионера: он и здесь жил в привычном ритме — повышение, понижение, беспрестанно диктуя письма и радиотелеграммы сухопарому бессловесному секретарю.
Я узнал, что на «Нормандии» издается ежедневная газета, которая сообщает о новостях в мире, принимаемых по радио; в газете помещается также материал о внутренней жизни парохода, подробные объявления об увеселениях: вечером в салоне — концерт, в понедельник — костюмированный бал, завтра парикмахер заканчивает работу в два часа, а ежедневно — кинематограф. Завывает ветер, бушует океан, качается на страшных сизых волнах мечущееся суденышко, но в назначенный час на дрожащем полотне незадачливо важный Чарли Чаплин утоляет голод вареной подошвой, белокурые красавицы улыбаются все той же очаровательной улыбкой — и летят автомобили, мчится бесконечная погоня по модным улицам Лондона и Нью-Йорка.
На следующее утро после отплытия мы с любезного разрешения капитана осмотрели навигационное и машинное оборудование «Нормандии», увидели то, что обычно скрыто от глаз пассажиров. Сначала поднялись на капитанский мостик. Капитанская рубка — обширная застекленная комната с хорошим обзором. Там мы застали дежурного помощника капитана и дежурного штурмана. Центральное место в рубке занимал большого размера магнитный компас, на котором девиация уменьшена до одного-двух градусов. Девиация — это искажение, которое привносится в показания магнитного компаса наличием судового железа и стали.
Затем мы осмотрели судовой радиопеленгатор, с помощью которого определяется направление на любую работающую радиостанцию. Моряки пользуются этим прибором главным образом при подходе к берегам в тумане или при плавании вблизи препятствий.
Дежурный штурман объяснил мне, что он начинает пользоваться радиопеленгатором в том случае, когда до берега остается 50 километров. Подойти к берегу во время тумана — дело очень трудное. В любую минуту теплоход может наскочить на прибрежные скалы и подводные камни. В подобных случаях радиопеленгатор — незаменимый прибор.
Штурвальных на теплоходе «Нормандия» нет. Управление рулем электрическое. Связь с машинным отделением осуществляется с помощью телефона или специального прибора, который передает команду. Впрочем, во время рейса почти не приходится управлять машинами. Они работают в установленном режиме. Счетчики оборотов показывают, с какой скоростью вращается каждый винт.
Нас особенно интересовало, как морской штурман пользуется астрономией. По нашей просьбе он показал нам морской секстан, объяснив, что он не менее двух раз в день производит расчет сомнеровой линии, а ночью, когда небо безоблачное, определяет широту и долготу по звездам.
Мы с Георгием не утерпели и произвели на капитанском мостике астрономические наблюдения, взяв высоту Солнца по морскому естественному горизонту.
Разговор зашел о погоде. Дежурный штурман составляет карту погоды на основании метеорологических сводок, полученных пароходной радиостанцией. Много сведений о погоде принимается по радиосвязи с других пароходов, проходящих в Атлантическом океане.
Посмотрев на карту, мы установили, что штилевая погода продержится два дня. В завершающей части пути «Нормандия» встретится с циклоном.
В рубке был еще один прибор, повышавший безопасность кораблевождения электроавтоматический определитель препятствий. Прибор этот предупреждает дежурного штурмана или вахтенного помощника капитана в том случае, если впереди теплохода неожиданно окажется какое-либо препятствие.
Закончив осмотр капитанской рубки, мы направились к главному судовому механику, который показал нам машинное отделение, а затем на кухню.
Вид приготовленных блюд напомнил об обеде. Мы вынуждены были соблюдать пароходные порядки, поэтому пошли к себе в каюту переодеваться к обеду в вечерние костюмы.
Георгий больше уже не ворчал. Он «освоил» черный смокинг, белую гофрированную сорочку и крахмальный воротничок с уголками, только бритая голова по-прежнему напоминала о его упрямом характере. Он еще не перестал протестовать против порядков и обычаев капиталистического образа жизни.
В этот вечер в салоне после обеда были «бега». Посередине залы гарсоны разостлали ковер, на котором изображен разрисованный круг, разделенный радиусами. Принесли шесть деревянных лошадок.
На «бегах» — тотализатор. Пассажиры брали билеты стоимостью один доллар — на любую лошадь. Одна из дам, не заинтересованная в исходе игры, бросала пару костяных кубиков.
В зависимости от числа выпавших очков гарсоны переставляли лошадей. Бега начались.
Чкалов упорно ставил на лошадь № 3 и каждый раз оказывался в проигрыше. Но у Валерия, по-видимому, был какой-то свой опыт и стиль игры. На пятом заезде он неожиданно выиграл и покрыл издержки с избытком.
…Теплоход шел на восток, пересекая один часовой пояс за другим. Мне казалось, что удобнее было бы при переходе из одного пояса в другой переводить стрелку на час вперед. Но на «Нормандии» заведен другой порядок. Пароходные электрические часы через каждые два часа передвигались на пять минут вперед, и я добросовестно крутил стрелку своих ручных часов, но в конце концов это мне надоело, и я спрятал их в столик.
Среди пассажиров ходили слухи, будто советские летчики «испортили» поездку Марлен Дитрих. Присутствие на теплоходе трех русских летчиков далекой, «загадочной» страны раздваивало внимание обитателей теплохода. В последний день нашего путешествия теплоход шел в зоне циклона. Погода испортилась, лил дождь, дул порывистый ветер. В Атлантическом океане разыгрался шторм. «Нормандия» медленно кренилась градусов на двадцать пять в одну сторону и на некоторое время как бы застывала в наклонном положении. Стулья и столы в залах катились к борту. Затем теплоход выпрямлялся и так же медленно переваливался на другую сторону. Тогда стулья и столы скатывались к противоположному борту. Прислуга начала прикреплять мебель к полу. Пассажиры стали ходить по палубе неуверенно и неправильно. Население плавучего гиганта поредело: почти все забрались в каюты. На всех лестницах и в проходах укрепили обшитые плюшем канаты, за которые можно было держаться во время ходьбы. Океан тяжело дышал.
Я вышел из салона, с его театральными окошечками в занавесках и гардинах, и открыл дверь на палубу. Ветер бросает тяжелую дверь, схватывает, рвет вперед, сбивает с ног, кидает к перилам, играет, крутит, грозит.
И вдруг смешными и ненужными делаются все достижения пресловутого сервиса: кино, газета, салон с центральным отоплением, лаун-теннис в зале, заботы американского финансиста и все прочие дешевые теплоходные чудеса. Их без остатка смывает темнота и вой ветра. Я думаю, какой маленький этот экран, что вешают в зале на двух гвоздях для кино…
Близка земля. Мы приближаемся к цели. Океан остается позади, точно чистилище, через которое надо пройти перед возвращением на родину. Завтра мы покинем этот пароход — плавучий осколок Нового света.
На рассвете 19 июля «Нормандия» встала на рейде в английском порту Саутгемптон. К нашему теплоходу подошел катер, вернее, небольшой морской пароход. Закончив погрузку, «Нормандия» направилась через Ла-Манш к берегам Франции.
В Гавр мы прибыли в тот же день в 14 часов 15 минут — точно по расписанию.
3146 миль[16] наш пароход покрывал за 106 часов 46 минут. Недаром «Нормандия» владела «голубой лентой» за наибольшую скорость плавания через Атлантику.
Каждый пассажир получил на память специальный жетон, на котором было выбито название парохода, и печатную карточку со сведениями о времени прибытия теплохода, о его средней путевой скорости, о количестве пассажиров, о состоянии погоды и т. д.
— Жетоны пассажирам розданы для того, — объяснили нам, — чтобы те не захватывали с собой на память ложки, ножи и другие «сувенирные» предметы с теплохода.
В Гавре «Нормандия» должна простоять несколько дней. Команда получила отпуск. Наш гарсон был очень доволен, мечтал о встрече с женой, долго жал нам на прощание руки.
Гавр — большой порт. И все 'же какая разница в сравнении с Америкой! На улицах меньше виадуков и автомобилей, нет небоскребов и прочих примет Нового света.
Поезд наполнен пассажирами исключительно с «Нормандии». Проворно преодолевая километры, он везет нас в Париж. Этот город нам хорошо знаком. В 1934 году мы с Георгием летали на флагманском корабле через Страсбург с визитом к французскому правительству. А в 1936 году все трое были на Международной авиационной выставке. Теперь мы едем в Паршж поездом.
В окнах вагона — сельская местность. На полях тут и там — лошади, тракторов не видно. Крестьяне снимают с полей урожай. Тёплый, немного влажный воздух и сочная зелень напоминают нам о близости океана, с которым мы распрощались несколько минут назад.
В Париж мы приехали довольно быстро. Этот красивый город, знавший славные революционные бои, полный замечательных архитектурных памятников, площадей, парков и бульваров, я видел и с земли, и с воздуха. На вокзале нас встречали советский полпред, представитель французского министра авиации, представитель французского генерального штаба, вице-председатель авиационной комиссии палаты депутатов Вайян-Кутюрье[17] сотрудники полпредства, торгпредства и участники Второго международного конгресса писателей — Михаил Кольцов, Луи Арагон, Агния Барто и другие. Нас буквально засыпают цветами, на нас наседает туча фотографов, кинооператоров.
Исключительным вниманием мы были окружены и в пути. По дороге из Гавра в Париж публика положительно не давала нам ни минуты покоя, требуя автографов.
Прошло два дня. Общество друзей СССР организовало в огромных залах «Ваграм» встречу нашего экипажа с трудящимися Парижа, которая вылилась в мощную демонстрацию теплых чувств французского народа к Советскому Союзу.
Уже за час до начала митинга залы были переполнены. Митинг проходил под почетным председательством французского министра авиации Пьера Кот. Представители многочисленных секций Общества друзей СССР преподнесли нам цветы; наше появление было встречено возгласами: «Да здравствует Советский Союз!», «Советы повсюду!».
Генеральный секретарь французской организации «Мир и дружба с Советским Союзом» в своей вступительной речи указал, что наш перелет сейчас же был повторен экипажем летчика Громова.
— Это свидетельство необычайного успеха советской авиационной техники, — закончил он свою речь под аплодисменты собравшихся.
Затем выступил Чкалов.
— Наш народ, добившийся двадцать лет назад своей свободы, — сказал он, — идет от победы к победе. Наша страна старается пробежать в кратчайшее время колоссальный путь. Наша советская авиация служит мирному труду и культуре народа. Естественно, что мы, советские летчики, стремимся туда, куда еще не ступала нога человека. Полет в Соединенные Штаты Америки через Северный полюс уничтожил белое пятно на карте земного шара. Действуя в интересах всего человечества, в интересах науки, мы не могли не преодолеть те препятствия, которые встречали на своем пути. Нам не страшны преграды. Я передаю всем присутствующим и не присутствующим здесь друзьям Советского Союза глубокую благодарность нашего экипажа за оказанное нам внимание. Да здравствует дружба народов двух великих стран — Франции и Советского Союза!
Дружественную речь произнес председатель парламентской авиационной комиссии Боссутро. Сам он — летчик, бывал в Советском Союзе, видел достижения нашей авиационной промышленности.
Затем выступил представитель министерства авиации Ляборт, навигатор по специальности. Он дал высокую оценку перелету в Северную Америку с технической точки зрения.
На митинге друзей Советского Союза мы познакомились с замечательным человеком, одним из руководителей французских коммунистов — Вайян-Кутюрье. Слегка седеющая голова, приветливо улыбающееся лицо… Оно становится сосредоточенным и суровым, когда Кутюрье говорит о борьбе, которую рабочие ведут за свои права. Страстный, замечательный оратор! Его речь нельзя слушать без волнения. Не художественные образы, а неумолимая логика человека, твердо верящего в светлое будущее, заставляет присутствующих восторженно аплодировать члену парламента, редактору «Юманите» Вайян-Кутюрье.
В своей речи Вайян-Кутюрье подчеркнул, что такого рода предприятия, как перелет через Арктику в Америку, под силу только стране социализма.
Уже больше месяца длится наше путешествие. Просим в полпредстве сократить официальную программу приемов, встреч и организовать поездку по ленинским местам. В Париже и его окрестностях многое связано с именем Владимира Ильича, жившего здесь в годы эмиграции. Поездка по этим местам дает совершенно иное представление о Париже, чем то, которое вы получаете в музее, на выставке, в парках, на шумных улицах с многочисленными магазинами, банками, кафе и ресторанами. Для этого надо выбраться из буржуазного центра города на рабочие окраины.
Едем сначала на улицу Мари-Роз.
Вот комнатка в два окошечка на втором этаже. В доме живет старик-фотограф. Он помнит Ильича, который снимал комнату в 1910–1911 годах. Это был период работы Владимира Ильича по организации партийной школы в местечке Лонжюмо, в 18–20 километрах от Парижа. В эту школу партийные организации России командировали рабочих-большевиков, в частности там учился Серго Орджоникидзе. Владимир Ильич сам вел занятия в школе и ежедневно ездил в Лонжюмо на велосипеде. Ранним утром по этой дороге везут из пригородных садов, с ферм и огородов продукты на центральный парижский рынок.
Мы на отличном бьюике едем как раз тем самым путем, которым двадцать шесть лет назад ездил на велосипеде тот скромный и великий человек, имя которого является призывом к борьбе за новое, светлое будущее человечества.
Показались постройки с закрытыми от света и жары ставнями. Это Лонжюмо. Находим домик, где шли занятия учеников партийной школы. Здесь, в тишине садов и полей, зарождалось могучее коммунистическое просвещение масс.
Сейчас в этом помещении, напоминающем сарай, небольшая слесарная мастерская. В ней работают три человека. Владелец, француз, бывший фронтовик, встречает нас приветливо. У него искалечена правая рука — след империалистической войны. Хозяину мастерской было девятнадцать лет, когда в этом самом здании, принадлежавшем его отцу, располагалась партийная школа большевиков.
— Ильич приходил в школу с черного хода, — сказал нам владелец мастерской. — Вероятно, так было удобнее.
Через несколько домов находилось общежитие школы. Стипендия учащихся была всего двести франков. Прожить можно было только при строгой экономии и при «коллективизации» быта.
В переулке нам показывают небольшой домик, в мансарде которого несколько месяцев жил В. И. Ленин. По скрипящим ступенькам поднимаемся наверх. Скромная мансарда, простая обстановка, и жил здесь простой и великий человек.
В Париж мы возвращаемся через Орлеан. Здесь, по адресу улица Орлеан, 100, был ресторан, где в 1909 году происходило совещание расширенной редакции газеты «Пролетарий».
Немного далее, к югу, на той же улице Орлеан, в доме № 10, мы осмотрели помещение бывшей типографии. В ней печатались большевистские газеты. А за углом стоит дом, в котором сдавались помещения для семейных и групповых вечеров. Именно здесь происходили секретные партийные совещания.
На этом мы закончили экскурсии по Парижу. Мы очень скучали по родине и торопились домой, в Москву.
Поезд, который должен доставить нас из Парижа к советской границе, отправлялся с вокзала Гар-дю-Норд. А там, на границе, мы пересядем в курьерский поезд Негорелое — Владивосток.
Шесть часов езды — и мы в Бельгии. Через два часа снова граница. Германия. Снова смена таможенных и пограничных чиновников. Другие фуражки. Другие требования. Другой язык. А на следующий день будет новая граница между Германией и Польшей.
Рано утром — Берлин. Поезд останавливается на двух вокзалах: на одном стоит две минуты, затем на другом — семнадцать. На перроне нас встречают представители советской колонии. Для остального населения Германии наш поезд — глубокая тайна. Фашистские газеты даже умолчали сам факт перелета из СССР в Америку. Теперь они так же последовательно скрывают проезд советских летчиков через территорию Германии.
На перроне — всего пятнадцать — двадцать сотрудников полпредства, но, для того чтобы прийти даже в таком количестве, понадобилось специальное разрешение полиции.
Незаметно проехали Польшу. И вот осталась одна ночь… Все ближе и ближе мы к родной стране.
Столбцы. Последняя пограничная станция. Польские таможенные чиновники покидают вагон. Остается только охрана из польских легионеров. Поезд медленно идет к пограничному знаку. Границей между СССР и Польшей служит речушка. Через нее перекинут небольшой мост. Перед мостом поезд останавливается, польские легионеры выходят из вагонов. Поезд трогается снова. Сейчас в нем нет ни одного представителя власти. И опять остановка за мостом. Ура! Мы — на родной, советской земле.
В вагон вбегают радостные и возбужденные советские пограничники. Они крепко жмут нам руки, обнимают, расспрашивают о нашем путешествии. Мы не заметили, как поезд подошел к станции Негорелое.
Скромная пограничная станция выглядит необычно празднично. Светят юпитеры и прожекторы. Гудит толпа. Нас бурно приветствуют встречающие. Мы выходим на перрон и направляемся к трибуне. Рядом с нами с огромным букетом цветов стоит шестилетняя дочь пограничника. Кто-то из толпы задает ей вопрос:
— Кому букет-то?
Девочка со снисходительным недоумением отвечает:
— Взрослый, а не знает!.. Чкалову!
Короткий митинг окончен. Пересаживаемся в другой экспресс. С востока рванул бодрый русский ветер…
Наполненные особым, непередаваемым чувством, которое знакомо всем возвращающимся на родину, мы не можем спать. В салон-вагоне нас окружают журналисты. Мы рассказываем о пережитом во время полета, об американских и европейских впечатлениях. Но всякий раз, когда я заканчиваю повествование о том или ином эпизоде, мною овладевает великая, осознанная радость возвращения в родную страну.
За окном глубокая ночь. Стоят уснувшие леса. Мелькают огни полустанков, разъездов, но перроны переполнены людьми. На коротких остановках мы говорим недолгие речи, но главное — их уже не надо переводить. Чудесная бессонная ночь!
Минск… Смоленск… Вязьма… Можайск…
На станции Можайск на ступеньки вагона поднялся взволнованный рабочий. Он радостно нас приветствовал. Оказывается, год назад на острове Удд он помогал расчищать площадку для взлета нашего самолета.
Поезд трогается дальше. Скоро Москва. Далеко позади осталась чужая Европа, свежий запах родных полей врывается в раскрытые окна вагона…
В. 16 часов 13 минут 24 июля экспресс подошел к перрону московского вокзала. Над привокзальной площадью плыли звуки «Интернационала». После короткого митинга мы со своими родными сели в автомобили и направились по улице Горького, заполненной тысячами москвичей, к Боровицким воротам Кремля…
Глава девятая Будни флаг-штурмана
Итак, вернувшись из Америки, я уже не застал комкора В. В. Хрипина. На его место заступил Герой Советского Союза В, С. Хользунов. Значительно моложе своего предшественника, с меньшим организаторским опытом, но опытом боевой работы в Испании, наш новый командующий оказался человеком общительным, но недостаточно уравновешенным, решения принимал быстрые, да не всегда обдуманные.
С окончанием испанских событий в авиации, как и во всех родах войск, проходила замена военных руководителей людьми, имеющими опыт войны. Сменили и флаг-штурмана ВВС комбрига Стерлигова. На его место заступил «испанец» штурман эскадрильи Г. М. Прокофьев. За отличную бомбардировку и вывод из строя крупного корабля противника он получил звание Героя Советского Союза. Однако Гавриилу Михайловичу столь головокружительное повышение по служебной лестнице было не по душе, и он настоял, чтобы до поры до времени комкора Стерлигова не отпускали с должности флаг-штурмана. Таким образом, несколько месяцев на этой должности числилось одновременно двое.
К этому времени меня и Хользунова ввели в состав Главного военного совета.
На одном из совещаний в Кремле, где присутствовал Сталин, было сформулировано задание для АОН: произвести полеты групп бомбардировщиков ТБ-3 и ДБ-3 на предельный радиус действия. Но в первую очередь это выполнить на самолетах ВВС Дальневосточного округа. Хользунов вызвался организовать такие вылеты. Нарком К. Е. Ворошилов высоко оценивал подвиги Виктора Степановича, он подтвердил, что сначала надо подготовить группу на Дальнем Востоке, совершить с нею полет через Охотское море на Камчатку, там отбомбиться и вернуться обратно. Задание это было очень серьезное: ведь расстояние от Николаевска-на-Амуре до Петропавловска на Камчатке около 1200 километров. А учитывая расположение аэродромов и полигона, радиус полета составит не менее 1400–1500 километров. Все это я отчетливо представлял на опыте нашего полета в 1936 году.
Хользунов быстро убыл. Мне на время его отсутствия поручили командовать АОН, Впервые встала задача командовать таким крупным авиационным соединением. Но состояние частей я знал хорошо. Некоторые из них только начали переучиваться на ильюшинский ДБ-3, другие перешли на СБ, как на временный самолет. Для летного состава ДБ-3 был новостью: два мощных мотора воздушного охлаждения (вместо четырех — жидкостного), каждый 14-цилиндровая двухрядная звезда, убирающееся шасси, мощные закрылки для сокращения посадки, новое оборудование, вооружение. И главное — летчик один, а не два, как это было на ТБ-3. Технический же состав переучивался на заводе, принимал матчасть, затем на своем аэродроме устранял все время возникавшие новые дефекты. Ильюшинские машины только что осваивались нашей промышленностью, поэтому на них и было много мелких и крупных недоделок. Надежность полетов для начала оказалась очень малой.
Однако мне, так же как и Хользунову, была поставлена задача организации полетов на предельный радиус. И вскоре начались неприятности.
Присутствуя как-то на совещании летного состава и представителей авиационной промышленности, я стоял вблизи Сталина и Ворошилова, когда к ним подошел летчик-испытатель Владимир Константинович Коккинаки. Всем было известно, что Володя испытывает машины Ильюшина. Когда Сталин спросил: «Ну, как дела с самолетом ДБ-3?», он ответил: «Пошел в серию. Только вот в частях ВВС плохо на нем летают…»
Я почувствовал в этих словах камень в наш огород, — дескать, плохо осваивают — и решил сказать, что самолет этот еще не доведен — на нем много дефектов, что и задерживает освоение. Но Ворошилов встал между мною и Сталиным и не дал мне сказать.
На следующий день нарком вызвал меня, сильно отругал за «неуместное обращение к Сталину» и моих оправданий не пожелал слушать. А задача дальних полетов продолжала стоять. Мы к ней напряженно готовились. Для ее выполнения я выбрал маршрут: от района Москвы до середины Черного моря, там — разворот на восток, выход на полигон на территории Северного Кавказа, оттуда — домой. Готовились две группы: одна на ТБ-3 с высотой бомбометания 5000 метров, другая на ДБ-3 — высота 8000 метров.
Оба вылета состоялись. Только результаты были неважные. У одного из самолетов ТБ-3 на обратном пути отказали двигатели, и часть экипажа выбросилась на парашютах, при этом двое получили ранения. А девятка ДБ-3 в воздухе вообще не собралась: самолеты шли на разных высотах, некоторые не смогли набрать заданную высоту и бомбили одиночно. На обратном пути по возникшей неисправности техники два экипажа совершили вынужденные посадки.
Да, «покоряя пространство и время», мы несли и потери. Вслед за перелетами в Америку нашего экипажа и экипажа М. М. Громова 12 августа 1937 года по маршруту Москва — Фербенкс отправился экипаж в составе командира корабля С. А. Леваневского, летчика-испытателя Н. Г. Кастанаева, штурмана В. И. Левченко, бортмехаников Н. Н. Годовикова, Г. Т. Побежимова и бортрадиста Н. Я. Галковского. Пройдя Северный полюс, четырехмоторный цельнометаллический самолет конструкции В. Ф. Болховитинова потерпел катастрофу.
Радиостанции, которые держали связь с экипажем С. А. Леваневского, сообщали, что у самолета отказал один из моторов, затем он попал в мощную облачность, где началось обледенение. Последние принятые с борта радиограммы оборвались внезапно, и можно было предположить, что экипаж погиб или потерпел аварию при посадке.
Начались поиски самолета. Более двух месяцев опытнейшие полярные летчики обследовали десятки квадратных километров Ледовитого океана, начиная от острова Рудольфа. Но никаких следов обнаружить не удалось. В этой катастрофе погиб и Виктор Левченко, с кем мы вместе учились летать на Каче.
В феврале 1938 года новая трагедия: потерпел аварию дирижабль В-8, летевший снимать с льдины экспедицию Папанина. Погиб весь экипаж.
Много лет минуло, но до сих пор не могу без боли вспоминать эти события, людей — отчаянно смелых, одержимых страстным желанием постичь неизведанное, верных долгу. А уж с чем никак не могу свыкнуться всю жизнь, что навсегда тяжелым камнем легло на сердце, — это гибель Валерия Чкалова.
После перелета через Северный полюс в Америку Валерий Чкалов был с энтузиазмом встречен нашим народом. Поездки по стране, выступления, встречи с трудящимися республик. Затем первые общенародные выборы в Верховный Совет СССР: весь чкаловский экипаж был выдвинут кандидатами в депутаты высшего органа власти. Валерий тогда баллотировался в депутаты Совета Национальностей, и несколько миллионов избирателей отдали за него свои голоса. Но и в зените славы комбриг Чкалов не прекращал тяжелой и опасной работы простого летчика-испытателя.
В конце 1938 года на одном из авиационных заводов готовился к испытаниям новый скоростной истребитель И-180 конструкции Н. Н. Поликарпова с мотором воздушного охлаждения. Более мощный по вооружению, более живучий и маневренный, чем предшественник «ишачок» — И-16, этот самолет проектировался с учетом опыта воздушных боев в Испании и на Халхин-Голе. На высоте 7000 метров он должен был развивать скорость 585 километров в час, значительно опережая лучшие зарубежные образцы.
И вот 15 декабря на Центральном аэродроме собрался заводской люд, чтобы посмотреть первый полет своей новой машины.
Стоял зимний морозный день. С утра было градусов двадцать пять, а когда взошло солнце, стало полегче. Морозная дымка рассеялась. Валерий привычным движением затянул летный шлем и шагнул к машине. По заданию ему предстояло набрать высоту 400 метров, сделать над аэродромом полет по кругу, а со второго захода произвести посадку. Ничто не предвещало несчастья.
Свидетели видели безукоризненный чкаловский взлет. Но на посадочном курсе многие заметили, что самолет снизился раньше времени и при попытке летчика «подтянуть» мотор не забрал, — очевидно остыл при сильном морозе. Кругом были дома, разные строения. Избегая лобового удара в стену, Валерий направил машину на какой-то рабочий двор и свалил ее на крыло.
Удар пришелся о штабель досок, запорошенных снегом. Чкалова выбросило из полуразрушенного самолета на груду железного лома. И не стало великого летчика нашего времени…
Странная вещь память. До мельчайших интонаций она сохранила фразу, сказанную как-то Валерием, которая потом, уже после его гибели, вдруг оказалась для меня главной: «А знаешь, Саша, чертовски здорово — просто жить!..»
Что это? Предчувствие? Не знаю. Скорее, эти слова запомнились потому, что Чкалов погиб. А если бы жизнь его продолжалась, то в памяти осталась бы какая-нибудь другая фраза. А та прошла бы незамеченной…
Однако я опять забежал вперед. Ведь еще только приближалась осень. Из-за непогоды планируемый Хользуновым полет боевых машин на полный радиус их действия был отменен. Виктор Степанович вернулся в Москву. Вскоре Главный военный совет, подводя итоги боевой подготовки войск за год, рассматривал и подготовку авиации особого назначения. Многие интересовались полетами бомбардировщиков на предельный радиус. Докладывать об этом пришлось мне. А некоторое время спустя Хользунов объявил, что АОН разукрупняется и что с января 1939 года я буду назначен флаг-штурманом ВВС.
Г. М. Прокофьев флаг-штурманом пробыл около года. Работали они со Стерлиговым дружно. Гавриил Михайлович старательно перенимал опыт руководства, а затем стал начальником Полтавских курсов усовершенствования штурманов, созданных по его же инициативе.
Смена руководства в эти трудные годы коснулась и высшего командного звена. Так, начальником ВВС после Я. И. Алксниса стал комкор Лактионов. Раньше он командовал стрелковым корпусом, но, обладая большим общевойсковым опытом, в делах авиации чувствовал себя, конечно, недостаточно уверенно. Поэтому по работе мне чаще приходилось обращаться к заместителю начальника ВВС Я. В. Смушкевичу.
Опытный авиационный командир Герой Советского Союза Яков Владимирович тоже недавно вернулся из Испании. Обаятельный, интеллигентный, он был там главным военным советником республиканской авиации под псевдонимом «генерал Дуглас». С его помощью мне удалось сделать очень многое: утвердить руководящий аппарат штурманской службы в составе четырех отделений штурманского, бомбардировочного, радионавигационного, картографического, затем укомплектовать их опытными офицерами. За зиму я успел подготовить и свою диссертационную работу по дальним полетам и успешно защитил ее, Высшая аттестационная комиссия присвоила мне ученую степень доктора географических наук и ученое звание профессора штурманского дела. Все это вызывало чувство благодарности за внимание командования к штурманской службе. К великому нашему огорчению, весной 1939 года произошло большое несчастье.
К майским праздникам мы готовили воздушный парад. Смушкевич руководил подготовкой, собирался лететь на флагманском самолете ТБ-3, а я был главным штурманом парада. До 1 мая оставалось несколько дней, когда, испытывая самолет конструкции Хиони, Яков Владимирович потерпел аварию. Тяжело раненный, с многочисленными переломами костей, летчик был на краю гибели, но выстоял. Вскоре он был назначен командующим авиационной группой советских войск в боевых действиях на реке Халхин-Гол.
«Нарушив границу Монгольской Народной Республики, 120 японских самолетов произвели первое крупное нападение. Для отражения этого удара в воздух было поднято 95 истребителей. Наша авиация завоевала господство в воздухе и прочно удерживала его до конца военных действий, в результате чего авиация противника не смогла оказывать решающего влияния на наступление советско-монгольских войск.
Бои на реке Халхин-Гол завершились победоносно. Наши летчики здесь впервые в мире применили новый вид авиационного оружия — реактивные снаряды. Важную роль сыграла бомбардировочная авиация, которая вела боевые действия не только днем, но и ночью. В целом противник потерял во время этих боев 660 самолетов.
«Часто я вспоминаю с солдатской благодарностью замечательных летчиков товарищей С. И. Грицевца, Г. П. Кравченко, В. М. Забалуева… и многих, многих других, — писал Маршал Советского Союза Г. К. Жуков. — Командир этой группы Я. В. Смушкевич был великолепный организатор, отлично знавший боевую летную технику и в совершенстве владевший летным мастерством». За боевые подвиги на Халхин-Голе Я. В. Смушкевич, С. И. Грицевец и Г. П. Кравченко первыми в нашей стране получили вторую Золотую Звезду Героя Советского Союза.
Между тем обстановка в мире продолжала накаляться. Весной 1939 года на XVIII съезде партии, на котором я был делегатом от саратовских коммунистов, прямо говорилось об опасности новой войны, о новом переделе мира, сфер влияния, колоний путем военных действий. Предостережение оказалось пророческим. 1 сентября 1939 года нападением фашистской Германии на Польшу началась вторая мировая война.
А мы, едва успев закончить освобождение Западной Украины и Западной Белоруссии, подверглись новой провокации. За последние годы вдоль границы с Советским Союзом белофинское правительство возводило мощное укрепление — так называемую линию Маннергейма. Широкий размах приняли тогда боевые действия авиации. В сложных метеорологических условиях — при частых метелях, снегопадах — наши летчики, обеспечивая продвижение сухопутным войскам, совершили свыше 84 тысяч самолето-вылетов. Командовал авиацией Ленинградского военного округа комкор Е. С. Птухин.
Зима, помнится, наступила ранняя. Ударили крепкие морозы, В районе Финского залива образовалась дымка, а над землей повисли густые туманы. Нас беспокоила беспомощность авиации: в такую погоду летать было почти невозможно. Тогда я предложил сформировать полк с летным составом, подготовленным для боевых действий в сложных метеоусловиях. И начать действовать — хотя бы одиночными самолетами. Предложение было принято.
Вместе со Смушкевичем мы переехали в Ленинград. Яков Владимирович чувствовал себя плохо: у него медленно заживали ноги, переломанные во время аварии на опытном самолете. Но, отказавшись от госпитализации, он остался на посту. Следом за нами в Ленинград прибыл Стерлигов с подробным планом создания и вооружения специального авиаполка. Появились самолеты, оснащенные радионавигационной аппаратурой, автопилотами, оборудованием, необходимым для слепого полета. И полк включился в боевую работу: из 76 суток пребывания на фронте 68 дней и ночей летчики летали на выполнение боевых заданий. Было совершено более 300 вылетов. Другие авиачасти, не имевшие совершенного оборудования, из-за непогоды действовали менее успешно.
Когда Смушкевич вернулся в Москву, после доклада наркому обороны об итогах действия авиации, было принято решение о создании новой Военной академии командного и штурманского состава (ныне Военно-воздушная академия имени Ю. А. Гагарина). Меня тогда назначили заместителем начальника академии по учебной и научной работе.
— Ваша задача, товарищ Беляков, — напутствовал меня Смушкевич, теперь уже начальник ВВС, — подготовить гарнизон к лагерному периоду, а затем и к началу первого учебного года. Принимайте аэродром, жилой городок, имущество для новой академии. Желаю успеха! — И комкор пожал мне руку.
Я давно мечтал вернуться в академию. Размеренная, строго по расписанию жизнь высшего учебного заведения, возможность научной работы — все это соответствовало моему характеру.
События международной жизни развивались с ужасающей быстротой. После оккупации Польши гитлеровскими войсками правительства Англии и Франции, связанные с ней договорами, были вынуждены объявить войну Германии. Но империалистические круги этих государств не оставляли надежды, что после захвата Польши Германия развяжет войну против Советского Союза. В сложившейся обстановке Советское правительство, последовательно проводящее политику мира, стремилось предотвратить войну или как можно дальше оттянуть столкновение с гитлеровской Германией, чтобы выиграть время для укрепления страны. Но Гитлер уже через два месяца после заключения пакта дал указание командованию вооруженных сил рассматривать захваченные районы Польши как «плацдарм для будущих германских операций». Это стало известно позже — из секретных архивов, из документов Нюрнбергского процесса над гитлеровскими военными преступниками.
В сентябре 1940 года под флагом борьбы с коммунизмом оформился «Тройственный пакт» — антисоветский военный блок, в который кроме Германии вошли Италия, Япония, позже — Венгрия, Румыния, Болгария, а также марионеточные государства Словакия и Хорватия. 18 декабря Гитлер подписал директиву «Барбаросса».
Гитлеровские стратеги предполагали одержать победу за полтора-два месяца в одной быстротечной кампании, для осуществления которой выделили 190 дивизий. С воздуха их поддерживали четыре из пяти воздушных флотов Германии, ВВС Финляндии и Румынии, имевшие в общей сложности 4980 самолетов. 250 аэродромов, 160 посадочных площадок на территории Германии, 100 аэродромов и 50 посадочных площадок в Польше обеспечивали немецким военно-воздушным силам рассредоточенное базирование, свободу маневра в любых направлениях. Гитлеровцы только ждали сигнала к вероломному нападению.
А как же мы?
Части западных приграничных округов никуда не выводились — готовились к обычной лагерной учебе. На своих постоянных аэродромах сидела и авиация, постепенно получая новые самолеты, качество которых заметно улучшилось. Многое делалось по подготовке кадров. Было, например, введено три типа военных авиационных школ с сокращенными сроками обучения: школы первоначального обучения с продолжительностью учебы в мирное время — четыре и в военное время — три месяца; школы военных пилотов со сроком обучения в мирное время — девять и в военное время — шесть месяцев; авиационные училища со сроком обучения в мирное время — два и в военное время — один год. К началу войны в стране действовали три военно-воздушные академии. Основной кузницей командно-штабных кадров с высшим военным образованием стала Военная академия командного и штурманского состава ВВС.
Продуктивно окончив организационные работы по созданию этого учебного заведения, осенью 1940 года я отдыхал в Судаке. Неожиданно вызов в Москву и приказ: вступить в новую должность — начальника 1-й высшей Рязанской авиационной школы штурманов. Рассуждать да справляться о причинах решения было некогда. Мой давний товарищ по аэронавигационной службе начальник штурманского факультета академии комкор И. Т. Спирин уже получил такое назначение — руководить в Иваново 2-й высшей авиашколой штурманов. Ясным было и для меня: надо торопиться с подготовкой кадров, готовиться к схватке с врагом.
А с Иваном Тимофеевичем Спириным мы уже долгие годы шли, так сказать, параллельными курсами. Да и судьбы наши армейские во многом были схожи.
В 1918 году, доброволец 9-го стрелкового полка, он защищает революцию от белогвардейцев Мамонтова. После ранения Спирин попадает в дивизион тяжелых воздушных кораблей «Илья Муромец», где продолжает боевую службу сначала аэрологом 2-го боевого отряда, потом — начальником технической части.
Но окончена гражданская война, расстаться с авиацией Иван Спирин никак не может и принимает решение учиться в школе летнабов. После школы испытательная работа в летном отделе, затем аэронавигационная лаборатория НИИ ВВС, где вместе с людьми, преданными штурманскому делу, Спирин разрабатывает методику самолетовождения по приборам — это надолго связывает нас общими заботами и проблемами.
В постоянном поиске нового, экспериментах, утверждениях Иван Тимофеевич часто выступает на конференциях и сборах по обучению летного состава строевых частей штурманскому делу, слепым полетам.
«…Мало уметь летать, надо уметь и прилетать, куда следует, поэтому штурманское дело должно быть представлено на линейном корабле с расчетом на точное и пунктуальное выполнение маршрута, даже без видимости земли», пишет он и упорно настаивает на обеспечении самолета аппаратурой для слепых полетов, На это Иван Тимофеевич имел основания: он был одним из тех, кто испытывал первый отечественный радиокомпас, наш первый авиагоризонт, позволяющий пилотировать в сложных погодных условиях, вне видимости земли.
Но в стране и за рубежом имя штурмана Спирина стало хорошо известно несколько позже — в тридцатых годах.
Помнится, летом 1929 года, когда шла — подготовка к перелету по Западной Европе, потребовалось испытать новый пассажирский самолет А. Н. Туполева АНТ-9. И Спирин в экипаже М. М. Громова совершил на этой машине скоростной испытательный перелет. 4000 километров они прошли тогда за 26 часов летного времени. Через два месяца на самолете К-4 «Червона Украина», сконструированном К. А. Калининым, экипаж в составе М. А. Снегирева, И. Т. Спирина и С. В. Кеглевича за 36 часов летного времени пролетел 5200 километров. Этот испытательный полет проходил по маршруту Харьков — Казань Курган — Новосибирск — Иркутск.
Особую же страницу в биографии Ивана Тимофеевича занял, как мы тогда называли его, «большой восточный перелет». Трем машинам Р-5 конструкции Н. Н. Поликарпова предстояло проверить свои конструктивные особенности в длительном полете при резко изменяющихся атмосферных условиях. Через Черное море, пустыни Средней Азии, Кавказский и Гиссарский хребты, Гиндукуш на высоте до 5500 метров — путь по тому времени дальний, трудный. Но ему придавалось большое значение.
Дело в том, что Москва тогда была связана воздушной линией только с одной восточной столицей — Кабулом. Ознакомительный перелет звена Р-5 через Турцию, Персию, Афганистан и предполагал открытие в будущем регулярного воздушного сообщения с соседними государствами. Понятно, что экипажи для такого дела отбирались очень тщательно. Звено Р-5 поручили возглавить одному из опытных летчиков страны — Феликсу Антоновичу Ингаунису. Штурманом организаторы этого ответственного перелета пригласили И. Т. Спирина. На двух других самолетах были летчики Ф. С. Широкий, Я. А. Шестель, инженер А. И. Мезинов и журналист М. Е. Кольцов.
Утром 4 сентября 1930 года краснозвездные машины, взлетев, взяли курс на Севастополь. Потом — Анкара, Тифлис, Тегеран, Термез, Кабул, Ташкент, Оренбург, Вольск, Москва — действительно «большой восточный перелет». 10 500 километров за 61 час 30 минут летного времени экипажи преодолели в исключительно сложных погодных условиях.
— Особые испытания выпали на долю штурмана Спирина, — отметил на встрече с народным комиссаром по военным и морским делам К. Е. Ворошиловым руководитель экспедиции Ф. А. Ингаунис. — Ведь благодаря его расчетам, отваге и мужеству мы проделали весь путь, нигде не сбившись с маршрута. И это несмотря на отсутствие всех необходимых карт, туманы, ненастье, ежедневно менявшуюся обстановку…
ЦИК Союза ССР наградил участников перелета орденами Красной Звезды. Ивану Тимофеевичу вручили орден за номером 6.
Не случайно, когда впервые был задуман полет на Северный полюс, флаг-штурманом небывалой экспедиции опять назначили И. Т. Спирина. «В полярной авиации Севморпути есть прекрасные штурманы, великолепно знающие дело, — писал академик О. Ю. Шмидт, — но в целом задача была столь трудной и новой, она требовала творческого решения на месте новых теоретических проблем, что я пригласил штурмана-теоретика, профессора, автора многих трудов и в то же время великолепного практика штурмана-летчика, — одним словом, И. Т. Спирина».
За мужество и героизм, проявленные при выполнении этого задания, флаг-штурман И. Т. Спирин вместе с другими отличившимися участниками экспедиции был отмечен Золотой Звездой Героя Советского Союза. А в конце 1938 года Комитет по высшей школе при Совнаркоме СССР за многолетнюю научную и педагогическую деятельность присвоил ему звание профессора и присудил ученую степень доктора географических наук.
Но и в зените славы Иван Тимофеевич оставался по-прежнему простым и доступным, немногословным и сдержанным — каким его знали многие пилоты и штурманы по совместной работе.
«Есть люди, у которых похвала вызывает преувеличенное мнение о себе. Первый успех порождает в них успокоение. На славу они смотрят, как рантье на облигацию, с которой можно стричь всю жизнь купоны. И есть люди, которых восхваления смущают, а подчас удивляют. Они умеют забывать о своих заслугах, и ничто не может выбить их из колеи труда, который сам по себе является для них высшей наградой. К последней категории относится Спирин, — писала об Иване Тимофеевиче «Правда». — В 1930 году Спирин получил первый орден за перелет Москва — Анкара — Тегеран — Кабул и обратно. Нарком обороны пригласил участников полета к себе. В кабинете появился фотограф, чтобы снять наркома с участниками полета. Спирин робко встал позади всех, и наркому пришлось вытащить его за руки: «Вы что же, прячетесь? Сюда давайте!»
Перед лицом почестей Спирин склонен свою персону припрятать, затушевать. Там, где почести, он — последний. Зато там, где трудности и опасности, он — первый…
Трудных испытаний в жизни на нашу долю хватало. К ним мы были по-солдатски готовы в любую минуту.
Получив приказ наркома обороны о сформировании школы, на следующий же день я вылетел в Рязань, город, который оставил двадцать пять лет назад. Для сформирования школы нам предоставлялся небольшой аэродром, на котором базировался резервный авиационный полк, занимавшийся слепыми полетами. Командир этого полка комбриг Э. Шахт встретил меня очень любезно. Мы с ним были знакомы уже несколько лет.
Эрнст Шахт — уроженец Швейцарии, коминтерновец. Говорил он с немецким акцентом, по-немецки же был аккуратен, педантичен. Еще юношей Шахт включился в революционную борьбу, и в 1922 году ему пришлось эмигрировать в Советскую Россию. Обучившись у нас летать, он бесстрашно воевал с басмачами, на стороне революционных войск в небе Китая. Одним из первых был удостоен звания Героя Советского Союза за подвиги в Испании.
В гарнизоне, как оказалось, меня уже ожидали мои заместители. Мы подписали приемо-сдаточный акт (полк Шахта переводили на другой аэродром) и задумались, как же разместить в крохотном гарнизоне 5000 человек личного состава, 5 эскадрилий дальних бомбардировщиков ДБ-3 по 20 самолетов, эскадрилью ТБ-3, звено управления, 5 рот слушателей.
Началось массовое прибытие людей, назначенных в школу, и с каждым днем становилось все яснее, что на этом аэродроме нам не разместиться. Определяя вероятные трудности, мы искали меры к их преодолению. В первую очередь я решил поехать в Москву к начальнику ВВС П. В. Рычагову.
Еще летом 1939 года комкор Смушкевич был перемещен на должность главного инспектора по авиации при наркоме обороны. На его место с Дальнего Востока прилетел П. В. Рычагов, тоже участник боев в Испании. Он быстро прошел должности командира эскадрильи, бригады, командующего ВВС ДВО, где отличился в руководстве боевыми действиями авиации против японцев у сопки Заозерной. Но командовать авиацией всей страны было, конечно, потруднее.
Как-то его вызвал в Кремль Сталин и спросил, как начальника ВВС, сколько надо заказать промышленности таких-то самолетов. Рычагов, не долго думая, назвал довольно большую цифру. Сталин помолчал, недоверчиво посмотрел на Рычагова, но не возразил.
Вскоре для развертывания школы я просил у Рычагова гарнизон, располагавший большими фондами:
— Ведь соберется много людей, которых надо обучить штурманскому делу, искусству бомбометания. Для решения поставленной задачи нужны героические меры…
— Знаешь что? Трудности нам известны. Если ты недоволен — ступай сам в правительство и докладывай. А что касается «героических» мер, так ты Герой тебе и карты в руки!
И все же Рычагов старался ободрить меня, пообещал всяческую помощь — в первую очередь исправить задачу школы: готовить 500 штурманов и переучивать 500 летчиков.
Я отправился к командующему войсками МВО маршалу С. М. Буденному. У него помощь была более реальная. Семен Михайлович распорядился отвести для нашей школы две казармы и два жилых дома в старинном пехотном городке. Кроме того, приказал передать нашей школе еще один дом.
— Вот все, чем могу помочь! Все это временно. А вы добивайтесь нового строительства — идите сегодня же к наркому обороны.
И Семен Михайлович позвонил С. К. Тимошенко по телефону — договорился о времени встречи.
Нарком обороны принял меня «на скоростях».
— Что у вас фондов кот наплакал — это нам известно. Средства для строительства школы выделим на сорок первый год, но начать работу надо немедленно. По всем остальным вопросам поезжайте в тыл, к Хрулеву.
Разговор у Хрулева был в основном по житейским делам: топливо, вода, канализация, белье, обмундирование, транспорт. При мне Андрей Васильевич вызвал строителей, и мы тут же договорились: в первую очередь построить столовую для летного состава, заложить два жилых дома, казарму на 750 человек, а весной строить большой лагерь на 1500 человек со стационарными палаточными гнездами, водой, навесами для занятий, открытым клубом. Я, конечно, и не предполагал, как этот лагерь нам пригодится летом, в начале войны.
Пришлось руководству штурманской школы решить немало и других проблем: о поступлении самолетов, горючего и смазочных материалов, аэродромной техники, о расширении аэродромов, укомплектовании учебных эскадрилий личным составом. И 1 января 1941 года мы начали занятия и полеты.
Зима выдалась снежная. Но чтобы не терять времени и летать, мы смастерили самодельные волокуши из тяжелых бревен и, уплотняя снег, таскали их тракторами по взлетным полосам и рулежным дорожкам. Другой техники не было.
По личному плану за зимний период я решил изучить устройство новых для меня самолетов. «Начальник авиашколы должен летать не хуже своих учеников», — вспоминались слова Алксниса, и весной я вылетел самостоятельно на УТ-2, ПС-84, ДБ-3ф (Ил-4).
Особенно запомнился мне ильюшинский самолет. С двумя двигателями М-88Б на высоте 6000 метров он достигал скорости 445 километров в час. Потолок его был до 9400 метров. Дальность полета, в зависимости от боевой нагрузки, — до 4000 километров. А брал ДБ-3ф 1500 килограммов бомб: внутрь фюзеляжа десять фугасных, зажигательных или осветительных бомб и две наружной подвески — по 250 килограммов. В особых случаях на наружную подвеску за счет бензина можно было брать две бомбы по 500 килограммов. Экипаж этой машины состоял из четырех человек: летчик (командир), штурман, стрелок-радист и воздушный стрелок. Весьма внушительной была огневая мощь дальнего бомбардировщика. На турели стрелка-радиста устанавливался спаренный пулемет или пушка. Пулемет устанавливался и в бронированной кабине воздушного стрелка, чья задача была отражать атаки противника с задней полусферы. Кабины летчика и штурмана имели достаточное навигационно-пилотажное оборудование. Летать ДБ-3ф мог на широковещательную, приводную радиостанции, определять пеленги, получать место самолета вне видимости земли.
Серьезным недостатком ДБ-3ф была плохая продольная устойчивость в воздухе. Он легко задирал или опускал нос и, случалось, непроизвольно переходил в отвесное пикирование. В школе этот недостаток приносил много неприятностей. Словом, машина походила на норовистую лошадь — хорошо идет, но держи ее в строгости.
Все эти тонкости я освоил, полюбил ильюшинский самолет и часто летал на нем со своим постоянным экипажем. В годы войны бомбардировщик ДБ-3ф стал основной боевой машиной дальней авиации и авиации Военно-Морского Флота. На этих самолетах 7 августа 1941 года морские летчики нанесли бомбовый удар по Берлину. Двое из них — Герои Советского Союза штурманы В. И. Малыгин и В. И. Щелкунов позже работали в нашей школе.
А в феврале памятного сорок первого мне еще пришлось поехать в Москву, в Кремль. Созывались все недавно назначенные командиры авиационных корпусов, дивизий и школ. Выступал Сталин. Он перечислил нам новые самолеты, запущенные в серийное производство. По каждому типу назвал основные тактико-технические данные: скорость, потолок, вооружение. Когда дошел до самолета-штурмовика Ил-2 конструкции С. В. Ильюшина, подчеркнул:
— Такого бронированного самолета, способного поражать цели с малых высот, в зарубежных армиях нет. А мы, взвесив все «за» и «против», решили пустить его в серию — и штурмовик уже выпускается.
Прощаясь с нами, Сталин напутствовал:
— Переучивайте летчиков, штурманов и техников на новые типы самолетов как можно быстрее. А тактические задачи решайте на Германию…
Это выражение «на Германию» я услышал впервые. Конечно, рассуждал про себя, Сталин и правительство правильно оценивают обстановку в Европе и, видно, не очень-то надеются на соблюдение немцами договора о ненападении.
Генерал И. Ф. Петров рассказывал мне, что, возвращаясь из Германии, он и его спутники видели на железных дорогах массовую переброску войск с запада на восток — на территорию Восточной Пруссии и Польши. Эшелоны с боевой техникой гитлеровцев — танками, артиллерией — 190 вооруженных до зубов дивизий шли к нашим границам…
Вернувшись из Москвы, мы активизировали постройку летнего лагеря, пересмотрели школьные программы и классные занятия старались направлять на выполнение экипажами боевых заданий в любых условиях дня и ночи. Предусматривались полеты в район цели по кратчайшему расстоянию ортодромии, на предельный радиус действия. Для этого были разработаны правила использования магнитных и радионавигационных приборов, применения наземных приводных станций, пеленгаторов. Провели мы с личным составом школы и военную игру. Тема ее диктовалась обстановкой — боевые действия авиации в начальный период войны. Готовясь к ней, летчики, штурманы изучали силуэты, тактико-технические данные немецких самолетов, При этом каждый убежденно считал, что в случае войны наша авиация немедленно нанесет сокрушительный удар и действия наземных войск в кратчайшие сроки перенесутся на территорию врага.
Невольно припоминается по этому поводу книга Н. Шпанова «Первый удар. Повесть о будущей войне», вышедшая в свет в 1939 году. События в ней развиваются 18 августа. Во время традиционного воздушного парада на глазах у зрителей устанавливается мировой рекорд высоты.
«— Мы знаем: в тот же миг, когда фашисты посмеют нас тронуть, Красная Армия перейдет границы вражеской страны… — сразу после рекорда держит речь мировой рекордсмен и популярно выкладывает военную доктрину: — Красная Армия ни единого часа не останется на рубежах, она не станет топтаться на месте, а стальной лавиной ринется на территорию поджигателей войны. С того момента, как враг попытается нарушить наши границы, для нас перестанут существовать границы его страны. И первыми среди первых будут советские летчики!»
Но вдруг над аэродромом голос диктора:
" — …Всем, всем, всем! Сегодня, 18 августа, в семнадцать часов, крупные соединения германской авиации перелетели советскую границу. Противник был встречен частями наших воздушных сил. После упорного боя самолеты противника повернули обратно, преследуемые нашими летчиками…»
Фантазии автора хватило на то, чтобы за один день расправиться с германской авиацией. Отважусь привести любопытный хронометраж войны — по Н. Шпанову:
17.00 — самолеты врага пересекли границу СССР.
17.01 — уже воздушный бой.
Еще 29 минут — и последний германский самолет выдворен из наших пределов.
В 19.00 для удара по аэродромам противника вылетают штурмовики, через 20 минут — 720 скоростных дальних бомбардировщиков и разведчиков.
К исходу дня результат: за тысячу километров от нашей границы синим огнем горят склады «Фарбениндустри», к небу вздымаются ядовитые газы и заводы взрывчатых веществ, перебито 55 процентов «мессершмиттов», 45 процентов «Арадо-Удет», 96,5 процента бомбардировщиков «Хеншель». Немецкие рабочие на авиационном заводе «Дорнье» ожидают, когда наконец-то будут сброшены на их завод, в котором они находятся, советские бомбы, и поют при этом «Интернационал»…
Не один я с горечью вспоминал подобные книжки в первые-то дни настоящей войны. Тем мучительнее было сознавать наши серьезные просчеты — не только в фантастической литературе.
«…За первую половину 1941 года было зафиксировано 324 случая нарушений воздушной границы СССР фашистскими самолетами»[18]. Ведя воздушную разведку, гитлеровская авиация проникала в глубь нашей территории порой до 300–350 километров. Открывать огонь по самолетам-нарушителям запрещалось, но иной раз наши пилоты перехватывали немецких разведчиков и принуждали их к посадке. Так, в апреле под Ровно посадили разведчик Ю-86. На нем обнаружили три фотоаппарата и на фотопленке заснятые железнодорожные узлы на участке Киев — Коростень[19]. В мае и июне, накануне войны, гитлеровцы уже отвечали огнем на требования наших перехватчиков идти на посадку.
В такой вот обстановке подошел очередной выходной день — воскресенье 22 июня 1941 года.
Глава десятая На боевом курсе
Утром московское радио, как обычно, передавало урок утренней гимнастики, пионерскую зорьку. Затем — последние известия: с сообщениями о достижениях передовиков труда. А в это время в Берлине появились экстренные выпуски газет, в которых уже были напечатаны первые фотографии с фронта. «С болью в сердце мы разглядывали наших бойцов — раненых, убитых… вспоминает секретарь нашего посольства В. М. Бережков. — В сводке германского командования сообщалось, что ночью немецкие самолеты бомбили Могилев, Львов, Ровно, Гродно и другие города…» Не только города. Немецко-фашистская авиация подвергла массированным налетам 66 наших аэродромов, узлы железных дорог, военно-морские базы, группировки войск. От Баренцева до Черного моря развернулось сражение, какого не знала история.
В полдень мы услышали по радио знакомый голос наркома иностранных дел В. М. Молотова:
«Сегодня, в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбежке со своих самолетов наши города — Житомир, Киев, Севастополь, Каунас и некоторые другие, причем убито и ранено более двухсот человек…»
Что же тогда помешало нам привести в полную боевую готовность авиацию? Оперативная, а вместе с нею и тактическая неподготовленность наших соединений к нападению Германии, по моему мнению, была ошибкой Сталина в определении сроков конфликта. Его субъективная точка зрения о возможном столкновении усугублялась и непростительной сменой военного руководства, которое уже не высказывало своих суждений решительно и твердо.
В апреле от должности начальника Главного управления ВВС был освобожден П. В. Рычагов. На этот пост назначается новый руководитель — который по счету! — генерал-лейтенант авиации П. Ф. Жигарев.
Павел Федорович в прошлом кавалерист. Учился в свое время в Военно-воздушной инженерной академии имени Н. Е. Жуковского. Я его хорошо знал. В первые же дни войны он позвонил мне по телефону в Рязань и в порядке очевидной спешности приказал:
— К вам в школу, товарищ Беляков, в ближайшее время прибудет в полном составе истребительная авиационная дивизия полковника Туренко. Дивизия базировалась в Прибалтике и осталась «без лошадей». Ваша задача: переучить весь личный состав дивизии полетам на новом типе самолета и отправить на фронт.
Я выслушал и спросил:
— А вы, Павел Федорович, разве не помните, что у меня школа не истребительная, а бомбардировочная? У меня даже нет летчиков, летающих на истребителях.
Жигарев помолчал, затем решительно отрубил:
— Вы слышали меня? Вот и исполняйте. Полковника Туренко сделайте своим помощником!
Словом, перед лицом смертельной опасности, которая нависла над Родиной, нам было не до анализа причин случившегося. И признаюсь, внезапность нападения с первых часов войны сказывалась на нашей работе. На смену привычным действиям по заранее разработанным планам и инструкциям пришла лихорадочная спешка, приводившая нередко к ошибочным распоряжениям. Казалось, что час промедления в данной ситуации равнозначен новым километрам потерянной территории, новым жертвам. Однако вскоре эффект внезапности начал притупляться, ослабевать. Работа становилась все более организованной и четкой.
А пламя войны разгоралось. С тяжелыми оборонительными боями наша армия отходила на восток. Сражения уже разворачивались под Одессой, Киевом, Смоленском, Ленинградом. И в нашу школу все прибывали и прибывали летчики и техники истребительной авиадивизии, о которой говорил Жигарев. Вот тут-то и пригодился для них наш летний лагерь.
А как быть с переучиванием? Подумав, я предложил сократить в штате школы одну бомбардировочную эскадрилью и за счет ее ввести две учебные эскадрильи истребителей. В штабе ВВС согласились, быстро оформив идею соответствующей директивой. Тут же было отдано распоряжение укомплектовать новые эскадрильи инструкторским и техническим составом, а также перегнать к нам учебно-тренировочные самолеты УТИ-4.
Отыскав на колхозных полях и в пойме Оки площадки для полевых аэродромов, мы начали через несколько дней новые для нас учебные занятия, затем полеты.
Между тем в школу продолжали прибывать летчики и техники других частей. Уже давно отправили на фронт на новых самолетах дивизию Туренко, а «безлошадные» все шли и шли. Война требовала новых и новых сил. В школе все это хорошо понимали и трудились, не считаясь со временем.
В такой необычной для нас обстановке за три месяца мы подготовили и отправили на фронт 15 истребительных авиационных полков. В это же время шла напряженная работа по формированию полка дальних бомбардировщиков. 51 экипаж, составленный из постоянного и переменного состава школьных эскадрилий, совершал учебно-тренировочные полеты по маршрутам, на бомбометание. Погода для такой работы летом сорок первого стояла хорошая. Но вот с фронтов то и дело стали приходить сообщения о случаях потери ориентировки.
В оперативных отделах всегда можно узнать общее количество совершенных боевых вылетов и определить меру надежности самолетовождения. Так, перед войной один случай потери ориентировки приходился на 650 самолето-вылетов, а к августу 1941 — уже на 100. Значит, надежность самолетовождения, несмотря на хорошую погоду, понизилась более чем в шесть раз. Задуматься было над чем, и в подготовке штурманов мы многое пересмотрели.
В этот период наша дальнебомбардировочная авиация геройски сражалась с врагом на всех фронтах. Перед войной немало полков прошли обучение боевым действиям в составе групп на больших высотах, днем и ночью могли наносить удары по крупным вражеским объектам. Сейчас эти части использовались главным образом для нанесения бомбовых ударов по подвижным колоннам. С 23 июня по 10 июля дальнебомбардировочная авиация совершила 2112 боевых самолето-вылетов[20]. Действовали бомбардировщики с небольших высот — 1000 2000 метров. Истребительного прикрытия обычно не было. Поэтому 3-й авиационный корпус полковника Н. С. Скрипко и его 42-я авиадивизия несли огромные потери.
Так, 26 июня с боевого задания не вернулись 43 экипажа на самолетах ДБ-3ф[21]. Не случайно директивой Ставки Главнокомандования от 3 июля 1941 года дальнебомбардировочная авиация была переведена на боевые действия ночью, а днем — на большие высоты.
В первой половине июля три эскадрильи нашего школьного полка были подготовлены к боевой работе. Я получил распоряжение отправить их на аэродром Оптуха, близ города Орла, для пополнения 207-го бомбардировочного авиаполка. Мы уже многое слышали об этой боевой части.
25 июня 1941 года экипажи бомбардировщиков полка под командованием подполковника Г. В. Титова нанесли сокрушительный удар по Виленскому аэродрому: сорок гитлеровских истребителей не успели взлететь. На следующий день вместе с частями 3-го дальнебомбардировочного авиакорпуса они сдерживали движение моторизованных войск противника в районе Молодечно, Ошмяны, Крево, Радошкевичи. 254 самолето-вылета совершили тогда экипажи 207-го полка.
Во время одной из атак снарядом зенитной артиллерии был поврежден самолет командира 4-й эскадрильи капитана Н. Ф. Гастелло. Возник пожар. Летевшие рядом заместитель командира эскадрильи старший лейтенант Федор Воробьев и штурман лейтенант Анатолий Рыбас видели, как объятая пламенем машина развернулась на скопление немецких танков и бензоцистерн и вошла в пикирование. Капитан Н, Ф. Гастелло и члены экипажа лейтенанты А. А, Бурденюк, Г. Н. Скоробогатый, старший сержант А. А. Калинин отказались прыгать с парашютом и до последней роковой секунды вели по врагу огонь из пылающей машины.
Мы все были восхищены этим подвигом, И когда нам переслали письмо отца Николая Гастелло, которое он прислал командиру авиаполка, зачитывали его во всех подразделениях. Вот оно:
«…Фамилию нашу правильно писать «Гастылло». Это потом, когда в тысяча девятисотом пришел на заработки в Москву, меня по-московски стали называть «Гастелло».
Происхождение наше из-под города Новогрудок, деревенька Плужжны.
Сырая земля в тех местах: очень много крови впитала. В девятьсот четырнадцатом и в гражданскую тоже фронт был, как теперь.
Я все думал, нашу деревеньку сровняли с землей. Нет, стоит. Летом перед самой войной Николаю случилось над теми местами летать. Прислал письмо.
«Ну, папа, — пишет, — вчера Плужины с воздуха разглядел. Только очень высоко летел. Вот какими они показались мне», — и внизу кружочек обвел.
Всегда любил пошутить. Но заметно: шутит, а самому приятно, что увидел наконец отчий край (он Плужины и не знал до этого — он в Москве, на Красной Пресне, рожден).
А Ворончу не увидел. Ворончу в революцию, наверное, сожгли. Имение было. Там на панской конюшне моего отца и мать секли в крепостное время. Там и я смолоду батрачил.
…Я свою судьбу подле вагранки нашел. Больше двадцати лет проработал на Казанской железной дороге в литейных мастерских, состоял при огне. Сначала страшно было, потом приловчился, понравилось. Искры брызжут. Чугун в ковши пошел. Белой струей хлещет. По-моему, ничего красивее нет.
Сыны мои, Николай и Виктор, с детства приучены были не бояться огня.
Николай, как подрос, тоже в литейную определился, сначала стерженщиком, потом формовать стал. Я из вагранки сливаю, а он формует, металл от отца к сыну плывет.
Пошабашили, сидим, а он просит:
— Теперь расскажи, папа, как вы с Лениным одной артелью работали.
Очень любил слушать про это. Первые коммунистические субботники ведь с нашей Казанки пошли. Ильич назвал их Великим почином. И сам выходил на субботники, работал со всеми.
Франц Павлович Гастелло».
И вот мы провожаем своих питомцев на фронт, в 207-й бомбардировочный. «Будьте достойными защитниками Родины… Пусть вас вдохновляет в боях бессмертный подвиг Николая Гастелло…» — напутствую экипажи и вижу перед собой бесстрашные глаза парней. Курские, смоленские, новгородские, ярославские, они выстроились на аэродроме поэскадрильно. И припомнились мне невольно давние годы, когда вот такие же, двадцатилетние, летели мы на огневых тачанках в лихие чапаевские атаки…
Что же было дальше с нашими экипажами?
На следующий день после прибытия в полк звено младшего лейтенанта Лазарева вылетело на боевое задание, и все три экипажа погибли.
12 июля поступил приказ нанести удар по большому скоплению войск противника в районе населенных пунктов Конысь и Шклов, что на правом берегу Днепра. На задание вылетело 17 экипажей во главе с командиром эскадрильи капитаном М. В. Подзолкиным. По пути к цели группа должна была получить прикрытие с аэродрома Горки. Но истребителей не оказалось, и лететь на задание пришлось одним.
У цели зенитная артиллерия гитлеровцев открыла ураганный огонь по нашим бомбардировщикам, их атаковали «мессершмитты». Машина ведущего группы была повреждена, и, отбомбившись, на одном моторе комэск пытался дотянуть до аэродрома Горки. Приземлился в поле, не долетев километра три. И тут на глазах экипажа прямым пушечным попаданием самолет был уничтожен. Аэродром оказался занят немцами.
Только на восьмой день добрался Подзолкин с экипажем до своих. И снова — на боевое задание. Вылет предстоял ночью — бомбометание по аэродрому Борисов — на единственном оставшемся самолете эскадрильи.
По предложению комэска все последующие полеты бомбардировщики начали совершать ночью: действующих экипажей оставалось очень мало, а от нашего школьного полка — считанные единицы. В конце августа к нам в школу вернулся только один капитан М. В. Подзолкин.
Потери советской авиации в самый тяжелый период войны объясняются количественным и качественным превосходством боевой техники немцев, недостаточной боеготовностью наших авиационных частей, плохой маскировкой посадочных площадок и аэродромов, их слабой противовоздушной обороной. Усилия авиации не концентрировались на ударах по важнейшим направлениям и участкам фронта, а, наоборот, нередко распылялись на подавление и уничтожение многих второстепенных объектов. Не всегда удачно выбирались способы боевых действий, средства поражения. Так, против гитлеровских танков порой применяли мелкие осколочные бомбы, и эффективность таких ударов была ничтожной. А узкие и малоразмерные цели бомбили с больших высот, что также не давало нужного результата.
Люфтваффе захватили господство в воздухе на важнейших направлениях. Подчас безнаказанно действовали на поле боя, наносили удары по объектам оперативного тыла, уничтожали мирные города и села. Но в отличие от легких побед в воздухе, которые немцы одержали в небе Польши, Франции и других стран Европы, в России они натолкнулись на упорное сопротивление. С первого дня нападения на СССР по 10 июля гитлеровцы потеряли в боях и на аэродромах более тысячи самолетов. «Несмотря на достигнутую немцами внезапность, русские сумели найти время и силы для оказания решительного противодействия»[22], — признают потом в своих мемуарах бывшие фашистские генералы и офицеры.
Да, в боях за Родину наши летчики действовали самоотверженно, не щадя жизни. Мир был поражен невиданной стойкостью духа, непоколебимым мужеством. Когда на второй день войны фашистские радиостанции трезвонили о «полной победе над русской авиацией», 28 советских экипажей нанесли удар по портам и военным объектам Данцига, Кенигсберга, Бухареста. После воздушных налетов гитлеровцев на Москву и Ленинград в ночь на 8 августа 1941 года 13 экипажей бомбардировщиков 1-го минно-торпедного полка ВВС Балтийского флота во главе с командиром полка полковником Е. П. Преображенским взяли курс на столицу фашистской Германии.
Вскоре к морским летчикам на остров Эзель (Саарема), откуда было решено продолжать боевую работу на Берлин, прибыли экипажи дальнебомбардировочной авиации.
Участники этих налетов — впоследствии мой заместитель по летной подготовке В. И. Щелкунов и главный штурман школы В. И. Малыгин подробно рассказывали мне организацию ответственного задания Ставки.
В распоряжение командующего ВВС Военно-Морского Флота генерал-лейтенанта авиации С, Ф. Жаворонкова кроме полка Е. Н. Преображенского была выделена группа из шестнадцати экипажей: от двух бомбардировочных авиаполков 40-й дивизии — восемь экипажей — Юспина, Голубенкова, Крюкова, Шапошникова, Богачева, Семенова, Васькова и Щелкунова, который руководил этой группой, еще одна эскадрилья ДБ-3ф — от 51-й авиадивизии во главе с капитаном В. Г. Тихоновым.
Когда все экипажи собрались на аэродроме острова, генерал Жаворонков организовал встречу с летчиками, уже побывавшими над Берлином. Очередной налет намечался в ночь на 11 августа, и командир полка полковник Е. Н. Преображенский, старший штурман части капитан П. И. Хохлов поделились опытом точного выхода на цель, контроля пути с использованием самолетных и наземных радиосредств. Путь предстоял дальний, трудный, опасный. Общая продолжительность полета — восемь часов, половина из них — с использованием кислорода. А над целью — мощные зенитные средства, истребители, аэростаты заграждения, прожекторы. К тому же по маршруту во многих местах бушевала гроза.
Но задание надо было выполнять. И вот в сумерки тяжелогруженые боевые машины начали взлетать. Легли на курс. В напряженной тишине эфира слышались переговоры между экипажами: «Где находимся?», «До цели сорок минут…», «Половину горючего израсходовали. Хватит ли обратно!..».
Прошли тогда экипажи наших бомбардировщиков сквозь все преграды. Первыми серии зажигательных и фугасных бомб сбросили летчики из группы Преображенского, затем Щелкунова, Тихонова…
После этого налета берлинские газеты писали: «Английская авиация бомбардировала Берлин. Имеются убитые и раненые. Сбито шесть английских самолетов…» Англичане опровергли версию: королевская британская авиация над Берлином не летала.
Удары с 8 августа по 4 сентября 1941 года были нанесены нашими летчиками в ответ на бомбежки Москвы и Ленинграда. А ведь всего месяц назад, 8 июля, Гитлер отдавал приказ: «Москву и Ленинград сровнять с землей, чтобы полностью избавиться от населения этих городов…»
И с наглой самоуверенностью уточнял: «Что касается Москвы — это название я уничтожу, а там, где находится сегодня Москва, я создам большую свалку».
Действительно, с 22 июля по 15 августа немцы совершили на Москву 18 ночных налетов. В них участвовали сотни загруженных фугасными и зажигательными бомбами машин. К каждому очередному вылету привлекались все новые эскадры, известные беспощадными бомбардировками республиканской Испании, Польши, Франции, Югославии, Греции, Англии. Так, в первый день массированных налетов, 22 июля, к нашей столице пробивалось 250 отборных гитлеровских экипажей авиаэскадры «Легион Кондор». Но боевые порядки их первого эшелона были расстроены еще на дальних подступах к городу. Летчики 6-го истребительного авиакорпуса ПВО, сдерживая натиск врага, вынудили их сбросить бомбы бесприцельно и уйти обратно.
В этом бою отличился командир эскадрильи капитан К. Н. Титенков. Он мастерски провел сквозь строй в два десятка машин свой истребитель и атаковал флагманский Хе-111, ведущий эшелон бомбардировщиков на Москву. Как ни сопротивлялся гитлеровец, уйти от огня комэска Титенкова ему не удалось: объятый пламенем, «хейнкель» упал неподалеку от Рузы. Позже выяснилось, что управлял им опытный стервятник, отмеченный двумя Железными крестами.
В ночь на 22 июля на подступах к Москве немцы оставили 22 самолета. Лишь одиночным экипажам удалось пробиться сквозь заслон зенитной артиллерии, пулеметов, аэростатов заграждения, но они уже не причинили нашей столице серьезного ущерба.
Провал коварного замысла гитлеровцев был очевиден. Тогда они стали искать объекты поражения в удалении от плотного кольца московской противовоздушной обороны. Таким объектом оказался и наш основной школьный аэродром около Рязани. Гитлеровцы не раз бомбили его, разрушили склад, самолетный ангар. Появились раненые, несколько человек было убито. Я получил контузию.
В это вот время, где-то уже в начале октября, к нам в школу и прибыли майоры В. И. Щелкунов и В. И. Малыгин. Указом от 17 сентября 1941 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых заданий, им было присвоено звание Героя Советского Союза. Надо сказать, в неимоверно трудной и опасной работе по бомбардировке Берлина особенно отличился Василий Иванович Щелкунов, Всего по столице гитлеровской Германии экипажи наших бомбардировщиков совершили девять групповых вылетов, и в четырех из них участвовал майор В. И. Малыгин.
В тревожные дни первого военного лета по делам школы мне приходилось бывать в Москве. Навсегда запомнился в своем мужественном спокойствии по-военному подтянутый город.
В небе, словно киты, повисли аэростаты воздушного заграждения. На бульварах, в скверах, на крышах зданий настороженно притаились стволы зенитных орудий и пулеметов. Окна квартир перечеркнуты бумажными полосами: одни решительно, крест-накрест, другие — каким-нибудь несмелым узором. В Центральном парке культуры и отдыха, где еще недавно звучали веселые голоса, взлетали качели, вращалась карусель, сейчас бойцы всеобуча бросались в штыковые «атаки», ползали по-пластунски, метали деревянные гранаты. По улицам проходили отряды солдат, призывников, народного ополчения — всех их можно было различить по одежде и снаряжению. Солдаты уже в военной форме, с винтовками, призывники тащат домашние мешки и чемоданы, ополченцы вооружены, но одеты еще в гражданское. Звучат песни: поют довоенный «Синий платочек», «Катюшу», «В бой за Родину». И как боевой призыв накатывается и волнует:
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна,
Идет война народная,
Священная война!
Но, как и прежде, работали театры. Многие из них ставят патриотические пьесы, спектакли, скетчи, высмеивающие Гитлера, Геббельса, фашистских солдат. Большой театр был закрыт, но у его филиала по вечерам ежедневно толпились москвичи и командированные, спрашивая лишние билеты. В Московском Художественном шли спектакли «Три сестры», «Анна Каренина», «Школа злословия»…
К середине июля нехватка продовольствия в столице стала заметной, хотя в магазинах еще продавались кое-какие потребительские товары, а в ресторанах подавали хорошие блюда. Но город был спокоен и суров, как воин, стоящий на боевом посту.
15 июля я получил директиву Генерального штаба: немедленно сформировать из состава школы 1-й дальне-разведывательный авиационный полк Главного Командования в составе 32 экипажей и начать вылеты на разведку на школьных самолетах.
Забот и работы прибавилось. Нужно было продумать очень многое — от расчета сил до техники дешифрирования аэрофотоснимков. В состав полка мы включили наиболее подготовленные школьные экипажи — наш золотой фонд. Тут были и комэски, и командиры отрядов, и рядовые экипажи. Каждый хотел вложить в новое дело все, что он умел и знал. Тщательно, придирчиво готовили самолеты для дальних вылетов. Умелыми заботливыми руками они были вооружены и снабжены всем необходимым для разведки с больших высот, для полета в облаках, ночью, для ведения боя с противником в воздухе. Через пять дней наш 1-й дальнеразведывательный полк приступил к работе.
Глубина воздушной разведки в большинстве случаев определялась радиусом полета самолетов и практически не превышала 500–600 километров, хотя общая длина маршрута достигала порой 1600 километров. Для внезапного выхода к объектам разведки экипажи применяли предельно большие высоты с использованием облачности или, наоборот, малые — в 50 — 100 метрах от земли. Маршруты полета мы выбирали в обход объектов, прикрытых средствами ПВО, и учили разведчиков выходить на аэрофотосъемки со стороны солнца, из глубины расположения противника.
При длительном наблюдении за важным объектом, при фотографировании больших площадей со средних высот предполагалось сопровождение разведчиков истребителями. Но в первые месяцы войны рассчитывать на такое сопровождение было немыслимо. Поэтому зачастую обходились сами, без поддержки и помощи. Хотя, конечно, завершались эти вылеты не всегда благополучно.
Однажды старший лейтенант Евдокимов получил задание на разведку аэродрома противника. Обнаружив скопление — почти полк — вражеских самолетов, сделав их снимки, экипаж сбросил бомбы и успел передать по радио разведданные. Но самолет атаковало звено «мессершмиттов».
В неравном бою убиты стрелок-радист, воздушный стрелок, поврежден стабилизатор — машина стала неуправляемой. Тогда летчик со штурманом оставили ее. Немцы продолжали расстреливать их в воздухе. Подскользив с парашютом к селу, летчик приземлился, и местные жители спрятали его, а штурман попал в плен. Только месяц спустя Евдокимову удалось перейти линию фронта и вернуться в Рязань, в родную школу. Здесь он снова включился в боевую работу.
Разведка была действительно важной боевой работой. Наши экипажи вскрывали состав и группировки войск противника, его аэродромы, систему противовоздушной обороны, дислокацию командных пунктов, устанавливали систему и характер оборонительных полос, перевозок по железнодорожным и шоссейным путям. Выполняли разведку двумя способами — визуальным наблюдением и фотографированием. Преимущество последнего было очевидным: более высокая достоверность, документальность разведданных, возможность вскрытия малозаметных, замаскированных объектов.
Обработкой аэрофотоснимков у нас в полку занимался подполковник Соболев. Как-то при дешифрировании очередных разведданных раскрылся замысел гитлеровцев на форсирование реки. Мост через нее был взорван, но рядом обнаружили наведение понтонного моста, а на берегу просматривались четыре ряда автомашин. Подсчитали: ни много ни мало — 840! По гусеничным следам выявили еще и скопление танков в лесу. Данные разведки оперативно передали через штаб ВВС в войска. Как стало известно, они послужили основанием для массированного удара бомбардировщиков. Скрытая группировка противника была разгромлена.
Надо сказать, получение необходимых данных методом воздушного фотографирования было достаточно высоким: на 100 процентов выявлялись траншеи противника, на 82 — артиллерийские батареи, на 70 процентов отдельные орудия. Этот опыт к разведчикам приходил в напряженном боевом труде. С 20 июля по 1 ноября 1941 года наш 1-й дальнебомбардировочный полк совершил 360 самолето-вылетов на боевые задания, налетав 1676 часов. При выполнении этих заданий мы потеряли 19 самолетов и 43 человека убитыми. Погибли опытные летчики и штурманы капитаны Ломов, Бугаев, старшие лейтенанты Беляков, Пасечник, другие… Школа тяжело переживала эти наши первые потери.
Тогда весь личный состав добровольно сдал в фонд грядущей победы более одного миллиона рублей своих сбережений.
В октябре началось крупное наступление немцев на Москву. Гитлеровское командование планировало его одновременно в трех направлениях северо-западном, западном и юго-западном, рассчитывая на победоносное окончание войны до прихода зимы. Главный удар должна была нанести группа армий «Центр», в которую входило 74,5 дивизии, в том числе 14 танковых и 8 моторизованных, 14000 орудий и минометов, 1700 танков, 1390 самолетов поддерживающего 2-го воздушного флота.
Противник превосходил наши войска по живой силе в 1,4 раза, по артиллерии — в 1,8 раза, по танкам — в 1,7 раза, по самолетам — в 2 раза. Уступали мы немцам и по качеству техники. На Западном фронте у нас из 304 танков только 39 было тяжелых и средних. ВВС фронтов на 80 процентов состояли из самолетов устаревших типов.
И вот 30 сентября ударом 2-й танковой группы по войскам Брянского фронта из района Шостка, Глухов в направлении Севск, а 2 октября — основными силами группы армий «Центр» по позициям Западного фронта противник прорвал нашу оборону.
Наступление развивалось стремительно. 3 октября пал Орел. 4–5 октября — Спас-Деменск и Юхнов. 6 октября — Карачев и Брянск. 12 октября немцы овладели Калугой. 13 октября — Вязьмой. Обогнув можайский рубеж, 14 октября ворвались в Калинин.
В 60 километрах к юго-западу от Рязани передовые танковые группы и мотопехота немцев заняли город Михайлов. В это время один из наших экипажей возвращался с разведки и, без горючего, не дотянув до аэродрома, приземлился неподалеку от Михайлова. Немцы взяли экипаж в плен, а утром следующего дня гитлеровская колонна двинулась дальше — на Рязань.
Неожиданно в воздухе появились два звена штурмовиков с красными звездами на плоскостях, С ходу атаковали они фашистов реактивными снарядами, пушечным и пулеметным огнем. Поднялась невероятная паника. Автомашины и танки сворачивали с дороги, объятые пламенем, опрокидывались в канавы. Наступление гитлеровцев было сорвано, и остатки разгромленной колонны вернулись в Михайлов. Наш летный экипаж, воспользовавшись паникой, вырвался из плена и через двое суток добрался до аэродрома.
14 октября немцы были уже в районе Волоколамска, примерно в 80 километрах к северо-западу от Москвы. Сплошного фронта не существовало. Советские войска вели тяжелые бои в условиях окружения, оставшиеся в тылу переходили к партизанским действиям.
А немцы грабили, разбойничали, убивали наших людей в Ясной Поляне, во Льгове, Щиграх — тургеневских местах — самых русских из всех русских мест.
Под Москвой создалось крайне серьезное положение. Решением Ставки Верховного Главнокомандования, в целях обеспечения надежного управления войсками, личный состав Генерального штаба и штаба ВВС были разделены на два эшелона: первый оставался в Москве, а второй эвакуировался на восток, в район Куйбышева. Туда же и в другие города на востоке эвакуировались государственные учреждения, многие наркоматы, часть партийного аппарата, весь дипломатический корпус. Верховным Главнокомандованием в эти трудные октябрьские дни было принято решение эвакуировать на восток и штурманские школы — Рязанскую и Ивановскую. Место нашего нового базирования определили в небольшом районном городке Карши, в степной части Узбекистана.
Я опять в Москве, теперь в Управлении военных сообщений — в поисках вагонов на пятнадцать железнодорожных эшелонов для эвакуации школы. С большим трудом получаем восемь — и то хорошо. Вскоре отправляемся в дальний путь. Надолго ли?..
В Карши нас встретили хорошо. Фонды для размещения школы были ограниченные, но местные советские и партийные организации освободили нам много различных помещений и квартир. Большую помощь в устройстве, поиске аэродромов для школы оказал заместитель командующего ВВС округа Николай Петрович Каманин, которого я знал еще по академии. Однако основные указания исходили от первого секретаря ЦК Компартии Узбекистана Усмана Юсупова. И аэродромы за нами закрепили — благо в степях приволье. Возле кишлака мы расширили удобную площадку — полтора на полтора километра, довольно ровный степной участок оказался и рядом с совхозом. Так что вскоре мы почувствовали себя как дома и продолжили боевую работу.
Однако невольно в эти тяжелые для Родины дни каждый из нас мысленно находился у стен древней Москвы, где разыгралось жестокое сражение. Каждый с замиранием сердца слушал сводки Совинформбюро — уже приближалась 24-я годовщина Великого Октября. Никто не спрашивал, будут ли традиционные торжества, парад. Понимали — не до парадов. Но день этот ожидали с каким-то особым, непередаваемым волнением…
И вот 6 ноября. В 18 часов по всем радиостанциям Советского Союза зазвучали слова: «Говорит Москва! Передаем торжественное заседание Московского Совета с представителями трудящихся города Москвы и доблестной Красной Армии, посвященное 24-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции…»
Ликование охватило всех нас. На душе светлый праздник. Вот он убедительный ответ на хвастливое заявление гитлеровской верхушки о том, что падение Москвы — дело ближайших дней. И хотя по-прежнему скупыми оставались газетные сообщения о боевых делах — становилось ясно, что дни смертельной опасности и тревог остались позади.
28 ноября я прочитал сообщение: «На сталиногорском направлении наши войска перешли в контрнаступление… Отбито 8 деревень, противник отброшен за реку Оку… Совместными действиями авиации Западного фронта и Московской зоны обороны уничтожено 82 танка, 349 автомашин с войсками и боеприпасами, 50 мотоциклов, И рот пехоты, группа кавалерии, 92 повозки…»
Через много лет, вспоминая контрнаступление под Москвой, Маршал Советского Союза Г. К. Жуков отметит боевые действия авиации: «Авиация наносила мощные удары по артиллерийским позициям, танковым частям, командным пунктам, а когда началось отступление гитлеровских войск, штурмовала и бомбила пехотные, бронетанковые и автотранспортные колонны. В результате рее дороги на запад после отхода войск противника были забиты его боевой техникой и автомашинами». И маршал подчеркнет работу авиации дальнего действия: «Контрнаступательные действия правого крыла Западного фронте шли непрерывно. Их активно поддерживала авиация фронта, авиация ПВО страны и авиация дальнего действия, которой командовал генерал А. Е. Голованов…»
Говоря о боевых действиях дальнебомбардировочной авиации в этот период, следует заметить, что велись они только на важнейших направлениях и носили форму очаговых сражений. Своеобразие этой борьбы заключалось в том, что основные усилия сосредоточивались на уничтожении войск противника на поле боя, в ближайшей оперативной глубине. Дальние же полеты не оправдывали себя — бомбардировщики без сопровождения истребителей часто не возвращались с боевых заданий.
Учитывая эти и другие факты, Государственный Комитет Обороны 15 ноября 1941 года постановил:
«Поручить комиссии в составе т. т. Сталина, Громова, Коккинаки (старший), Белякова, Спирина, Голованова, Горбацевича, Водопьянова, Юмашева, Молокова реорганизовать дело дальних полетов и представить Государственному Комитету Обороны соответствующий проект к 24 ноября 1941 года».
Такой проект был нами вскоре подготовлен и представлен. Он предусматривал использование дальней авиации прежде всего для поражения объектов в оперативном и стратегическом тылу противника. Дальнебомбардировочная авиация вышла из подчинения командующего ВВС. На базе ее частей и соединений была создана авиация дальнего действия. Она подчинялась непосредственно наркому обороны и Ставке Верховного Главнокомандования.
В оборонительных операциях под Москвой наши летчики совершили свыше 51000 самолето-вылетов, немцы в этой борьбе потеряли около 1400 самолетов. Так, к началу декабря сорок первого года впервые в ходе войны мы завоевали оперативное господство в воздухе. Оно было пока только на московском направлении, но позволяло осуществлять нашему командованию перегруппировки войск, сосредоточивать и вводить в сражение резервы — и все это уже без существенного противодействия со стороны гитлеровской авиации.
Приятно было сознавать, что в этом успехе и твоя доля участия. Что бы еще ни ожидало впереди, думал я, какие бы испытания ни пришлось пройти, начат победный путь, с которого нас уже не свернут никакие вражеские силы.
В зиму 1941/42 года значительные изменения произошли и в положении нашей школы. Она была передана в состав авиации дальнего действия и переименована в 1-ю высшую школу штурманов и летчиков АДД.
В марте я представился своему новому командующему. Высокого роста, светловолосый, Александр Евгеньевич Голованов, в прошлом начальник Восточно-Сибирского управления Гражданского воздушного флота, был большим мастером полетов в облаках и ночью. В то время когда еще многие наши летчики не особенно-то доверяли пилотированию по приборам, радионавигации, он уже в совершенстве владел самолетовождением в любую погоду. К концу 1940 года Голованов налетал свыше 4300 часов и в феврале сорок первого был назначен командиром отдельного дальнебомбардировочного авиаполка. Полк этот предназначался для действий в сложных метеорологических условиях и ночью, по объектам глубокого тыла и входил в авиакорпус, которым командовал Н. С. Скрипко. Успешная боевая работа определила назначение Голованова в августе 1941 года на должность командира отдельной 81-й дальнебомбардировочной авиационной дивизии специального назначения, подчиненной непосредственно Ставке Верховного Главнокомандования, а в марте сорок второго — командующим авиации дальнего действия.
Александр Евгеньевич принял меня радушно. Для развития АДД нужны были хорошо подготовленные экипажи, и потому он подробно изложил свои требования к их подготовке. Учитывая опыт первых месяцев войны, когда дальние бомбардировщики несли большие потери из-за действий истребителей и зенитной артиллерии противника, Голованов предлагал на выполнение боевых заданий летать только ночью. По его мнению, каждый экипаж должен был научиться выходить на цель в сложных метеорологических условиях, поражать ее и возвращаться на аэродром самостоятельно — без сопровождения истребителей. Требования были вполне разумные. Я уже готовился отправиться в школу, но командующий поручил мне еще проверить подготовку 81-й авиадивизии, работавшей на самолетах Пе-8, и это заняло почти месяц.
Но вот я снова в Карши. Дела в школе шли успешно. Я много летал. Проверяя своих учеников по маршрутам, вскоре облетел всю Среднюю Азию. Морозов здесь почти не было, снега выпадало мало, но стоило ему растаять аэродромы тотчас раскисали, да так, что не только взлетать, а и рулить было невозможно. Невольно приходилось ждать, когда грунт подсохнет.
Однако основные трудности в полетах наступили летом. Температура раскаленного воздуха в здешних краях доходила порой до 40 градусов. Не удивительно, что температура масла в двигателях очень быстро поднималась выше допустимой, и нам приходилось использовать для полетов приходящую откуда-то с Дальнего Востока касторку — она не пригорала даже при НО градусах. Поэтому выработалась и своеобразная методика полетов: на земле работать как можно меньше, в набор высоты переходить после разгона скорости в горизонтальном полете. Если таким образом удавалось «подскочить» метров на 600–800, не перегрев двигатели, то дальнейший полет не представлял затруднений, ибо там, на высоте, воздух уже был холоднее.
Получив пополнение самолетов, мы приступили к работе в три смены. Летать начинали рано утром, к 10 часам уже заканчивали — объявлялся перерыв на обед и отдых. Вторая смена работала с 16 часов до темноты и ночная — с 22 часов до утра. В таких вот условиях мы набирали темпы в подготовке боевых экипажей. По распоряжению Голованова школа теперь выпускала и летчиков, и штурманов, и стрелков-радистов, и воздушных стрелков. Наибольшую трудность мы испытывали в укомплектовании экипажей летчиками с достаточно большим опытом. Обучение на ДБ-3ф после только что оконченной первоначальной программы на Р-5 требовало много усилий, времени, И в целях исключения нелетного периода весной 1943 года нас перевели в город Троицк Челябинской области.
Уже отгремела Московская битва, Сталинградское сражение… Я не историк, в мою задачу не входит описание событий тех огненных лет — труд мой значительно скромнее. Вспоминая Великую Отечественную, не могу не назвать имени одного из рядовых войны. Наш сын Георгий… Юра, как его звали в семье и в школе. Окончив десятилетку, он был призван в армию и погиб в бою под Сталинградом.
А в самом начале года, 4 января, погибла Марина Раскова.
В трудные для Родины дни, когда враг подходил к Москве, ей было поручено формирование трех женских авиационных полков — истребительного, бомбардировочного и ночного бомбардировочного. Желающих сражаться с врагом с оружием в руках набралось куда больше, чём на три полка. Летчицы, летавшие на рейсовых линиях Гражданского воздушного флота, бывшие инструкторы осоавиахимовских школ, аэроклубов надели солдатские шинели и громили врага на боевых машинах, ни в чем не уступая мужчинам.
Уже весной 1942 года М. М. Раскова передала командованию два полка истребительный и ночных бомбардировщиков. И третий полк, оснащенный новейшими для тех лет машинами Пе-2, она подготовила и повела на фронт сама. При перелете в сложных погодных условиях самолет, на котором летела Раскова, потерпел катастрофу. Марины не стало…
Тяжелые утраты военного лихолетья, мы знаем, коснулись каждой четвертой семьи. И гнев, ненависть к немецким фашистам, боль за поруганную захватчиками родную землю поднимали тогда народ на самоотверженные подвиги. На фронте ли, в тылу ли люди отдавали во имя победы решительно все.
В период боев на Кубани, где Красная Армия прижала к морю крупную группировку врага, по указанию заместителя командующего АДД генерала Н. С. Скрипко, я доставил в одну из авиационных частей очередной выпуск нашей школы. Экипажи тут же получили приказ на вылет и нанесли по объектам противника массированный ночной удар. Надо было видеть взволнованные лица вернувшихся после задания ребят. Они с честью выдержали первое боевое крещение. И я гордился своими учениками — каждый из них, как сын, был для меня дорог…
Надо сказать, что к лету 1943 года создались благоприятные условия для развертывания крупных воздушных операций на широком фронте. Тогда-то Ставка Верховного Главнокомандования и приняла решение провести воздушные операции по разгрому основных авиационных группировок противника. Первый массированный одновременный удар по семнадцати аэродромам, разбросанным на широком, 1200-километровом фронте — от Смоленска до побережья Азовского моря, был нанесен утром 6 мая. Внезапный налет шести воздушных армий — 1, 15, 16, 2, 17 и 8-й, — в котором участвовало 434 самолета, был успешным. Гитлеровцы потеряли 194 боевых машины на аэродромах и 21 — в воздушных боях. Повторные удары наша авиация нанесла в этот же день, а также 7 и 8 мая.
За всю операцию налетам подвергались 20 аэродромов, на которых противник потерял 429 самолетов. 77 было сбито в воздушных боях[23].
Решением Ставки 8 — 10 июня 1943 года была развернута еще одна воздушная операция — теперь по двадцати восьми вражеским аэродромам. Гитлеровцы на этот раз оказали сильное сопротивление — готовность их противовоздушной обороны сыграла немалую роль. Поэтому успех сопутствовал нашим дальним бомбардировщикам, которые действовали ночью. Силами 1, 2, 15-й воздушных армий, а также соединениями авиации дальнего действия было уничтожено 168 самолетов противника на аэродромах и 81 — в воздушных боях.
Да, авиация дальнего действия становилась многочисленной и грозной силой. Кажется, совсем недавно я предложил командующему АДД Голованову испробовать в качестве бомбардировщика транспортный самолет Ли-2. Завод, выпускавший эти машины, был эвакуирован в Ташкент, и там по нашему заказу изготовили опытный образец для боевой работы: в самолете внутри фюзеляжа подвешивалось десять стокилограммовых бомб. Однако командующий в целях ускорения производства таких бомбардировщиков согласился на другой вариант с наружной подвеской четырех бомб по 250 килограммов. И теперь все дивизии были соединены в четыре авиационных корпуса: два из них работали на ДБ-3ф (Ил-4), один — на Ли-2 и еще один — на американских самолетах «митчел» (Б-25).
Совершенствовалась и тактика боевых действий АДД. В первый период войны из-за больших потерь налеты на объекты противника производились небольшими группами — по пять — девять самолетов. А сейчас на крупную цель в глубокий тыл врага идут уже 600–700 бомбардировщиков. По разработке генерала Н.С. Скрипко боевой порядок соединения авиации дальнего действия стал строиться из следующих элементов: группы разведчиков погоды и объекта действий, эшелона обеспечения, эшелона бомбардировщиков и группы контроля. Обеспечение, в свою очередь, состояло из группы наведения, группы осветителей, группы обозначения цели и группы подавления противовоздушной обороны противника. Следуя к цели в колонне одиночных самолетов, все бомбардировщики эшелонировались по времени и высоте. До тридцати секунд удавалось доводить временной интервал между самолетами — плотность огня от этого росла, удары авиации становились все сокрушительней.
Николай Семенович Скрипко часто бывал в нашей школе. Он передавал нам опыт боевых частей, развитие оперативно-тактической мысли. И встречи эти проходили с большой пользой для подготовки экипажей. Помнится, мы основательно разбирали вопрос преодоления системы ПВО гитлеровской армии. Для снижения эффективности огня зенитной артиллерии был разработан порядок заходов на цель с различных направлений и высот, увеличивалась высота бомбометания, предусматривалось и подавление зенитных батарей ударом специально выделенных для этой цели бомбардировщиков.
Большие потери в начале войны несла наша бомбардировочная авиация от истребителей гитлеровцев. Успех воздушного боя с ними во многом зависел от своевременного обнаружения противника, выполнения противоистребительного маневра, владения бортовым оружием. Учитывая все это, в учебных полетах мы учили экипажи работать в режиме радиомолчания, создавать пассивные помехи, энергичному маневрированию, меткой пушечной стрельбе. А бомбометание отрабатывали днем и в ночных условиях, обозначая цели зажигательными бомбами.
В 1944 году наша школа перебазировалась на прежнее место, под Рязань. Приятной новостью для всех стало не только возвращение в родные пенаты, но и организационные изменения, которых мы добивались в интересах подготовки кадров. Вместо эскадрильи боевой единицей школы теперь стал полк — у каждого свой аэродром, свое материально-техническое обеспечение. После уральских полевых площадок, где личный состав жил скученно, в землянках, рядом с самолетами, новые аэродромы были для нас настоящим раздольем.
Здесь я узнал и печальную весть — о судьбе Семена Александровича Шестакова, командира корабля, совершившего в свое время перелет из Москвы в Нью-Йорк. До весны 1943 года он летал на бомбардировщиках. Но потом, как рассказывал Борис Васильевич Стерлигов, стал настоятельно просить перевести его из АДД в истребительную авиацию: «Не люблю летать со штурманом. Хочу бить немцев на истребителе…» Стерлигов, как главный штурман ВВС, изложил просьбу Шестакова маршалу авиации А. А. Новикову и получил отказ: мол, поздно, возраст для воздушного бойца не подходит. Однако Семен Александрович добился своего: на одном из наших аэродромов был создан истребительный авиаполк, которым и поручили ему командовать.
Весной сорок третьего полк передислоцировался на Брянский фронт в 1-ю воздушную армию. Командир полка Семен Шестаков бесстрашно водил в бои молодых пилотов, его отмечали боевыми наградами. Однажды над линией фронта Шестаков встретил большую группу противника. Завязался тяжелый воздушный бой — звено «яков» против эскадрильи «мессершмиттов». В неравной схватке самолет Шестакова подбили, летчик выбросился из горящей машины с парашютом, а гитлеровцы продолжали расстреливать его длинными очередями до самой земли. Упал Семен на территории Сухиничского района. Смертельно раненного, его подобрали партизаны.
Движимые чувством глубокого патриотизма, с первых дней войны на фронте были и многие другие мои товарищи, уже известные читателю летчики: Г. Ф. Байдуков, М. М. Громов, А. Б. Юмашев, М. В. Водопьянов, Н, П. Каманин, В. М. Филин. Удовлетворили наконец и мою просьбу: я получил перевод в действующую армию.
К этому времени наша школа была преобразована в 1-ю высшую офицерскую школу ночных экипажей авиации дальнего действия. Вот итоги напряженной работы за четыре года: мы подготовили и отправили на фронт 307 экипажей бомбардировщиков Ил-4 — это около 1228 летчиков, штурманов, радистов, воздушных стрелков. Все экипажи были обучены полетам и боевым действиям ночью, в сложных метеорологических условиях. Сотни человек подготовлены и для боевой работы на самолетах Б-25 и Ли-2.
Мощными и действенными ударами по врагу бомбардировочная авиация внесла свой вклад в достижение победы. Родина высоко оценила подвиг советских бомбардировщиков: свыше 600 летчиков, штурманов и стрелков-радистов за мужество и, доблесть, проявленные в боях, были удостоены звания Героя Советского Союза.
Среди них одиннадцать наших выпускников: майор В. А. Каширкин, капитаны Н. Д. Авдеев, Г. Ф. Баженов, А. П. Рубцов, М. Т. Рябов, П. М. Фуре, А. И. Шапошников, старшие лейтенанты Ф. И. Титов, Н. Н. Харитонов, И. И. Яновский, лейтенант И. М. Глазов. Орденами и медалями за боевые заслуги были отмечены многие выпускники, а также командиры, политработники и преподаватели Рязанской школы.
С чувством глубокого удовлетворения я вспоминаю самоотверженную, безотказную работу своих помощников — начальника политотдела И. П. Березина, начальника штаба школы Л. А. Дьяченко, заместителей по летной подготовке В. К. Сабурова, В. И. Щелкунова, штурмана школы В. И. Малыгина, командиров учебных авиационных полетов Воробьева, Иванова, Орловского, Онисковича, Павленко.
Однако война еще продолжалась. Наши войска громили фашистов на территории девяти иностранных государств и, простившись с родным коллективом — теперь уже 1-й офицерской школы ночных экипажей, — я отправился во 2-ю воздушную армию — заместителем командующего.
Победы Красной Армии в 1944 году привели к выдающимся политическим и военным результатам. Германия лишилась своих союзников в Европе, оказалась в полной политической изоляции, но недооценивать ее силы было нельзя. У гитлеровцев насчитывалось еще около 3300 боевых самолетов, из которых около 2000 находилось на советско-германском фронте.
И вот в начале сорок пятого по плану Ставки Верховного Главнокомандования нашим войскам предстояло нанести сокрушительные удары по вражеским группировкам в Восточной Пруссии, Польше, Чехословакии, Венгрии, Австрии, обеспечив выгодные условия для завершающего удара по Берлину. Разгром немецко-фашистских войск в Польше Ставка возложила на соединения 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов. В историю второй мировой войны эта операция вошла под названием Висло-Одерской.
С воздуха войска этих двух фронтов поддерживали и прикрывали 4770 боевых самолетов 16-й и 2-й воздушных армий. Гитлеровский 6-й воздушный флот смог выставить здесь только 1050 самолетов. Ни модернизированные «фокке-вульфы», ни новые реактивные машины не помогли немцам.
12 января ударная группировка 1-го Украинского фронта, а 14 января ударная группировка 1-го Белорусского перешли в наступление. При активной поддержке авиации к исходу 17 января основные силы противника были разгромлены, и обходным маневром советские войска и соединения 1-й армии Войска Польского овладели Варшавой.
Отступая, гитлеровцы взрывали взлетно-посадочные полосы с искусственным покрытием. Условия для боевой работы нашей авиации усложнились. После обильных снегопадов наступила оттепель, и полевые площадки раскисли. У противника же еще оставались хорошо оборудованные аэродромы, что позволило ему активизировать действия авиации. В полосе наступления 1-го Белорусского фронта за первую декаду февраля немцы совершили около 14 тысяч самолето-вылетов, а 16-я воздушная армия — 624.
Тогда впервые начали использовать прекрасные немецкие автострады. Командир 9-й гвардейской истребительной авиадивизии полковник А. И, Покрышкин первым совершил посадку на автостраду Бреслау — Берлин. За ним перебазировалась вся дивизия. Через несколько дней — еще одна, 22-я истребительная, командовал которой подполковник Л. И. Горегляд. Кроме того, каждая сухопутная армия строила в своей полосе по аэродрому с металлическими плитами. Обстановка изменилась. Наша авиация вновь обрела свободу действий, и за третью декаду февраля одна только 16-я воздушная армия произвела более 10 тысяч боевых вылетов. 6-й воздушный флот гитлеровцев — всего лишь 670.
Однако, несмотря на быстрое продвижение Красной Армии, подавляющее превосходство в живой силе и технике, немцы еще сопротивлялись. 30 января по радио к ним в последний раз обратился Гитлер. Замогильным голосом фюрер призывал: «Немецкие рабочие, работайте! Немецкие солдаты, воюйте! Немецкие женщины, будьте такими же фанатичными, как всегда! Ни одна нация не может сделать большего…»
В Берлине царила паника. В тридцатиградусные морозы сюда стекались тысячи беженцев, с воздуха мы видели потоки людей с повозками, тачками, детьми. Но фашисты еще держались по всему фронту. «Об ожесточенности боев в районе Познани можно судить по следующему эпизоду, — писала тогда газета «Красная звезда». — В одном из пригородов Познани были отрезаны от своих войск около 500 немецких солдат и офицеров. Засев в немецких каменных зданиях, они продолжали оказывать сопротивление нашим наступавшим войскам, пока почти все не были уничтожены. Только последние 50 немцев, поняв бесполезность дальнейшего сопротивления, сдались в плен».
В эти горячие дни наступления, ожесточенных боев и яростных атак я и представился командарму С. А. Красовскому. Его заместителем по политчасти был генерал-майор авиации С. Н. Ромазанов, начальником штаба — генерал-майор авиации А. С. Пронин. Самого Степана Акимовича Красовского я знал еще по оперативному факультету академии, так что работа моя на новом месте началась споро и оперативно. Но военная обстановка предъявляла свои требования, и во время начала Берлинской операции я уже находился в 16-й воздушной армии генерала С. И. Руденко.
Гитлеровское командование, надеясь на развал антифашистской коалиции и благополучный выход из войны, прежде всего стремилось не допустить в Берлин наши войска. Для этого на берлинском направлении была создана мощная система обороны на глубину до 100 километров. Отборные войска двух групп армий «Висла» и «Центр» — предназначались для защиты подступов к Берлину, насчитывали 1 миллион солдат и офицеров, 10400 орудий и минометов, 1500 танков и штурмовых орудий. На десятках аэродромов сосредоточились стянутые отовсюду наиболее боеспособные части: отборные истребительные эскадры «Гинденбург», «Удет», «Германия», перехватчики воздушного флота ПВО «Райх» во главе с любимцем Гитлера и Геринга генерал-полковником Штумпфом. Всего было собрано около 3000 боевых самолетов, в том числе реактивные истребители «Мессер-шмитт-262», самолеты-снаряды системы «Мистель».
В канун сражения наши разведчики шесть раз сфотографировали с воздуха все оборонительные полосы гитлеровцев, начиная с одерского плацдарма. Это целая система огневых позиций, противотанковых надолб, рвов, пехотных траншей, аэродромов. Так, например, перед кюстринским плацдармом противник имел до 60 орудий и минометов, 17 танков и штурмовых орудий на километр фронта, что в полтора раза больше, чем имели мы на Воронежском фронте при обороне под Курском.
К началу Берлинской операции 16-я воздушная армия была самой большой по составу в наших ВВС. Сюда по указанию Ставки Верховного Главнокомандования перебросили 6-й бомбардировочный авиакорпус, вооруженный самолетами Ту-2, которым командовал генерал И. П. Скок. В' 16-ю армию входили также 1-й гвардейский истребительный авиакорпус генерала Е. М, Белецкого, 113-я и 138-я бомбардировочные дивизии, 240-я истребительная авиадивизия. Всего в ней было сосредоточено 28 авиационных дивизий и 7 отдельных авиационных полков, в которых насчитывалось 3033 боевых самолета (533 дневных и 151 ночной бомбардировщик, 687 штурмовиков, 1548 истребителей, 114 разведчиков и корректировщиков). Перед штурмом Берлина нашим соседом справа была 4-я воздушная армия под командованием генерала К. А. Вершинина — 1360 боевых машин, а слева — 2-я воздушная армия генерала С. А. Красовского — 2150 самолетов. На тыловых аэродромах сосредоточились соединения 18-й воздушной армии главного маршала авиации А. Е. Голованова. К операции были готовы и 297 боевых машин оперативно подчиненной генералу С. И. Руденко авиации Войска Польского.
Плотность авиации на один километр на направлениях главных ударов была более 100 самолетов, а в полосе наступления 5-й ударной и 8-й гвардейской армий 1-го Белорусского фронта — до 170 самолетов. Управлять таким большим числом авиасоединений и боевой техники — дело не простое, требовалась умелая координация усилий, согласование времени и последовательности нанесения массированных ударов, точное определение полосы их действия.
Всесторонне оценив воздушную обстановку, усилия воздушных армий было решено направлять на содействие войскам главных группировок фронтов — на обеспечение ввода в сражение танковых армий, сопровождение их авиацией на всю глубину операции. Так, в нашей 16-й воздушной армии для этого выделялось 2662 самолета, что составляло 88 процентов общей численности самолетного парка. От удара по аэродромам противника отказались. Командующий войсками фронта Г. К. Жуков поддержал замысел.
Тогда мы занялись работой по организации управления и взаимодействия. В 16-й воздушной армии начал работать фронтовой командный пункт, предназначенный для управления авиацией при действии ее по объектам на поле боя. Я вместе с генералом А. С. Сенаторовым находился в оперативной группе штаба.
Надо сказать, что по-новому было организовано в армии и управление истребительной авиацией. Три радиолокационных узла наведения на воздушные цели должны были осуществлять наблюдение за обстановкой в воздухе, наводить на самолеты противника наших истребителей, контролировать полеты, помогать экипажам восстанавливать ориентировку. Для связи командного пункта воздушной армии с разведывательными авиаполками и истребительными корпусами, которые выделялись для прикрытия войск фронта, впервые применялись радиорелейные станции, а также радиолокатор дальнего обзора — для наблюдения за полетами союзников в небе Берлина.
Несмотря на сжатые сроки, план боевого применения 16-й воздушной в Берлинской операции был тщательно разработан. В начале апреля Г. К. Жуков еще провел и командно-штабное учение на картах — с целью уяснения обстановки и задач предстоящего штурма. Политорганы, партийные и комсомольские организации разъясняли бойцам политическое и военное значение операции по завершению разгрома фашистской Германии. А Военный совет фронта обратился к воинам с призывом к решительным действиям:
«Войска нашего фронта прошли за время Великой Отечественной войны тяжелый, но славный путь… Славой наших побед, потом и своей кровью завоевали мы право штурмовать Берлин и первыми войти в него, первыми произнести грозные слова сурового приговора нашего народа немецким захватчикам. Призываем вас выполнить эту задачу с присущей вам воинской доблестью, честью и славой. Вперед на Берлин!»
И вот в ночь на 16 апреля командующий ВВС главный маршал авиации А. А. Новиков выехал со своими помощниками на наблюдательный пункт 8-й гвардейской армии, где находилось руководство фронта во главе с Маршалом Советского Союза Г. К. Жуковым, членом Военного совета генералом К. Ф. Телегиным и командованием армии во главе с генералом В. И. Чуйковым. Мы уже заранее прибыли на фронтовой командный пункт. Кажется, все обдумано, в частях проведены занятия с каждым экипажем, всех снабдили полетными картами с курсом на Берлин, и все-таки как тревожно стучит сердце…
В 3 часа утра по берлинскому времени раздался невиданный по силе раскат артподготовки. Тысячи снарядов и мин обрушились на врага. Казалось, небо разверзлось — от вспышек орудийных залпов стало светло. И то сказать, плотность артиллерии доходила до 300 орудий на километр, не считая минометов. Почти одновременно ночные авиадивизии По-2 нанесли удар по штабам, узлам связи противника на первой и второй полосах обороны. И вдруг перед самой атакой пехоты и танков по единому сигналу вспыхнуло 140 зенитных прожекторов, освещая поле битвы. Гитлеровцы были ошеломлены, а наши войска устремились вперед.
До рассвета авиационную поддержку войск осуществляла 18-я воздушная армия А. Е. Голованова. 745 дальних бомбардировщиков наносили массированный удар по основным опорным пунктам второй полосы обороны противника. И, признаюсь, как ни суровы были эти предрассветные минуты штурма, душа моя светлела, когда из эфира летели на наш фронтовой КП позывные экипажей, которые я хорошо знал. Налет продолжался 42 минуты, за которые дальние бомбардировщики сбросили 884 тонны бомб. Над Зееловскими высотами буквально бушевало море огня — плотность удара достигала 50 тонн на квадратный километр.
С рассветом, через 25 минут после налета 18-й воздушной, поддержку и прикрытие войск начала осуществлять наша армия. Из-за низкого тумана и плохой видимости до 8 часов утра действовали только штурмовики. Они подавляли и уничтожали артиллерию, другие огневые средства противника. К 10.00 над полем боя от разрывов снарядов навис густой дым и пыль. Летчики докладывали, что целей не видно — работать трудно, и ждали распоряжений о дальнейших действиях.
Тогда я обратился к командующему фронтом Г. К. Жукову. Он отметил на моей карте прямоугольник и сказал:
— Передайте, если целей не видно, пусть бьют по этой площади!..
В бой, прорываясь сквозь огненный заслон, пошли наши штурмовики и бомбардировщики. К 13.00 они произвели 2192 самолето-вылета. Однако основной удар воздушная армия наносила только во второй половине дня, когда Г. К. Жуков распорядился, чтобы восемь дивизий бомбардировщиков и штурмовиков поддержали атаку 1-й и 2-й танковых армий: фронту пришлось последовательно прорывать множество эшелонированных в глубину оборонительных полос и позиций, плотно занятых фашистскими войсками.
С командующим 1-й танковой армией М. Е. Катуковым я познакомился на командном пункте. Среднего роста, крепкого сложения, Михаил Евгеньевич был спокоен, как-то даже по-домашнему приветлив, и этим невольно подчеркивалась уверенность прославленного военачальника в действиях своих танкистов.
Напряженно работали 16 апреля истребители. Группами по 20–40 самолетов гитлеровцы пытались прорваться к нашим боевым порядкам, поэтому нам, на фронтовом КП, то и дело приходилось поднимать звенья, эскадрильи для отражения их налетов. Своевременному перехвату противника во многом способствовала сеть радиолокационных станций, данные которых давали возможность осуществлять маневр истребителей.
За первый день Берлинской операции 16-я воздушная армия произвела 5300 боевых самолето-вылетов, из них 3200 — по артиллерийским батареям, танковым группировкам, узлам сопротивления врага. 165 самолетов сбили в воздушных боях летчики генерала И. С. Руденко.
2-я воздушная армия под командованием генерала С. А. Красовского в тот день совершила 3546 боевых самолето-вылетов. В 33 воздушных боях было уничтожено 40 машин противника. Особенно мастерски действовали на поле боя летчики 1-го и 2-го штурмовых авиакорпусов, которыми командовали генералы В. Г. Рязанов и С. В. Слюсарев. С ними мне потом пришлось беседовать, и генерал В. Г. Рязанов рассказал, что после ввода в сражение 3-й и 5-й танковых армий на их поддержание было брошено три четверти всех сил воздушной армии. Именно летчики-штурмовики мощными ударами отразили контратаки противника и помогли танкистам с ходу форсировать реку Шпрее.
Во все дни операции четко организованное взаимодействие наших авиационных корпусов и дивизий с танковыми и общевойсковыми армиями позволяло нашей оперативной группе своевременно нацеливать бомбардировщиков, истребителей, штурмовиков на объекты противника. Так было и 17 апреля, когда майор И. Н. Кожедуб сбил шестьдесят второй по счету самолет противника. И 18 апреля, когда наши Пе-2 нанесли сокрушительный удар по подошедшим резервам гитлеровцев в районе Бидсдорфа и Мюнхеберга, а летчики корпуса генерала Е. Я. Савицкого провели 84 воздушных боя и уничтожили 76 гитлеровских машин. И 21-го — когда 529 дальних бомбардировщиков 18-й воздушной армии и 184 наших ночных бомбардировщика нанесли удары по узлам обороны на восточной и северо-восточной окраинах Берлина. И 25-го — это день, когда под условным названием «Салют» мы нанесли еще два массированных удара, в которых участвовали 1486 самолетов. И 28-го — когда танковые соединения 1-го Белорусского фронта захватили несколько аэродромов и с них тут же начали работать наши истребители. Мы регулярно меняли командные пункты, едва успевая за передовыми частями.
Сейчас я хочу остановить внимание читателя на одном из наших плановых мероприятий, под кодовым наименованием «Салют», о котором я уже упоминал.
Крупные резервы противника были обнаружены разведкой в берлинском парке Тиргартен. Чтобы подавить их бомбардировщиками, командование определило для первого массированного удара 896 самолетов и для второго — 590. Но как такое значительное количество машин вывести на цель, дать им возможность отработать и вернуться на аэродром невредимыми? Это ведь не воздушный парад, а полет над утыканной зенитками вражеской территорией.
Итак, мы рассчитали: полковыми группами следовать к цели по двум параллельным маршрутам, заход на цель каждой группе выполнять с востока через озеро Грос Мюгельзее. И вот с заместителем командующего армии А. С. Сенаторовым торопимся на контрольно-пропускной пункт, расположенный в районе этого Мюгельзее. Истребители уже блокируют вражеские аэродромы, чтобы гитлеровцы не мешали работе. А семь групп «петляковых» в сложных погодных условиях проходят через наш КПП и получают разрешение бомбить с горизонтального полета вражеские объекты. Фашисты, конечно, ведут остервенелый огонь из зениток, но экипажи докладывают о выполнении задания и правым и левым разворотом уходят от цели. Как потом показали контрольные фотоснимки, «петляковы» поработали на славу: были разрушены опорные пункты, дзоты, башни ПВО, артиллерийские батареи, скопления техники.
На следующую ночь «илы» 18-й воздушной снова бомбардируют осажденную столицу рейха. 67 тонн бомб сбрасывают По-2 нашей армии. 700 боевых вылетов совершают и «петляковы» С. А. Красовского — они уже подавляют объекты южной части города.
Всего по центральным районам Берлина советская авиация произвела свыше 2400 самолето-вылетов и сбросила около 1300 тонн бомб, однако фашисты еще сопротивлялись.
Чтобы лучше управлять боевыми действиями авиации в обстановке напряженного штурма, были организованы два пункта наведения — «Восточный» в полосе 8-й гвардейской армии и «Северный» — в полосе 5-й ударной. Бомбардировщики теперь должны были проходить через них и получать подтверждение задач. Мы с А. С. Сенаторовым располагаемся опять у озера Нойз Кюдлерзее, что в 12 километрах от переднего края, — ориентир характерный. Экипажи уверенно выходят на наш КП, связываются с нами и берут курс на цели. По пути наблюдатели на крышах домов обозначают ракетницами передний край.
Кольцо окружения сжималось. Гитлеровцы уже занимали в Берлине площадь радиусом всего километров десять. Командующий 9-й немецкой армией генерал пехоты Буссе 28 апреля силами до пехотной дивизии при поддержке 40 танков сделал было попытку вырваться из котла, но на него обрушился сокрушительный огонь артиллерии. Затем в атаку пошли наши «илы». Они выбивали гитлеровцев из каменных лабиринтов Берлина. А в воздушных боях летчики-истребители уничтожили еще 46 самолетов.
Последний удар по фашистскому гнезду нанесли пикирующие бомбардировщики. Они атаковали район Мао-бит и резиденцию Гиммлера на восточном берегу Шпрее. А 30 апреля в 11.00 штурмовые группы и отряды 150-й и 171-й дивизий 79-го стрелкового корпуса начали штурм рейхстага. Мы уже ничем не могли помочь нашим товарищам-пехотинцам и напряженно ждали…
2 мая сопротивление противника в городе полностью прекратилось, и 8 мая в берлинском предместье Карлсхорст был подписан акт о безоговорочной капитуляции.
Вспоминается встреча союзников на аэродроме Темпельгоф. Еще дня за три до исторической церемонии Г. К. Жуков приказал командующему нашей воздушной армией приготовиться к приему зарубежных представителей. Для почетного эскорта и охраны от возможных диверсий выделили восемнадцать боевых машин 515-го истребительного авиаполка. Они должны были встретиться с самолетами союзников у аэродрома Стендаль.
7 мая Г. К. Жуков уточнил время вылета: по среднеевропейскому в десять часов. И тут произошла заминка — никто не мог точно сказать, сколько же это будет по московскому. Зимой отличие на два часа, на летнее время мы еще не перешли. Следовательно, вылетать истребителям предстояло не в десять, а в двенадцать часов. А как решат союзники?
8 полночь меня вызвали к командарму. Сергей Игнатьевич объяснил затруднение, но что можно было сказать? Ведь в дни войны никто не объявлял декретного времени.
— Вы разочаровали меня, Александр Васильевич, — пошутил С. И. Руденко. — Я же знаю, что переходят на летнее время со 2 июня, сейчас еще м#й, значит, еще не перешли. Разница — два часа.
— Сергей Игнатьевич, по законам науки, так, как вы говорите, а как считают союзники, мне неизвестно…
Пришлось звонить в Москву главному штурману ВВС. Но и Борис Васильевич Стерлигов не смог сказать по этому поводу ничего определенного. Только в 4 часа утра, после выхода на связь с Лондоном, раздался звонок Жукова:
— Союзники считают среднеевропейское время против московского минус два.
Самолеты с представителями союзного командования и наши истребители встретились вовремя. Над городом царила тишина. Ничто не тревожило мирное небо, к которому мы еще не успели привыкнуть.
…Пройдет много лет. Но никогда не забыть мне весны сорок пятого. В память о Берлинской операции я сохраню орден Отечественной войны I степени. Незабываемым на долгие годы останется и Парад победителей в Москве, прием участников парада.
С радостным и волнующим чувством, как это бывает после долгой разлуки с домом, вернулся я в Подмосковье, в родную мне академию, куда получил назначение на должность начальника штурманского факультета.
Перевооружение авиации на новую технику, рост ее боевых возможностей выдвигали и серьезные требования в подготовке высококвалифицированных кадров. В первые послевоенные годы многие прославленные воздушные бойцы приходили в нашу академию продолжить образование. 480 Героев, 28 дважды Героев Советского Союза ставили свой богатый боевой опыт на глубокий теоретический фундамент. Успешно учились в академиях трижды Герои Советского Союза И. Н. Кожедуб и А. И. Покрышкин.
Уставы и наставления по боевым действиям всех родов авиации, изданные в то время, разработка вопросов военного искусства ВВС всемерно учитывали опыт минувшей войны. Надо сказать, что еще в апреле 1943 года командованием ВВС был издан приказ об изучении и внедрении в частях опыта Великой Отечественной. Придавая большое значение его обобщению, в ноябре 1944 года штаб ВВС провел сборы офицеров штабов воздушных армий, авиационных корпусов и ВВС военных округов. На сборах было высказано и обобщено много нового в области боевого применения авиации, организации ее взаимодействия с войсками, управления с использованием радиосредств и передовых командных пунктов.
Генерал Н. А. Журавлев, сумевший в сжатой форме определить весьма многое, в заключительном выступлении сформулировал тогда три главные задачи: «Первая — работать оперативно. Опыт войны ежедневно извлекать из боевой деятельности ВВС, обрабатывать его и быстро доводить до подчиненных авиачастей; вторая — изучать действия авиации за короткий отрезок времени или за одну характерную операцию и на основе его делать выводы и доводить их до частей; третья — накапливать и сохранять материалы для будущей истории»[24].
И в перерывах между боями авиаторы оперативно изучали фронтовой опыт, разрабатывали новые тактические приемы, способы боевых действий. После войны в Военно-Воздушных Силах, оберегающих мирный труд нашего народа, большое внимание уделяется развертыванию военно-научной работы, обоснованию вопросов строительства ВВС. Активизировалась научная работа и в нашей Военно-воздушной академии командного и штурманского состава под руководством маршала авиации Ф. Я. Фалалеева. Совместно с учеными мы начали уделять серьезное внимание разработке наиболее рациональных способов применения современной ракетоносной авиации, использованию ею различных радиотехнических средств, электронно-вычислительных машин.
Так, для развития радиолокационной техники в нашей стране был создан специальный комитет, и я был приглашен в состав его авиационной секции. Здесь я познакомился с академиком А. И. Вергом.
Мне Аксель Иванович поручил изучение проекта длинноволнового многоантенного радиомаяка с большой дальностью действия и высокой точностью пеленгования самолетов. Кроме того, мы изучали проект наземной гиперболической радионавигационной системы. Результаты нашей работы одобрили, и позже мне довелось возглавить комиссию государственных испытаний одной из систем. Моим непосредственным помощником в этой ответственной работе был главный штурман дальней авиации генерал И. И. Петухов. В его распоряжении находился самолет Ту-4 с большим радиусом полета, и боевой опыт Ивана Ивановича оказался здесь очень кстати.
Успешно шла подготовка штурманов в академии. Ежегодно мы производили как очередной выпуск, так и очередной набор слушателей — в основном фронтовиков. Определился состав кафедр факультета — их стало пять: физики, высшей математики, аэронавигации, бомбометания, радионавигационных средств.
Кафедрой аэронавигации первоначально заведовал Б. Г. Ратц. Под его руководством был написан учебник — по существу первый строго научный труд по аэронавигации. Сразу-то после войны на факультете было очень трудно готовить научные кадры. В план исследовательских работ академии в основном включались оперативно-тактические темы, и нам приходилось просто-напросто настаивать на рассмотрении наших научных проблем — по теории аэронавигации и бомбометания. Не случайно одна из первых защит кандидатской диссертации преподавателем Г. С. Васильковым принесла большое удовлетворение всему коллективу: лед тронулся. Эта научная работа была посвящена теории магнитного компаса. Впоследствии с таким же одобрением и поддержкой прошли защиты диссертаций Н. К. Кривоносова, Г. Ф. Молоканова, В. И, Кириллова.
По-настоящему же рост научных кадров на факультете двинулся вперед, когда мы взяли за правило оставлять у себя на преподавательской работе и в адъюнктуре по нескольку наиболее способных и преданных штурманскому делу слушателей из каждого выпуска. Таким образом, за пятнадцать лет моего руководства штурманским факультетом удалось создать крепкий творческий коллектив, откуда впоследствии выдвинулись крупные специалисты военного дела. Преподаватели и адъюнкты кафедр аэронавигации, бомбометания, радионавигации, радиотехники защитили около 70 кандидатских диссертаций. Наиболее одаренные стали докторами наук. Среди них В. А. Одинцов, Л. М. Воробьев, И. И. Назаров, В. Н. Свищев, П. И. Пелюхов, Ю. И. Духон, Р. С. Демидов и другие. Их труд явился крупным вкладом в авиационную штурманскую науку.
Но, признаться, в не меньшей степени горжусь я и теми своими учениками, которые несут боевую вахту в кабинах ракетоносцев. Под знаменами, овеянными славой военных лет, наше мирное небо сегодня охраняют сыновья фронтовиков. Верные традициям, рожденным в боях, они мастерски владеют грозной техникой, умеют поражать цели днем и ночью в самых сложных погодных условиях и тактических ситуациях, проявляя в напряженном ратном труде высокую морально-политическую и психологическую подготовку. И я уверен, каждый готов выполнить боевой наказ Родины: «Все, что создано народом, должно быть надежно защищено».
Вместо эпилога
А годы летят… Прошлое уже далеко позади и, оглядываясь на даль времен, я вспоминаю, как Валерий Чкалов мечтал когда-то «махнуть вокруг шарика», Юрий Гагарин — простой смоленский парень — совершил этот исторический полет, узнать о котором Чкалову так и не довелось. Но своими каждодневными делами, всей нелегкой дерзновенной жизнью летчика-испытателя он приближал день, когда мы услышали те в века вошедшие гагаринские слова: «Ну, поехали!..»
Я счастлив, что родился в такое удивительное время. Судьба свела меня с замечательными людьми — бесстрашными, беспредельно преданными небу. И мое сердце навсегда отдано им. На 42-м году службы в армии, выйдя в отставку, я подумал было: ну все, вот и прощаюсь с авиацией… Но вдруг звонок, телефонный разговор — и я снова начальник кафедры, снова в гуще дел. Каждый день жизнь дарит мне встречи с новыми людьми, с их работой и замыслами.
А позвонил тогда Иван Федорович Петров, в то время ректор Московского физико-технического института:
— У нас есть факультеты авиационных исследований, радиофизики, квантовой электроники, физической химии, управления и прикладной математики, аэрофизики и космических исследований. Хватит для начала? Предлагаю тебе военную кафедру.
Я согласился: увлекла новизна избранных институтом научных направлений, талантливая молодежь, ученые, чьи имена были известны далеко за пределами страны. Среди них академики П. Л. Капица, Н. Н. Семенов, А. И. Берг, А. А. Дородницын, многие другие и конечно сам ректор МФТИ.
В октябре 1917 года матрос-подводник Балтфлота Иван Петров — участник штурма Зимнего дворца, один из тех, кто арестовывал Временное правительство. Затем в рядах петроградской Красной гвардии он ведет борьбу с контрреволюцией, а в 1920 году поступает учиться в школу летчиков. В 1924 году на учениях под Севастополем у пилота Петрова загорелся самолет. Он посадил машину на воду при входе в Севастопольскую бухту, выпрыгнул с экипажем за борт и, обгоревший, держался на воде, пока их не подобрали моряки. Но с авиацией Иван Федорович не расстался: впоследствии окончил инженерный факультет Военно-воздушной инженерной академии имени Н. Е. Жуковского, работал летчиком-испытателем. В начале Великой Отечественной генерал И. Ф. Петров — заместитель командующего ВВС Красной Армии.
В замечательном коллективе института, организованного на базе физико-технического факультета Московского университета, я работал уже несколько лет. И однажды получаю такое вот письмо из Америки;
«Уважаемый г-н Беляков!
Мы имеем особую честь и привилегию от имени комитета по празднованию 150-летия со дня основания Ванкувера и от имени жителей города пригласить Вас принять участие в церемонии открытия памятника, сооружаемого в нашем городе, с тем чтобы воздать должное Вам и Вашим коллегам за осуществление первого удачного перелета из Советского Союза через Северный полюс в Соединенные Штаты Америки.
Ваш вклад в развитие авиации как средства связи между народами мира явился той причиной, которая побудила нас соорудить памятник, постоянно напоминающий о Ваших достижениях, и мы верим, что он будет служить постоянным выражением чувства восхищения и дружбы между народами наших двух стран.
Мы искренне надеемся, что Вы сможете посетить в качестве нашего почетного гостя церемонии, которые состоятся в Пирсон-аэропорте, в штате Вашингтон, 20 июня 1975 года.
Наш комитет обеспечит Ваш перелет из Москвы в Ванкувер, Сан-Франциско и возвращение в Москву, а также Ваше пребывание в нашей стране.
Все необходимые подробности будут сообщены Вам в самое ближайшее время через консульство СССР в Сан-Франциско.
Многие из Ваших личных друзей готовы встретиться с Вами вновь в Ванкувере.
Искренне Ваш
Норман Смол, председатель комитета по установлению мемориала в честь перелета, совершенного советскими летчиками через Северный полюс в Америку».
Выходит, не забыла Америка наш перелет. Помнят простые американцы чкаловский экипаж, нашу краснокрылую машину… А сколько уже лет прошло!..
Первую весть об этом принес комментатор советского телевидения А. Дружинин. В 1973 году, побывав в городе Портленд, он передал мне просьбу редакции газеты «Орегон джорнал» рассказать о первом перелете через Северный полюс. Вскоре эта газета посвятила Валерию Чкалову несколько полос.
На следующий год наши журналисты И. Песков и Б. Стрельников побывали в городе Ванкувере на реке Колумбия, где им стало известно намерение американцев увековечить трансполярный перелет советских летчиков. С целью сооружения памятника был организован общественный комитет под председательством Нормана Смола, в состав которого вошел уже престарелый механик Греко, обслуживавший самолет АНТ-25 в 1937 году, инженер-строитель Петр Белов, родители которого переселились из России в США в начале XX века, Ричард Боун, Алан Коул, Фред Нэт, Кеннет Путткамер, Ллойд Штром-грен, Томас Тэйлор, Гордон Вильяме.
Комитет приступил к сбору пожертвований на сооружение монумента. Поддержав это мероприятие, губернаторы штатов Вашингтон и Орегон обратились к нашему правительству с приглашением Г. Ф. Байдукова, меня и сына Чкалова Игоря Валериевича посетить США. 20 июня 1975 года, в день посадки нашего экипажа в Ванкувере, намечались торжества открытия монумента.
И вот на пассажирском лайнере Ил-62М наша делегация летит через Северный полюс в Америку — старым маршрутом 1937 года. Мы запаслись сувенирами. Рабочие подготовили нам модели самолета АНТ-25, оттиски штурманского бортового журнала тех времен, отлитый в бронзе бюст В. П. Чкалова. Руководство полетом Аэрофлот поручил заслуженному пилоту СССР, Герою Социалистического Труда Александру Константиновичу Витковскому, и экипаж в составе командира корабля Ю. И. Зеленкова, второго пилота И. И. Рязанова, штурмана В. К. Степаненко, бортинженера В. И. Кириллова в бортрадиста И. С. Клочко блестяще справился с заданием.
В 10 часов 52 минуты по московскому времени мы прошли город Онегу. Высота 10000 метров, температура наружного воздуха минус 42 градуса. В 14 часов 11 минут самолет достиг Северного полюса. Хорошо просматривалась белоснежная ледовая поверхность с трещинами, темными разводьями. Невольно припомнился почти 40-летней давности маршрут — с Валерием Чкаловым… Но тут из пилотской кабины вышел Александр Константинович Витковский и поздравил меня и Георгия Филипповича с нашим вторым в жизни перелетом через Северный полюс.
С борта самолета была послана радиограмма на имя товарища Л. И. Брежнева, а также на дрейфующую полярную станцию СП-22 и на орбитальную космическую станцию «Салют-4», откуда мы получили восторженный дружеский ответ.
Пролет через территорию Канады нам не разрешили, тогда маршрут был изменен — вместо 122-го меридиана западной долготы свернули к берегам Аляски по 160-му меридиану — через центр «полюса недоступности». Именно здесь в 1937 году трагически погиб экипаж самолета С. А. Леваневского.
Но вот наконец и США. Первая посадка по плану — в 21 час по московскому времени на аэродроме города Сиэтл. В пути находились 11 часов, а в баках нашего «ила» горючего еще на два часа…
Как же все изменилось в авиации за эти 38 лет! По сравнению с АНТ-25 рейсовая скорость возросла почти в шесть раз, высота полета позволила идти выше всех облаков, а время сократилось с 63 до 11 часов. Однако парадокс: из Москвы вылетели в 10 часов и сели — уже в другом полушарии! — в 11 часов того же дня (по американскому времени).
На аэродроме Сиэтла нас тепло встретили члены комитета, губернатор штата Вашингтон Д. Эванс, много местных жителей. Мы были весьма тронуты этой встречей и охотно отвечали на многочисленные вопросы корреспондентов. А спрашивали о многом, например, сколько времени летели в 1937 году и сейчас, сколько горючего брал АНТ-25 (6 тони) и сколько Ил-62М (80 тонн). Георгий Филиппович подробно объяснял, почему в 1937 году мы сели в Ванкувере, а не в Портленде, — дескать, Чкалов опасался, как бы на гражданском аэродроме АНТ-25 не растащили «по кусочкам» в качестве сувениров.
После пресс-конференции мы разместились в гостинице «Вашингтон Плэзэ отель» — огромном остекленном цилиндре. Ко мне на 36-й этаж долетела чайка с желтым кольцом на ноге и заглянула в окно, Я поделился с птицей ужином, который принесли в мой номер, а тем временем телевизионная компания передавала съемки нашего пребывания в Америке.
На следующий день с утра мы все на ногах. Сначала уезжаем на осмотр авиационного завода фирмы «Боинг». Собственно, осматривали только сборочный цех площадью в несколько гектаров, раскинувшийся под одной крышей. Но чтобы увидеть оборудование всего цеха, пришлось воспользоваться электрокаром.
— На постройку этого завода ушло два с половиной года, — рассказывал представитель фирмы. — Ас 1969 года мы изготовляем здесь самолеты-лайнеры «Боинг-747». Каждый — на 350 пассажиров.
— Какова же производительность такого завода? — поинтересовался я.
Нам пояснили, что при полной загрузке завод выпускает десять самолетов в месяц. Но заказов стало мало — сократилось и число рабочих. Если раньше на заводе работали 25 тысяч рабочих и служащих, то осталось только 6 тысяч.
После осмотра завода направляемся к основному пункту нашей экспедиции в город Ванкувер. Здесь вместе с членами комитета по установлению мемориала в честь перелета чкаловского экипажа нас встречает мэр Джим Галлагер. Из членов комитета с ним Норман Сдюл, Фред Нэт, механик Греко, Петр Белов. Появился на аэродроме и наш старый знакомый — летчик Смит. Именно он перевозил экипаж Чкалова в 1937 году из Ванкувера в Сан-346
Франциско. 37 тысяч часов налетал за свою жизнь этот пилот, теперь он уже на пенсии.
Многие американцы старались протиснуться поближе к нашей делегации, вспоминали полет, показывали различные сувениры, полученные от экипажа Чкалова На память. С особенной остротой всколыхнулись в нашей памяти незабываемые часы далекого прошлого, когда мы подошли к домику генерала Маршалла. Он неподалеку от аэродрома. И хотя сейчас здесь размещаются курсы медсестер под экстравагантным названием «Кэмп файр герлс» («Лагерь пламенных девиц»), в большом холле дома его несколько фотографий чкаловского экипажа с Маршаллом, послом Трояновским. Сохранилась и книга для посетителей, куда мы занесли наши воспоминания. Фред Нэт поделился планами организации здесь музея в память о первом в истории трансарктическом перелете советских летчиков.
Затем мы поехали на церемонию основания новой улицы Ванкувера — улицы имени Чкалова. Честь открытия ее была предоставлена Игорю Чкалову, который произнес яркую, эмоциональную речь. Наше путешествие через Северный полюс произвело на него большое впечатление: он пролетел путем, проложенным его отцом почти сорок лет назад.
— Я благодарю руководителей штата Вашингтон и города Ванкувер за теплые чувства, добрую память о моем отце, — говорил Чкалов-младший. — Пусть эта улица будет дорогой дружбы советского и американского народов.
Вечером прилетел посол СССР в США А. Ф. Добрынин, и губернатор штата Даниэль Эванс организовал в честь нашей делегации прием и ужин.
Но вот наступило 20 июня — памятный для меня и Георгия Филипповича Байдукова день посадки самолета АНТ-25 в Америке. Тысячи американцев съехались на открытие чкаловского монумента, который, по замыслу его создателей, должен знаменовать собой дружбу американского и советского народов. Выполнен он в виде арки. На ней надписи на русском и английском языках в память о полете В. П. Чкалова, на лицевой стороне барельеф самолет АНТ-25, распростерший крылья над Арктикой.
И вот прозвучали мелодии государственных гимнов Советского Союза и США, открывается митинг. В своих выступлениях мы выражаем глубокую признательность организаторам торжества, всем присутствующим американцам за память о нашем полете. Выступил и А. Ф. Добрынин. Он заверил собравшихся, что воздвигнутый монумент послужит дальнейшему укреплению мира, дружбы и сотрудничества между двумя великими державами. Каждый член советской делегации передал мэру города сувениры, а Георгий Филиппович вручил ему бронзовый бюст Валерия Чкалова и ленту художественного фильма о нашем командире, замечательном летчике Страны Советов.
Сердечными встречами с американцами закончилась торжественная часть открытия монумента. Нам снова задавали вопросы, показывали сохранившиеся реликвии, связанные с давней встречей пилотов из Советской России. Так, например, одна пожилая женщина сохранила кусок галеты, которую ей подарил Валерий Чкалов, кто-то принес мешок для аварийного запаса продовольствия на АНТ-25. До позднего вечера хозяева чествовали нас. А когда мы пребывали в гостях у ветеранов авиации, мне и Г. Ф. Байдукову было объявлено, что мы приняты в почетные члены этой организации.
В последующие дни, как и в первый перелет, — сплошные приемы, банкеты, встречи. Портленд, Ванкувер, Сан-Франциско, Вашингтон…
Прием у президента США был назначен на 23 июня. И вот мы в Белом доме. Мало что изменилось здесь с того времени, как нас принимал Франклин Рузвельт, разве что посетителей стало меньше. В тридцатые годы доступ в Белый дом был более свободным.
В 13.00 нас представили президенту Форду. Газета «Правда» так описывала эту встречу:
«Вот они появляются на ступеньках. Стрекочут кинокамеры. Наши летчики в парадной военной форме, с орденами. Президент представляет их репортерам и кратко напоминает об историческом перелете советского самолета АНТ-25 через Северный полюс из Москвы в Америку в июне 1937 года. Это было знаменательным событием нашего века, говорит президент. Весь мир был восхищен смелостью и мужеством советских авиаторов. В руках у президента копия бортового журнала АНТ-25… Дж. Форд читает репортерам отдельные записи…
— Да, им было тяжело, — говорит президент, — и мы склоняем головы перед их мужеством и стойкостью. Мы очень рады, что жители Ванкувера, где тридцать восемь лет тому назад приземлился АНТ-25, создали мемориал, посвященный героическому полету, и пригласили на его открытие советских героев и сына Валерия Чкалова.
Президент говорит, что доброе дело, которое сделали простые граждане Ванкувера, и пребывание в США гостей из Советского Союза убедительно показывают стремление американского и советского народов к упрочению взаимного уважения и доверия».
Когда Форд закончил выступление, Георгий Филиппович, показав на меня, сказал президенту:
— В нашей делегации самый старший по возрасту Александр Васильевич Беляков. Он участник гражданской войны, сражался в дивизии Чапаева. Поэтому мы зовем его чапаевцем!
Дружественные, сердечные отношения с чкаловским комитетом в городе Ванкувере мы поддерживаем до сих пор. Алан Коул, Фред Нэт, Ричард Воун, Петр Белов, Стивен Смут бывают в нашей стране. Они преподносят советским людям переведенную на английский язык книгу о Валерии Чкалове с автографом Л. И. Брежнева. А уезжая домой, с восхищением рассказывают о русском гостеприимстве. Комитет выражает надежду встретиться еще раз в Ванкувере — в день 50-летия беспосадочного полета чкаловского экипажа.
Что ж, как говорится, оптимизм — флаг корабля. К той поре мне исполнится девяносто, Георгию Филипповичу — восемьдесят. Может, еще и махнем через Северный полюс в Америку…
Примечания
1
«Московские ведомости», мая 19, № 136.
(обратно)2
Толстой Л. Н. Сочинения. М. — Л., 1958, т. 69, с. 135.
(обратно)3
Энгельгард А. Н. Из деревни. 1937. (1882)
(обратно)4
Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 50, с. 328.
(обратно)5
Хлебников Н. М. Под грохот сотен батарей. М., Воениздат, 1979, с. 21.
(обратно)6
Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 50, с. 351.
(обратно)7
Фрунзе М. В. Избранные произведения. М., Воениздат, 1950, с. 90 91.
(обратно)8
Переписка Председателя Совета Министров СССР с президентами США и премьер-министрами Великобритании во время Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. М., Политиздат, 1976, т. 2, с. 21.
(обратно)9
Там же, т. 2, с. 22.
(обратно)10
Там же, т. 2, с. 23.
(обратно)11
Там же, т. 2, с. 25.
(обратно)12
КПСС о Вооруженных Силах Советского Союза. Сборник документов. М., Госполитиздат, 4958, с. 320.
(обратно)13
Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 37, с. 407.
(обратно)14
Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 45, с. 97.
(обратно)15
Виноградов А. А. Из воспоминаний о В. И. Ленине. Изд. Весьегонского советского музея, 1924, с. 8–9; Ленин в нашем сердце. Рассказы тверских ходоков. Калинин, 1958, с. 88–95.
(обратно)16
5840 километров.
(обратно)17
Поль Вайян-Кутюрье — один из руководителей французской компартии, умер 10 октября 1937 года.
(обратно)18
История Коммунистической партии Советского Союза. М., Политиздат, 1970, т. 5, кн. 1, с. 141.
(обратно)19
Архив МО СССР, ф. 35, оп. 11285, д. 118, л. 70–73.
(обратно)20
Архив МО СССР, ф. 35, оп. 7879, д. 6, л. 1 — 35.
(обратно)21
Архив МО СССР, ф. 35, оп. 11285, д. 115, л. 3–5.
(обратно)22
Мировая война. 1939–1945 годы. Сборник статей. М., Изд-во иностр. лит., 1957, с. 472.
(обратно)23
Архив МО СССР, ф. 35, оп. 11285, д. 807, л. 68.
(обратно)24
Архив МО СССР, ф. 35, оп. 11285. д. 754, л. 1–2.
(обратно)
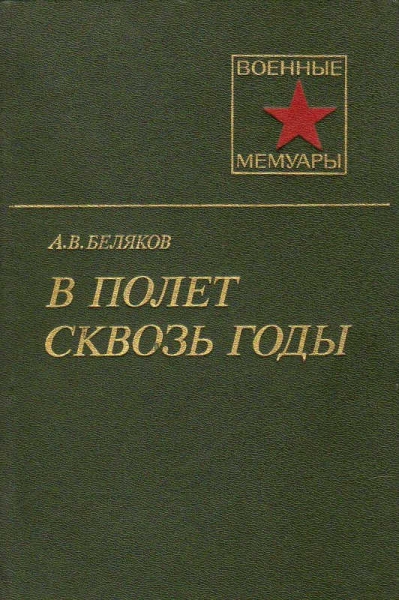
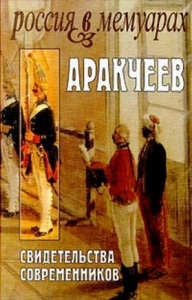





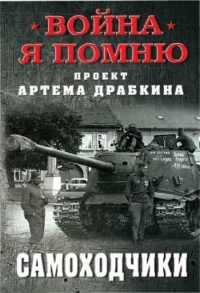
Комментарии к книге «В полет сквозь годы», Александр Васильевич Беляков
Всего 0 комментариев