Михаил Рыклин Обреченный Икар. Красный Октябрь в семейной перспективе
© М. Рыклин, 2017,
© ООО «Новое литературное обозрение», 2017
* * *
Памяти моей мамы
Сталины Сергеевны Чаплиной (1927 – 2002)
Предисловие Кайрос
Работая над этой книгой, я невольно задавался вопросом: почему пишу ее с таким опозданием? Почему только сейчас? Ведь еще двадцать лет назад были живы родственники, которых можно было расспросить о ее героях.
Но писать ее тогда в голову не приходило.
Речь в книге о дяде моей матери Николае Павловиче Чаплине, его брате – моем деде Сергее Павловиче Чаплине, их друзьях и, главное, времени, на которое пришлись их короткие, трагически оборвавшиеся жизни. О времени события, величественно называвшегося в советские времена «Великой Октябрьской социалистической революцией», а теперь снисходительно именуемого в России «большевистским переворотом». Оно наполнило смыслом жизнь целого поколения; от его имени расправились с большинством из них.
В раннем детстве о них говорили шепотом; долгие годы толком не знали даже, живы они или нет. На запросы родственников при Сталине отвечали «как полагалось» – про расстрелянных говорили: «они получили “десять лет без права переписки”»; про погибших в лагерях (от непосильного труда, голода, холода, расстрелянных), что те умерли… от первых попавшихся болезней. Лишний раз переспрашивать никто не решался – так и самому недолго было стать «врагом народа».
Когда после смерти Сталина началась реабилитация, героев этой книги, как и сотни тысяч других жертв культа личности, оправдали «за отсутствием состава преступления» (некоторых еще до тайного доклада Никиты Хрущева на ХХ съезде КПСС). А Николая Чаплина даже посмертно восстановили в партии.
Еще через несколько лет, 12 апреля 1961 года, директор ленинградской школы торжественно призвал меня гордиться родственниками, которые внесли вклад в победу Октябрьской революции. Но запомнился тот день другим – в космос полетел Юрий Гагарин.
Дети часто чувствуют фальшь интуитивно, не умея объяснить, в чем именно она состоит. Гордиться теми, от кого еще недавно шарахались как от прокаженных, не получалось. Тем более что во время оттепели канонизировалась только их жизнь – о том, как и почему они погибли, упоминать по-прежнему запрещалось.
Ни в школе, ни на философском факультете МГУ я не вступал в комсомол – организацию, одним из основателей которой был мой двоюродный дед.
Вообще заниматься историей КПСС, истматом или научным коммунизмом считалось у гуманитариев моего поколения признаком профессиональной несостоятельности и сулило разве что (хорошо оплачиваемую, но в интеллектуальном отношении третьестепенную) карьеру советского или партийного работника. В те времена действовало негласное правило: не вторгаться в контролируемую партией идеологическую сферу. Все, к чему прикасалась идеология, автоматически вызывало отторжение у тех, кто хотел заниматься наукой. Их привлекали логика, история философии, эстетика, современная западная философия. Тогда многие искали спасения в деполитизации, и я не был исключением: занимался влиянием философии Руссо на структурную антропологию Клода Леви-Стросса, потом писал о Мишеле Фуко, Жиле Делезе, Ролане Барте, Жаке Деррида, Теодоре Адорно, Вальтере Беньямине, Мартине Хайдеггере, Карле Ясперсе.
Редкие попытки говорить с выжившими родственниками о причинах Большого террора были безуспешны, наталкивались на стену молчания. Прикасаться к еще слишком свежим ранам никто не позволял.
На излете перестройки у моей мамы появилась возможность ознакомиться с ленинградским и колымским делами ее отца. В «Огоньке» в 1988 году появился рассказ Георгия Жженова «Саночки», в 1989 году «Ленинградская правда» посвятила Сергею Чаплину три объемистые статьи. Но тогда все это казалось безвозвратно ушедшим прошлым. Тем более, что упал железный занавес, появились возможности диалога с западной философией, от которой мы были оторваны три четверти века.
По-настоящему всемирно-историческое значение Октябрьской революции я оценил, как это ни странно, в Париже, в беседах с французскими философами (прежде всего с Жаком Деррида, Жаном Бодрийяром и Феликсом Гваттари) в начале 90-х годов. Их не особо интересовала русская национальная история (татаро-монгольское иго, опричнина, реформы Петра I, Александра II), но Октябрьская революция составляла исключение: они считали ее как бы частью мировой, в том числе и собственной истории, наследницей Великой Французской революции. Сталинистов среди них, естественно, не оказалось, но сочувствовавшие в молодости Ленину и Троцкому были. Выяснялось, что у революции, ставившей целью уничтожение капитализма, была теневая, скрытая от ее участников сторона, бывшая для моих собеседников главной. Большевики видели мировой характер своей революции в ее продвижении на Запад, в совершении аналогичных революций в Европе. Они ошиблись – ни одно развитое буржуазное общество не дало себя экспроприировать на манер российского. Несколько поколений западных интеллектуалов видели мировое значение русской революции в том, что она вызвала к жизни альтернативный капитализму проект, ограничив тем самым его глобальные притязания, заставив считаться с интересами рабочих, женщин, колонизированных народов. Как здесь не вспомнить диалектику Гегеля, на которую так любили ссылаться в СССР: все совершалось не так, как хотели непосредственные участники события, а так, как хотел мировой дух, проявлявший себя через них. Красный Октябрь – фрагмент мировой истории, прихотливо встроенный в историю России. В конечном итоге, бросив буржуазии радикальный вызов, он развил и стабилизировал то, что претендовал уничтожить (так же как национал-социализм, задавшийся целью уничтожить «еврейский коммунизм», способствовал стабилизации сталинского режима).
«… Историю “короткого двадцатого века”, – пишет историк Эрик Хобсбаум, – нельзя понять без русской революции и ее прямых и косвенных последствий. Фактически она явилась спасительницей либерального капитализма, дав возможность Западу выиграть Вторую мировую войну против гитлеровской Германии, дав капитализму импульс к самореформированию, а также поколебав веру в незыблемость свободного рынка благодаря явной невосприимчивости Советского Союза к Великой депрессии»[1].
Страна-лаборатория, не сумев заразить Запад своим примером, стала экспортировать через Коминтерн свою модель революции, не понимая, что мировой в глазах западных интеллектуалов она была именно как русская революция. Альтернативу капитализму удалось создать именно в этом месте потому, что в нем он только зарождался. Большевики хотели разбить старый мир, а на самом деле держали перед ним зеркало, в котором отражались его наиболее отталкивающие черты. Это послужило стимулом для перемен.
Лидером молодежи, которая «штурмовала небо», бредила мировой революцией, был в 20-е, относительно благополучные, годы нэпа Николай Чаплин. Он и его друзья, в том числе Александр Косарев, Лазарь Шацкин, Бесо Ломинадзе, поклялись посвятить жизнь делу партии. Когда по настоянию Ленина в 1921 году запрещали фракции внутри ВКП(б), они с энтузиазмом за это проголосовали. Расправу с теми, кого относили к «эксплуататорским классам», они оправдывали интересами мировой революции. Свое членство в партии понимали как добровольный отказ от права самостоятельно мыслить, иметь отличную от партийной точку зрения. Когда Николай советовался со старшими товарищами (Крупской, Орджоникидзе, Кировым) о том, как жить правильно, то есть по-ленински, его призывали верить партии и зажигать этой верой других. Возможность того, что его мнение не совпадет с голосом большинства, даже не обсуждалась, отвергалась как заведомо еретическая.
Поэтому, читая официальные, агиографические жизнеописания Чаплина, Косарева, Шацкина, можно подумать, что никаких разногласий с ВКП(б) у них никогда не было, а смерть их была результатом необъяснимого произвола, списываемого на культ личности Сталина. На самом деле, как следует из протоколов допросов Сергея Чаплина в феврале 1939 года, после снятия Николая с должности секретаря Закавказского крайкома он критиковал Сталина, обсуждал с друзьями возможность его смещения. И оба младших брата, Сергей и Виктор, его в этом поддерживали. Никакого покушения на Лазаря Кагановича братья, конечно, не готовили – даже подумать о таком кощунстве не могли, – но его самодурством возмущались и хотели видеть на его месте кого-то другого. Делалось все это не публично (фракции-то давно запрещены!), а конспиративно, келейно, в узком кругу, в глубокой тайне. Ирония ситуации заключалась в том, что лучше всего об их заговоре был осведомлен тот, против кого он был направлен, – Иосиф Сталин.
Наиболее трудным при написании этой книги был вопрос: как отнестись к ее героям? С одной стороны, они – цельные личности, посвятившие жизни победе мировой революции. С другой стороны, люди, готовые ради этой цели на все, жившие по правилам своей веры, отвергшие категорический императив как наследие старого мира, которому они объявили войну. Выбор тем более трудный, что в их числе были родственники, погибшие во цвете лет, сгоревшие в огне веры.
Материал, необходимый для написания этой книги, набирался медленно, постепенно. Сначала, во второй половине 50-х годов, это были устные рассказы Георгия Степановича Жженова о его знакомстве с моим дедом в «Крестах», этапе на Колыму, работе на лесоповале, протесте на руднике Верхний и гибели Сергея Чаплина. Их мне пересказывала мама. В те же годы семьям выдавались справки о реабилитации со стандартной формулировкой: дело закрыто «за отсутствием состава преступления».
В 70-е годы в СССР выходили выдержанные в идеологическом стиле книги и брошюры, посвященные жизни Николая Чаплина. На то, чтобы отделить содержавшиеся в них «зерна» (факты) от «плевел» (идеологически обусловленных вымыслов), понадобилось несколько десятилетий, за которые советское государство стало достоянием истории.
Во время перестройки появилась возможность ознакомиться с ленинградским и колымским делом Сергея Чаплина. В 1989 году появилась книга Георгия Жженова «От “Глухаря” до “Жар-птицы”» с рассказом «Саночки», содержащим одну из версий гибели моего деда на руднике Верхний осенью 1941 года. В августе того же года в газете «Ленинградская правда» увидели свет три обширные статьи под общим названием «Другая жизнь мне не нужна», посвященные судьбе Сергея Чаплина.
Публикации рассказов Жженова «Этап», «Поворот судьбы» и, главное, «Убийство», без которых не удалось бы написать эту книгу, пришлось ждать до 2002 года (даты выхода полной версии его мемуаров, озаглавленной «Прожитое»). А интервью, в которых артист говорил о своем чудесном спасении и гибели своего друга, появлялись до его смерти в 2005 году.
С ленинградским делом деда мне удалось ознакомиться в процессе работы над этой книгой. Некоторые его части (доносы, полученные под пытками «признания» других обвиняемых, материалы реабилитации) до сих пор засекречены.
С делом Николая Чаплина ознакомиться не разрешили. На запрос моей дочери Ксении Леоновой ФСБ России 27 декабря 2016 года ответила:
«Сообщаем, что архивное дело в отношении Чаплина Николая Павловича хранится в Центральном архиве ФСБ России за № Р-2200.
В настоящее время материалы указанного дела проходят процедуру рассекречивания в Главной военной прокуратуре и Верховном суде Российской Федерации, по окончании которой Вам будет дан ответ окончательно».
Итак, никакой гарантии, что и через восемьдесят лет с дела двоюродного деда снимут гриф секретности, нет.
Но проблема не просто в материалах, но и во внутренней готовности работать с такими текстами, как написанные с партийных позиций книги, следственные дела, доносы, газетные статьи, материалы из семейного архива. Эти книги – часть идеологической наррации с элементами агиографии; их надо воспринимать с поправкой на неизбежное искажение. Еще хуже обстоит ситуация с протоколами допросов; их ведут следователи, только что пытавшие подсудимого, а теперь делающие вид, что тот признается чистосердечно и добровольно. Что-то они могли дописать потом, что-то наверняка исказила машинистка. Понятно, что принимать их за чистую монету, игнорируя все эти наслоения, нельзя. Что касается колымского дела, то оно от начала до конца построено на доносах лагерных «стукачей», так что факты приходится добывать по крупицам.
Поэтому повествование, как правило, сопровождается по возможности краткими комментариями.
Герои этой книги, как выясняется, менялись.
Так, начиная с 1931 года Николай Чаплин, все двадцатые годы боровшийся за линию партии против Троцкого, Зиновьева, Каменева и других претендентов на ленинское наследство, стал критиковать Сталина и прощупывать возможность его смещения и замены (в качестве возможной кандидатуры на пост генсека упоминается старый большевик Ян Рудзутак).
Мой девятнадцатилетний дед из Москвы сообщает смоленскому другу о похоронах «бессмертного тела» товарища Ленина. В тридцать два года он уже пишет Берии о зверских пытках, после которых он, невиновный, дал нужные следствию показания; а еще через полтора года на Колыме, на горно-обогатительной фабрике «Вакханка», он при всех желает смерти «злому кавказскому коршуну» Сталину. В итоге он погибает, вступившись за вора по кличке Тихарь; из лагеря его угоняет такой же, как он, лейтенант госбезопасности (только не разведчик, а оперуполномоченный) по кличке Ворон. А через полгода этот Ворон спасает жизнь Георгию Жженову.
Без свидетельств Георгия Жженова эту книгу написать не удалось бы. Будущий кумир советских зрителей был последним, кто видел деда живым, не сомневаясь, что после протеста тому оставалось жить считанные дни. Он был на десять лет младше Сергея Чаплина, Октябрьскую революцию встретил в возрасте двух лет, вырос при советской власти, но тем не менее назвал в одном из поздних интервью Сергея Чаплина своим лучшим другом. А «подвиг разведчика» на руднике «Верхний» – по контрасту с его собственным чудесным спасением через полгода – стал основой жизненной философии артиста и неизменно приводился как пример непроницаемой сложности жизни (убийца его лучшего друга спас ему жизнь: вот и разберись, кто хороший, кто плохой).
В отличие от Жженова, другой герой книги, Варлам Шаламов, принадлежал к поколению «штурмовавших небо». Автор «Колымских рассказов» – самый жесткий, пожалуй, критик сталинизма – был поклонником революционной культуры двадцатых годов, многие годы носил на Колыме клеймо «троцкиста». Зимой 1937 – 1938 годов он застал поголовное уничтожение «троцкистов» в ходе так называемых «гаранинских» расстрелов.
Словом «кайрос» древние греки называли наилучшее время для осуществления какого-то дела. Кайрос для написания этой книги созревал долго. Надо было дождаться момента, когда удастся избежать глобальных оценок того, что совершали ее герои, когда у читателя на основании рассказанного появится возможность составить суждение самому. Никого из протагонистов давно нет в живых, как нет и идеологии, которая в 60 – 80-е годы поднимала их на щит, как нет и государства, которое эту идеологию исповедовало. Но, с другой стороны, нет и иллюзии, во власти которой мы находились до конца девяностых годов, иллюзии того, что советское время безвозвратно прошло и его можно, облегченно вздохнув, предать забвению.
С наступлением нового тысячелетия то, что казалось сданным в утиль истории, вдруг, подобно вампиру, ожило, налилось жизнью, получило поддержку миллионов, стало политической реальностью. В России на обломках СССР утвердился режим, который яростно отрицает свое родство с Октябрем, но является его циничным завершением. Его представители заигрывают с православием и национализмом, проповедуют туманные «духовные скрепы», при случае славят царей, но живут, действуют и, главное, мыслят по законам спецслужбы, зародившейся при Ленине, а при Сталине проникшей во все поры общества, ставшей практически всесильной. То, что раньше обслуживало коммунистическую идеологию, теперь как бы эмансипировалось от нее и зажило собственной жизнью. Короче, ожило то, что мы с таким облегчением хоронили четверть века тому назад, причем ожило без всего того, что делало Октябрьскую революцию притягательной в глазах миллионов людей. Исчезли Атланты, державшие на своих плечах буржуазный мир, в свою противоположность превратился пролетарский интернационализм, освобождение женщины, коллективизм, вера в светлое будущее. (Собственно, еще сталинизм все это извратил, но СССР продолжал уверять внешний мир, что в нем живет дух Красного Октября.)
Напротив, нынешний режим, будучи во многом продолжением сталинского, заигрывает со старой Россией.
(Было бы интересно проследить, как революционный чекизм соотносится с современным; чем преступления ради идеи, которые совершали разведчики 20-х годов – вспомним хотя бы легендарные операции «Трест» и «Синдикат», – отличаются от современных «гибридных» войн, также планируемых как масштабные спецоперации. Но это – предмет другой книги.)
Когда организатор Холокоста Адольф Эйхман в 1962 году предстал перед судом в Иерусалиме, защищаясь, он не уставал повторять: «Я не убивал евреев. Я не убил ни одного еврея и ни одного нееврея – я не убил ни одного человеческого существа». Обвинение, по словам Ханны Арендт, «потратило слишком много времени на безуспешные попытки доказать, что Эйхман хотя бы однажды убил еврея собственными руками…»[2].
Да, как выяснилось, сам нацист не убивал, а «всего только» отправил на смерть миллионы евреев…
Вспомнилось об этом на Донском кладбище в центре Москвы.
Слева от входа, совсем рядом с ним, виден мраморный памятник Василию Блохину. На фотографии он в генеральской форме, при всех орденах.
«Как же так? – подумалось. – Ведь в 1954 году Хрущев лишил его как “дискредитировавшего себя за время работы в органах” генеральских погон и орденов?»
Оказывается, в конце 60-х годов при главе КГБ Андропове регалии Блохину, не афишируя, по-тихому вернули, а в 2003 году, уже при Путине, поставили импозантный монумент вместо старого, более скромного.
В отличие от Эйхмана, Блохин, предстань он перед судом, не мог бы уверять, что собственноручно никого не убивал. С 1924-го по 1953 год в его, начальника комендатуры ОГПУ – НКВД – МГБ, служебные обязанности входило приведение в исполнение смертных приговоров: он возглавлял «расстрельную команду», подпись Блохина стоит на многочисленных протоколах расстрелов, актах передачи трупов и кремации. За три десятилетия «безупречной службы» Блохин лично убил от 10 000 до 15 000 человек; последний расстрел состоялся за три дня до смерти Сталина.
Благодаря кропотливой работе историков общества «Мемориал» за последние четверть века нам известно о человеке, который расстрелял Николая Чаплина 23 сентября 1938 года, а Александра Косарева – 23 февраля 1939 года.
«…Видных номенклатурных работников расстреливал обычно многолетний комендант ОГПУ – МГБ В.М. Блохин»[3]. Происходило это обычно в подвале здания НКВД в Варсонофьевском переулке рядом Лубянкой.
Кенотаф Николая Чаплина (так же как и кенотаф Косарева) находится на кладбище Донского монастыря. Именно там кремировали жертв коменданта Лубянки и его «специальной команды».
Сталин внимательно следил за тем, как умирали самые известные из его врагов. Его ставленник Николай Ежов хранил «именные» пули, поразившие Зиновьева и Каменева; их изъяли у него во время обыска перед арестом.
«И, конечно, только Сталин мог приказать разыграть кошмарную сцену с расстрелом осужденных по делу “правотроцкистского блока”, заставив Бухарина и Ягоду перед казнью наблюдать за смертью 16 осужденных подельников, чтобы в конце “спектакля” самим получить пули»[4].
Диктатор, о беспощадности которого ходят легенды, ценил главного «расстрельщика» Лубянки. В 1939 году Берия подготовил постановление на арест Блохина, однако, к своему удивлению, наткнулся на отказ Хозяина: «Со мной И.В. Сталин не согласился, заявив, что таких людей сажать не надо, они выполняют черновую работу»[5]. Коменданта оставили в покое; более того, при Берии он дослужился до генеральского чина; 6 февраля 1940 года ему доверили тайно расстрелять бывшего наркома внутренних дел Николая Ежова, на совести которого трагедия миллионов советских семей. В том же году состоялась расправа над польскими офицерами, в которой активно участвовала «группа Блохина»…
«Черновая работа» была воистину тяжелой. Члены «расстрельной команды» спивались, стрелялись, заболевали, сходили с ума, объявлялись «врагами народа», некоторые погибли от пули своего бывшего начальника. Среди палачей были люди из личной охраны Сталина. Историки не устают удивляться: как патологически мнительного генсека, не доверявшего никому, «не пугало, что за его спиной маячат люди, привыкшие стрелять в затылок»[6].
Ленин, Троцкий и их товарищи по партии были, как известно, «воинствующими атеистами». Поэтому, взяв власть, они – в пику категорически возражавшему православию – объявили именно кремацию предпочтительным видом захоронения. Церкви стали перестраивать под крематории. Не обошла эта судьба и храм преподобного Серафима Саровского на кладбище Донского монастыря; архитекторы Осипов и Тамонькин превратили его в крематорий: убрали иконостасы и киоты, снесли купол, заменив его 20-метровой бетонной башней, а на солее и в алтаре установили печи. (Их, кстати, поставила эрфуртская фирма «J.A. Topf und Sӧhne», впоследствии снабжавшая своей продукцией Освенцим, Бухенвальд, Маутхаузен.)
В 1927 году крематорий заработал. Его директором стал Петр Нестеренко, дворянин, полковник царской армии, завербованный ОГПУ в Париже и возвратившийся в СССР с заданием возглавить храм «огненного погребения». В 1937 – 1938 годах в крематорий с Лубянки Блохин и его люди ночью привозили трупы, с соблюдением строжайшей конспирации передавали их лично бывшему полковнику, который отвечал за их сожжение и последующее захоронение. На допросе в 1941 году арестованный «органами» Нестеренко показал: «После сжигания пепел… мною лично закапывался в специально отведенном месте во дворе крематория». Но где это место, уже никто не узнает – самого директора чекисты также расстреляли.
Стоит пройти в глубь Донского кладбища, как натыкаешься на участок в несколько квадратных метров с надписью: «Общая могила N1. Захоронение невостребованных прахов 1930 г. – 1942 гг.». Как будто их можно было востребовать! Как будто все мыслимое и немыслимое не делалось для того, чтобы скрыть место захоронения!
Конечно, это – кенотаф. Чьи-то родственники воткнули таблички с именами близких – да разве уместишь на крошечном участке имена более пяти тысяч жертв? На Донском похоронена элита Красной армии во главе с маршалами Тухачевским и Блюхером, режиссер Всеволод Мейерхольд, писатель Исаак Бабель, члены Антифашистского еврейского комитета, архиепископы… и их убийцы, в свою очередь ставшие жертвами.
В «Общей могиле № 1» символически захоронен и прах учителя моего деда, советского разведчика Григория Сыроежкина, расстрелянного на Лубянке в конце февраля 1939 года.
Символическое захоронение-кенотаф Николаю Чаплину родные обозначили в колумбарии 14 (секция 58) Нового Донского кладбища. Рядом урна с прахом его вдовы Розалии Исааковны Липской, умершей в 1975 году.
Рядом с общей могилой виден памятник, поставленный вдовой Косарева. На нем написано: «Косарев Александр Васильевич, род. 14.XI 1903 – расстрелян 23.II 1939. Прах в братской могиле рядом. Нанеишвили Мария Викторовна. 22.IX 1907 – 25.VIII 1993».
Здесь, на кладбище, два генеральных секретаря ВЛКСМ, первый и последний, вместе с их вдовами встретились в последний раз.
Правильнее сказать: их прах не в самой братской могиле, а где-то здесь, на Донском кладбище.
Жертвы не имеют имен, эта привилегия предоставлена исключительно выжившим палачам. Рядом с Блохиным похоронен его заместитель Петр Яковлев и надпись: «Дорогому любимому отцу и мужу».
В Москве десятки кладбищ. Почему Василия Блохина и его заместителя надо было хоронить именно здесь, рядом с беззащитными, беспорядочно рассеянными останками их многочисленных жертв? Если бы это было случайностью, ошибкой, памятник давно убрали бы, перенесли в другое место. Но почему-то он должен стоять именно здесь!
Такое впечатление, что кто-то хотел послать обществу сигнал: правота, как и тогда, при Сталине, все так же на стороне палачей, жертвы по-прежнему находятся под их неусыпным наблюдением.
Глядя из Европы, такое трудно себе представить, так что невольно спрашиваешь себя: не симптом ли эта зашитая раковая опухоль, это кровосмешение убийц и их жертв, этот зловещий карнавал болезни, настолько тяжелой, что по сравнению с ней любое раскаяние, любые извлеченные из прошлого уроки будут связаны с огромным облегчением?
Еще более запутанной является в плане захоронения история моего деда. В случае Николая Чаплина мы по крайней мере знаем: его расстреляли 23 сентября 1938 года, скорее всего в Варсонофьевском переулке, рядом с Лубянкой, сделал это Блохин или кто-то из его «специальной команды». Труп был отвезен в крематорий Донского кладбища и передан под расписку Нестеренко, который его кремировал и где-то там захоронил. Вдова попросила похоронить себя там, на Донском, рядом с мужем: где точно он лежит, неизвестно, но ясно, что где-то рядом, поэтому это ближний кенотаф.
Иная ситуация с Сергеем Чаплиным. Неизвестно, ни когда, ни кем, ни где именно он расстрелян (зато более чем понятно, за что). Ясно только, что на Колыме, в районе Оротукана, скорее всего в конце лета – начале осени 1941 года.
Поэтому его кенотаф на Востряковском кладбище в Москве, рядом с его женой и дочерью, является дальним, очень дальним кенотафом. Он служит не более как напоминанием о его существовании. И дата смерти на памятнике – 14 февраля 1942 года – ничем не подтверждена, возможно, просто была вписана в расстрельный приговор задним числом, как говорится, «от фонаря». Почему надо верить тем, кто до этого постоянно лгал: уверяли, что он умер от воспаления легких, потом называли другие даты и, наконец, почему-то, прямо по-кафковски, не удостоив объяснением, остановились на этой.
Тело Сергея Чаплина вместе с сотнями тысяч других лежит где-то в вечной мерзлоте. Историей оно причислено к сонму тех, кому посвятил свое творчество Варлам Шаламов. Оно где-то там… Никакая конкретизация этого «где-то там» невозможна и уже никогда не будет возможна. Такова судьба колымских мучеников.
Прах Станислава Мессинга, к которому Сергей Чаплин пришел в 1927 году записываться в разведчики, покоится в братской могиле на расстрельном полигоне Коммунарка.
Не менее трагично сложилась судьба тела Бесо Ломинадзе. В 1935 году он, как известно, застрелился, чтобы избежать позора – ареста именем советской власти. В Магнитогорске партийного секретаря уважали и поставили ему достойный памятник.
«Ломинадзе похоронили за Магнит-горой на общем кладбище. Памятник поставили железный. За одну ночь сварганили в прокатном цехе. И ограду железную сварили. Все честь по чести. По-людски. На похороны приехала жена Нина Александровна и сын Сергей. Только недолго могила была могилой. Ночью по чьему-то указанию [курсив мой. – М.Р.] сломали ограду, памятник погрузили на машину, увезли. Могилу с землей сравняли, засыпали снегом…»[7]
Уточнять, по чьему указанию уничтожили могилу и потом каленым железом выжигали память о Ломинадзе, думаю, не стоит: «отец народов» мстил и мертвым, запрещая живым о них помнить.
Даже упоминать имя Ломинадзе в Магнитогорске стало опасно. За то, что Маргарита Яковлевна Далинтер, секретарь одной из партячеек на мартене Магнитогорского комбината, на партсобрании предложила почтить память Бесо минутой молчания, ее обвинили в пособничестве врагам народа и двурушничестве. «Десять лет она платила за свой поступок в лагерях, еще десять пробыла на поселении»[8]. Двадцать лет за минуту молчания по человеку, которого Сталин приказал забыть навсегда!
Ни один из героев моего повествования не удостоился собственной могилы. Прах некоторых из них смешан с прахом их палачей. Все было сделано для того, чтобы от них не осталось следов. Даже сам факт расстрела был цинично превращен в «десять лет без права переписки».
Мертвые действительно переписываться не могут. Зато родственники годами ждали, верили, мучили себя надеждой…
1957 год, празднование 40-летия Октябрьской революции; унылое торжественное заседание в Большом театре. Мне девять лет, сижу перед крошечным черно-белым экраном. Неожиданно меня охватывает невероятно радостное чувство: как же мне все-таки повезло! Ведь я доживу до начала нового тысячелетия и, главное, до столетия Красного Октября!
Первое событие застало нас с женой в подмосковном доме отдыха. В баре все нервно толпились у телевизора; в ночь на 1 января 2000 года президент Ельцин передавал власть Путину.
Полное разочарование: ничего даже отдаленно похожего на детские грезы реальностью так и не сделалось.
Представление о том, каким должен был стать СССР в столетнюю годовщину Октября, дает диафильм «В 2017 году», выпущенный в 1960 году.
Советские люди на «межзвездных кораблях» направляются к планетной системе Альфа Центавра; они построили плотину через Берингов пролив, по которой летят «атомные поезда». Климат стал намного более мягким. Развернув Енисей и Обь, внуки Ленина спасли Каспийское море от обмеления. Они овладевают «вечным источником энергии».
Героя фильма Игоря легким щелчком по носу будят стенные часы. В кухне мальчика ждет сюрприз: мама оставила кулинарной машине записку. Он запускает ее в агрегат, невидимые лучи считывают очертания букв, ковши-автоматы отмеряют, сколько нужно пищи, ножи нарезают овощи – и вот любимый завтрак уже готов. С экрана «телевидеофона» на сына смотрит мама: она на палубе корабля, «инспектирует черноморские плавучие детские сады». Через полчаса Игорь уже в Арктике, вместе с «местными работниками» спускается в подземный город Углеград на ковше экскаватора. Там люди загорают под «кварцевым светилом», хотя наверху свирепствует пурга. «У нас тут, под землей, вечная весна», – поясняет детям главный инженер города. Климат Углеграда советские люди тоже берут под контроль. Они строят летающую станцию «на мезонной энергии», которая в силах справиться с капризами арктической погоды. «У летающей станции управления погодой очень большое будущее. Человек будет в кабинете нажимать кнопки радиоуправления – и машина полетит и усмирит ураган, уничтожит шторм».
Но находящийся при последнем издыхании капитализм продолжает вредить Стране Советов: «Только что сообщили, что последние империалисты на далеком острове испытали запрещенное мезонное оружие. Взрыв небывалой силы уничтожил весь остров и вызвал пертурбации в атмосфере на планете». Умная советская машина предсказала шторм в 12 баллов на Черном море. Ураган угрожает «плавучим детским садам», которые инспектирует мама Игоря. Отец Игоря, главный синоптик страны, хозяин погоды, устремляется на помощь на летающей станции; она отключает «мезонные молнии», и смерч утихает. Сотни людей спасены. Но ураган еще угрожает Москве, которая наряжается к празднику. Летающая станция смиряет и его. «Ликующая столица готовилась к столетию Великого Октября. Это торжество совпало с победой советской науки над природой».
Итак, природа побеждена, империалисты исчезли с лица земли. Теперь планета безраздельно принадлежит СССР.
И вот мы в 2017 году. Из многочисленных чудес, описанных в упомянутом диафильме, в нашем распоряжении имеются только «телевидеофоны» и кухонные комбайны, да и то импортного производства. Империалисты не просто не взорвали себя на последнем острове, как это грезилось создателям диафильма «В 2017 году», но значительно расширили свои владения, придвинувшись к границам России. Да и сама она рекламирует себя как развивающаяся капиталистическая страна. Овладеть природой не удалось, наоборот, зависимость от нее в стране, живущей за счет продажи углеводородов, возросла. В потеплении, которое в СССР подавалось как благо, экологи и политики видят огромную проблему.
Во главе оргкомитета по празднованию столетия революции стоит… нет, не историк, а глава службы внешней разведки. На вопрос о том, как они оценивают Красный Октябрь, три четверти читателей оппозиционного сайта kasparov.ru ответили: «…Этим событием история показала тупиковый путь развития страны, то, что “так жить нельзя”»[9]. Ответ тем более актуальный, что наша страна, похоже, уперлась в очередной тупик. Поэтому Совет безопасности России больше всего опасается, как бы празднование не повредило нынешней власти, как бы юбилеем не воспользовались ее многочисленные враги, как бы в массах не проснулась генетическая память об Октябре. Короче, революцию рано списывать в архив, объявлять достоянием истории – она часть настоящего, предмет политической борьбы.
То же относится и к ее последствиям, к миллионам ее жертв и палачей. «Мы все, выросшие в России, – внуки жертв и палачей. Все абсолютно, все без исключения. В вашей семье не было жертв? Значит, были палачи. Не было палачей? Значит, были жертвы. Не было ни жертв, ни палачей? Значит, есть тайны»[10].
Урок этой книги в том, что жертвы и палачи многократно менялись местами и выделить их в чистом виде возможно лишь в редких, исключительных случаях. Если заменить оценочное слово «палач» на более нейтральное «агент террора», то огромное большинство таких «агентов» сами в тот или иной период своей жизни были жертвами. Принадлежность к первоначальному большевизму делала партийцев по определению «агентами террора», но мало кто из них избежал расстрела во время Большого террора.
Поэтому любой пуризм (стремление выделить на одном полюсе палачей, на другом – их жертв) применительно к истории СССР не уместен; слишком часто перетасовывались и та и другая колоды, слишком редко встречались эти типы в чистом виде. Когда 30 октября каждого года у Соловецкого камня на Лубянке люди зачитывают имена жертв советских репрессий, в их числе неизбежно оказывается множество «агентов террора». Это не только члены ВКП(б), сотрудники НКВД, судьи, прокуроры, военные, но и многомиллионная армия «стукачей», без которой террор никогда не достиг бы таких эпических размеров. В стране с более чем наполовину закрытыми архивами рано расставлять точки над i, как бы этого кому-то ни хотелось.
Кайрос для написания этой книги созрел, когда у автора появилась возможность достаточно подробно описать контекст, в котором действовали герои, по возможности не прибегая к оценочным суждениям. Современникам право на оценку давало то, что они сами когда-то приняли иное решение, сделали иной выбор в том же контексте. Я понимаю Олега Волкова, пронесшего через ужасы ГУЛАГа звание русского дворянина, когда он, обращаясь к своей современнице Евгении Гинзбург, клеймит оказавшихся за решеткой «слуг режима»: «Беды и страхи, которые вы считали справедливым обрушивать на всех, кроме вашей “элиты”, коснулись вас. Грызня за власть кончилась вашим поражением. Если бы ваша взяла… вы бы точно так же стали бы избавляться от настоящих или предполагаемых конкурентов! Вы возмущаетесь, клеймите порядки, но отнюдь не потому, что прозрели, что вам открылась их бесчеловечность, а из-за того, что дело коснулось личной вашей судьбы!»[11] Но я понимаю и Варлама Шаламова, назвавшего «мучениками» всех (за исключением блатных) жертв Колымы, независимо от того, какие взгляды они исповедовали.
Такого рода суждения – право современников, которым мы не обладаем. Наша цель – как можно лучше понять случившееся.
Если моя книга хоть в чем-то этому поспособствовала, ее задача выполнена.
Я благодарен Наталии Черкесовой и Ксении Леоновой за то, что они предоставили в мое распоряжение документы из семейного архива и другие материалы, необходимые для написания этой книги.
Благодарю также Hamburger Stiftung zur Fӧrderung von Wissenschaft und Kultur и Международный колледж «Морфомата» при Кельнском университете за многолетнюю поддержку моей работы.
Посвящаю книгу моей маме Сталине Сергеевне Чаплиной в надежде, что имя (производное от фамилии «Сталин»), данное ей отцом во времена борьбы с «троцкизмом» и проклятое им на Колыме, имя, до сих пор, увы, определяющее судьбы России, станет, наконец, достоянием истории и историков.
Часть 1. Штурм неба. Николай Чаплин
К празднику революции
Мой прадед по матери Павел Павлович Чаплин, православный священник и сын священника, женатый на дочери священника, был человеком для своего сословия необычным. «Высокий, плотный, с густой шевелюрой, умным лицом», усердия в прославлении царя и отечества не проявлял, с паствой держал себя просто, с другими лицами духовного звания дружбу почти не водил. Если верить одной из советских брошюр, он был вольнодумцем: «Не гоже так, отец Павел, – корили его попы из соседних церквей при встречах. – Веру подрываешь. Народ должен бояться Бога, суда его. А ты?
– С мужика все три шкуры дерут, – стоял он на своем.
Попы крестились и спешили отойти от крамольного священника…[12]
Дружил с теми, в ком видел «честную душу, горячее сердце народных защитников». Все это не нравилось властям.
Через год после Кровавого воскресенья, 9 января 1906 года, в церкви села Мигновичи при большом стечении народа отец Павел произнес проповедь, в которой резко осудил с амвона расстрел рабочих в Петербурге.
Такое не прощалось. Жандармское управление потребовало «обуздать расходившегося попа», после чего из Смоленской епархии прислали нарочного с грозным предписанием: «Священнику Мигновичского прихода отцу Павлу надлежит без промедления явиться к архимандриту смоленского монастыря для принятия епитимьи»[13].
Вернулся он из монастыря через год, забрал детей и переехал в другое село.
Стал осторожнее, но среди священства по-прежнему слыл бунтарем. Отец Павел и его старший сын Александр, студент медицинского факультета Московского университета, собирали у себя друзей, спорили о политике, пели «бунтарские» песни. Осенью 1916 года Александра за участие в нелегальной студенческой сходке арестовали, исключили из университета и выслали под надзор полиции в Рязань.
Мать семейства, Вера Ивановна, была учительницей в земской школе. В доме устраивались дружеские вечеринки, отец Павел играл на фисгармонии. Под его аккомпанемент хором исполнялись русские и украинские народные песни, хозяйка дома с упоением читала стихи Николая Некрасова, молодежь танцевала.
В доме отца Павла светских книг было больше, чем духовных, которые он держал в основном в храме. На пасхальные проповеди съезжалось много людей, в том числе и потому, что у прадеда был замечательный баритон. В молодости он даже подумывал о карьере оперного певца. Мечта не осуществилась, но «уж всем своим пятерым детям (четырем сыновьям и дочери) он решил дать светское образование, воспитать их по-настоящему культурными людьми»[14].
Отец Павел был неуживчив, не ладил с начальством, за что оно гоняло его по самым бедным приходам Смоленской губернии. И у его жены, сельской учительницы, жалованье было более чем скромным. Семья бедствовала.
Как и все крестьяне прихода, отец Павел сам обрабатывал свой участок земли, пахал и сеял, заготавливал сено и дрова. Дети вместе с крестьянскими ребятами гоняли лошадей в ночное, пекли картошку в золе, ивовой корзиной ловили рыбу. «Подрастая, ребята учились ходить за плугом, боронить, вязать снопы»[15].
Уже после революции сын Павла Павловича, Николай Чаплин, на вопрос анкеты о социальном положении родителей написал – «интеллигенты». «И это была правда. Мария Павловна [единственная дочь отца Павла. – М.Р.] рассказывала, что в доме, куда они перебирались в очередной раз, на стену первым делом вешался портрет Льва Николаевича Толстого. Проклинать великого писателя с амвона отец Павел наотрез отказался»[16].
О накаленной атмосфере тех лет уже в советские годы в статье «Движение учащейся молодежи в Смоленске (1912 – 1913 годы). Из воспоминаний участника» вспоминал старший сын отца Павла – Александр Чаплин.
В 1912 – 1913 годах в Смоленске возникли нелегальные кружки, в которых учащиеся читали Белинского, Некрасова, Горького – авторов, не допускавшихся в школьные программы, изучали марксистскую литературу, устанавливали связи с подпольными рабочими организациями. Радикализации учеников способствовала политика царского министра просвещения Льва Кассо: он ограничил инициативу учителей, особенно историков, детальными школьными программами, усилил внешкольный надзор за учениками, поставил земские библиотеки под контроль своих чиновников. В ответ на репрессивные меры царского министра смоленские учащиеся создали подпольную библиотеку, в которой были книги Маркса, Энгельса, Ленина, Плеханова, Бебеля, Либкнехта, Лафарга, Жореса, все три тома «Капитала», «Коммунистический манифест», номера газеты «Искра» и легального большевистского журнала «Просвещение». Библиотека передавалась из рук в руки; несмотря на усилия учебного начальства и полиции, обнаружить ее не удалось.
Студенческие кружки нелегально размножали на гектографе социал-демократическую газету «Искра» и журнал «Свободная мысль».
В 1912 году ученики старших классов 1-го Реального училища объявили забастовку против произвола черносотенной администрации, полицейской слежки за учащимися. Готовилась стачка всех смоленских школ, на уроках и на переменах трещали взрывы петард. Стачка учащихся не состоялась только потому, что на одно из собраний нагрянул отряд полиции, часть присутствующих была арестована.
«Осенью 1913 года имело место организованное выступление смоленских учащихся, вылившееся в демонстрации протеста против царских мракобесов, которые сфабриковали в то время дело Бейлиса…»[17]
В 1914 году Россия вступила в войну, откликнувшуюся через три года двумя революциями, Февральской и Октябрьской.
«Все переменилось в семнадцатом году. Семья Чаплиных встретила [Октябрьскую. – М.Р.] революцию, как весну, как самый великий праздник»[18].
Вера Ивановна и сестра Александра, Мария, вступили в союз учителей-интернационалистов, участвовали в перестройке школы, вели культурно-просветительную работу среди крестьян.
Павел Павлович сбросил рясу, оставил церковь, уехал с семьей в Смоленск и начал работать в новых советских учреждениях – некоторое время в области внешкольного образования, а затем в доме просвещения Красной армии.
Александр Чаплин в феврале 1918 года стал комиссаром просвещения Смоленской губернии. 10 марта 1918 года в газете «Звезда» при его активном участии появляется обращение «К делу, товарищи!»: «Самыми активными, самыми горячими революционерами во все времена была молодежь. В Октябрьскую революцию первыми на баррикадах были юноши. Сейчас вся Россия покрывается организациями молодежи. В Петрограде, Москве… в городах провинции, в деревнях – везде, как грибы, растут организации молодежи. Цель их – служение международной революции всеми силами. На баррикадах, на митингах оружием и словом бороться против чудовищного “законного рабства”, которым сковала буржуазия народы.
Каждый член “Союза рабочей молодежи III Интернационал” несет в свою организацию все, что в нем есть прекрасного: свою молодость, знания, ненависть к угнетателям…
Юноши и девушки! У нас в Смоленске нет этой организации. Мы распылены, каждый предоставлен сам себе. Этого не должно быть! Юноши-рабочие и девушки! Идите скорее под наши красные знамена!»[19]
Но далеко не у всех семей служителей культа отношения с революцией складывались так благополучно, далеко не все были готовы складывать с себя сан и вливаться в революцию.
По российскому духовенству, уверен Варлам Тихонович Шаламов, революция ударила с особой силой. У знакомых дворян нередко отыскивались родственники, имеющие заслуги перед революцией: такие справки спасали от статуса «лишенца», давали права. У огромного большинства священников, в отличие от Чаплина, нужных новой власти доказательств враждебности царскому режиму не было. Не было их и у вологодского священника отца Тихона Шаламова, сторонника обновленчества, течения, во главе которого стоял митрополит Александр Введенский. Хотя его сторонники настаивали на светской, мирской интерпретации православия (митрополит считал Христа «земным революционером невиданного масштаба», приобщил к лику святых собственную мать и т. д.), новую, радикально атеистическую власть это не устраивало: она не осознавала пределов собственного богоборчества, видя в любых нераскаявшихся служителях культа своих врагов. «Отцу, – пишет автор «Колымских рассказов», – мстили все – и за все. За грамотность, за интеллигентность. Все исторические страсти русского народа хлестали через порог нашего дома»[20]. В 1918 году семья Шаламовых была разорена, ей стал угрожать «самый обыкновенный голод». Не спасали мамины пирожки, который одиннадцатилетний Варлам продавал на базаре. Мать семьи стояла на кухне, пыталась что-то приготовить из гнилой картошки.
Отец будущего писателя любил хорошие вещи (в доме был шкаф красного дерева, шкафы карельской березы, бобровые шубы). Писатель на всю жизнь запомнил, как в 1918 году из квартиры исчезла мебель – ее в обмен на продукты унесли местные крестьяне. Вместе с вещами у Шаламова исчезли иллюзии по поводу благостной природы простого народа, которые десятилетиями культивировала русская интеллигенция: грубо обнажилась его «стяжательская душа». «Общением с революцией были не только обыски, но страшные фигуры подлинных грабителей, выволакивающих вещи при униженной улыбке матери»[21].
Другой «прелестью» революции было уплотнение: в квартиры прежних владельцев подселяли новых жильцов, как правило членов партии. Соседом Шаламовых на какое-то время оказался кузнец, ударник производства; после работы, напившись самогона, этот Геракл нещадно избивал свою жену.
Александр Чаплин, вступив после революции в партию, сначала стал заведующим Смоленским отделом народного образования, а вскоре после этого, в 1922 году, переехал в Москву и работал заведующим сначала организационно-инспекторским отделом, а затем административно-организационным управлением Народного комиссариата просвещения РСФСР под руководством наркома Анатолия Луначарского.
Не исключено, что Александр видел в Наркомате юношу, пришедшего за разрешением на комнату в общежитии 1-го МГУ. «Я был принят в университет, но без общежития, как москвич, и жилье, крыша над головой, стало трудной неотложной проблемой… На Сретенском бульваре мы быстро отыскали кабинет Луначарского, обратились к секретарше»[22].
Разрешение в итоге выдал заместитель Луначарского, а юношей был Варлам Шаламов.
Шаламов был поклонником Луначарского, тепло отзывался в 60-е годы о его диспутах с главой обновленцев, митрополитом Введенским, знавшим шаламовского отца как одного из своих сторонников, на тему «Бог ли Христос?», восхищался его энциклопедическими познаниями и, главное, способностью доносить их до молодежи. Молодому человеку из Вологды и его товарищам нравилась манера наркома произносить «по-западному» слова «революция», «социализм», «интернационал».
И не только: «Нам нравилось, что носовой платок наркома всегда белоснежен, надушен, что костюм его безупречен. В двадцатые годы все носили шинели, кожаные куртки, кители. Моя соседка по аудитории ходила в мужской гимнастерке и на ремне носила браунинг… Это не был протест против курток, но указание, что время курток проходит, что существует заграница, целый мир, где куртка – костюм не вполне подходящий…
Он любил говорить, а мы любили его слушать»[23].
Между тем «время курток» – особенно черных, кожаных, которые с 18-го года, при Дзержинском, носили чекисты, – еще только наступало; читая эти строки, понимаешь: у юноши с такими вкусами с наступающим сталинским временем – даже независимо от политических убеждений – будут проблемы. Падения железного занавеса, отделившего СССР от остального мира, предстояло дожидаться более полувека.
«Совесть России» обличает большевиков
Что Ленин на самом деле думал о непоколебимой человечности, какую писатель-народник Владимир Галактионович Короленко неизменно – как до, так и после октябрьского переворота – проявлял по отношению к жертвам несправедливости, известно.
Он писал Максиму Горькому в 1919 году: «…Короленко ведь лучший из “околокадетских”, почти меньшевик. А какая гнусная, подлая, мерзкая защита империалистической войны! Жалкий мещанин, плененный буржуазными предрассудками! Для таких господ 10 000 000 убитых на империалистической войне – дело, заслуживающее поддержки (делами, при слащавых фразах против войны), а гибель сотен тысяч в справедливой гражданской войне против помещиков и капиталистов вызывает ахи, охи, вздохи, истерики. Нет. Таким “талантам” не грех посидеть… в тюрьме, если это надо сделать для предупреждения заговоров…»[24]
Но не считаться с огромной популярностью Короленко такой расчетливый политик, как Ленин, не мог.
Он посоветовал наркому просвещения Анатолию Луначарскому начать переписку с заслуженным народником – в надежде склонить того на сторону большевиков: «Надо попросить А.В. Луначарского вступить с ним в переписку: ему удобней всего, как комиссару народного просвещения, и к тому же писателю»[25]. Сказано (точнее, приказано: партийная дисциплина, да и Гражданская война к тому же) – сделано. 7 июня 1920 нарком приехал в Полтаву для встречи с писателем. Тот попросил его спасти пятерых местных жителей, приговоренных чекистами к расстрелу. На следующее утро он получил от уже отбывавшего в Москву народного комиссара записку следующего содержания: «Дорогой, бесконечно уважаемый Владимир Галактионович. Мне ужасно больно, что с заявлением мне [вы. – М.Р.] опоздали. Я, конечно, сделал бы все, чтобы спасти этих людей уже ради Вас, – но им уже нельзя помочь. Приговор приведен в исполнение еще до моего приезда. Любящий Вас Луначарский»[26].
На этом дело и закончилось бы, если бы не просьба Ленина, которую Луначарский, конечно, передал Короленко.
В ответ тот направил из Полтавы в Москву шесть подробных писем.
Тема первого же из них – красный террор.
И в царское время, начинает писатель, казнь без суда была величайшей редкостью.
«Много в то время и после этого творилось всяких безобразий, но прямого признания, что позволительно соединять в одно следственную власть и власть, постановляющую приговоры (к смертной казни), даже и тогда не было. Деятельность большевистских Чрезвычайных комиссий представляет пример, может быть, единственный в истории культурных народов…»[27]
Прежде это были именно эксцессы, вспышки слепой ярости толпы или зарвавшихся сатрапов; у вас же они впервые получили идеологическое обоснование и оправдание.
Все имеют право знать, кто лишен жизни, за что именно и по чьему приговору. Это самое меньшее, чего можно потребовать от любой власти: иначе жизнь людей превращается в непрерывный кошмар, свидетелями которого мы, увы! уже второй год являемся[28].
«Мне горько думать, что и вы, Анатолий Васильевич… в своей речи высказали как будто солидарность с этими “административными расстрелами”»[29].
Писатель напоминает, что́ раньше, до революции, роднило их с Луначарским: движение к социализму должно опираться на лучшие стороны человеческой природы, на «мужество в прямой борьбе и человечность даже к противникам».
Короленко вспоминает о своем посещении всемирной выставки в Чикаго в 1893 году и разговоре с тамошним социалистом, неким «мистером Стоном».
Писатель спросил, как тот повел бы себя, если бы американский народ передал его партии власть и попросил их устраивать свою жизнь.
«– Сохрани Бог, – ответил американский социалист решительно.
– Почему же?
– Ни мы, ни эта толпа, ни учреждения Америки еще к этому не готовы. Я – марксист. По нашему мнению, капитал еще не закончил своего дела. Недавно здесь был Энгельс. Он говорил: “Ваш капитал отлично исполняет свою роль. Все эти дома-монстры отлично послужат будущему обществу. Но роль его далеко еще не закончена”. И это правда»[30].
Для социализма нужно много предварительных условий, таких как политическая свобода, просвещение, развитый капитализм, легальные рабочие организации. Но почему-то «знамя социальной революции» поднимают не Америка, не Англия, не Франция, не Германия – там вроде бы в наличии все эти условия, – а отсталая Россия, в которой до Февральской революции легальных социалистических организаций вообще не было. Английские рабочие, посетив колыбель революции, направляют Ленину разочарованное письмо, а с Востока Советская республика получает одни восторженные приветствия за другими: «странствующие дервиши призывают сидящих на корточках слушателей к священной войне с европейцами и вместе к приветствию русской Советской республики»[31].
Маркс и Энгельс тут ни при чем: просто «…Азия отзывается на то, что чувствует в нас родного, азиатского»[32].
Борец за народное дело упрекает большевиков в том, что они беспринципно подыграли восставшему и возбужденному народу. Буржуа в итоге стал «буржуем», тунеядцем, грабителем, стригущим купоны; его участие в организации производства предано забвению. Вы, большевики, захватили Россию, как крепость, забыв, что в институтах, созданных русским капитализмом, есть многое, подлежащее усовершенствованию, дальнейшему развитию, а не уничтожению[33].
«Вы, Анатолий Васильевич, конечно, отлично еще помните то недавнее время, когда вы – марксисты – вели ожесточенную полемику с народниками. Вы доказывали, что России необходимо и благодетельно пройти через “стадию капитализма”…
Капиталистический класс тогда представлялся вам классом, худо, хорошо ли, организующим производство… Тактическим соображениям вы пожертвовали долгом перед истиной»[34].
Как убедить европейский пролетариат, что завоеванные им свободы – всего лишь «буржуазные предрассудки»? «Сама легкость, с которой вам удалось повести за собой наши народные массы, указывает не на нашу готовность к социалистическому строю, а, наоборот, на незрелость нашего народа»[35].
Короленко иллюстрирует свои возражения назидательной историей.
Один крупный румынский землевладелец («боярин»), подружившись с швейцарским садовником-анархистом, предложил тому приехать в Румынию и разбить в его обширных владениях «образцовый парк общественного пользования».
Садовник парк разбил, но вскоре на скамьях и стенах появились скабрезные надписи, цветы бесцеремонно обрывались, деревья обламывались, ретирады превращались в клоаки. Швейцарец обратился к жителям с требованием прекратить это варварство: «Одумайтесь, поймите, – взывал он к их совести, – это же теперь ваш собственный парк!»
Но после этого все стало еще хуже.
Садовник в итоге был вынужден возвратиться домой, объяснив «боярину», что не может оставаться в стране, народ которой еще не научился правильно вести себя в публичных местах.
Такой народ, заявил разочарованный швейцарец, «еще слишком далек от анархизма в моем смысле»[36].
«Этот случай объясняет суть моей мысли. Не всякое отсутствие навыков буржуазного общества знаменует готовность к социализму»[37].
Писатель напоминает народному комиссару, что вожди европейского социализма десятилетиями руководили легальным рабочим движением, добивались для него общественного признания. «Вы никогда не были в таком положении. Вы только конспирировали и – самое большее – руководили конспирацией, пытавшейся проникнуть в рабочую среду. Это создает совершенно другое настроение, другую психологию»[38].
Следует печальный вывод: «Вы убили буржуазную промышленность, ничего не создали взамен, и ваша коммуна является огромным паразитом, питающимся от этого трупа»[39].
Стоит ли удивляться, что никакого ответа от Луначарского Короленко не дождался? Через пятнадцать лет за каждую фразу из этих писем – и даже за подобные мысли – в СССР будут приговаривать к расстрелу. Когда знакомый наркома, профессор, не прочитав, видимо, самих писем, в 1930 году предложил Луначарскому издать его переписку с Короленко, тот честно ответил: «Что касается моей переписки с Короленко, то ее издать никак нельзя. Ибо и переписки-то не было»[40].
Хитроумный маневр Ленина, как видим, в данном случае своей цели не достиг: Короленко не только не удалось переманить на сторону большевиков, но им самим пришлось выслушать от «совести России» массу вещей, тем более неприятных, что возразить на них, не прибегая к ругани, было нелегко.
Но Короленко, в конце концов, – просто гуманист, не марксист, на него еще можно посмотреть с высоты исторического материализма, обозвать «околокадетским деятелем» и «мещанином».
Куда больше взбесило Ленина (и Троцкого тоже), что с похожей критикой выступил патриарх европейской социал-демократии, друг Энгельса, человек, у которого (как и у Георгия Плеханова) они когда-то учились марксизму, – Карл Каутский.
Из того, что демократия для своего существования в социализме не нуждается, писал Каутский, нельзя сделать вывод, что и социализм может обойтись без демократии: «Для нас социализм без демократии немыслим».
Однако вчерашняя царская империя, как известно, – крестьянская страна, а крестьяне «не являются тем классом, который способен управлять. Они охотно передоверили управление пролетарской партии»[41]. Впрочем, такое положение дел не универсальная историческая закономерность, а «продукт исключительных условий России». «Диктатура, – свысока бросает «патриарх», – как правительственная форма в России столь же понятна, как и раньше был понятен бакунинский анархизм. Но понять еще не значит признать…»[42]
Да, действительно, выражение «диктатура пролетариата» встречается в одном из писем Маркса 1875 года, но теория, согласно которой диктатура пролетариата представляет собой самостоятельный, необходимый для всех переходящих к социализму обществ исторический этап, ничего общего с известным Каутскому марксизмом не имеет. Особенно если смысл этого периода состоит в перманентном военном противостоянии той самой буржуазии, у которой народы Запада отвоевали многочисленные свободы (и которая даже на Западе, не говоря уж о России, не исчерпала, по утверждению Короленко, своих возможностей).
Тем не менее, согласно «новой теории», диктатура якобы «должна наступить во всех странах… и в тех, где народная свобода глубоко укоренилась, где она существует более столетия, где народ многочисленными кровавыми революциями завоевал и укрепил ее. Это со всей серьезностью утверждает новая теория»[43].
По сути, Каутский – так же как Короленко, только на марксистском жаргоне – категорически отказывается признать универсальность диктатуры пролетариата, объявляя ее продуктом российской отсталости.
Обозвав Каутского догматиком, схоластом, ренегатом, предателем дела революционного марксизма, Ленин выдвинул против него, как и против Короленко, свой любимый аргумент: преимущество пролетарской демократии перед буржуазной состоит в том, что она – для большинства народа, а не для привилегированного класса собственников.
Но он едва ли переубедил друга Энгельса: вместо демократии высшего порядка Каутский (и, как нам предстоит убедиться, далеко не один он) не увидел в советской России ничего, кроме кровавой, безжалостной диктатуры.
Россия, которую мы потеряли
Парадокс большевизма изначально заключался в том, что, с одной стороны, совершенная ВКП(б) революция мыслилась мировой, прогрессивной, цивилизационной, повернутой в сторону Европы. А с другой – придя к власти, новые хозяева стали безжалостно преследовать, изгонять, уничтожать в России то, что объединяло ее с Европой, тонкий культурный слой, образовавшийся за три века правления династии Романовых. Расходясь кругами, репрессии коснулись аристократии и буржуазии, потом настал черед интеллигенции, и, наконец, преследованию подверглись вчерашние соратники по борьбе с царизмом, представители небольшевистских социалистических партий и анархисты.
Срезая один культурный слой за другим, сторонники Ленина и Троцкого в итоге оставались один на один с огромным большинством населения империи – крестьянами. При этом, в отличие от эсеров, никаких иллюзий в отношении деревни они не питали: из высказываний вождей большевиков о собственнической, косной, реакционной сущности русского крестьянства можно составить объемистую книгу.
В свою очередь крестьянство приняло октябрьский переворот без всякого энтузиазма, хотя отобранная у помещиков ленинским декретом земля сельских жителей с ней на первых порах и примирила. Если бы часть дореволюционной интеллигенции не перешла на сторону революции, ситуация оказалась бы и вовсе плачевной.
Тем, чью жизнь большевики, захватив власть, начали разрушать, происходящее поздней осенью 1917 года виделось похожим на конец света, предсказанный Апокалипсисом.
Вот как описывает революционную столицу зимой 1917 – 1918 годов русская княгиня, внучка американского президента Улисса Гранта – Юлия Кантакузина: «Петроград имел какой-то пугающе-жалкий вид. Улицы были покрыты глубоким, слежавшимся снегом… передвигаться по ним было ужасно. Толпы на улицах увеличились и стали еще более необузданными, чем прежде… На каждом приличном лице отражалось горе. Неприглядные солдаты продавали разные украденные вещи, и мы купили на тротуарах несколько ценных изданий редких книг за нелепо маленькую цену. Они явно происходили из разграбленных дворцов»[44]. В Зимнем дворце придворной даме показалось странным, что «чернь» прошла мимо мебели, картин, фарфора и бронзы огромной ценности, не обратила внимания на витрину, полную подлинных древнегреческих украшений, сделанных из чистого золота. Пренебрежительно бросив: “Это все игрушки” она… бросилась срезать кожаную обшивку с сидений современных стульев и сбивать со стен позолоченную штукатурку в уверенности, что это чистое золото… Погреба разграбили, и толпа мертвецки напилась»[45].
Напоследок Кантакузина сравнила вчера еще великолепную столицу русских царей с обесчещенной, изуродованной красавицей, брошенной умирать в сточной канаве.
Другую княгиню, тоже близкую к семейству Романовых, особенно возмутило, во что Ленин и его большевики превратили дворец любимой балерины царской семьи Матильды Кшесинской
«Одно его присутствие – этого лидера мятежных солдат и рабочих – в изумительных комнатах Кшесинской было сродни святотатству. Но, увы! скоро весь дворец превратился в хлев… за очень короткое время это очаровательное жилище стало более похожим на задний двор, чем на артистический дом элегантной женщины.
…Но я хорошо знала, что нас ждет впереди, и дрожала от страха за исход, когда будет отброшена последняя видимость сдержанности, а народ даст волю всей своей невежественной жестокости»[46].
В реакциях придворной знати страх перемешан с недоумением: да что они, эта чернь, толпа, невежественные дикари делают в элегантных жилищах людей нашего круга?! Ведь еще вчера они знали свое место, казались верными, хорошо воспитанными слугами…
Читая наивные, испуганные записи придворных дам, понимаешь, почему кровавая революция произошла именно в России: люди, веками пользовавшиеся огромными – в Европе давно немыслимыми – привилегиями, не чувствуют никакой ответственности за деяния доведенных до животного состояния, озверевших от войны соотечественников, чей бунт принял столь разрушительную форму. Сливки аристократии рассуждают так, как если бы они и мятежники принадлежали к разным биологическим видам.
«Большевистский переворот, – читаем в «Воспоминаниях» Сергея Рахманинова, – застал меня в старой московской квартире. Я начал переделывать свой Первый концерт, который собирался снова играть, погрузился в работу и не замечал, что творится вокруг. В результате жизнь во время анархистского переворота, несущего гибель всем людям непролетарского происхождения, оказалась для меня сравнительно легкой. Я просиживал дни напролет за письменным столом и за роялем, не обращая внимания на грохот выстрелов из пистолетов и винтовок. Любого незваного гостя я встретил бы словами Архимеда, которые он воскликнул при завоевании Сиракуз [имеются в виду слова, сказанные великим геометром римскому воину, занесшему меч над его головой: «Non turbare circulos meos! (Не трогай моих чертежей!)». – М.Р.]»[47].
При всей погруженности в партитуру новый Архимед – аристократ, потомок молдавских господарей – «с ужасающей ясностью понял, что это начало конца» и что ему с семьей надо спасаться бегством как можно скорее. Поэтому он принял приглашение дать десять концертов в скандинавских странах за «счастливый знак расположения судьбы» и, не раздумывая, согласился. («Денежная сторона этого предложения была более чем скромная – в былые времена я бы даже не принял его во внимание»[48].)
Разрешили вывезти только самое необходимое; но когда композитор пожаловался знакомому профессору Московского университета на полную неопределенность будущего, тот нашел, чем его утешить: «“Но, дорогой мой! Вам совершенно не следует беспокоиться. Смотрите – вот ваш капитал”, – и он показал на мои руки»[49]. Профессор не ошибся – великого пианиста на чужбине кормили его руки.
Остальное – поместье, деньги, квартира – осталось в России.
Накануне Рождества 1917 года Рахманиновы пересекли наконец финскую границу. Композитор опустился на колени и поцеловал землю Родины, дороже которой ничего не было в его жизни. В Стокгольме, беззаботно праздновавшем Рождество, уложив дочерей спать, супружеская пара заперлась в гостиничной спальне: им было не до окружающего веселья, скорее хотелось плакать.
Семья писателя Владимира Набоков жила в доме на Большой Морской улице, в непосредственной близости от Зимнего дворца. Александр Керенский уверил Набокова-старшего, одного из лидеров кадетов, что имеет в своем распоряжении более чем достаточно сил, чтобы подавить готовящийся бунт большевиков. Но когда он начался, оказалось, что председателю Временного правительства нечего противопоставить восставшим. Ему пришлось срочно спасаться бегством на машине американского посольства (после того как Набоков-отец не смог предоставить в его распоряжение свой автомобиль). На следующее утро улицы уже патрулировали кронштадтские матросы, и когда восемнадцатилетний тенишевец Владимир Набоков стал, как обычно, бить по груше в библиотеке отца, в дом через окно вломились вооруженные люди. Дворецкому стоило немалого труда убедить их в том, что юноша не имеет отношения к казакам и юнкерам[50]. Полной неожиданностью для Набоковых революция не явилась. Осенью 1917 года будущий автор «Лолиты» даже написал стихотворение под названием «Революция»:
Я слово длинное с нерусским окончаньем нашел нечаянно в рассказе для детей, и отвернулся я со странным содроганьем. В том слове был извив неведомых страстей: рычанье, вопли, свист, нелепые виденья, стеклянные глаза убитых лошадей[51].Глаз убитой лошади, упавшей с разведенного моста, через десять лет крупным планом, замедленной камерой покажет Сергей Эйзенштейн в фильме «Октябрь». В отличие от сцен штурма Зимнего дворца, ставших во многом продуктом его творческой фантазии, трупов лошадей в Петрограде в то время действительно было много.
Оставшись в Петрограде, чтобы баллотироваться в Учредительное собрание, Набоков-старший поспешил отправить сыновей Владимира и Сергея в Крым в вагоне первого класса. По пути юноши обороняли купе от штурмовавших солдат, те, забравшись на крышу, помочились на них через вентиляционную трубу, а когда дверь не выдержала их напора, Сергею, натуре артистической, удалось изобразить симптомы тифа.
Когда отец присоединился к ним в Крыму, на полуострове уже начиналась кровавая бойня.
За несколько недель одна из состоятельнейших семей России была, как и десятки тысяч ей подобных, ограблена… почти до нитки. В мемуарах «Другие берега» Набоков констатирует: «Между тем жизнь семьи коренным образом изменилась. За исключением некоторых драгоценностей, случайно захваченных и хитроумно схороненных в жестянках с туалетным тальком, у нас не оставалось ничего»[52].
6 февраля 1918 года писатель Иван Бунин заносит в дневник: «Встретил на Поварской мальчишку-солдата, оборванного, тощего, паскудного и вдребезги пьяного. Ткнул мне мордой в грудь, и, отшатнувшись назад, плюнул на меня и сказал: “Деспот, сукин сын!” На улицах сплошь откуда-то взявшиеся преступные, прямо-таки сахалинские [на остров Сахалин до революции ссылали каторжников. – М.Р.] рожи, хари, морды. Римляне своих каторжников клеймили, а этих и клеймить не надо – и так все ясно… В кухне у П. солдат, толстомордый… Говорит, что, конечно, социализм сейчас невозможен, но что буржуев все-таки надо перерезать»[53].
И хотя до революции будущий Нобелевский лауреат, потомственный дворянин едва ли относил себя к «буржуям», какое это теперь имеет значение в стране «чрезвычаек», «комиссаров» и «революционных трибуналов»?! «Почему комиссар, почему трибунал, а не просто суд? Все потому, что под защитой таких священно-революционных слов можно смело шагать по колено в крови…»[54]
В начале 1920 года писатель покинул Россию.
В стане противников октябрьского переворота были не одни аристократы и капиталисты – русская интеллигенция судила детище большевиков еще суровей.
Потрясенная когда-то Кровавым воскресеньем, поэтесса Зинаида Гиппиус написала: «Да, самодержавие – от Антихриста», и действительно вместе со своим мужем, писателем Дмитрием Мережковским, годами с ним боролась. Мировую войну она также осудила.
Но после октябрьского переворота не было у большевиков более страстной противницы, чем Гиппиус: каждый день этой власти, сокрушается она в дневнике, «это лишнее столетие позора России в грядущем… Теперь у всех одна, узкая, самая узкая цель: свалить власть большевиков… Все равно чем, все равно как, все равно чьими руками»[55].
«Бывшими людьми» Гиппиус называет вовсе не тех, кого так именуют большевики (лишенных прав представителей старой России), а интеллигентов-перебежчиков, «побежавших сразу за колесницей победителей»[56]. В ее глазах эти продавшиеся люди не заслуживают ни малейшего уважения, и если для своих старых друзей, Александра Блока и Андрея Белого, симпатизировавших новой власти, поэтесса еще находит слова оправдания, объявляет их «потерянными детьми», то к людям, пошедшим на службу новому режиму, она не проявляет никакого снисхождения. Особенно достается Всеволоду Мейерхольду: «Вс. Мейерхольд – режиссер-“новатор”… Совсем недавно в союзе писателей громче всех кричал против большевиков. Теперь председательствует на заседаниях театральных с большевиками. Надрывается от усердия к большевикам, этот, кажется, особенная дрянь…»[57]
Предательство людей ее круга (она пишет «за упокой», считает их как бы мертвыми), кажется, возмущает Гиппиус даже больше, чем расстрел бывшего императора («Щупленького офицерика не жаль, конечно… Он давно был с мертвечинкой…»[58]).
Захватывает поэтессу и другое настроение, все шире распространяющееся в кругах противников революции, – антисемитизм. «…Обеими руками держу себя, чтобы не стать юдофобкой. Столько евреев, что диктаторы, конечно, они. Это очень соблазнительно»[59].
Гиппиус поддается этому соблазну, наблюдая, как новая власть бесцеремонно ставит старую на учет:
«6 марта [1918], вторник
…На днях всем Романовым [членам царской семьи. – М.Р.] было велено явиться к Урицкому – регистрироваться. Явились. Ах, если бы это увидеть! Урицкий – крошечный, курчавый жидочек, самый типичный нагляк. И вот перед ним – хвост из Романовых, высоченных дылд, покорно тянущих свои паспорта. Картина, достойная кисти Репина!..»[60]
Ближе к концу 1918 года Гиппиус стало ясно, что «большевики физически сидят на физическом насилии и сидят крепко»[61]. В отличие от царизма, также опиравшегося на насилие, новым хозяевам России, чтобы укрепиться и «достигнуть крепости самодержавия», надо «увеличивать насилие до гомерических размеров»[62], что они и делают. Тут на помощь им приходит мазохизм русского народа, который потакает власти тем больше, чем больше она себе позволяет.
Весь 1919 год Гиппиус и Мережковский ищут возможности вырваться из России, и, когда в начале 1920 года это им наконец удается, супруги поселяются в Париже, уже навсегда. У них там, к счастью, была квартира.
Философ Федор Степун, близкий к партии эсеров, сравнивает ленинский проект пролетарской революции в крестьянской России с сотворением мира.
«Величественность, с которой Ленин, в пример пролетарской Европе и к ужасу крестьянской России, принялся за построение коммунистического общества, сравнима с рассказом о сотворении мира, содержащемся в книге Бытия.
День за день он обрушивал на Россию свое ужасное “Да будет”.
Чтобы в мире восторжествовал коммунизм, нужно было отвергнуть Бога и уничтожить его церковь.
Провозглашался один декрет за другим, но коммунизм так и не наступил»[63].
Глава Временного правительства, эсер Александр Керенский – его правильнее называть главой побежденных – делает ответственным за октябрьский переворот лично Ленина с его революционным фанатизмом. Интересы родины «этот полубезумный фанатик» принес в жертву ожидаемой мировой революции; предательство стало в его глазах революционным долгом. Россия для Ленина – не более чем трамплин к социалистической революции в Западной Европе. «России, главному оплоту европейской реакции, предстояло стать первой, после чего отсталая аграрная страна… превратится в центр деятельности “мирового авангарда пролетарской революции” в ожидании социалистического переворота, который вот-вот совершится в западных странах»[64]. В ноябре 1917 года Ленин с Зиновьевым ждали революции на Западе не позже чем через полгода.
Керенский уверен: коммунистическую тиранию породило самодержавие. При царском режиме народ привык враждебно относиться к государству. Монополия самодержавия на внешние проявления патриотизма в конце концов лишила народ самого этого чувства. Поэтому, когда большевики на немецкие деньги стали готовить государственный переворот, должного противодействия им оказано не было. О собственной вине бывший глава правительства пишет менее охотно (о ней много в мемуарах современников).
С лета 1917 года за безопасность царской семьи стал отвечать Керенский. Когда Англия отказалась принять родственников своей королевской семьи, Романовы были отправлены в Тобольск, считавшийся тогда безопасным. Туда их по приказу Керенского сопровождал военный комендант Царского Села полковник Евгений Кобылинский. В своих мемуарах он рисует грустную картину быта вчерашних властителей России.
«Как-то царь надел черкеску и повесил на пояс кинжал. Солдаты сразу заволновались и стали кричать: “Их надо обыскать, они носят оружие!”… Обратившись к царю, я объяснил ему ситуацию и попросил перестать носить кинжал»[65].
Далее случилось следующее. Дорофеев, солдат Четвертого полка, подошел к Кобылинскому и сказал, что на митинге солдатского комитета принято решение: бывший император обязан снять портупею. Полковник попытался переубедить Дорофеева. Тот вел себя очень агрессивно, был вне себя от злости. «Я сказал, что возникнет очень затруднительное положение, если император откажется подчиниться. “Если откажется, – ответил солдат, – я сам сорву их”. – “Но, предположим, – сказал я, – он в ответ ударит тебя?” – “Тогда и я ему врежу”, – ответил Дорофеев. Что тут еще можно было сделать? Я начал было убеждать его, говоря, что… император – брат английского короля, из-за чего могут последовать очень серьезные осложнения. Я посоветовал солдатам запросить инструкции из Москвы, и мне удалось убедить их – они ушли связываться с Москвой… После этого император стал носить черную куртку на меху без портупеи»[66].
Когда караулом командовал большевик Шикунов, его солдаты вырезали на деревянных сиденьях качелей, на которых любили кататься великие княжны, «самые неприличные слова».
Читая такое, понимаешь: все они умерли еще до того, как 17 июля 1918 года царскую семью расстреляли в подвале Ипатьевского дома.
Так обращаться можно только с обреченными людьми.
Видевший Ленина
Глубже других братьев в Октябрьскую революцию ушел второй по старшинству сын отца Павла Чаплина – Николай. Еще осенью 1917 года, он, пятнадцатилетний ученик Александровского реального училища в Смоленске, зачитывал соученикам программные лозунги большевиков.
В семнадцать лет Николай вступил в РКП(б), стал одним из создателей комсомола.
Как-то, занимаясь организацией комсомольских ячеек в одном из уездов Смоленской волости, Духовщине, юный агитатор попал в руки кулаков.
Его избили до полусмерти, связали и бросили в клеть с зерном.
Так и погиб бы комсомольский активист, если бы девушка-комсомолка его не спасла, не перерезала ремни, не подсказала путь назад.
Сестра Николая, Мария, вспоминала: «Мы были рады, что он вернулся с Духовщины живым. Говорю живым, потому что попавшие в лапы к бандитам чаще всего не возвращались»[67].
Николай буквально горел на работе, на личную жизнь времени не оставалось. В восемнадцать лет с удивлением заметил, что неравнодушен к Розе, бывшей однокласснице, которая теперь работала в райкоме, бредила, как и он, революцией. Назначил ей свидание. «Я взволнован и обрадован, но, как всегда, сдержан. Вероятно, она обиделась, но что поделаешь, такова моя натура. Я все время думаю о ней, и тут – противоречие. Нужно работать, а личные переживания мешают. Настроение же мое жизнерадостное. Я горы готов свернуть»[68].
Много лет спустя жена Николая, Розалия Исааковна Липская, вспоминала: «Когда в те светлые, юные годы мы с Колей решили, что судьбы наши связаны навеки, он меня предупредил: “Я – коммунист, значит, всегда и во всем буду руководствоваться интересами партии. Сегодня я здесь, завтра могу быть переброшен на самую далекую окраину, сегодня я на одной работе, завтра найдут нужным перевести меня на другую работу, самую маленькую и низовую. Так что будь готова к переездам, трудностям, лишениям”»[69].
Так оно в те годы и было: коммунистов партия постоянно перебрасывала с места на место.
Не успел Николай возглавить Смоленский губком комсомола, как в конце апреля 1920 года из центра было приказано направить «тов. Чаплина в распоряжение ЦК РКСМ». Там, в Москве, от имени партии «девушка в теплом свитере», секретарь ЦК РКСМ Римма Юровская (дочь старого большевика, чекиста Якова Юровского, руководившего расстрелом царской семьи) незамедлительно направляет его в Тюмень – мобилизовывать молодежь на фронт, поднимать разрушенное хозяйство. Она подробно рассказала Николаю о том, с чего начинать, как сплотить комсомол Тюмени, к кому обратиться, если возникнут трудности. «“Теперь ты понимаешь, что поручение Цекамола очень важно? Что работа в Сибири – это тоже фронт?” – спросила Юровская.
– Ясно, – встал Николай. – Еду»[70].
И как был, без всякого багажа, так и поехал.
«И, как и прежде на Смоленщине, Николая можно было редко застать в губкоме. Вместе с комсомольцами он помогал инвалиду-красноармейцу рубить дом, рассказывал крестьянским парням и девушкам о Ленине и Красной Москве, пел с ними песни и грузил дрова…»[71] 11 сентября 1920 года Николай открывает Второй губернский съезд тюменского комсомола. Предлагается почтить память Карла Либкнехта; в помощь западным братьям комсомольцы – а кругом еще идет война, в стране голод – собирают 145 тысяч рублей. Некоторые ячейки в полном составе вступают в ряды Красной армии, каждый пятый делегат отправляется на продовольственный фронт.
В перерывах делегаты, двум третям из которых еще нет восемнадцати лет, пели революционные песни, «а [местный комсомольский лидер. – М.Р.] Шостин выходил в середину круга и звенящим от волнения голосом читал Блока»[72].
В помощь голодающим детям Москвы и Петрограда сибирские комсомольцы проводят «неделю сухаря»; два украшенных плакатами поезда с «хлебными подарками», мукой, зерном, сухарями уходят по направлению к столицам.
Так, в гуще молодежи, жили тогда, в начале 20-х годов, комсомольские вожди.
Дочь будущего вождя комсомола Александра Косарева, Елена, вспоминала, как отец, вернувшись в Москву на работу в Бауманский райком, удивил свою мать, отказавшись столоваться и ночевать дома. Из Питера он привез привычку жить коммуной, где общими у них с «комсой» были и скудный паек, и книги, и одна-единственная пара «выходного» обмундирования. На уговоры матери будущий генсек Цекамола не поддался; ответил ей, как отрезал: «Понимать надо. К коммунизму идем»[73].
Николая Чаплина избрали секретарем губернского комитета комсомола, послали делегатом на III Всероссийский съезд РКСМ.
Поехали в Москву вместе с Иваном Шостиным, комсомольским активистом, сражавшимся с казачьими отрядами атамана Дутова, с колчаковцами. Школьной парты Иван, сирота, подмастерье сапожника, не знал; грамоте выучился уже взрослым, но страстно хотел овладеть марксизмом, настоящей революционной теорией. Он признавался: «…Мы, конечно, изменяем мир. И в этом наша сила. Но какие еще мы-то сами, комсомольские активисты, цуцики в теории! Черт подери, как мы еще мало знаем! Учиться надо, учиться!»[74]
Николай рассказывал своему воспитаннику – младшему брату, четырнадцатилетнему Сергею, – как по пути в Москву они с Шостиным выходили из поезда рубить дрова, чтобы дать машинисту возможность довести состав до следующей станции, как прибыли в Москве в 3-й Дом Советов, колыбель многих съездов комсомола. Один из участников вспоминал: «Установив, кто где будет помещаться, все ринулись в столовую, чтобы получить свою осьмушку хлеба, чай с сахарином, суп из воблы, жаркое из воблы и что-то еще, обозначенное в меню как “сладкое”. Столовая и комнаты общежития напоминали дискуссионный клуб. Шум общего спора мог бы заглушить грохот Ниагарского водопада…
Все страшно обрадовались, когда узнали, что доклад завтра будет делать сам Ленин.
Ночью во всех комнатах общежития с разных точек зрения обсуждался предстоящий ленинский доклад.
– Доклад о международном положении? Очень хорошо!
– Да нет же! О текущем моменте.
– А разница какова?
– Уж Ленин знает.
Делегаты старались предвосхитить доклад:
– И достанется же всем империалистам и социал-предателям!
– Достанется определенно. Все-таки он будет, наверно, больше говорить о Польше и Врангеле.
– Ничуть не бывало! Центральным пунктом будут наши союзные (комсомольские) разногласия.
– Это в докладе о международном положении?
– А что? Разве не решаем мы все вопросы в мировом масштабе?
Один из фронтовиков, ясноглазый парень с рукой на перевязи, рассуждал:
– Портреты видел, а в глаза не приходилось. Наверно, он высокий – просто сказать, огромный. Да и как Ленину быть другим?”»[75]
За несколько часов до открытия съезда делегаты, собравшись в зале на Малой Дмитровке (ныне улица Чехова), уже ждали появления Ленина. Зал был переполнен, негде яблоку упасть, и он гудел – продолжались споры, начавшиеся в 3-м Доме Советов. Всюду серые шинели и черные кожанки, почти все из-за холода сидели в верхней одежде, многие даже не сняли папах, диковинных картузов и приплюснутых кепок.
Большинство только вернулось с фронта или готовилось отправиться на фронт. Немало было среди них руководителей и участников продотрядов. Многие создавали группы и отряды, помогавшие крестьянам, в первую очередь семьям красноармейцев, убрать урожай, поддержать хозяйство, починить избы.
Вправо от сцены – все первые ряды за питерской делегацией. Влево – московская делегация, за ней расположились украинцы, уральцы, туляки, владимирцы. Члены других делегаций разбросаны по всему залу.
Питерцы первыми догадались запеть – и вот уже гремят в зале «Яблочко», «Смело мы в бой пойдем» и «Красное знамя».
Но вот делегаты взглянули в угол сцены – и сердце замерло в груди. Хотелось… быть поближе к невысокому улыбающемуся человеку, одетому в темное пальто с черным бархатным воротником…
У входа на сцену стоял Ленин…
Одним могучим дыханием весь съезд, как один человек, произносил только одно слово:
– Ленин! Ленин! Ле-е-нин!
Сквозь густые ряды делегатов пробирался Ильич к столу президиума, на ходу снимая пальто и приветствуя кивком головы тех, с кем был знаком. Положив пальто на стол, он достал из кармана пиджака лист исписанной бумаги, очевидно конспект речи, и сразу приготовился говорить.
Но овация все разрасталась. Рукоплескания сотрясали зал. Охваченные общим подъемом, делегаты не хотели да и не могли успокоиться…
Владимир Ильич то внимательно смотрел на свой конспект, то оборачивался в сторону президиума, всем своим видом прося успокоить аудиторию. Председательствующий, наконец, начал усиленно звонить, но в общем грохоте овации звона колокольчика почти не было слышно. Тогда Ленин заложил палец левой руки за борт жилета, а правой рукой сделал несколько успокаивающих жестов, явно призывающих дать ему возможность начать доклад. Овация все продолжалась. Ленин вынул из жилетного кармана часы, показал на них пальцем. Однако и это не помогло.
Ильич оглядел зал, снова поднял руку – и на этот раз все стихло… В то самое мгновение, когда воцарилось молчание, Ленин заговорил – и заговорил так спокойно и деловито, как будто давным-давно беседует со съездом.
– Товарищи, мне хотелось бы сегодня побеседовать на тему о том, каковы основные задачи Союза коммунистической молодежи и в связи с этим – каковы должны быть организации молодежи в социалистической республике вообще[76].
Делегаты благодушно переглянулись. Задачи Союза молодежи казались им хорошо известными: надо громить буржуев. Били Краснова, били Колчака, Юденича, Деникина, били польских панов. Кого еще надо бить?
Ленин стал расхаживать по крохотному свободному пространству сцены. Сначала он двигался очень осторожно, чтобы не задеть делегатов, сидящих плотным кольцом на полу. Но вот своеобразная «трибуна» освоена, и оратор движется все быстрее, подчас оживленно жестикулируя…
– И вот, подходя с этой точки зрения к вопросу о задачах союзов молодежи, я должен сказать, что эти задачи молодежи вообще, и союзов коммунистической молодежи, и всяких других организаций в частности можно было бы выразить одним словом: задача состоит в том, чтобы – учиться.
Ленин произнес слово «учиться» как-то отдельно от остальной фразы, строго и твердо. Съезд был потрясен…
Надо учиться! Но почему об этом заговорили именно сейчас? А фронты? А разруха?..
Ленин спокойно продолжал свою речь, слегка наклонившись вперед.
– Понятно, что это лишь «одно слово». Оно не дает еще ответа на главные и самые существенные вопросы: чему и как надо учиться?.. Союз молодежи и вся молодежь вообще, которая хочет перейти к коммунизму, должна учиться коммунизму.
Большинство делегатов почувствовали облегчение. Учиться коммунизму – это понятнее, чем просто учиться… Неужели тут что-то надо объяснять? Разве самый лучший способ учиться коммунизму не заключается в том, чтобы громить буржуев на фронте? Вот почему и надо скорее перейти к описанию военного положения!
Но речь Ленина не свернула в русло вопроса, обозначенного в повестке дня…
– Без работы, без борьбы книжное знание коммунизма из коммунистических брошюр и произведений ровно ничего не стоит, так как оно продолжало бы старый разрыв между теорией и практикой, тот старый разрыв, который составлял самую отвратительную черту старого буржуазного общества.
Снова радостная реакция в зале. Каждый раз, когда произносились эти слова – «работа» и «борьба», – съезду казалось, что все становится яснее, потому что требование борьбы и работы было для нас понятнее и привычнее, чем требование учиться…
Ильич присоединял к одному доказательству другое, неустанно повторяя разными сочетаниями одну основную идею:
– Коммунистом можно стать лишь тогда, когда обогатишь свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество…
Внезапно он остановился и снова, стоя у самого края сцены, чуть наклонившись вперед, стал говорить о том, что поколение, которому сейчас пятнадцать лет, увидит коммунистическое общество. Все затаили дыхание.
Осторожно перешагивая через наши ноги, поминутно извиняясь, медленно пробирается к Ленину воронежский делегат, одетый в нелепую женскую кацавейку с «буфами» на плечах. Он ничего не видит, кроме Ильича. Он идет как завороженный…
Воронежский делегат близко подошел к самому краю стола и остановился за плечами Ленина. Кто-то дернул его за рукав, чтобы заставить отойти, но он не отошел. Владимир Ильич почувствовал на себе его упорный взгляд и оглянулся. Через миг Ленин положил карандаш и всем корпусом повернулся к подошедшему, ожидая вопроса:
– Владимир Ильич! Неужели я?.. Я увижу коммунистическое общество?
Глаза Ленина засияли.
– Да, да! – сказал он громко и взволнованно. – Вы! Именно вы, дорогой товарищ!
Воронежец по-детски всплеснул руками, медленно повернулся и ринулся вперед, забыв про сидящих на сцене людей. Звонкие крики делегатов, которым он наступал на ноги, сопровождали его бег…[77]
«“Какими должны быть взаимоотношения РКСМ с Российской Коммунистической партией (большевиков)?” – спрашивали из зала.
Владимир Ильич ответил, что Союз молодежи должен руководствоваться общими директивами Коммунистической партии, если Союз молодежи действительно хочет быть коммунистическим»[78].
Эта речь Ленина вошла в школьные и вузовские программы, в СССР ее читали миллионы. При этом не упоминалось, что убедил Ленина выступить с ней Лазарь Шацкин. Он же председательствовал на заседании съезда 2 октября 1920 года. В неполные пятнадцать лет (sic!), в мае 1917 года, уроженец Польши, выходец из богатой еврейской семьи Шацкин вступает в партию большевиков и с головой уходит в политическую работу. Он стоял у истоков не только комсомола, но и КИМа (Коммунистического интернационала молодежи); с подписанным Лениным мандатом ездил в Европу приглашать на первый съезд КИМа делегатов во время Гражданской войны. В шестнадцать лет стал автором уставных документов большевистских молодежных организаций.
И, конечно же, с Николаем Чаплиным они не просто вместе работали, но дружили, хотя в одном со временем ставшем решающим, пункте их взгляды не совпадали. По настоянию Шацкина 1-й съезд комсомола провозгласил: «Союз является независимой организацией», – стало быть, не может просто, как утверждал Ленин, «руководствоваться общими директивами Коммунистической партии».
Другой комсомольский лидер тех лет, Александр Мильчаков, вспоминал: Николай Чаплин на съезде был в гуще бесед и товарищеских дискуссий. Уже тогда они до хрипоты спорили, выступали против двух наметившихся отклонений от линии партии: против тех, кто предлагал превратить комсомол в узкую организацию, состоящую из вполне сознательной и политически воспитанной молодежи, как бы в «юную коммунистическую партию» (тогда он составил бы конкуренцию партии, чего меньше всего хотел Ленин); и против тех, кто ратовал за создание на фабриках и заводах групп беспартийной молодежи как переходной ступени к комсомолу[79].
Эта речь заслуживает комментария, пусть и по необходимости краткого.
В Античности возвышенным назывался стиль ораторской речи, направленный на то, чтобы вызвать энтузиазм слушателей перед лицом грозящей опасности, заставить их поверить в ее преодолимость. Английский философ Берк также связывал с возвышенным все, что бесконечно, безмерно, необъятно, вызывает страх, обостряет чувство самосохранения. И Кант в «Критике способности суждения» называет особенностью возвышенного несоразмерность между предметом и способностью человеческого восприятия: предмет эту способность заведомо превышает. Сравнивая возвышенное с прекрасным, немецкий философ делает важное замечание: «Основание для прекрасного в природе мы должны искать вне нас, основание для возвышенного – только в нас и в образе мыслей, который привносит возвышенность в представление о природе»[80].
Если вместо слова «природа» поставить слово «революция», мы попадаем в контекст ленинской речи.
И оратор, и аудитория находятся в состоянии возвышенного, которое пребывает внутри них и которому ничто внешнее, находящееся вне них, не соответствует. Вовне идет война, несущая разрушение, голод, страдание, а внутри царят братство, взаимопонимание, гармония, маячащая на горизонте великая цель. От Ленина ожидают, что он будет подстегивать и так уже запредельный энтузиазм комсомольцев, говорить о дополнительных жертвах, которых требует от них революция. Но вождь начинает говорить о другом, он призывает учиться. Наступает ступор. «О чем это он, когда судьба революции под угрозой?» Оратор делает следующий ход: речь не об учебе в старом смысле, не о простом пополнении знаний. Надо учиться коммунизму. Это делегатам понятней. Им кажется, что такое учиться коммунизму, они знают на опыте. Учиться коммунизму значит для них бить буржуев. Оратор вновь озадачивает: чтобы стать коммунистом, надо овладеть всеми богатствами мировой культуры. Зал замирает. Возвышенное состояние, в котором Ленин и его юные слушатели находятся одновременно, здесь достигает пика, своей риторической цели.
Обещание, данное воронежскому делегату, что он и его сверстники будут жить при коммунизме, венчает линию возвышенного в этой речи. Сомнений в том, что Ильич знает, что такое коммунизм, как его построить и когда он наступит, не возникает ни у кого.
Поэтому на кажущийся по контрасту с предыдущим прозаическим, а на самом деле важнейший вопрос об отношениях комсомола с партией вождь революции дает отрезвляющий, не терпящий возражений ответ: работайте под руководством партии, иначе ваш союз коммунистическим не будет.
Основная интенция речи за пределами возвышенного, ее прагматическая составляющая – деполитизировать молодежную организацию, поставить ее под контроль партии. Учитесь, овладевайте знаниями, но никакой самостоятельности в политике – следуйте за партией, она приведет к цели. Иного пути нет.
Вопрос о том, кто же будет учить комсомольцев всему, что за свою историю накопило человечество, повисает в воздухе, выносится оратором за скобки. В атмосфере возвышенного, царящей в зале, для него не остается места. Россию после революции покинули сотни тысяч образованных людей, носителей культуры. Они могли бы учить молодежь, но были объявлены вне закона, лишены прав, прозваны «буржуями», изгнаны, расстреляны.
Чтобы спуститься с неба на землю, приведу один факт.
Когда в 1946 году Варлама Шаламова после девяти лет изнурительных «общих работ» послали учиться на фельдшерские курсы (что открывало перед будущим писателем перспективу выживания), ему предстояло сдать экзамен по химии. И тут он обнаружил, что не знает химии совсем, его ей просто не учили. В 1918 году в Вологде свирепствовал развязанный чекистом Михаилом Кедровым террор, и учителя химии в его школе… расстреляли. И таких, как Шаламов – учеников, лишившихся своих учителей, – были в то время сотни тысяч, если не миллионы.
Через два года после пламенного призыва учиться, обращенного к молодежи, Ленин лично составил списки деятелей культуры, которых приказал Дзержинскому выслать из России как заклятых, закоренелых, неисправимых врагов советской власти. В него вошли философы, социологи, экономисты, которыми Россия могла бы гордиться. Но гордится ими в результате мировая культура. От элиты российской гуманитарной мысли вождь революции избавился как от ненужного (и к тому же опасного) хлама, одним росчерком пера. Два «философских парохода» отплыли к берегам Германии.
Вот и овладевай, комсомолец, после этого «всеми богатствами мировой культуры»!
От ослепления к отрезвлению
В том, что Октябрьская революция является мировой, не сомневались ни те, кто ее совершил, ни те, кто в нее поверил. В цепи капитализма Россия, по утверждению большевиков, была самым «слабым звеном», поэтому цепь удалось прорвать именно здесь. За ней неизбежно должны были последовать революции в более развитых странах, где условия для них более благоприятны. Отсталая аграрная страна долго в гордом одиночестве нести факел коммунизма не сможет; поэтому она полностью зависит от более подготовленных к социалистической революции стран, которые подхватят и понесут зажженный в Петрограде факел дальше. Хотя за большевиками по завершении мировой революции останется престиж первопроходцев, в будущем они не откажутся учиться у более продвинутых западных коллег.
Ленинская партия нового типа появилась на политической сцене как воплощение исторической необходимости, заменяющей религию тем, кто уже не верит в Бога.
В отличие от введенного Робеспьером культа Высшего Существа, эфемерного и еще немного отдающего католицизмом, полноценные политические религии, по словам историка Франсуа Фюре, это «такие объяснения мира, благодаря которым политическая деятельность людей приобретает провиденциальный характер в отсутствие какого-либо божественного начала»[81].
Октябрьская революция быстро приобрела в глазах ее сторонников универсальный статус, вписавшись в генеалогию, идущую от Великой французской революции: европейские левые сразу опознали в ее вождях своих единомышленников, а правые – своих врагов. «Якобинский культ воли, пропущенный через фильтр русского популизма, Ленин соединил с научной уверенностью, почерпнутой из “Капитала”»[82], – этот рецепт соблазнил не одно поколение левых активистов.
Под «якобинским культом воли, пропущенным через фильтр русского популизма» Фюре имеет в виду народничество, повлиявшее на ленинскую интерпретацию марксизма.
Большевистская партия была создана для борьбы с самодержавным абсолютизмом, который препятствует становлению вне себя любого социального пространства, гражданского общества (в том числе образованию классов). Такое положение дел Ленин презрительно называл «азиатчиной». Партия, как он ее понимал, – антипод «азиатчины», зародыш будущего общества: от нее нельзя освободиться всем классом или социальной группой; это происходит в каждом конкретном случае строго индивидуально.
В 1917 году власть в России взяла партия революционеров-профессионалов («Перед этим общим признаком членов такой организации должно совершенно стираться всякое различие рабочих и интеллигентов»[83]), долгие годы занимавшихся конспирацией, работавших и живших в подполье, имеющих за спиной опыт тюрем и ссылок. Она была немногочисленной, поэтому дореволюционный стаж ее членов ценился так высоко; многие старые большевики знали друг друга (да и членов других революционных партий тоже) лично.
Сказанное Фридрихом Ницше: «Великие события приходят в тишине. На голубиных лапках» – применимо к Октябрьской революции, которую сами большевики первое время честно называли переворотом, только отчасти. Событие это сопровождалось громкими речами, спорами, доходящими до драк, выстрелами, бунтами. Несмотря на кипение страстей и некоторое количество трупов (несравнимое, конечно, с ежедневными потерями на фронтах Первой мировой войны), оно было тихим – в том смысле, что никто из современников не мог по свежим следам оценить связанных с ним исторических последствий.
Парадоксально, но иностранцам в этом плане было даже легче, возможно потому, что их оно не так прямо затрагивало.
Не случайно, видимо, «Десять дней, которые потрясли мир», культовая книга о Красном Октябре, была написана американцем, выпускником Гарвардского университета, приехавшим в Россию всего за полтора месяца до этого события. Ленин, редко хваливший что-то исходившее не от Маркса, Энгельса, Чернышевского или его собственных учеников, «от всей души» рекомендовал «это сочинение рабочим всех стран»[84], желая видеть эту книгу «распространенной в миллионах экземпляров и переведенной на все языки». Ибо именно он, Джон Рид, заезжий левый журналист, на взгляд вождя, лучше других понял, что такое пролетарская революция, что такое диктатура пролетариата.
Между тем, если верить Риду, на следующий день после взятия власти большевиками в Петрограде все шло как обычно. Те же «хвосты» – часовые очереди за молоком, сахаром, табаком. В Мариинке давали оперу «Смерть Ивана Грозного», были открыты выставки, у теософов выдался необычайно оживленный сезон. Поэты продолжали сочинять стихи – только не о революции. Художники-реалисты по-прежнему писали жанровые полотна. Провинциальные барышни приезжали в Петроград учиться французскому языку и пению, дамы все так же заезжали друг к другу на чашку чаю.
Лихорадочно работали игорные клубы, ставки в них резко подскочили; по центральным улицам бродили публичные женщины в мехах и бриллиантах.
Дочь одного из приятелей американца вернулась домой в истерике: кондукторша в трамвае осмелилась назвать ее «товарищем»!
«А вокруг них корчилась в муках, вынашивая новый мир, огромная Россия. Прислуга, с которой прежде обращались как с животными и которой почти ничего не платили, обретала чувство собственного достоинства….В новой России каждый человек – все равно, мужчина или женщина – получил право голоса: появились рабочие газеты, говорившие о новых и удивительных вещах; появились Советы; появились профессиональные союзы»[85]. Даже извозчики основали свой профсоюз, и у них был свой представитель в Петроградском совете. Лакеи и официанты, также объединившись в профсоюз, решили отказаться от чаевых, сочтя их унижением своего человеческого достоинства. Бдительный петроградский пролетариат создал обширную систему сыска, которая через прислугу узнавала обо всем, что творилось в буржуазных квартирах.
За новым правительством, Советом народных комиссаров, не стояло ничего, кроме воли неорганизованных народных масс.
Луначарский, «худощавый, похожий на студента, с чутким ликом художника», объяснял, что только Советы, взяв власть, способны защитить революцию от врагов.
Должно быть, вывод Рида особенно понравился Ленину, так как в точности повторял то, что неутомимо проповедовал в 1917 году он сам: «Если бы широкие массы российского населения не были готовы к восстанию, оно потерпело бы неудачу. Единственная причина огромного успеха большевиков кроется в том, что они осуществили великие и в то же время простые чаяния широчайших слоев населения, призвали их разрушить и искоренить все старое, чтобы потом вместе с ними возвести на развалинах прошлого остов нового мира»[86].
Приезд в Россию осенью 1920 года писателя Герберта Уэллса открывает новый литературный жанр – паломничеств знаменитых писателей на родину революции, чтобы ознакомиться с положением дел на месте, встретить известных людей, оценить ситуацию (естественно, желательно с упором на достижения) и в итоге поставить диагноз, вынести авторитетное суждение. Естественно, все делалось для того, чтобы диагноз получился если не восторженный (известные писатели дорожили своим статусом беспристрастных наблюдателей), то положительный, подтверждающий заслуги новой власти. Сам же важный посетитель делал все, чтобы как можно дольше уклоняться от вожделенного диагноза, и если уж его выносить, то с как можно большим числом оговорок.
Позже по этому образцу строились паломничества в страну победившего большевизма таких писателей, как Бернард Шоу, Андре Жид, Лион Фейхтвангер.
«Вишенкой на торте» в таких вояжах была встреча с вождем, который делился с важным путешественником своим пониманием задач и достижений руководимой им страны.
Уэллс, побывавший в России в 1914 году, был потрясен – особенно в Петербурге, на фоне его прежнего имперского великолепия – царящей повсюду нищетой, незавидным положением интеллигенции и ученых, но не стал ставить все это в вину большевикам. «Крах – вот самое главное в сегодняшней России. Революция, власть коммунистов… все это имеет второстепенное значение. Все это случилось во время краха и вследствие его. Исключительно важно, чтобы это поняли на Западе»[87]. Продлись война на год-два дольше, та же судьба постигла бы сначала Германию, а потом и державы Антанты. Россия являет собой «в обостренном и завершенном виде» то, к чему Англия шла в 1918 году. Здесь та же нехватка всего самого необходимого, только достигшая чудовищных размеров, поэтому в Соединенном Королевстве спекулянтов штрафовали, а здесь их расстреливают. Вина за ужасную «беду», в которую попала империя царей, лежит не на большевиках, а на мировой войне и на «моральной и умственной неполноценности… правящей и имущей верхушки»[88].
Ошибка большевиков, на взгляд писателя, была в другом: они почему-то думали, что их ожидают «новые небеса и новая земля… Но мы увидели в России все те же небеса и все ту же землю, покрытую развалинами и обломками старой государственной машины, с тем же упрямым мужиком, крепко сидящим на своем наделе, и – коммунизм, отважно и честно правящий в городах и все же во многих отношениях похожий на фокусника, который забыл захватить голубя и кролика и не может ничего вытащить из шляпы»[89].
Большевики распотрошили старый мир, вывернули наизнанку дома и карманы богачей. В английском посольстве в Москве Уэллс застал горы «великолепной рухляди»: много роскошной мебели, штабеля картин, ящики с кружевами, собрание мраморных венер и сильфид. «Я так и не понял, имеет ли хоть кто-нибудь ясное представление о том, что делать с этим изящным, восхитительным хламом. Эти вещи никак не подходят новому миру… Они [коммунисты. – М.Р.] не предполагали, что им придется иметь дело с такими вещами… а что делать с магазинами и рынками после того, как упразднена торговля?»[90]
Через полгода, на Х партийном съезде, коммунисты на этот вопрос ответят, начав проводить новую экономическую политику, а «изящный хлам» частью растащат, а частью направят на нужды мировой революции.
Перед отъездом Уэллс встретился в Кремле с Лениным. Тот понравился писателю: слегка щурит глаз, жестикулирует, говорит «без всякой позы, как разговаривают настоящие ученые». Их разговор напоминал двухголосную фугу, в которой темы почти не развивались, а лишь многократно повторялись. Одну тему вел путешественник: «Как вы представляете себе будущую Россию? Какое государство вы стремитесь построить?» Другую тему настойчиво проводил вождь: «Почему в Англии не начинается социальная революция? Почему вы ничего не делаете, чтобы подготовить ее? Почему вы не уничтожаете капитализм и не создаете коммунистическое государство?» Уэллс парировал: «Что вам дала социальная революция? Успешна ли она?» Вместо ответа на поставленный вопрос Ленин упрямо возвращался к исходной теме: «Чтобы она стала успешной, в нее должен включиться западный мир. Почему это не происходит?»
Уэллс, как известно, назвал вождя революции «кремлевским мечтателем». Нам со школьной скамьи внушали, что это определение относится к ленинскому видению будущего России: мол, Ленин слишком многого от будущего ожидал, столь многого, что это удивило даже писателя-фантаста.
Внимательно прочитав «Россию во мгле», я понял, что, называя Ленина «мечтателем», англичанин также имел в виду и нечто совсем другое. Он рассуждал примерно так: «Как может этот неглупый человек, проживший столько лет в Европе, знающий иностранные языки (Ленин неплохо говорил по-английски), не понимать, что произвести экспроприацию в развитых буржуазных странах в масштабах, сколько-нибудь сравнимых с российскими, совершенно невозможно! Что он все твердит мне о революции в Англии, когда я считаю революцию и в России-то бедствием, которое, слава Богу, нигде больше не повторилось? Пусть лучше поведает, как вывести из “беды”, из “краха”, из нищеты собственную страну».
Диагноз, поставленный большевизму знатным путешественником, вышел кратким, но в целом положительным: «…По своему духу большевизм безусловно честен»[91]. Несмотря на Гражданскую войну, большевики по мере сил стараются разбирать завалы, оставленные старым режимом и империалистической войной.
Но о революции в Англии они могут только мечтать. Что ж, мечтать не запретишь…
Уэллс был не первым англичанином, которого удивила претензия ленинской России на статус «колыбели мировой революции», на экспорт революции в Европу.
Уже в 1917 году британский посол в России Джордж Бьюкенен отреагировал на стремление большевиков вызвать революцию в Великобритании раздраженной и недвусмысленной нотой: «Их [то есть большевиков. – М.Р.] отношение к нам рассчитано на то, чтобы скорее разрушить, чем привлечь к себе симпатии британских трудящихся классов. В течение великой войны, последовавшей за французской революцией, речи, произнесенные против Великобритании, и попытки вызвать революцию в нашей стране только закалили решимость нашего народа вести войну до конца и объединили его вокруг тогдашнего правительства. История, если я не ошибаюсь, повторяется в настоящем, ХХ, столетии»[92].
Посол уже 8 ноября, на следующий день после взятия Зимнего дворца, кратко резюмировал ход октябрьского переворота: «В половине третьего утра партии атакующих проникли во дворец боковыми ходами и разоружили гарнизон. Министры были арестованы и отведены сквозь враждебно настроенные толпы в крепость»[93]. После героического «Октября» Сергея Эйзенштейна столь прозаическое описание очевидца удивляет (но только тех, кто не знает, что 14 июля 1789 года восставшие парижане взяли практически пустую королевскую тюрьму – Бастилию… И это событие французы отмечают уже третий век).
Большевистской революции Бьюкенен не симпатизировал, но масштаб личностей ее вождей (несмотря на недавнюю дружбу с Николаем II, а потом с Керенским) оценил вполне: «…Большевики составляли компактное меньшинство решительных людей, которые знали, чего они хотели и как этого достигнуть. Кроме того, на их стороне было превосходство ума [sic!], а с помощью своих германских покровителей они проявили организационный талант, которого у них сначала не предполагали. Как ни велико мое отвращение к их террористическим методам и как ни оплакиваю я разрушения и нищету, в которые они ввергли свою страну [заметим: ввергли большевики, а не война и не старая царская элита, как у Уэллса. – М.Р.], однако я охотно соглашусь с тем, что Ленин и Троцкий – необыкновенные люди»[94]. Но при всей их незаурядности желать немедленной революции в Англии – свидетельство незнания истории: результат наверняка будет противоположным желаемому.
В описании Уэллса сомнительным представляется мне утверждение, что Германию и страны Антанты, продлись война еще год-два, постигла бы та же судьба, что и царскую Россию. Да, династии Габсбургов и Гогенцоллернов и так пали в результате мировой войны; в будущем были бы, конечно, и другие проблемы. Но не экспроприация в ленинском стиле! Как англичанин, к тому же ученый, писатель должен был бы руководствоваться эмпирической очевидностью: ни одно сколько-нибудь развитое буржуазное общество никогда не дало подвергнуть себя экспроприации, не позволило лишить собственности свои имущие классы. Инстинкт обладания укоренен в таких обществах слишком глубоко[95].
Итальянская социалистка русского происхождения Анжелика Балабанова возвратилась в Россию в 1917 году еще до Октябрьской революции, а после нее ей, известному деятелю международного рабочего движения, Ленин предложить пост секретаря и члена Исполкома Коминтерна. Многие работники этого учреждения, как оказалось, к удивлению Балабановой, не имели отношения к рабочему движению. «За Коминтерном стояли неограниченные денежные средства советского правительства, которое… беспокоил контроль над рабочим движением в мире»[96]. Балабанову угнетала мысль, что она пользуется определенными привилегиями (гостиница, машина), в то время как местные рабочие живут в лачугах, плохо одеты, голодают. Она сочла своим долгом отказаться от первой категории питания, что означало постоянное недоедание, и ее неизменно удивляло, сколь охотно пользуются преимуществами своего положения новые правители России (такие, как Григорий Зиновьев, Карл Радек).
Главное же, ее, имевшую большой опыт работы в Европе, шокировало то, что большевики через Коминтерн экспортируют на Запад свою модель партии, свои методы завоевания власти. Но ведь они, не уставала удивляться Балабанова, создавались для борьбы с «азиатчиной» в деспотически управляемой аграрной стране, а в странах, куда их теперь хотят пересадить, есть разделение властей, существует гражданское общество, которые подобную модель и методы отторгают.
Когда большевики заявляли о своей готовности учиться у собратьев в более развитых странах, молчаливо подразумевалось, что случится это после того, как те своими силами (пусть и при финансовой помощи ВКП(б)) совершат успешную пролетарскую революцию. После взятия власти в Петрограде они пророчили такие перевороты в самой близкой перспективе и… жестоко просчитались. Промах тем более обидный, что речь шла о партии, претендовавшей на знание законов истории.
После провалов восстаний в Германии и Венгрии вождь Октября меньше всего хотел повторения эксцессов, дискредитирующих дело мировой революции.
Поэтому когда Балабанова, хорошо знавшая положение дел в Италии, сказала Ленину, что эта страна готова к социальной революции, он ее не поддержал.
«– К социальной революции? – ответил он раздраженно. – Разве вы не знаете, что в Италии нет сырья? Как долго рабочие смогут выдерживать блокаду? Нет, мы не хотим повторения поражения в Венгрии!
И он стал развивать мысль о роковых последствиях революции в Италии в это время.
– Но и у вас не было хлеба, когда началась революция, – возразила я.
– В Италии нет ни преимущества нашего географического положения, ни наших ресурсов. Как вы можете сравнивать народы Западной Европы с нашим народом, таким терпеливым, таким привычным к лишениям!»[97]
Здесь мы видим Ленина-прагматика, человека Realpolitik, а не «кремлевского мечтателя», с которым беседовал Уэллс, и не находящегося во власти возвышенного вождя, пообещавшего комсомольцам на их съезде: «Ваше поколение будет жить при коммунизме». Оказывается, дело не просто в отсутствии инфраструктуры, делающей революцию возможной, но и в том, что западноевропейские народы не обладают нужными для этого качествами (привычкой к лишениям, терпением). В его ответе сквозит разочарование в способности Запада последовать русскому примеру.
Но так и хочется спросить: разве названные Лениным свойства не продукт той самой «азиатчины», с которой он всю жизнь боролся?!
Джон Рид много ездил по стране и привозил плохие новости: революция начинает пожирать своих детей.
«Будучи человеком, тонко чувствующим всякое неравенство и несправедливость, он из каждой своей поездки приезжал с историями, которые нам обоим рвали сердце», – сообщает дружившая с ним Балабанова[98].
Автор «Десяти дней, которые потрясли мир» умер в Москве 19 октября 1920 года от сыпного тифа и был торжественно похоронен у Кремлевской стены. Проживи он подольше, все могло бы сложиться совершенно иначе.
В 1922 году Балабанова покинула только что образовавшийся СССР с тяжелым чувством, подведя такой итог: «Трагедия международного рабочего движения состоит в том, что социалистическая революция произошла не только в отсталой стране, но и в стране, которая вынуждена… создавать новый империализм… Такая ситуация дала большевикам возможность привнести в мировое движение ту систему военной кастовости, безжалостного подавления, шпионажа и бюрократической коррупции, которые являются плодами капитализма и которые не имеют ничего общего с социализмом»[99].
А еще через два года, в 1924 году, первого секретаря Коминтерна Анжелику Балабанову московские товарищи исключили из ВКП(б).
Непримиримым критиком «красного террора» была и Роза Люксембург. При всех недостатках демократии ее уничтожение Лениным и Троцким, писала она, «еще хуже, чем тот недуг, который оно призвано лечить». Как бы предвосхищая сталинскую теорию об обострении противоречий по мере построения социализма, знаменитая революционерка ее категорически отвергает. Социалистическая демократия не начинается на земле обетованной, когда создан базис социалистической экономики, не является подарком народу за многолетнюю поддержку диктатуры: «Социалистическая демократия начинается одновременно с уничтожением классового господства и строительством социализма… Она и есть не что иное, как диктатура пролетариата»[100].
Тут есть от чего разъяриться любому большевистскому вождю!
Разочаровался в Октябрьской революции и еще один энтузиаст – русский бельгиец Виктор Серж, привлеченный в Россию ее светом в 1917 году. Вслед за Лениным он какое-то время повторял: отсталая, аграрная Россия не сможет долго указывать другим странам путь в будущее, спасение Красного Октября – в мировой революции.
Но западный пролетариат, как известно, возлагаемых на него надежд не оправдал, вызвав мощный рессентимент в стане большевиков.
Постепенно Сержа стала раздражать претензия ВКП(б) на единоличное владение истиной, из которого следовало, что всякое другое, альтернативное суждение – вредное, реакционное заблуждение, подлежащее искоренению. На его глазах шел отбор авторитарных типов: вчерашние рабочие и матросы с упоением заставляли других подчиняться, всем своим видом показывая: теперь мы власть! Партийцы были настолько опьянены величием своей революции, что понимали членство в ВКП(б) «как отказ от права думать»[101]. Разочаровывало и царившее в рядах «партии нового типа» двоемыслие: говорили одно, а думали другое – такое, о чем говорить категорически запрещалось. Кронштадтское восстание пошли подавлять те, кто внутренне признавал правоту восставших матросов. «Мы без конца перепечатывали в наших газетах плоские и тошнотворные осуждения того, что считали правдой»[102].
В тридцатые годы Серж впал в немилость, получил несмываемое клеймо троцкиста, был сослан.
СССР он сумел покинуть только благодаря многолетней поддержке европейской левой интеллигенции. Во Франции его (выстраданное, основанное на большом личном опыте) осуждение сталинизма осталось гласом вопиющего в пустыне: «…Никогда мне не противопоставляли никаких аргументов. Только ругань, хулу и угрозы…»[103] Коммунистическая вера была тогда и во Франции еще слишком сильна.
Даже глубоко верующий католик, выпускник Эколь Нормаль лейтенант Пьер Паскаль, завороженный прежде всего религиозной составляющей революции, не мог пройти мимо послереволюционного падения нравов и всеобщего одичания. 23 ноября 1917 года он записывает в дневник: «Жители одной деревни в Тульской области два года назад пышно похоронили за общественный счет дочь своего бывшего помещика, убитого на войне. Даже часовенку возвели над могилой и т. д. Недавно они принялись грабить собственность, раскопали могилу, вскрыли гроб и сняли с трупа ботинки»[104].
Он согласен с теми, кто в настоящий момент называет большевиков предателями, агрессорами, дезорганизаторами, «но это не может и не должно их задевать, ибо они объявили войну нынешнему обществу и не скрывают этого…
Русская революция… будет иметь столь же огромное эхо, как революция 1789 г., и даже много более великое…»[105]
Большевизм, считает Паскаль, обязан своим успехом частичным совпадением своей социальной программы с программой революции религиозной, которая всегда имела в России больше адептов, нежели официальная религия. Равнодушные к потустороннему, русские мистики жаждали воплощения Града Господня на земле, и именно его хотят теперь построить большевики. Русский народ революционный потому, что он христианский, но не в смысле официозного православия. Поэтому прав Луначарский, утверждая, что, когда новый религиозный дух примет более широкие и свободные формы, церковь придется сдать в музей. Да, солдатская масса, бойцы Красной армии со звездочками на фуражках, остриженные по уставу, серьезные и суровые, – что это, как не православная Россия в новой форме? Купив поэму «Двенадцать» (которую так ругали Гиппиус и Набоков!), француз открывает для себя Блока, близкого его мыслям и чувствам: «красногвардейцы, пусть недостойные и не желающие этого, действующие ради Христа…» Он тут же выучил поэму наизусть.
Паскаль возвратится во Францию в 1933 году, разочарованный тем, во что опыт революции вылился за эти годы.
Останется любовь к России.
Он станет славистом.
Давняя подруга Ленина, Клара Цеткин, долго крепилась, но в конце концов и она не выдержала, 25 марта 1929 года высказала наболевшее: «Я буду чувствовать себя совершенно одинокой и неуместной в этой организации [имеется в виду Коминтерн. – М.Р.], превратившийся из живого политического организма в мертвый механизм… Можно было бы сойти с ума, если бы моя твердая убежденность в ходе истории, в силе революции не была столь непоколебима, что и в этот час полуночной тьмы с надеждой, даже с оптимизмом, смотрю в будущее»[106].
Вальтер Беньямин встретил в Москве 1927 год. Его поразил царящий в коммунистической Мекке дух подозрительности, страх большевиков прямо высказывать свое мнение, особенно по политическим вопросам.
«Ревизор» Гоголя в постановке Всеволода Мейерхольда произвел на него неизгладимое впечатление, но зал почему-то не аплодировал. Оказалось, «Правда» отказалась напечатать на спектакль положительную рецензию. «Партия также высказалась против постановки…»[107] Хлопать поэтому не решались.
Карлу Радеку, случайно заглянувшему в редакцию, не понравилась статья Беньямина о Гете для Большой советской энциклопедии. Теперь, предупредили его друзья, ее уже не напечатают, побоятся кремлевского «авторитета»…
Автор «Московского дневника» разочаровался в СССР позже других, во время парижского изгнания. 23 августа 1939 года в Москве был подписан пакт Молотова – Риббентропа; коммунисты, к его вящему ужасу, побратались с национал-социалистами!
На этом, за год до смерти, закончился роман немецкого философа с Октябрьской революцией.
Обреченный Икар
Да, западные сторонники Октября, и члены партии, и «попутчики», ослепленные революцией, прозревали – в том числе и потому, что им было с чем ее сравнивать. Буржуазный мир, ими искренне ненавидимый, эти «очарованные странники» тем не менее знали хорошо, как говорится, из первых рук. Поэтому неумелая, любительская карикатура на него, навязываемая Москвой через посредство Коминтерна, на них не действовала (чаще приводила к противоположному результату). К тому же их, выросших, как правило, в относительно благополучных семьях (потомственных пролетариев среди идеалистов, устремившихся в коммунистическую Мекку, как это ни странно, почти не было), раздражало зрелище привилегий, которыми пользовалась новая правящая каста. Они усматривали в этом угрозу мелкобуржуазного перерождения. Им, привлеченным сюда величием идеи, было куда уезжать, но и возвратившись домой разочарованными, они редко ожесточались настолько, чтобы стать заклятыми врагами новой власти (хотя фанатичные большевики спешили их таковыми представить, отлучить, проклясть, объявить предателями). Капиталистический мир – особенно после Первой мировой войны – по-прежнему виделся им самым большим, вселенским злом, на фоне которого меркло все остальное: социалистическая альтернатива ему (а другой, кроме СССР, тогда не было) не дискредитировалась полностью из моральных соображений. Страна-лаборатория, какой бы далекой от идеала она ни была, в любом случае свою функцию выполняла: обуздывала безмерные притязания буржуазии на овладение миром, напоминала о колониализме, заставляла считаться с интересами угнетенных на Западе, наделять их определенными правами – хотя бы из боязни потерять все… как там, в этой странной, ленинской России.
Даже на пике пафоса, восхищения, ослепления из их поддержки революции не исчезал элемент здравого смысла. Они наблюдали, не растворяясь в происходящем, сохраняя за собой право на вынесение суждения.
Ну и, конечно, главное: никто из них не был повязан кровью, не отнимал ради светлого будущего человеческих жизней.
Совершенно по-другому складывалась судьба тех, кто боролся против царизма в России, сражался на фронтах Гражданской войны, присягал на верность ленинской партии всем своим существом. Особенно молодежи, выраставшей в огне революции, никакой другой жизни просто не знавшей.
У древних греков был миф о Дедале и его сыне Икаре. Дедалу, изобретателю столярных инструментов, искусному архитектору и скульптору, пришлось покинуть родные Афины и бежать с сыном Икаром на Крит, где правил царь Минос. Там по просьбе царя он построил лабиринт для чудовища Минотавра. Правитель затаил на мастера обиду после того, как тот помог Ариадне устроить бегство из лабиринта Тезея и его спутников. В отместку Минос заточил Дедала и Икара на своем острове; оба скучали по родным Афинам. Мастер придумал дерзкий план – они с сыном улетят с Крита! Он сделал для себя и Икара крылья из перьев, склеенных воском, и предупредил мальчика: «Не поднимайся слишком высоко, иначе солнце растопит воск. И не лети слишком низко: от морской воды крылья могут размокнуть». Но мальчик настолько увлекся полетом, что, забыв наставления отца, полетел навстречу солнцу, чьи лучи растопили воск, и Икар упал в море.
Изготовление крыльев Дедалом и падение Икара были излюбленным сюжетом римских фресок, живописи Возрождения; не обошло их вниманием и Новое время. Ренессансные моралисты спорили о смысле этого мифа. Одни считали, что он призывает избегать крайностей, культивировать добродетель умеренности, тогда как для других он, напротив, символизировал пытливый человеческий ум, идущий на риск, бросающий вызов природе.
Понятно, какая из этих интерпретаций была больше по нраву революционерам всех времен и народов.
В октябре 1917 года власть в России взяла партия, лидеры которой вдохновлялись учением, разработанным в Европе, считали Российскую империю страной реакционной и безнадежно отсталой. Свой переворот они мыслили не иначе как первое звено в цепи пролетарских революций. Учение, которым они руководствовались – марксизм, – претендовало на открытие исторических закономерностей, пусть и не столь строгих, как естественно-научные, но все же именно научных, то есть допускающих и даже предполагающих историческое предвидение. Вначале казалось, что предсказанное сбывается: в потрясенной войной Европе было предпринято несколько попыток левых переворотов по большевистскому образцу, но все они были подавлены. Тогда большевики изменили тактику и приступили к экспорту революции через созданный ими Третий коммунистический интернационал (Коминтерн).
Герберт Уэллс, увидев целые комнаты, набитые конфискованными у имущих классов вещами в британском посольстве в Москве, удивлялся: что новое революционное правительство собирается делать со всем этим роскошным хламом, чуждым вкусам новых правителей?
Он ошибался: ленинская партия нового типа быстро нашла им применение (и притом не только украсив ими собственные жилища, хотя случалось и такое).
Конфискованные предметы роскоши пошли на нужды мировой революции.
Старый друг Ленина, оказавший ему в прошлом ряд личных услуг и назначенный после революции заместителем наркома финансов и управляющим Народным банком РСФСР, Якуб Ганецкий в начале 1920 года отвел некоего «товарища Томаса» (Якова Самойловича Рейха) в секретный фонд Ленина, которым тот поручил ему управлять. Там лежали горы золотых вещей, колец, вырванных из оправ камней, серег. Он объяснил, что все это – ценности, отобранные у частных лиц по указанию Ленина на нужды революции, и добавил: «Выбирайте!»
«Мне, – вспоминал потом “товарищ Томас”, – было очень неловко выбирать: как производить оценку? Ведь я в камнях ничего не понимаю. “А я, вы думаете, больше понимаю? – ответил Ганецкий. – Сюда попадают только те, кому Ильич доверяет. Отбирайте на глаз, сколько считаете нужным. Ильич написал, чтобы взяли побольше”… Я наложил полный чемодан камней, золото не брал – громоздко. Никакой расписки на камни у меня не спрашивали – на валюту, конечно, расписку выдал»[108].
«Товарищ Томас» открыл в Берлине глубоко законспирированное бюро, постоянно менял квартиры и явки. Единственным постоянным сотрудником была его жена. В начале 20-х годов это бюро было главной из подпольных касс Коминтерна. Масштаб операций «товарища Томаса» сделал бы честь европейскому банкирскому дому средней руки. За один только 1921 год (год страшного голода в Поволжье) через него, по информации историка Александра Ватлина, прошли 122 миллиона марок, что составляло на тогдашние деньги три миллиона золотых рублей[109]. Из Москвы шла не только валюта, но и бриллианты, коллекции произведений искусства, чью реальную стоимость можно было узнать только в Европе, что оставляло «товарищу Томасу» при их оценке полную свободу рук. Смещенный со своего поста, банкир Коминтерна бежал в Америку, где «вел буржуазный образ жизни, не отказывая себе в деньгах, сэкономленных на мировой революции пролетариата»[110].
Поскольку попытки разжечь мировую революцию успехом не увенчивались, это ставило партию большевиков во все более сложное положение. Сами капиталистические страны социалистические революции у себя совершать не желали, точнее не могли, подтолкнуть их к этому в частном порядке, с помощью «экспроприированных» у имущих классов России средств также не получалось. Слово «кустарщина» товарищ Ленин очень не любил (а «товарищ Томас» в Берлине занимался, в конечном счете, именно ей). Стало ясно: иностранных солдат революции надо формировать по образцу созданной им «партии нового типа», партии профессиональных агентов Москвы, действующих в ее интересах по приказу из центра. Это, естественно, отпугнуло от русской революции ее наиболее искренних сторонников, тех, кто верил: коммунизм будет побеждать на Западе своими достижениями, силой примера, а не навязыванием модели, разработанной для отсталой, аграрной России.
Но и обиду большевиков на Запад за то, что тот не спешит последовать за ними, можно по-человечески понять. Как это партия, взявшая власть от имени научной теории истории, не предвидела того, о чем ее заранее предупреждали оппоненты (те же Короленко, Каутский, Мартов, Плеханов)?
Логики в экспорте революции не было. Партия создавалась под крестьянскую Россию и для развитых капиталистических стран не годилась, да и Маркс вроде бы предсказывал, что переход к коммунизму должен был органически вызреть изнутри обществ определенного типа, а не навязываться им извне[111]. Но победившая партия все больше пребывала во власти возвышенного, революционного энтузиазма, все меньше думая о науке и логике. ВКП(б) – и чем дальше, тем больше – не училась, а поучала других, делилась с ними своим уникальным опытом. Ее лидеры все чаще утверждали, что сам факт удавшейся пролетарской революции катапультировал Советскую Россию в авангард человечества, превратил ее во всеобщий образец, сделал ее локальный опыт универсальным. Сама развитость европейских стран, еще недавно считавшаяся их преимуществом, теперь, с высоты состоявшейся революции, стала восприниматься как косность, как тормоз для изменений. А у большевиков уже был опыт силового захвата власти, радикального подрыва существующих отношений, расправы с классами, которые они именовали «эксплуататорскими». Всем этим они были готовы щедро поделиться с теми, кто сохранял в их глазах престиж истинных революционеров. Главным критерием революционности стала лояльность Москве. С остальными боролись как с отступниками, и никакие их прошлые заслуги перед рабочим движением (вспомним хотя бы случай Анжелики Балабановой) в соображение не принимались.
На Х съезде партии в марте 1921 года Ленин принял три ключевых решения, определивших судьбу партии и страны.
Во-первых, введенный по его инициативе НЭП помог созданной им системе выжить, набраться сил. Решение основного, крестьянского вопроса было отложено на несколько лет.
Во-вторых (и это главное), запретив фракции в ВКП(б), вождь поставил потенциальных отступников от «генеральной линии» партии (в том числе тех, кто на съезде с воодушевлением проголосовал за принятие этого решения) вне закона, заложив основы явления, которое позже станет известно как сталинизм. На этой веревке в 1937 – 1938 годах будет повешена почти вся ленинская гвардия.
Теперь лететь к солнцу мировой революции большевистским Икарам предстояло на крыльях, намеренно подрезанных самим Лениным, этим жестоким Дедалом. При этом вождь продолжал страстно призывать их «штурмовать небо», хотя шансов долететь до него у них не оставалось.
И, в-третьих, послав делегатов Х съезда брать штурмом восставший Кронштадт (опору большевистского переворота в 1917 году), Ленин дал ясно понять, что отныне любое сопротивление будет подавляться беспощадно. Прошлые заслуги перед революцией и здесь, внутри страны, учитываться не будут.
Комсомольцы двадцатых годов бредили мировой революцией. Они жили во времени веры, с ощущением преодоленного – вопреки всяким законам истории – капитализма. С головой уходили в служение идее, воплощение которой на Западе откладывалось – но какое это имело значение? Они готовы были в любой момент нести ее знамя в отживший свое, одряхлевший буржуазный мир, где, по словам поэта революции Владимира Маяковского, «каждый смердит покоем, жратвой, валютцей». Им было искренне жаль «буржуев», существующих только в их головах, в упрощенном, но чистом мире мечты.
Они не знали, что от большевистской революции один за другим отворачивались ее восторженные поклонники из Европы и США. Юноши и девушки, воевавшие на Гражданской войне, участвовавшие в продотрядах, учившиеся на рабфаках, верили, что жертвы приносятся ради великого дела, и Ленин, Дедал революции, разочаровывать их не желал.
Наоборот, он подстегивал рвение делегатов V съезда РКСМ, как только мог: «Дорогие друзья! Очень жалею, что не могу лично приветствовать вас. Желаю работам вашего V съезда всякого успеха. Уверен, что молодежь сумеет развиваться так успешно, чтобы ко времени назревания следующего момента мировой революции оказаться вполне на высоте задачи.
С горячим коммунистическим приветом. В. Ульянов (Ленин)
11/X 1922»[112].
Как видим, вождь и в ноябре 1922-го, через полтора года после Х съезда партии, не сомневается в скором «назревании следующего момента мировой революции», в победе коммунизма в мировом масштабе. И молодежь отвечает на его призыв клятвой преодолеть временные трудности и в нужный момент оказаться на боевом посту. Она по-военному салютует Ленину: «Привет славному вождю международного пролетариата. Комсомольская Россия будет всегда готова по Вашему призыву “штурмовать небо”!»[113]
В отличие от заботливого Дедала древних греков, предупреждавшего Икара не залетать слишком высоко, Ленин направлял комсомольских Икаров прямо на солнце. О том, что оно растопит их крылья и они рухнут на землю, ни словом не упоминалось. Вождем так же двигала логика веры, хотя на тот момент он уже знал о провале мировой революции намного больше, чем решался сказать.
Более того, чем более неопределенной становилась цель, тем ближе она казалась тем, кто к ней устремлялся. Идея была слишком грандиозной, место ее осуществления слишком неожиданным – даже невероятным, – чтобы спокойно разлагать ее на части, а потом анализировать каждую из них с точки зрения здравого смысла.
«Уж Ильич-то знает!» – уверяли себя делегаты III съезда комсомола; и невдомек им было, что мировая революция является гигантской импровизацией, которую ткань западных обществ упорно отторгает. И вождь к тому времени уже имел ряд поводов в этом убедиться (вспомним хотя бы его разговор с Балабановой о революции в Италии). По сути, он был таким же верующим, как они сами, просто умел заворачивать свою веру в кажущиеся рациональными марксистские формулировки. Из триумфа исторического предвидения революция давно превратилась в триумф воли. Просто эта воля продолжала выдавать себя за теорию, подкрепленную наукой; а юные энтузиасты не могли отличать одну от другой. Для них устами вождя говорил мировой дух.
Возвышенное приостанавливает действие категорического императива; одержимые им люди постоянно поступают с другими («врагами») так, как они не желали бы, чтобы поступили с ними самими. И каждый поступок такого рода увеличивает вероятность того, что и с совершившим его в будущем поступят противозаконно. Сознание собственной праведности является в таких случаях ненадежной защитой: ведь и вина ранее принесенных в жертву идее «врагов» ни в каком суде доказана не была.
Постараемся понять слова Ленина Горькому о Короленко, «жалком мещанине», неспособном отличить миллионные жертвы на империалистической бойне от жертв пролетарской революции, действующей от имени и в интересах огромного большинства угнетенных. Что это большинство существовало только в воображении Ленина, так же не могло его переубедить, как и то, что между смертью на войне и «административными расстрелами» по приговору внесудебных инстанций (вроде ЧК), против которых выступал Короленко, в юридическом плане лежит бездна. Революционная вера переворачивала правовые понятия с ног на голову: смерть на фронте, юридически неподсудная, предстает великим преступлением капиталистов, а смерть по приговору ЧК, юридически недопустимая, – мелким эпизодом в борьбе за великое дело. Говорить с большевиками ленинского призыва о преступлениях, совершенных ими во имя идеи, было бессмысленно: они имели о своей идее слишком возвышенное представление, слишком высоко надеялись взлететь на ее крыльях. Они жили предвосхищенным будущим, которого никто, кроме них, не видел. Это позволяло избежать угрызений совести, объявленной химерой из интеллектуального багажа старого мира. Право было заменено революционным правосознанием, классовым чутьем, обладание которым являлось привилегией членов партии.
Тем более юные Икары большевизма, воодушевленные идеей мировой революции, не понимали, что стремятся к заведомо недостижимой цели. Не только экспорт революции терпел одну неудачу за другой, но и сам СССР все больше попадал в зависимость от мира, уничтожения которого добивался, импортировал оттуда технологии, материалы, знания, специалистов. На практике идеологические требования обращались в собственную противоположность.
До кончины Ленина в январе 1924 года вера в мировую революцию была неотъемлемой частью партийного катехизиса, но после смерти старого вождя партийные верхи стали постепенно от нее отказываться. В конце 1924 года Сталин уже не отрицал возможности построения социализма в одном СССР при отсутствии победоносных революций на Западе, а в 1925 году концепция построения социализма в одной, отдельно взятой стране была официально закреплена решением XIV партконференции. Поскольку Троцкий от мировой революции отказываться не собирался (да и не мог: она составляла суть первоначального большевистского кредо), новая сталинская идея, еще недавно еретическая, активно использовалась для борьбы с левой оппозицией. На ее основе было сконструировано понятие «троцкизм», отличительная черта которого – «перманентная революция», неверие во внутренний потенциал русской революции. Между тем никаких разногласий между Лениным и Троцким по вопросу о мировой революции не было; оба были ее убежденными сторонниками. (Поэтому последователи опального вождя везде, от Нью-Йорка и Парижа до Колымы, по праву называли себя не троцкистами, а коммунистами-ленинцами.) Окончательное поражение в фракционной борьбе в конце 1927 года лишило их в границах СССР этого права: язык победивших стал обязательным для всех, с тех пор коммунистов-ленинцев посылали в тюрьмы и ссылки с клеймом троцкистов.
«Жить по Ленину». Николай Чаплин во главе комсомола
Поразительно, с какой стремительностью перемещались в послереволюционные годы ответственные партийцы, как часто их переназначали с одного поста на другой, как беспрекословно выполнялись ими приказы партии.
Николай Чаплин не исключение. Сразу после III съезда РКСМ его посылают возглавить смоленский комсомол; через год, в 1921-м, он уже руководит отделом политпросвета ЦК комсомола (Цекамола) в Москве.
В 1922 – 1923 годах Чаплин – секретарь Закавказского крайкома РКСМ. Приехав в Тбилиси, прямо с вокзала пришел в Закрайком партии к его главе Серго Орджоникидзе: «“Молодец, что приехал, – сказал тот Николаю, здороваясь. – Ну, рассказывай, как устроился, где?” – “Пока нигде. С вокзала – сюда”. – “Это хорошо. Значит, работать хочешь. Что ж, будем работать вместе”».
Николаю дали в распоряжение старую машину, получившую у друзей шутливое прозвище «комсомольский самовар», с шофером Мухтаром; на ней он колесил по Закавказью. Комсомольские ячейки вели борьбу против мулл и попов, против закабаляющих женщину законов шариата, помогали открывать школы и кружки ликбеза; устраивали субботники на полях бедняков и – кавказская специфика – мирили «кровников». В Баку он знакомится с Сергеем Мироновичем Кировым. 10 декабря 1922 года участвует в съезде, на котором Грузия, Армения и Азербайджан объединяются в единую Закавказскую Федерацию. Закавказский комсомол берет шефство над Каспийским военным флотом; «комсомольский самовар» отправляется в очередную агитпоездку.
Серго Орджоникидзе любовно растит Чаплина, говорит: «Сверяй свою работу по делам партии, Николай… Помни, что в том случае, если ты станешь, как учил нас Ленин, беречь партию и ее дело, ты найдешь правильное решение вопроса»[114].
Позже выяснилось, что следовать этим благим советам совсем не просто – не только юному комсомольцу, но и самому Серго, чья жизнь, как и жизнь его питомца, завершится трагически.
Читая о партийной работе моего двоюродного деда на Смоленщине, в Сибири, на Кавказе, с трудом понимаешь, как ему удавалось убеждать столь разных людей. Ну ладно, в России он был свой, знал язык и культуру города и деревни – ну а как на Кавказе, в горном ауле, среди мусульман? Как там находил он подходящие слова?
Логика революции, как она виделась не извне, из Европы или Москвы с Питером, а изнутри, из провинции, из русской глубинки, лучше всего, на мой взгляд, прописана в романе Андрея Платонова «Чевенгур». И Николай Чаплин в чем-то похож на одного из его героев, «командира полевых большевиков» Копенкина, устремившегося на коне Пролетарская Сила в Германию для расправы с врагами революции, убийцами прекрасной девушки Розы Люксембург. И у Николая была своя девушка, кстати, тоже Роза, свой конь – «комсомольский самовар», потом, когда он стал генсеком комсомола, в его распоряжении была служебная машина, а в конце жизни – железнодорожный вагон, своя несокрушимая вера в Ленина и в революцию. Как и у Копенкина, «черты его личности стерлись о революцию»[115], и, приезжая в грузинское село или дагестанский аул, он заражал других своей верой, и они становились родными. Как и Копенкин, друзей от врагов он отличал на глаз, интуитивно, и, как ему казалось, ошибался редко. Платонов пишет: «Все люди имели для него два лица: свои и чужие. Свои имели глаза голубые, а чужие – чаше всего черные и карие, офицерские или бандитские; дальше Копенкин не вглядывался»[116]. Как и Копенкин, он нутром чувствовал своих и был в силах объяснить им, своим, что такое социализм.
«– А что такое социализм, что там будет и откуда туда добро прибавится?
Копенкин объяснил без усилия.
– Если бы ты бедняк был, то сам бы знал, а раз ты кулак, то ничего не поймешь»[117].
Да и советы Крупской, Орджоникидзе, Кирова тоже сводились, по сути, к тавтологии: надо крепко верить в партию Ленина, воплощающую в себе волю пролетариата и закон истории, уметь отличить врага от друга – а остальное приложится.
Речь Чаплина, конечно, была куда более связной, чем реплики платоновского героя, но без веры и она мало чего стоила бы.
В 1923 году по инициативе Николая Чаплина состоялась Всесоюзная комсомольская конференция, посвященная национальному вопросу: «Конференция поставила задачу воспитания молодежи в интернациональном ленинском духе и решительной борьбе со всеми шовинистическими пережитками, в первую очередь с великорусским шовинизмом»[118].
Братья Чаплины и в жизни эти принципы воплощали. Все четыре сына бывшего православного священника женились на еврейках, но национальность их избранниц чем-то важным для них, конечно, не была: девушки, как и они, жили революцией, учились на рабфаках, работали в комсомольских ячейках, выполняли партийные поручения, агитировали, повышали уровень политической подготовки, готовились к предстоящим решающим сражениям мировой революции. Они, конечно, согласились бы с платоновским Копенкиным: «Женщина без революции – одна полубаба, по таким я не тоскую… Уснуть от нее еще сумеешь, а далее-более – она уже не боевая вещь, она легче моего сердца»[119].
Жены братьев Чаплиных в этом смысле были «боевыми вещами», а не «полубабами», единомышленницами, а не просто спутницами жизни.
Начало 1924 года застает Николая Чаплина в Москве на посту секретаря Цекамола по идеологии.
У него в гостинице «Париж» в Охотном ряду живет младший брат, девятнадцатилетний Сергей, продолжающий обучение на рабфаке.
О том, как братья узнали о смерти Ленина, явствует из наброска (так и неотправленного) письма, которое Сергей пишет своему смоленскому другу, комсомольцу Сергею Короткову.
«22 января нового стиля, 9 января старого стиля наступило для меня как-то необыкновенно. Утром рано встал я и пошел бродить по Москве. Прошел Полянку, Серпуховскую, Балчуг. Прошел медленно вдоль Кремлевской стены, где покоятся тела наших борцов за Социализм. Ряд могил – Артем, Подбельский, Джон Рид, Воровский. Пробили часы Кремля, и я двинулся домой. Пришел, Николая не было уже. Ушел на съезд. Я стал около стола и взял книгу “Речи и статьи о молодежи” Ленина и устремил свой взор на Ильича.
По коридору загремели тяжелые шаги. В дверь вошел Николай. “Ленин умер”, – пробормотал он. И, став у окна, он заплакал. Я ринулся за газетой. Схватив “Правду”, я искал строки о смерти Ильича, но напрасно.
Как очумелый, я выбежал на улицу. Было тихо. Никто еще из широких масс не ведал об этой потрясающей вести. Дом Советов освобождали от установленных ранее для ремонта лесов. У Большого театра царила мрачность, тихая, унылая подавленная атмосфера. С красными заплаканными лицами расходились делегаты со съезда. Собирались в группы и группочки, беседовали, делились переживаниями, и все так было серо, мрачно, чудовищно, страшно, таинственно, и было объято все в какую-то ужасную, черную, спокойную, потрясающую пелену, но в то же время ощущалась стальная мощь, чугунная крепость, и чувствовалась здоровая электроэнергия в глубинах организма, готовая вылить из недр коллектива в динамики гигантскую силу.
Вечером РОСТА [Российское телеграфное агентство. – М.Р.] окружено было сотнями народу, и все говорило, подавленно шептало, гудело, трагично журчало. “Умер… умер. Ильич умер!”
Потом театр Зимина [оперный театр, ныне филиал Большого театра. – М.Р.], речи, траур, похоронный марш, воззвание к студенчеству СССР, и потекли скорбные минуты, вызванные этим событием смерти дорогого, славного, вселюбящего, близкого.
23 января. Утро. Рабфак. Милиция… Сегодня прибывает тело бессмертного тов. Ленина. Дом Советов. Траурные знамена. “На смерть вождя ответим еще большей сплоченностью, железной дисциплиной и выдержкой”, – гремел траурный плакат у Дома Советов.
Потом конное и пешее оцепление Дома Советов – 2-й час. Похоронные марши, колонны, процессии, движущиеся улицы и красная со стеклянной частью крышка гроба… И очередь от [театра. – М.Р.] Зимина до Тверской, и заворот обратно к зданию, где лежит его тело. Морозно. Скрипит снег под ногами прохожих… грустно направляющихся к месту прощания с телом вождя и учителя…»[120]
В письме юного комсомольца сохранились многие из примет романтического послереволюционного времени. Это и кремлевская стена с именами павших героев Октября, и слово «Социализм», написанное с большой буквы, и суровая, мужественная скорбь большевиков, узнавших о смерти Ленина, скорбь, которая готова претвориться в действие, в продолжение великого дела. «Стальная мощь», «чугунная крепость», «здоровая электроэнергия из недр коллектива» – все это тоже типичные словосочетания постреволюционного времени с его страстной верой в технику и в пролетарский коллективизм.
Ну и главное, в центре всего этого – «тело бессмертного товарища Ленина», «вселюбящего, близкого». Такое тело нельзя, конечно, просто предать земле или кремировать (большевики в пику православию были сторонниками огненного погребения), оно должно быть сохранено для вечности. Читаешь такое и понимаешь, откуда, из каких глубин пришло решение Сталина и ЦК партии (принятое вопреки сопротивлению Крупской, Троцкого и ряда старых большевиков, ссылавшихся на волю покойного вождя) мумифицировать это тело, поместить его в Мавзолей, превратить тело «бессмертного Ленина» в бессмертное, сохраненное для вечности тело.
Это письмо человека верующего: в мировую революцию, в ее главного пророка, в то, что после его смерти она будет продолжаться: ведь Ленин, как живой, так и мертвой, бессмертен. Да, это не христианская религия, в которую Сергей Чаплин с братьями был крещен от рождения, – это религия, спустившая небо на землю, за радикальное преобразование которой взялись большевики.
И вот представители комсомола Николай Чаплин и Петр Смородин уже стоят в почетном карауле у гроба Ленина, после речи Григория Зиновьева слышат знаменитую клятву Сталина: «Мы, коммунисты, – люди особого склада. Мы скроены из особого материала. Мы те, которые составляем армию великого пролетарского стратега, армию товарища Ленина. Нет ничего выше, чем честь принадлежать к этой армии. Нет ничего выше, чем звание члена партии…
Уходя, товарищ Ленин завешал нам хранить единство нашей партии, как зеницу ока. Клянемся тебе, товарищ Ленин, что мы с честью выполним эту твою заповедь!..»[121]
Для Николая, сына священника, в этой состоящей из сплошных заклинаний клятве звучали, должно быть, знакомые с детства интонации (верность оставившему этот мир вождю ставится выше всего земного, не исключая бренной человеческой жизни). Правда, в отличие от религий Книги, битву за новую веру предстояло вести на казавшейся преображенной земле. Отменив Творца, спустив небо на землю, большевики невероятно увеличили издержки предстоящей борьбы, умножили число щепок, которые полетят, когда новые хозяева жизни возьмутся рубить лес.
Впрочем, юноши, стоящие у гроба Ленина, слыша литургические заклинания нового первосвященника, едва ли понимали, какую цену новый вождь скоро запросит за сохранение единства партийных рядов.
Зато они, несомненно, отметили про себя отсутствие на церемонии прощания другого вождя революции – Льва Троцкого. Никакие позднейшие отговорки (что Сталин его обманул, дезинформировал; что он рыдал в Сухуми, узнав о смерти Ленина) не могли изменить главного: создатель Красной армии у гроба не стоял, мессу по умершему отслужил новый генеральный секретарь. Неформально вопрос о наследнике Ленина в сердцах членов «партии нового типа», думаю, решился уже тогда[122].
«Николаю Чаплину было двадцать два года, когда по инициативе Серго Орджоникидзе и С.М. Кирова Центральный комитет партии рекомендовал апрельскому пленуму Цекамола избрать его секретарем ЦК ВЛКСМ.
В мае того же [1924. – М.Р.] года с трибуны XIII партийного съезда выступил вновь избранный комсомольский вожак: «Комсомол рука об руку со старыми бойцами-большевиками будет бороться за единство партии на основе учения, которое оставил нам Владимир Ильич Ленин. В своей речи он полемизировал с Троцким…»[123], доказывая, что никакой «трещины между поколениями» революционеров нет, что молодежь следует по стопам испытанных соратников умершего вождя и ее бесполезно настраивать против «обюрократившихся» старых кадров. Но разве сам Троцкий – герой Октября, создатель Красной армии – не был таким соратником? Разве он не имел права на свое мнение?[124]
На съезде по настоянию Троцкого делегатов ознакомили со знаменитым «Завещанием Ленина». Сталин, которого покойный вождь предложил сместить с поста генсека из-за чрезмерной грубости, заявил: да, «я груб по отношению к врагам партии» (Ленин имел в виду другую грубость: оскорбительное замечание Сталина в адрес его жены Надежды Крупской) и, если требуется, готов сложить с себя полномочия генерального секретаря. Съезд подавляющим большинством проголосовал против, оставил Сталина на посту, не догадываясь о том, что через пятнадцать лет от избранного на нем ЦК в живых останутся лишь несколько ближайших друзей и ставленников нового генсека (Каганович, Молотов, Микоян, Ворошилов, Калинин).
На этом съезде Николай Чаплин избирается кандидатом в члены ЦК ВКП(б).
Давид Ханин, учившийся вместе с Николаем в Смоленске, а потом работавший в Цекамоле, в книге «Университет моего поколения» оставил такой портрет своего друга: «Ходит Чаплин вразвалку, покачиваясь на ходу, не говорит, а гудит, точь-в-точь медведь… юный, рослый, несколько медлительный, с упрямым, жестким взглядом больших серых глаз. Говорил он медленно, словно подбирая слова, но с подкупающей страстностью, убежденностью. Одет был в поношенный светло-коричневый френч, на голове основательно истрепанная кепка…
Чаплин оставляет впечатление человека стихийной русской силы: он громаден и широк, ходит прямо, подняв голову кверху, голос его громкий и густой…»[125]
В нем видели своего парня, готового поделиться последним куском хлеба. Однажды во время Гражданской войны из Смоленска привез заболевшему другу в деревню большой кусок сыра (невиданная роскошь по тем временам), целый день помогал его матери управиться по хозяйству. На субботниках брался за самую трудную работу; отвергал попытки товарищей сделать что-то для него лично, повторяя ставшую привычной фразу: «Чем я лучше других?»
Вот пример: «Летом 1925 года вместе с Сережей Белоусовым и Ваней Бобрышевым мы решили съездить отдохнуть на Черное море, – рассказывает Роза Чаплина. – Приехали в Севастополь, откуда морем нам предстояло плыть до Сочи. Билеты на пароход достать невозможно. Кассы осаждают длиннющие очереди. Все попытки Николая и ребят добыть билеты разбивались о гудящую, рокочущую толпу пассажиров»[126]. Переночевав под открытым небом, друзья стали просить Николая пойти к начальнику, показать свой цековский мандат. Он уперся: «Не пойду. Как всем, так и нам». В результате Белоусов с Бобрышевым тайно прокрались в Севастопольский горком комсомола, сказали, что с ними едет Чаплин с женой, им тут же достали четыре билета. Поняв, что друзья его провели, Николай в шутку пригрозил, что больше с «такими авантюристами и разбойниками» никогда отдыхать не поедет.
Стремясь строить жизнь по Ленину, он обращался к вдове вождя Надежде Константиновне Крупской с вопросами о том, как это сделать, и та учила Николая «мастерству идеологической работы, исправляла его ошибки, советовала, на что необходимо обратить внимание в трудные минуты»[127]. Он старался претворять советы в жизнь.
Хотя по-настоящему ответы на его вопросы мог дать только один человек – тот, кому в скором времени предстояло стать «Лениным сегодня». Десять лет, с 1921-го по 1931 год, Николай регулярно общался с этим человеком, слушал его речи на партийных и комсомольских съездах, выполнял поручения и приказы, но так и не понял, по каким правилам тот будет играть в 30-е годы.
Комсомольские руководители жили в те годы в скромной двухэтажной гостинице «Париж» в Охотном ряду, ставшей «27-м домом Советов» – общежитием партийных и комсомольских работников [теперь на этом месте здание Государственной Думы РФ. – М.Р.]. Каждый занимал маленький номер…
Потом, вспоминает друг Николая, Александр Мильчаков, в книге «Вожаки комсомола», лидеру комсомола предоставили еще одну комнату на другом этаже. Она стала «семейной»: в 1925 году у Чаплиных родилась дочь Клара, а первая комната служила рабочим кабинетом. В ней всегда было накурено и шумно, жена Николая, Роза, носилась с этажа на этаж, юная, красивая, улыбающаяся, устраивая на письменном столе чаепитие для товарищей.
Сам Цекамол располагался также неподалеку, на Воздвиженке [в здании, где позднее размещался Военторг. – М.Р.].
В 1925 году ЦК комсомола раскололся, большая часть его членов поддержала Зиновьева и Каменева; Ленинградский губком был полностью на стороне оппозиционеров, созывал собственную альтернативную общероссийскую конференцию.
По тем временам это была невиданная крамола!
Николай Чаплин, посоветовавшись с товарищами, подал в ЦК партии заявление с просьбой об отставке с поста первого секретаря, аргументируя этот шаг раскольническими действиями зиновьевцев. Отставка Сталиным принята не была.
На состоявшемся в декабре 1925 года XIV съезде ВКП(б) комсомольский лидер обвинил Зиновьева в перенесении разногласий из Политбюро в молодежное движение. Комсомол, заявил он, подчиняется партии, а не является монополией отдельных вождей.
По этой логике получалось, что Троцкий, Зиновьев, Каменев – отдельные вожди, а Сталин, Молотов, Киров, Орджоникидзе – это партия и только им верой и правдой должен служить комсомол.
Вывод напрашивается сам: горе проигравшим, истина истории на стороне тех, кто оказался сильней.
Как с заседаний Х съезда партии в 1921 году делегаты пошли подавлять Кронштадтский мятеж, так после XIV съезда группа молодых комсомольских вождей под руководством Кирова и других членов Политбюро отправилась в «колыбель революции» на подавление комсомольского мятежа под руководством «отдельных вождей». Николай Чаплин напутствовал товарищей: «Вам там, конечно, трудно будет на первых порах. Зиновьевцы основательно затуманили головы ленинградских коммунистов и комсомольцев. Но туда же выезжает Киров. Он вам поможет…»[128]
В 1926 году Николай, по рассказам родственников, вновь просил Сталина снять его с поста первого секретаря ЦК ВЛКСМ, ссылаясь на то, что в Ленинграде сторонники Зиновьева, с которыми он боролся за единство партийных рядов, травят его, попрекая поповским происхождением. Будущий «отец народов» ответил, что и сам в молодости учился в духовной семинарии, и не только не принял отставки, но и повысил Николая, сделав из первого секретаря ЦК ВЛКСМ генеральным.
Николай все время передвигался по стране, оставаясь в гуще комсомольской жизни, агитируя за политику партии. Однажды, будучи в Туле, захотел поговорить с молодежью самоварной фабрики. Местный секретарь колебался, считая, что в ячейке орудуют троцкисты, но Николай сказал: «Едем!» Приехав, предложил ребятам не стесняться, говорить о наболевшем.
Посыпались вопросы: «С безработицей когда разберемся?»; «Директор возит свою жену на базар в казенной пролетке, а мы-то топаем пешком! Нету равенства в жизни! Он небось двести целковых получает»; «Нэпманы развращают наших девчонок, в рестораны зазывают… Когда это кончится? – Опять же мастера тормозят перевод молодежи из разряда в разряд…».
Пройдет несколько лет, ответил Чаплин, и мы будем страдать не от безработицы, а от нехватки рабочих рук. «А что касается нэпманов, то мы их скоро прогоним. Сами справимся с восстановлением и реконструкцией хозяйства»[129].
«Никакие они не троцкисты, – сказал сопровождающему, уходя. – Ребята как ребята… Работать с ними надо, товарищ секретарь райкома»[130].
Пока Николай встречался с тульскими оружейниками и производителями самоваров, в лоне комсомола вызрела еще одна инициатива.
В 1927 году Московский комитет комсомола выдвинул лозунг «Гармонь на службу комсомола!». В деревне, где жило тогда подавляющее большинство молодежи, гармонь была чуть ли не единственным развлечением, но по карману она была разве что детям кулаков. Те собирали вокруг себя молодежь, отрывали ее от комсомола, с этим надо было что-то делать.
В стране в то время не было ни государственного производства гармоней, ни нот для них, ни школ, где готовили гармонистов.
Инициативу сделать гармонь советской поддержал секретарь МК комсомола Александр Косарев: при горкоме была создана комиссия для работы с гармонистами, началось государственное производство гармоней и нот. Тысячи конкурсов на лучшего гармониста прошли сначала в Москве, а потом по всему Союзу. Инициативу молодежи поддержал нарком просвещения Луначарский. Конкурс завершился в Большом театре праздником советской гармоники: под еще недавно «некультурный» инструмент запели лучшие певцы страны, возник государственный оркестр гармонистов.
С «советизацией» гармони был сделан первый шаг на пути развития художественной самодеятельности.
Потом комсомол стал пропагандировать и продвигать туризм и физкультуру, был объявлен всесоюзный поход против неграмотности[131].
Оглядываясь назад, трудно не заметить, что Николаю Чаплину очень повезло: Цекамолом он руководил во время нэпа, относительно мягкое и (конечно, по советским масштабам) сытое. Капиталистические элементы, политически бесправные, презираемые, травимые, не давали партии окончательно закрутить гайки; основная часть жителей СССР, крестьяне, вела традиционный образ жизни. Правили большевики единолично, но внутри партии непререкаемым оставался престиж старых революционеров. Ленин писал о «безраздельном авторитете того тончайшего слоя, который можно назвать старой партийной гвардией»[132].
До середины 30-х годов ОГПУ и НКВД подавляли любую критику старых партийцев как «троцкистскую клевету».
Членам партии разрешалось владеть личным оружием, без их поручительства инженеров не допускали к секретной документации, они могли ходатайствовать об осужденных. И надо признаться, этим последним правом большевики-подпольщики с дореволюционным стажем пользовались довольно часто. Председатель Верховного трибунала ВЦИК Крыленко просил за эсера Бабина, с которым когда-то дружил и дискутировал в царской тюрьме; Серго Орджоникидзе по той же причине заступился за эсера Мерхалева; а Емельян Ярославский еще в 1933 году звонил в ОГПУ с просьбой освободить его старую знакомую Бабину: «Сразу выпустили, – вспоминала она, – даже 3 рубля дали на билет»[133]. Заступались члены ВКП(б) и за анархистов, и за меньшевиков, и тех, как правило, освобождали.
Короче, старая революционная субкультура, сложившаяся в царское время, пусть и в ослабленной форме, существовала до окончательной победы сталинизма, загнавшего почти всех старых большевиков в гроб вместе с остатками других революционных партий.
Но комсомольцы тех лет, похоже, видели в нэпе своего врага, досадный партийный маневр, от которого надо как можно скорей отказаться, возвратившись к «романтике» времен Гражданской войны. «Нэп – все равно, что выманивание медведя из берлоги, – говорил Николай Чаплин после легендарного (состоявшегося в марте 1921 года) Х съезда ВКП(б), участником которого он был. – Пошумят над ним, постучат, а он и лезет: “Кто тут шумит?” – рычит косматый. Видит: охотник. И на него. А человек стоит. Мишка – на дыбы. Вот тут-то – и рогатину ему под ребро»[134]. Он и его товарищи не понимали, как им повезло, что рогатину под ребро медведю-нэпу большевики всадили через девять лет после его рождения; за эти годы обреченный на заклание медведь успел принести революции и стране немало добра.
После введения нэпа партия забила тревогу по поводу морального облика своих членов, грозящего им мещанского перерождения. «Пьяные сирены нэпа, – предупреждал в октябре 1922 года делегатов V съезда РКСМ Луначарский, – поют молодому коммунисту свои заманчивые песни, чтобы его душою овладело желание отдохнуть и погрузиться в теплую лужу мещанского веселья»[135].
Комсомольцы, как мы знаем, по-боевому ответили на приветствие Ленина их съезду: «Комсомольская Россия будет всегда готова по вашему призыву “штурмовать небо”!»[136]
В числе штурмовавших небо был в те годы Варлам Шаламов.
«Я был, – вспоминал он, – участником огромной проигранной битвы за действительное обновление жизни…
Октябрьская революция, конечно, была мировой революцией. Каждому открывались такие дали, такие просторы, доступные обыкновенному человеку! Казалось, тронь историю, и рычаг повертывается на твоих глазах, управляется твоею рукой. Естественно, что во главе этой великой перестройки шла молодежь»[137].
С одной стороны, Николай Чаплин, лидер тогдашней советской молодежи, глубоко впитал в себя дух послереволюционного времени, был его воплощением. С другой же – он по приказу партии участвовал в его искоренении, оттирая молодежь от старых вождей, ставя ее под контроль силы, которую он считал партией и которая на поверку оказалась безжалостной волей подминающего под себя страну диктатора.
Когда подруга Шаламова, убежденная троцкистка Сара Гезенцвай, 7 ноября 1927 года привела будущего автора «Колымских рассказов» на демонстрацию и поставила его в колонну молодежи, выступавшей за Троцкого, «штурм неба» закончился – следующая демонстрация в СССР состоялась почти сорок лет спустя. А еще через полтора года Шаламова арестовали в подпольной типографии, где печаталось «Завещание» Ленина. Почти все его друзья университетских лет оказались в заключении, некоторых (в том числе Гезенцвай) расстреляли, сам писатель долгие годы носил клеймо троцкиста.
Так закончились для вдохновленных революцией молодых людей споры Сталина с Троцким на партийных съездах, в которых Николай под видом правоты защищал силу.
В мае 1928 года Николай провел свой последний, VIII съезд комсомола. В Большом театре состоялось торжественное открытие совместно с обществом «Долой неграмотность» и коллегией Наркомпроса, посвященной культурной революции. Председательствовал Михаил Калинин, выступал Анатолий Луначарский, присутствовал Серго Орджоникидзе. Реввоенсовет СССР наградил комсомол орденом Красного Знамени.
«Полученная награда, – говорил после вручения Николай, – обязывает нас еще лучше работать и быть всегда готовыми к грядущим битвам за нашу социалистическую Родину, за мировую революцию»[138].
Резолюция этого съезда в еще большей мере, чем предыдущих, – эмоционально взвинченный, мобилизационный документ, симфония повелительного наклонения, триумф восклицательных знаков, выкриков, лозунгов, клятв. Вот примеры: Борьба между миром злобы и насилия и страной строящегося социализма не кончена, готовься, комсомолец, взять в руки винтовку, сесть на боевого коня! Учись обороняться! Учись побеждать! Помогай рационализовывать социалистическую промышленность! Бери в крепкие руки руль трактора, стирай межи нищенских полосок, борись за коллективное хозяйство в деревне! На баррикады против старья, плесени, предрассудков, за братское, товарищеское отношение к женщине и друг к другу, за жизнь яркую и светлую, за радостный коммунистический быт!
Солнечное и суровое звание ленинца ставить выше всего! Выше личных привязанностей и удобств, выше своего «я»! На первый план – интересы класса, интересы общества!
«Мы, – клялся от имени комсомола Николай, – никогда не опозорим орден Красного Знамени, мы клянемся оправдать его, покрыть новой славой багровые стяги Красной Армии и алые вымпелы Красного Флота!»[139]
Резолюции в такой тональности принимаются накануне каких-то чрезвычайных катаклизмов, революций, войн. И действительно, страна стояла на пороге года Великого перелома, серии событий, последствия которых будут ощущаться и после распада СССР.
Сделав почетными комсомольцами, Николая Чаплина, Лазаря Шацкина и Ефима Цейтлина торжественно проводили на партийную учебу.
Должность Николая занял его друг Александр Мильчаков.
Между ленинградскими и московскими комсомольцами тем временем шла борьба, начавшаяся в кулуарах VIII съезда. Сталин, обозрев оба клана с высоты птичьего полета, нашел и тот и другой «очень легкими»: «Чем объяснить, что “косаревцев” и “соболевцев” [Сергей Соболев был вождем ленинградских комсомольцев. – М.Р.] в комсомоле сколько угодно, а марксистов приходится искать со свечой в руках?»[140]
Однако наследнику Ленина можно было и не залетать на такие теоретические высоты – все было прозаичней.
Существо разногласий много лет спустя один из участников съезда выразил так: «Если наш Сережка Соболев станет генсеком, – мы, ленинградцы, в ЦК и с портфелями, а если Саня Косарев, то – москвичи. Мы тогда даже к Сталину ходили, просили за Соболева. Но он только плечами пожал: “А что я могу сделать? У Косарева – кадры”. Александр Косарев в то время действительно вел в ЦК организационные вопросы, ну и кадрами занимался тоже»[141].
Здесь мы видим изнанку нагнетаемого на съезде пафоса: «присяги чудные четвертому сословью и клятвы крупные до слез», даваемые с трибуны комсомольскими вождями, предстают в истинном свете. На большевистском Клондайке, как проницательно заметил Вальтер Беньямин в «Московском дневнике», непрерывно идет борьба, промывается вещество власти. Сами участники процесса промывания годами жили в атмосфере лозунгов, собраний, кампаний, призывов; язык для них стал чисто эмоциональным, разорвал связи со здравым смыслом, утратив дескриптивную, аналитическую, прагматическую функцию. Поэтому борьба за власть приобрела для них чисто бессознательный характер, для нее подходящих слов не находилось, она велась в полном беспамятстве, но тем более безжалостно и упорно. Особенно в сталинский период.
Портфели делили не только на уровне ЦК.
В «Чевенгуре» Андрея Платонова некий «одинокий комсомолец» жалуется: «Всякая сволочь на автомобилях катается, на толстых артистках женится, а я все так себе живу! – выговаривал комсомолец свое грустное озлобление. – Завтра же пойду в райком – пускай и меня в контору берут: я всю политграмоту знаю, я могу цельным масштабом руководить! А они меня истопником сделали, да еще четвертый разряд положили… Человека, сволочи, не видят…»[142]
Можно сколько угодно клясться в верности, проповедовать и практиковать самоотречение, растворяться в массе, отказываться от своего «я», но полностью преодолеть в себе комплекс «одинокого комсомольца» не удалось, насколько мне известно, ни одному стороннику новой политической религии. К партийной святости неизменно примешивалось томление по земному воздаянию, трансцендентное же, потустороннее измерение в большевистской вере предусмотрено не было – оно осталось в старом, презираемом мире наживы.
Впервые лето выдалось свободным; Николай решил реализовать давнюю мечту – повидать Европу.
Еще летом 1924 года, когда на V конгрессе Коминтерна Николай встретил Эрнста Тельмана и беседовал с ним, у него родилась мысль своими глазами увидеть молодежь Европы, познакомиться с ней…
И вот теперь решение созрело окончательно. Чаплин захотел во время летних каникул обойти вокруг Европы на корабле. Но не в качестве пассажира, стороннего наблюдателя, а как полноправный член экипажа одного из кораблей.
«Хорошее дело, ребята, мировая революция, – говорит Николай Чаплин. – А что, если нам собраться да и поехать посмотреть, как же готовятся рабочие других стран к классовым боям? Что там у них? А может, им нужна наша помощь? Ведь СССР служит маяком миру. Маяком, что зажгли большевики во главе с Лениным».
Поезд в Ленинград уходил в половине первого. Роза [жена Николая. – М.Р.] была на работе, и Николай забежал к ней, чтобы проститься.
«– Провожать меня не надо, Роза. Со мной ничего не случится. А твой муж – Иван Фролов – через три-четыре дня, как говорят матросы, на своей посудине уйдет курсом зюйд-вест.
– Фролов?
– Да, любимая, небольшая конспирация. Все-таки неудобно: бывший секретарь ЦК комсомола СССР – рядовой матрос. Ничего не поделаешь – политика, – засмеялся Николай, – пока приходится посещать Европу инкогнито»[143].
За три месяца он вместе с тремя товарищами проплыл вокруг Европы в качестве помощника кочегара. Побывал в Гамбурге, Лондоне, Бордо, Гибралтаре, Марселе, Неаполе, Пирее, Стамбуле, и везде, если верить советской брошюре, местным пролетариям «нравились “красные”, нравился широкоплечий, русоволосый улыбающийся помощник кочегара.
Конечно, никто из зарубежных друзей не мог и подумать, что перед ними… бывший руководитель первого в мире Коммунистического союза молодежи»[144].
После возвращения Николай учился на курсах марксизма-ленинизма при ВКП(б) (прочел немало марксистской литературы, особенно интересовался историей Французской революции), окончив которые в 1930 году пошел на повышение: был назначен вторым секретарем Закавказского краевого комитета ВКП(б), в который входили нынешние Грузия, Армения и Азербайджан.
Фаворит Сталина Бесо Ломинадзе
Первым секретарем Закрайкома был назначен близкий друг Николая Чаплина по ЦК комсомола и КИМу Бесо (Виссарион) Ломинадзе.
В «Истории Советского Союза» (книга увидела свет при Горбачеве, а в советские времена издавалась для служебного пользования, была доступна лишь высоким начальникам) итальянский историк-коммунист Джузеппе Боффа пишет о нем: «…Грузин огромного роста и чрезвычайной сообразительности, он был особенно близок к Сталину, даже отличался в его лагере своеобразным левым экстремизмом. Похоже, Сталин считал его своим возможным преемником»[145].
Трудно представить себе что-то более опасное, нежели прослыть преемником столь злопамятного и мстительного человека!
Ломинадзе рассказывал: «Мои отношения со Сталиным были сложными. Со стороны, вероятно, казалось, что я пользуюсь абсолютным доверием Сталина. И были основания так думать. На пост первого секретаря Закавказского крайкома я был им рекомендован. Во всех делах отчитывался перед ним. Много раз встречался, и никогда он не прорабатывал меня ни при людях, ни один на один. Доброжелательно встречал и провожал. И все-таки каждый раз внутренний голос подсказывал мне, что в наших отношениях не все гладко. Иногда он как-то неприязненно оглядывал меня с головы до ног. И тогда мне казалось, что ему не по душе мой рост. Бесо Ломинадзе, обыкновенный человек, а вымахал в два метра, а он, вождь, низкорослый, тощенький. У Бесо густые волосы, чистое смуглое лицо, а у вождя – тонзура и оспины. Бесо Ломинадзе говорит по-русски лучше иного русского, а он, вождь русского и других народов, не может преодолеть сильного кавказского акцента. Я чувствовал: он доверяет Бесо, но от и до. Любит, но опасается, как бы соратник не оказался противником. И чутье не обмануло меня. В тридцатом [в 1930 году. – М.Р.] на Пленуме ЦК, когда обсуждались внешнеполитические дела, я выступил с речью, которая не полностью совпадала с позицией Сталина. Это ему очень и очень не понравилось… Я был выведен из ЦК, перестал быть первым секретарем Закрайкома. Перевели в Москву, назначили парторгом моторостроительного завода…»[146]
Честно говоря, нигде изнанка интимности (думаю, они большей частью говорили между собой по-грузински) не давала о себе знать так ярко: молодой коммунист, выдвиженец Сталина, сравнивает себя с прославляемым до небес генсеком и все время в свою пользу, как если бы тот был не более чем плешивым карликом, чей русский язык далек от совершенства.
Ломинадзе и в Тбилиси иногда не стеснялся в выражениях по поводу «отца народов»[147]. Родственники рассказывали, что однажды Бесо из-за этого подрался с «твердым сталинцем» Николаем, посадил тому под глаз синяк. На приеме в Москве Сталин спросил Чаплина, что с ним, откуда синяк. Николай стал отговариваться, мол, стукнулся о косяк, но понял: вождю обо всем донесли; в их узком дружеском кругу был информатор.
Человек, критиковавший всемогущего генсека, понятное дело, не мог долго оставаться безнаказанным. Кара не замедлила последовать. То, что Ломинадзе, явно смягчая скандал, называет «речью, которая не полностью совпадала с позицией Сталина», на партийном жаргоне именовалось «право-левацким блоком Сырцова – Ломинадзе». 1 декабря 1930 года ЦК и ЦКК выпускают совместное постановление «О фракционной работе Сырцова, Ломинадзе и др.».
Под «др.» подразумевался в первую очередь тот самый комсомольский лидер Лазарь Шацкин – создатель КИМа, который уговорил Ленина выступить на съезде со знаменитой речью[148].
Сталина он прогневал статьей «Долой партийного обывателя», появившейся в «Правде» 18 июня 1929 года. Автор писал, что партия превращается в «молчаливое большинство», готовое одобрить все, что спускается сверху; тем самым создается благоприятная почва для диктатуры отдельной личности. Сталин прекрасно понял, о какой именно личности идет речь, и незамедлительно подверг Лазаря наказанию, отправив в провинцию на низовую работу. Через год его подверстали к «блоку Сырцова – Ломинадзе», вывели из Центральной контрольной комиссия (ЦКК), редколлегии «Правды», перевели на работу в Центросоюз. Впервые крупных функционеров исключали из руководящих органов без решения ЦК, в нарушение Устава партии, впервые предъявлялись такие обвинения.
Джузеппе Боффа продолжает: «Дело Ломинадзе-Сырцова – первое, когда были пущены в ход термины “право-левый блок” и “двурушничество”, – в последующие годы они приобретут широчайшее распространение»[149].
Повторяю, лишь в годы Большого террора Сталин получил данные о том, что Ломинадзе неоднократно делился своими оппозиционными взглядами с Орджоникидзе. Серго до самой смерти оставался покровителем молодого партийца. Даже после опалы и обвинения в «двурушничестве» он (невиданное дело!) добился у Сталина разрешения, чтобы Ломинадзе остался на партработе: он стал первым секретарем Магнитогорского горкома.
В январе 1935 года Виссарион Ломинадзе, над которым нависла угроза ареста, застрелился из своего личного оружия. Гордый грузин не мог допустить, чтобы «органы» арестовали его именем советской власти! Осталось предсмертное письмо, продиктованное им своему заместителю и переданное тем по телефону в Москву: «Просьба передать тов. Орджоникидзе. Я решил давно уже избрать этот путь на тот случай, если мне не поверят… Несмотря на все свои ошибки, я всю свою сознательную жизнь отдал делу коммунизма, делу нашей партии. Ясно только, что не дожил до решительной схватки на международной арене [речь, понятное дело, о несостоявшейся мировой революции. – М.Р.]. А она недалека. Умираю с полной верой в победу нашего дела. Передай Серго Орджоникидзе содержание этого письма. Прошу помочь семье»[150].
И нарком тяжелой промышленности выполнил просьбу, добился того, что семья оппозиционера получала пенсию до его смерти. Потом и с ними расправились.
Читая такое, убеждаешься: все-таки у грузин иногда было иное представление о дружбе. Но не у всех…
На пленуме ЦК ВКП(б) в декабре 1936 года Сталин плюнул в могилу Ломинадзе: «…Люди стали заниматься самоубийствами. Ведь это тоже средство воздействия на партию. Ломинадзе кончил самоубийством. Он хотел этим сказать, что он прав, зря его допрашивают и зря подвергают подозрению.
А что оказалось? Оказалось, что он в блоке с этими людьми. Поэтому он и убился, чтобы замести следы»[151].
После смещения Ломинадзе в 1931 году Николай Чаплин остался в Тбилиси исполнять обязанности первого секретаря Закавказского крайкома. Сталин, если верить семейному преданию, позвонил и потребовал провести кампанию по разоблачению «двурушничества» впавшего в немилость главы Закрайкома. Николаю предстояло принять решение всей своей жизни. Одно дело, защищая сталинский курс, подраться с товарищем на дружеской пирушке, и совсем другое – предать проверенного партийца (Ломинадзе воевал на Гражданской, участвовал в подавлении Кронштадтского восстания), борца, близкого друга. И одно дело осуществлять «классовую справедливость» по отношению к неким абстрактным «эксплуататорам», выдавая себя за орудие исторической необходимости, и совсем другое – пойти против партийной совести, объявив злейшим врагом носителя той же веры, человека, чья праведность тебе прекрасно известна.
Фракции в партии были запрещены еще при Ленине, так что Сталин по праву говорил с ним от имени партии – инстанции, годами требовавшей слепой, беспрекословной преданности, грозившей за любой намек на отступничество полным отлучением.
Речь к тому же шла не только о Ломинадзе, но и о Шацкине, основателе организации, которой он, Чаплин, еще недавно руководил, к знамени которой он всего три года тому назад прикреплял орден Красного Знамени.
Представляю себе, сколь противоречивые чувства разрывали в тот момент грудь молодого коммуниста! Голос партии объявлял бой голосу совести, и совесть, насколько можно судить по последствиям, победила.
О прямом ослушании, невыполнении приказа Сталина в 1931 году, конечно, не могло быть речи, но кампанию по осуждению и разоблачению новоиспеченного врага партии Николай Чаплин провел так, что генсек понял – олицетворяемый им голос партии не был услышан.
Джузеппе Боффа в «Истории Советского Союза» пишет: «Вместе с ними [то есть с Сырцовым, Ломинадзе и Шацкиным. – М.Р.] были наказаны и многие руководители промежуточного уровня, в том числе молодой Чаплин, уже зарекомендовавший себя блестящим комсомольским лидером. Их обвинили в “паникерстве перед трудностями” и “капитулянтстве перед классовым врагом”. Вина их состояла, видимо, в том, что они предлагали более сдержанные темпы индустриализации, ‹…› возражая против сплошной коллективизации осенью 1930 г., – резолюция такого рода была принята Закавказским комитетом»[152]. На этом политическая карьера Николая Чаплина закончилась, хотя он и в 30-е годы занимал руководящие посты.
Родственники сообщили любопытную деталь: единственным человеком, который пришел в 1931 году на вокзал проводить покидавшего Тбилиси Николая в Москву, был скромный инструктор Тбилисского горкома партии Лаврентий Берия.
Разведчик
На момент октябрьского переворота моему деду Сергею Павловичу Чаплину едва исполнилось двенадцать лет.
В тринадцать лет он уже был курьером, в четырнадцать – экспедитором Смоленского горкома комсомола; в шестнадцать поступил на рабфак, где проучился три года, до девятнадцати лет. Был там, по собственному признанию, «затравлен зиновьевцами», после чего два года отслужил на Балтийском флоте, плавал на линкоре «Марат». В 1926 – 1927 годах был курсантом, учился в Севастополе в школе морских летчиков.
Младший брат Виктор вспоминал: «Признаться, даже в мыслях не держал он стать когда-нибудь чекистом. Мечта у него была совсем иной окраски – авиационная, воздухоплавательная. И вроде бы подворачивался удобный случай, заделался курсантом авиационной военно-теоретической школы, оставалось только подать заявление и необходимые документы.
Судьба, однако, рассудила по-другому. Точнее говоря, не судьба, конечно, а члены бюро губкома [комсомола. – М.Р.], вручившие ему путевку на Гороховую, 2, в распоряжение товарища Мессинга.
– В авиаторы ты, друг ситный, опоздал, – усмехнулся Станислав Адамович Мессинг, как бы читая вслух его мысли. – … Осваивай нашу чекистскую специфику, присматривайся помаленьку, учись. Что непонятно – спрашивай, не стесняйся. Работенка у нас, сам увидишь, нисколько не легче авиаторской.
Не в правилах молодых людей двадцатых годов было отказываться от заданий, искать личную выгоду или уронить свое революционное достоинство недобросовестным отношением к порученной работе»[153].
Говоря о «молодых людях двадцатых годов», Виктор забывает добавить, что комсомолом – организацией, направившей Сергея в ОГПУ, руководил тогда их старший брат Николай…
Феликс Дзержинский еще в 1922 году жаловался секретарю ЦК ВКП(б) Вячеславу Молотову: «Состояние ГПУ [наследника только что упраздненной и переименованной ВЧК. – М.Р.] внушает опасение, нет наплыва свежих ответственных товарищей, а старые болеют и бегут из ГПУ»[154]. И, как всегда в таких случаях, на помощь призывался комсомол.
Итак, в 1927 году комсомол направил Сергея Чаплина в ОГПУ. На вопрос о мотивах, побудивших его избрать эту работу, он ответил так: «Желание энергичной, ответственной, необходимой работы в условиях диктатуры пролетариата»[155].
«Мы своим кустарничеством, – писал Ленин в брошюре «Что делать?», манифесте зарождающегося большевизма, – уронили престиж революционера на Руси»[156]. Поэтому «партия нового типа» была задумана им как партия конспираторов-профессионалов (не случайно именно из-за пункта устава, определяющего, кто имеет право быть членом партии, большевики на Лондонском съезде размежевались с меньшевиками). Партия была изначально нацелена на борьбу с политической полицией царского режима: по Ленину, главное качество ее членов – профессионализм в противостоянии с жандармами[157]. Речь с самого зарождения большевизма шла о «профессионально вышколенных не менее нашей политической полиции революционерах»[158].
О симбиотических отношениях большевиков с политической полицией старого режима писал лидер эсеров Виктор Чернов: «Большевизм – это естественное идейное порождение сильных индивидуальностей, выковывавшихся в огне борьбы с самодержавием, исковерканных этой подпольной борьбой и незаметно для себя загипнотизированных созерцанием своего противника вплоть… до болезненной подражательности его методам и приемам»[159]. Стоит добавить, что «болезненной подражательностью» дело не ограничилось; после захвата власти ученики пошли куда дальше своих вчерашних учителей.
ЧК, созданная после прихода к власти политическая полиция режима, не сразу стала беспощадным орудием «красного террора». В первой половине 1918 года многие идейные революционеры в ее рядах еще верили в законность, даже в определенную гуманность по отношению к поверженному врагу. С подачи Дзержинского ВЧК принимает в феврале 1918 года постановление об ограничении использования секретной агентуры. «В борьбе с политической оппозицией предполагалось этот важнейший элемент государственной безопасности исключить начисто, пользуясь лишь добросовестными донесениями отдельных граждан… чтобы не сродниться с “царством провокации” дореволюционной охранки». Основатель ЧК предполагал тогда пойти еще дальше и отказаться от метода провокаций, с помощью которых еще недавно царские жандармы боролись с революционерами всех мастей.
Впрочем, «романтический период» продлился всего несколько месяцев. Уже в конце 1918 года, пишет историк советских спецслужб Игорь Симбирцев, дискуссия о допустимости провокаций стала неактуальной: полным ходом шло внедрение агентуры в политические группы, в камеры к арестованным подсаживали «наседок» – осведомителей[160].
Если в Октябрьской революции было нечто, что потрясло не только Россию, но и остальной мир, то это сама логика большевистского террора. Ее проще и ярче всех выразил чекист Мартин Лацис: «Мы истребляем буржуазию как класс… Первый вопрос, который вы должны ему [обвиняемому. – М.Р.] предложить, какого он происхождения, воспитания, образования, профессии. Эти вопросы и должны определить судьбу обвиняемого. В этом смысл и сущность “красного террора”…» Тот же Лацис создал журнал «Красный террор», в котором печатали списки расстрелянных, статьи с оправданием массового террора и бессудных казней – до тех пор, пока уже и Ленину подобная откровенность не показалась чрезмерной. Журнал выходить перестал, когда «красный террор» набирал обороты.
Виктор Серж считал создание ЧК «одной из тяжелейших, немыслимых ошибок» большевиков и объяснял ее тем, что «партия жила в глубоком внутреннем убеждении, что будет физически уничтожена в случае поражения; а поражение неделя за неделей оставалось возможным и вероятным». ЧК быстро превратилась в государство в государстве.
«Партия, – продолжает Серж, – старалась ставить во главе ее [ЧК. – М.Р.] людей неподкупных, таких, как бывший каторжник Дзержинский, честный идеалист, беспощадный рыцарь с аскетическим профилем инквизитора. Но у партии было мало людей такой закалки и много местных ЧК…»[161] Дзержинский добился полной независимости ЧК от органов юстиции и прокуратуры, а 7 декабря 1918 года Совнарком создает Чрезвычайную комиссию по борьбе с контрреволюцией и саботажем с неограниченными полномочиями (вплоть до расстрела на месте). Отвергнув суд как лицемерный и бессмысленный буржуазный предрассудок, расстреливать стали за все что угодно: за неявку на трудовую повинность, за отказ открыть банковский сейф, за продажу буханки хлеба, золотого колечка.
Лидер левых эсеров – партии, как известно, далеко не самой мирной – Мария Спиридонова была потрясена масштабами воцарившегося беззакония: «Свирепствуют поголовные убийства связанных, безоружных людей, втихомолку, в затылок из наганов. Не стыдятся грабить трупы (чисто донага). Идеологи “чрезвычаек” – люди сомнительной нравственности и умственно убогие. ЧК – тайная полиция Ленина – стала употреблять провокации. Это неслыханный позор для Советской России»[162].
Ей вторит Федор Степун: «Террор был ужасен. Людей преследовали не только из-за их действий и мыслей, но и из-за их предполагаемого умонастроения. Смыслом смертных приговоров было не наказание за совершенные преступления, но ликвидация человеческих типов, непригодных для нового советского общества. Помещиков, буржуазию, священников, крестьян и белых офицеров вырезали так же просто, как в рациональном животноводческом хозяйстве от одной породы избавляются для введения другой»[163].
По окончании Гражданской войны в 1921 году у ЧК, однако, сначала, несмотря на протесты Дзержинского, отобрали право на бессудные расстрелы, после чего ввели над ней кое-какой надзор со стороны прокуратуры и ВЦИК, а к концу года полномочия «меча революции» при участии Ленина были урезаны еще более заметно. В феврале 1922 года появился указ ВЦИК о ликвидации ВЧК и создании на ее месте новой спецслужбы – ГПУ.
В ближайшие пятнадцать лет спецслужбы СССР, замечает Симбирцев, были безжалостны преимущественно по отношению к людям, выступающим против власти или хотя бы заподозренным в этом не без каких-то оснований[164].
Но политическая полиция к тому времени уже обросла массой привилегий. В Москве у нее, возмущается Сергей Мельгунов, один из первых исследователей «красного террора», «целые кварталы реквизированных домов – несколько десятков. Есть своя портняжная, прачечная, столовая, парикмахерская, сапожная, слесарная и пр., и пр. В подвалах и на складах огромные запасы реквизированных продуктов, вин… В голодные дни каждый чекист имеет привилегированный паек – сахар, масло, белая мука и пр… Каждый театр обязан присылать в ВЧК даровые билеты и т. д.»[165].
Сергей Чаплин пришел в 1927 году к Станиславу Мессингу с рекомендацией от инспектора Политодела ОГПУ ЛО Бобышева следующего содержания: «Предъявитель сего т. Чаплин имеет желание работать в органах ГПУ. Парень способный, работать, несомненно, сможет. За политическую сторону ручаюсь целиком. К работе исключительно бумажной, кабинетной не подойдет. Парень он с инициативой и широким кругозором»[166].
Ясно, что это была рекомендация не на следственную (кабинетную, бумажную), а на разведывательную работу.
Выиграв Гражданскую войну, отказавшись от «красного террора», спецслужбы нового типа со свойственным им размахом сосредоточились на разведывательных и контрразведывательных операциях. Агенты образованного в декабре 1920 года Иностранного отдела ЧК уже через год в ходе тайной операции уничтожили в китайском Синьцзяне заклятого врага Советов, атамана Александра Дутова. «Затем стали писать, что Дутов был убит неким разочаровавшимся в Белом деле уйгуром из собственного окружения, след ЧК не упоминается»[167]. Та же судьба в 1921 году постигла «белого барона» Унгерна фон Штернберга, тайно вывезенного из Монголии и казненного по приговору ЧК, а также нескольких генералов из окружения Дутова, тайно уничтоженных в Китае.
Впоследствии по той же трехчастной схеме – убийство; публичное обвинение кого-то из якобы «разочаровавшихся» сторонников убитого; тайное награждение реальных убийц (агентов спецслужб) – будет организована «ликвидация» Троцкого.
Организатору убийства Дутова Феликс Дзержинский вручил золотые часы с бриллиантами.
От идеализма конца 1917-го – начала 1918 года всего через три года не осталось и следа; более того, он превратился в собственную противоположность. Провокации применялись в масштабах, о которых царские и иностранные разведчики могли только мечтать, тем более что восторженных поклонников большевистского эксперимента и на Западе было в то время более чем достаточно. Вскоре самые ненавистные революционерам мастера провокаций из числа царских жандармов (полковник Судейкин, генерал Зубатов) предстали на этом фоне жалкими дилетантами.
Об этом в несколько напыщенных тонах пишет Симбирцев: «В целом это было началом большого взлета советской разведки, только начинавшей первыми внедрениями и силовыми акциями простирать крыла над миром. В этом же 1921 году внутри ВЧК вызревает идея будущих операций “Трест” и “Синдикат”, позднее нанесших страшные удары по белой эмиграции…»[168]
Под руководством сначала Дзержинского, а потом сменившего его на посту руководителя ГПУ Менжинского главный контрразведчик Артур Артузов и глава ИНО Меир Трилиссер со своими оперативниками разработали хитроумную агентурную сеть, заброшенную на Запад с целью развала белой эмиграции, прежде всего РОВС (Российского общевойскового союза под руководством генерала Кутепова).
На роль представителя мифической монархической организации нашли старого царского чиновника Якушева, который якобы, порвав с прошлым, прозрел и добровольно перешел в большевистскую веру. На самом деле чекисты как бы «по ошибке» возили его на казнь и вытаскивали из-под горы трупов расстрелянных сокамерников. После подобной инсценировки предыдущий кандидат на роль главы тайных монархистов, царский полковник Флейшер, сошел с ума. Другим эффективным способом вербовки было взятие в заложники родственников завербованных[169].
Иногда советские разведчики давали заброшенным в СССР эмигрантам вернуться назад в полной уверенности, что они встречались там с многочисленными представителями монархического подполья. Под их наблюдением зимой 1925 года состоялась поездка монархиста Василия Шульгина, пребывавшего в полной уверенности, что нелегальное путешествие организовали его единомышленники. Другой связной РОВС, Демидов, был арестован, но отпущен контрразведчиками Артузова, успешно выдававшими себя за сочувствующих монархистам сотрудников ГПУ.
Преимущество первых советских разведчиков заключалось в их революционном фанатизме и, как следствие, в полном отсутствии моральных ограничений, ставившем в тупик их противников. Представитель генерала Кутепова в Варшаве Сергей Войцеховский, написавший подробное исследование об операции «Трест», не скрывает своего удивления перед беззастенчивостью противников: «Как же мы могли не доверять бывшим царским генералам, мы сами были выходцами из той офицерской среды с ее понятиями о чести и не сразу поняли, насколько изменился мир в России при Советах в этом плане»[170]. Не понимали этого и завербованные советскими разведчиками эмигранты: тоска по Родине сплошь и рядом кончалась для них расстрелом в застенках ГПУ.
В 1927 году операция «Трест» завершилась: те, против кого она была направлена (деятели Российского общевойскового союза) осознали бесперспективность проведения «активных мероприятий» на советской территории.
Дело о фальшивых червонцах
Практиканта Сергея Чаплина в 1928 году привлекают к расследованию дела о фальшивых червонцах.
«Совершенно секретно.
Ориентировка Ленинградского Управления ОГПУ 14 октября 1928 г.
Начиная с сентября, а также в октябре наблюдаются многочисленные факты появления фальшивых червонцев в Ленинграде и близлежащих местностях… они завозятся из-за границы монархическими организациями в контакте с английской секретной службой Интеллидженс сервис. Установлено, что к этой авантюре причастна военизированная антисоветская организация бывшего великого князя Кирилла Владимировича “Корпус офицеров императорской армии и флота”…
Настоящее сообщается для принятия соответствующих оперативных мер.
Полномочный представитель ОГПУ в ЛО С. Мессинг»[171].
Разведчики установили, что деньги печатаются белогвардейцами в Германии. Информацией о связях сторонников великого князя Кирилла Владимировича с немецкой разведкой их снабжал завербованный еще в начале 20-х годов в эмиграции полковник Белой армии Алексей Хомутов[172]. Через него чекисты установили имена и приметы агентов, подготовленных для переправки в СССР, фальшивые документы, которыми их снабдили, предполагаемое время и место перехода границы.
Дальнейшие события развивались по плану ленинградских чекистов. Связной Иван Дмитриевич П. встретился со своими однополчанами, возвратился и был вместе с подельниками арестован.
«Круги от этого сообщения ушли далеко за рубеж. Германские власти вынуждены были начать процесс против фальшивомонетчиков, и он широко освещался советской и зарубежной прессой… Вскрылись связи с фашистскими кругами Германии, зарубежными спецслужбами, попытки подорвать советскую валюту, организовать восстание, оторвать от СССР Украину и остальную богатую природными сокровищами часть южной России»[173].
В книге Арифа Сафарова (автора полудокументальных-полудетективных романов о чекистах) «Фальшивые червонцы» утверждается: «Случилось так, что наиболее ощутимый вклад в решение общей задачи внес молодой сотрудник контрразведки Сергей Павлович Цаплин, всего лишь второй год служивший на Гороховой в скромной должности практиканта»[174].
В чем его вклад состоял, не уточняется (из соображений секретности, конечно, поэтому же и фамилия изменена).
17 января 1929 года в Ленинграде, в помещении Академической капеллы начался процесс над монархистами-фальшивомонетчиками. Он продолжался пять дней. Сергей Чаплин сидел в зале где-то в задних рядах, среди публики.
Фактическая сторона дела в советской версии подчинена идеологической, вычленить одну из другой непросто. Однако кое-какие факты, касающиеся этого действительно очень темного дела, все-таки известны.
Мысль подорвать советскую власть с помощью фальшивых червонцев зародилась в 1926 году в головах двух грузинских эмигрантов, Шалвы Карумидзе и Василия Садатирашвили, ранее судимых за подделку царских денежных знаков. Они поделились этой идеей с британским предпринимателем, сэром Генри Детердингом, владельцем акций «Ройал датч шелл», потерявшим – вместе с братьями Нобель и другими – огромные деньги из-за национализации каспийской нефти. «Суть идеи Карумидзе заключалась в том, чтобы, выбросив на российский черный рынок фальшивые червонцы, парализовать экономику молодого государства…»[175] Степень защиты новых советских денег была минимальной, особенно легко было подделать банкноту в один червонец, имевшую изображение лишь на одной стороне листа. Политической целью грузин являлось, ни больше, ни меньше, как отделение Грузии от СССР. Кроме Детердинга аферу грузинских патриотов какое-то время поддерживал генерал Макс Гофман, возглавлявший немецкую делегацию на знаменитых переговорах c Троцким в Брест-Литовске в 1918 году.
«Слухи о широкомасштабном антибольшевистском заговоре повергли политический Берлин в состояние паники», – писала в статье «Der Stein des Anscheins» в журнале «Шпигель» журналист Иоханна Лутерот[176].
В конечном счете расчетливый магнат Детердинг вышел из игры. «[План. – М.Р.] показался ему слишком дорогим, а риск слишком большим – к великому сожалению генерала Гофмана, чьи стратегические разработки оказались невостребованными.
После этого Карумидзе решил заниматься изготовлением фальшивых денег в одиночку. Детердинг и Гофман вышли из игры»[177].
Но слухи о походе генерала Гофмана на Москву не утихали. «4 февраля 1930 года “Фоссише цайтунг” опубликовала план похода Гофмана на Москву»[178].
В конечном счете после настойчивых протестов советского посла в Берлине Николая Крестинского немецкий суд приговорил грузинских фальшивомонетчиков к небольшим срокам тюремного заключения.
На этом заканчивается немецкая, но не советская версия дела о фальшивых червонцах.
Потерпев неудачу с Детердингом и Гофманом, предприимчивые грузины обратились к белым офицерам Арвиду фон Сиверсу и Петеру фон Глазенапу, связанным с претендентом на российский престол, великим князем Кириллом Владимировичем. В результате в СССР с фальшивыми купюрами засылается литовец, ротмистр Альберт Шиллер[179]. Он переходит границу и направляется в Ленинград к своему сослуживцу Андрею Гайеру; на следующий день в квартире Гайера появляются еще два однополчанина, Федоров и Карштанов. Все трое жалуются на житейские трудности, притеснения, чинимые советскими чиновниками и милицией.
Попытка Федорова разменять червонцы проваливается; он просит заняться этим своего дальнего родственника Биткина. Но и тот нарывается с поддельными деньгами на бдительного связиста Сепалова, который сомневается в их подлинности (слишком толстая и грубая бумага) и относит подозрительные червонцы в банк. Через арестованного Биткина ленинградские чекисты выходят на Федорова и Карштанова, потом арестовывают и Шиллера, от которого узнают о происхождении червонцев.
Все эти провалы наводят на мысль, что Шиллер и его подельники изначально (скорее всего, благодаря информации от упомянутого агента ГПУ Алексея Хомутова) находились под чекистским колпаком.
Скорее всего, роль практиканта Сергея Чаплина заключалась в выслеживании и задержании кого-то из названных курьеров. После этого он был досрочно переведен из практикантов в сотрудники КРО ОГПУ ЛО.
Чем он занимался с 1929-го по 1933 год, возможно, станет известным, когда откроются архивы ОГПУ – НКВД; пока они недоступны.
С мая 1933-го по декабрь 1935 года Сергей Чаплин работает под дипломатическим прикрытием (под фамилией Борисов) за границей в резидентуре НКВД сначала в Финляндии, затем в Эстонии. Живет с женой и двумя детьми в Хельсинки и в Ревеле.
«В кадрах советской разведки это были лейтенант госбезопасности Чаплин и его жена Чаплина (Левинтова)»[180].
Своим учителем мой дед считал советского разведчика Григория Сергеевича Сыроежкина, одного из активных участников операции «Синдикат-2», направленной против подпольного эмигрантского «Союза защиты Родины и свободы». В рамках этой операции был арестован ее лидер, известный террорист, писатель Борис Савинков. Сыроежкин допрашивал Савинкова, когда тот выбросился из окна; он, если верить легенде, пытался схватить заключенного за ногу, но из-за повреждения руки не смог его удержать. В 1925 году он принял участие в захвате английского разведчика Сиднея Рейли. Один из знавших его чекистов рассказывал, что в оперативной работе Сыроежник «находил полное удовлетворение своим наклонностям. Он был сообразительным, быстрым в движениях, физически сильным. Ему, видимо, импонировало то, что результаты оперативной работы получались тут же, сразу, и полностью зависели от того, как он построит и приведет в исполнение задуманный им оперативный план»[181]. Он боролся с противниками советской власти в Польше, Белоруссии, Бурятии, на Кавказе и даже в Якутии, награждался орденами, почетными подарками, оружием, дослужился до звания майора госбезопасности (что по тем временам соответствовало армейскому званию генерал-майора).
В начале тридцатых годов Сыроежкин установил контакт с руководителем Кронштадтского восстания Степаном Петриченко, бежавшим после поражения мятежа в Финляндию, и узнал от него, что на советско-финской границе финнами ведется масштабное военное строительство[182]. В 1933 году Сыроежкина переводят в Ленинград, где он работает до 1936 года, часто выезжая в командировки в Скандинавские страны, в том числе в Финляндию. Чаплин, скорее всего (это, впрочем, всего лишь гипотеза и семейное предание), работал там под его руководством, собирая материалы о военном строительстве.
В 1934 году финские контрразведчики высылают его из страны, раскрывают его настоящее имя. О причинах этого до открытия архивов можно только догадываться. Журналист Борис Кравцов в разгар перестройки, в августе 1989 года, написавший о Сергее Чаплине три объемные статьи в газете «Ленинградская правда», довольно туманно пишет об этом эпизоде: «…Это было в тревожные тридцатые годы, когда к власти в Германии пришел фашизм. Советский разведчик… оказался в тяжелом, буквально безвыходном положении: надо было выполнить важнейшее задание, связанное с риском для жизни. Поручить его в тот момент было некому. И тогда, вспоминала впоследствии его жена, “он назвал мое имя, не считаясь с тем, что я была его женой и матерью его двух маленьких детей”»[183].
Возвратившись в Ленинград в декабре 1935 года, Сергей Чаплин назначается уполномоченным Особого отдела по обслуживанию финского консульства. «В мою задачу входила, – признается он на одном из допросов в начале 1939 года, – борьба с право-троцкистскими, контрреволюционными элементами».
Ни одного из этих «элементов» ему за полтора года работы выявить не удалось.
1931 – 1937 годы
В 1931 году 28-летний Николай Чаплин возвратился в Москву на должность начальника Управления общественного питания Центросоюза.
В прозаическое, казалось бы, дело общественного питания и кулинарии он привносит комсомольские методы руководства. «Кто-то из коллег шутя назвал его “главным поваром страны”. Он отмахнулся, мол, какой я повар, и щей сварить не могу. А потом выбрал себе в Москве рабочую столовую и ходил туда постоянно, осваивая технологию, учился лепить биточки, кашу варить, щи. И на совещания к себе не только руководителей приглашал, но и студентов, школьников, чтоб из первых рук узнать, как же их кормят. По стране метался, вникал, помогал, старался стать, как писал в письме домой, “толковым кооператором”».
В 1933 году его переводят – назначают начальником политотдела Мурманской железной дороги (после убийства Кирова переименованной в Кировскую). В январе 1937 года он становится начальником Юго-Восточной железной дороги.
На Х съезде комсомола в 1931 году новый генеральный секретарь Александр Косарев, близкий друг Николая, выступая с отчетным докладом, заявил: «Шацкин вступил на путь предательства партии», «таким, как Шацкин, не место в рядах нашей организации». Про Чаплина Косарев сказал: «…Он способствовал работе право-левацкого блока». Ни о какой личной инициативе со стороны Косарева здесь, конечно, не могло быть речи: выполнялся приказ с самого верха, из тех, которые, если хочешь выжить, не обсуждают. Один делегат выразил настроение съезда: «За заслуги в ножки кланяемся, а за ошибки по хребту бьем», – после чего было единогласно решено: «С тт. Чаплина, Шацкина и Е. Цейтлина, как не оправдавших доверие ВЛКСМ, звание почетных комсомольцев снять»[184].
Все встало на свои места: в СССР был всего один человек, который мог приказать Косареву отречься от старых, проверенных друзей, человек, ослушаться которого не смел никто. В поэме «Владимир Ильич Ленин» Маяковский писал: «Ленин и партия – близнецы-братья». Теперь таким «близнецом» стал Сталин.
На исходе 20-х годов происходит Великий перелом, начинается коллективизация, вторая сталинская революция сверху, ликвидация кулачества как класса, война против крестьянства, полностью изменившая соотношение сил в стране и внутри партии.
«Города… оказались, – описывает ситуацию начала 30-х годов историк Йорг Баберовски, – запруженными потоками крестьян, мигрирующих из деревни. Москва, Санкт-Петербург, Одесса, Тифлис и другие крупные центры стали крестьянскими метрополиями: сословия, имеющие собственность и образование, хоть и правили здесь, но властью не обладали. Многие города… возникли из “ниоткуда”… Деревня не растворялась в городе, а завладела им и подчинила его себе, придав ему свой отличительный облик»[185].
Россия, как и пришедший ей на смену СССР, была по преимуществу крестьянской страной, примерно четыре пятых ее жителей жили в деревне. Когда Октябрьская революция передала крестьянам помещичью землю, многие пролетарии с деревенскими корнями покинули полуголодные города, чтобы поучаствовать в разделе земли, да и просто лучше питаться. Страна победившего пролетариата парадоксальным образом стала еще более крестьянской. В 20-е годы крестьяне и национальные меньшинства (евреи, армяне, грузины, латыши) мигрировали в города в количествах, допускавших их интеграцию. С началом революции сверху положение дел радикально меняется. В ходе коллективизации крестьян не просто натравливают друг на друга, загоняют в колхозы, изгоняют, уничтожают, но вытесняют в города, запуская невиданной силы механизм дикой урбанизации. Миллионы крестьян уже не втягивались городами с целью ассимиляции, а заполняли их под завязку, завладевали ими, переделывая под себя обычаи, навыки, культуру и так уже затерроризированного революцией городского населения.
Когда историки представляют Сталина заклятым врагом крестьянства, с одной стороны, с ними трудно не согласиться, с другой же – к этому утверждению требуются существенные дополнения. Тут важно, что понимать под крестьянством. Тех, кто, став колхозниками, остались в деревне? Тех, кого объявили кулаками, расстреляли или выслали в отделенные районы? Или тех, кто, перебравшись в города, переделал их на свой крестьянский лад, получил там образование, сделал карьеру, создал оригинальную советскую культуру? Первых и вторых можно считать в массе своей жертвами сталинизма; с третьими (а их было не меньше) все значительно сложнее. Если бы они не поддержали Сталина, то как один из ленинских наследников-«диадохов», все 20-е годы успешно интриговавший против Троцкого, Зиновьева, Каменева, Бухарина и других конкурентов, начиная с 1930 года вдруг стал бы единоличным лидером партии, а вскоре абсолютным властителем страны, Хозяином, как именовали его приближенные? С чьей помощью, при чьем молчаливом согласии он сумел в 30-е годы сначала расправиться с остатками старой городской культуры, а потом «порубать» почти всю ленинскую элиту? Кто и теперь, через шестьдесят лет после смерти диктатора, все еще называет его «лицом России»?
Да, так называемые кулаки и крестьянство, прикрепленное к земле, подверглись массе ограничений, не получили паспортов, но десятки миллионов крестьян в городах составили основу сталинской системы. Диктатору было просто неоткуда больше черпать ресурсы своих сторонников. Крестьяне в России жили не только в деревне; значительная часть городского населения имела недавнее сельское происхождение, и если немного «потереть» ленинских пролетариев, на поверхность вылезет их деревенская сущность, неперерезанная пуповина, связывающая их с сельским миром. Вот как описывает быт своей семьи в Ленинграде времен его детства Георгий Жженов «Жили без столичных удобств, по-деревенски… полати от стены до стены вместо кроватей… Ели из одной общей чашки деревянными ложками, начиная от отца и дальше по часовой стрелке»[186]. Семья перебралась в северную столицу еще до революции из Тверской губернии и формально считаться крестьянской никак не могла. И таких семей, ведших в городах деревенский образ жизни, и в России, и в СССР, думаю, было немало. В результате коллективизации крестьяне в городах получили гигантское пополнение; практически отпала необходимость в их дальнейшей урбанизации: теперь им надо было встраиваться в культуру, больше похожую на привычную им, исходную, деревенскую.
Если кто-то знает, на какие еще достаточно многочисленные слои населения могла опереться сталинская диктатура, пусть назовет их – я их не вижу. Культурный пласт, накопленный в России за триста лет правления династии Романовых, частично погиб на войнах, мировой и Гражданской, частично был вытеснен за пределы России, частично стал «бывшими людьми», «лишенцами», частично забился по углам, тщательно скрывая свое происхождение. Большевистская интеллигенция была слишком зачарована мировой революцией для того, чтобы смириться с идеей построения социализма в одной стране, и Сталин понимал, что, начиная коллективизацию, создает себе в ее стане многочисленных недовольных; это было не то, о чем они мечтали все 20-е годы.
Убежденный коммунист Виктор Серж, поклонник Ленина и Троцкого, с ужасом пишет о происходящем: «Мы предлагали обложить крестьян налогом – их уничтожают! Мы предлагали внести ограничения и изменения в НЭП – его отменяют!.. экспортируют продукты, а Россия погибает от голода»[187].
Согласен с Джузеппе Боффой: прегрешения Бесо Ломинадзе и Николая Чаплина на Кавказе, Сергея Сырцова в Совмине РСФСР, Лазаря Щацкина и других партийцев ленинского призыва, скорее всего, заключались в том, что они старались приостановить, замедлить темпы коллективизации. Нутром чувствовали: война против крестьянства и сопровождающая ее «дикая урбанизация» ставят точку на международном характере Красного Октября, на грезах о мировой революции, на минимуме внутрипартийной демократии, существовавшем в 20-е годы.
С тех пор Сталина старые партийцы стали сравнивать с Чингисханом.
До того как добраться до партийной элиты, карательные органы режима в рамках так называемого «кулацкого приказа» занялись вылавливанием и уничтожением остатков старых городских слоев (царских офицеров, судей, городовых, купцов, дворян, почетных граждан).
В 1928 году, когда Николай прощался с комсомолом, в его рядах было около двух миллионов юношей и девушек, в основном крестьянского и пролетарского (в советском смысле слова) происхождения, и они, конечно, были активно задействованы в революции сверху. Было еще четыре миллиона юных пионеров, родившихся при советской власти.
Москва 30-х годов, писал возвратившийся из первого заключения на Урале Варлам Шаламов, была городом страшным: бесконечные очереди, пустые полки, заградительные отряды вокруг города, «закрытые распределители для привилегированных и надежных». От изобилия нэпа и былых свобод не осталось и следа[188].
Отозванный с Кавказа, «пропесоченный» в ЦК партии, раскритикованный на комсомольском съезде, единогласно выгнанный из почетных комсомольцев, Николай Чаплин, видно, понимал непрочность своего положения, неясность будущего.
Сужу об этом по одному эпизоду. В начале 30-х годов был арестован наш дальний родственник, чья подпись, рассказывала моя мама, стояла на советских червонцах. Посмотрел в Сети: это был, значит, Захарий Соломонович Каценеленбаум, которого обвиняли по делу «контрреволюционной меньшевистской вредительской организации в Госбанке СССР» и 25 апреля 1931 года приговорили к пяти годам ИТЛ. У него остались дети, на семейном совете решали, что теперь делать: брать их к себе или нет? Другие колебались, а Николай сказал: «Берите и не раздумывайте. Неизвестно еще, что будет с нами и с нашими детьми».
1 декабря 1934 года происходит событие, которое перевернет жизнь страны. Убитый в этот день Сергей Миронович Киров хорошо знал и ценил Николая еще со времен его работы на Кавказе в начале 20-х годов. Он был его партийным покровителем (таким, каким для Ломинадзе являлся Орджоникидзе), ценил организаторские способности Николая, его скромность в быту, заботился о создании для него нормальных условий работы. Анастас Микоян передавал отзыв Кирова и Орджоникидзе о Николае: «Настоящий коммунист, превосходный работник, отличный товарищ»[189]. Александр Тамм, который в тридцатых годах жил вместе с семьей Чаплиных в Ленинграде, в огромном доме на Каменноостровском проспекте, вспоминает, как любовно относился к Николаю ленинградский вождь: «Он, Киров, на каком-то активе сказал нам: “В Ленинград скоро приедет отличный работник Николай Чаплин. Будет работать начальником политотдела Мурманской дороги”».
В семейном архиве сохранился любопытный документ на бланке политотдела Мурманской железной дороги, датированный 2 октября 1934 года (менее чем за два месяца до убийства Кирова) и адресованный Кирову: Николай жалуется на простой вагонов по вине некого Невдубстроя, недогрузившего за сентябрь торфом 476 вагонов:
«Невдубстрой не принимает никаких мер к рационализации выгрузки торфа и превращает вагоны в склады на колесах…
Прошу этот вопрос поставить на Секретариате Обкома с вызовом руководителей Невдубстроя и Мурманской ж.д.».
На документе стоит резолюция Кирова от 4 октября 1934 года: «На срочное рассмотрение».
Неизвестно, состоялось ли до убийства Кирова «срочное рассмотрение», стал ли Невдубстрой после него быстрее отгружать торф, или – что более вероятно – число «складов на колесах» продолжило расти.
Зато, читая подобные документы, понимаешь, почему Николая Чаплина и других руководителей в конце концов сделали ответственным за провал работы на Мурманской железной дороге, превратили в шпионов и диверсантов: катастрофически низкая квалификация рабочих, из рук вон плохая организация труда, связанные с ней аварии, простои, опоздания легко перекодировались репрессивным аппаратом, персонифицировались, превращались в теракты, диверсии, подготовленные «врагами народа». Тем более что миллионы вчерашних крестьян прекрасно понимали этот магический язык: очередная расправа с «врагами» поднимала престиж вождя, принося фантомальное облегчение массе. Попытки же рационального объяснения, напротив, представали в глазах неграмотных людей еще одной коварной формой вредительства.
Итак, вечером 1 декабря 1934 года С.М. Киров, шедший на заседание по коридору Смольного, где находился Ленинградский горком и обком ВКП(б), был убит выстрелом в затылок неким Леонидом Николаевым.
Твердый сталинец, Киров в то же время отличался от других членов Политбюро такими качествами, как ораторский талант, простота, демократизм, доступность, близость к рабочим массам. Он, считает видный чекист-перебежчик А. Орлов, «был единственным членом Политбюро, не боявшимся ездить по заводам и выступать перед рабочими».
Как видим, это те самые качества, которыми гордились комсомольские вожди тех лет.
Версия Никиты Хрущева, согласно которой убийство было организовано Сталиным и НКВД, у современных историков подтверждения не получила. Считается, что это был акт мести со стороны психически неуравновешенного одиночки.
Зато при ответе на вопрос «кому выгодно?» («qui bono?») двух мнений быть не может: убийство было выгодно Сталину. Он тут же не просто закрутил все возможные гайки, ввел «тройки», резко упростил процедуры расправы, но и (до всякого следствия) назвал виновников. Вот как это выглядело в изложении его приближенного, секретаря ЦК Николая Ежова: «…Т. Сталин, как сейчас помню, вызвал меня и Косарева и говорит: “Ищите убийц среди зиновьевцев”. Я должен сказать, что в это не верили чекисты… Пришлось вмешаться в это дело т. Сталину. Товарищ Сталин позвонил Ягоде и сказал: “Смотрите, морду набьем”…»[190]
Писатель Корней Чуковский присутствовал на похоронах Кирова вместе с опальным Львом Каменевым. В Колонном зале Дома союзов, где стоял гроб, даже лампочки были обтянуты черным крепом. Каменев хотел встать в почетном карауле. «Я стоял слева и отлично видел лицо Кирова. Оно не изменилось, но было ужасающе зелено…»[191] Когда через несколько дней Каменева арестовали, писатель сокрушался в своем дневнике: «Неужели он такой негодяй? Неужели он имел какое-то отношение к убийству Кирова? В таком случае он лицемер сверхъестественный, т. к. к гробу Кирова он шел вместе со мной в глубоком горе, негодуя против гнусного убийцы…»[192]
На Ленинград обрушились репрессии невиданной силы, получившие у историков название «кировский поток». Сталин объявил северную столицу гнездом «бывших людей», царских чиновников, жандармов и полицейских; только что образованными «тройками» НКВД из города были высланы 39 660 человек, 24 374 человека были приговорены к разным срокам наказания. Поскольку ищейкам диктатора было жестко приказано взять «зиновьевский след», сторонники опального вождя были высланы на север Сибири и в Якутию.
С убийства Кирова начинаются злоключения и жившей на Васильевском острове семьи Жженовых: ее также втягивает в «кировский поток». Когда с телом вождя в Таврическом дворце прощался ленинградский университет, стояли сильные морозы, и Борис Жженов, студент-математик, сказал своему комсоргу, что не может идти туда в «разбитых ботинках» (других не было), боится обморозить ноги. Комсорг на него донес «куда надо», Борис был исключен из университета, целый год обивал пороги начальственных кабинетов, добился в конце концов восстановления, но в декабре 1936 года был вызван в Управление НКВД на Литейном проспекте, в так называемый Большой дом: «Домой, – вспоминает его младший брат Георгий Жженов, – он оттуда не вернулся никогда»[193]. Последнее свидание с братом Георгий запомнил на всю жизнь; на нем тот тайком передал матери записи о том, что ему довелось пережить в сталинских застенках, что творили с ним и с другими арестованными следователи НКВД. Прочитав эти записи, Георгий не поверил, принял за бред помутившегося рассудка, «усомнился в психическом здоровье брата». Потрясенный, он сжег эти листки в печке, о чем потом очень жалел. В правоте брата ему вскоре предстояло убедиться на собственном горьком опыте. В мае 1937 года Борису дали 7 лет за «антисоветскую деятельность», а семью (за исключением Георгия, за которого вступился его учитель, режиссер Сергей Герасимов: актер был нужен на съемках кинофильма «Комсомольск») выслали из Ленинграда.
В книге «Советские массовые праздники» историк Мальте Рольф описывает резкие изменения во взаимоотношениях «вождей» с массами, произошедшие к середине 30-х годов, на примере двух картин: «Праздник Конституции» И.И. Бродского (1930) и «С.М. Киров принимает парад физкультурников» А.Н. Самохвалова (1935).
На картине Бродского нет четких границ между «народом», собравшимся для торжества на открытом поле, и «вождями», которые стоят на импровизированной деревянной трибуне. Трибуна не воспринимается как барьер между теми, кто «наверху» и кто «внизу»; одни свободно перетекают в других. «На картине отсутствует фокус, притягивающий взгляды и приковывающий внимание всех смотрящих. Композиция картины не выделяет оратора… Никак не обозначены ни передовики производства, ни активисты… Мы видим неструктурированную аморфную массу, “море голов” – метафора, которой часто пользовались при описании праздников 20-х годов»[194].
Совершенно иначе это соотношение выглядит на картине «Киров принимает парад физкультурников». Народные массы здесь не аморфны, а «выстроены», вождь четко отделен от «ведомых». Каменная трибуна выше человеческого роста, «обожательницы не могут дотянуться до главы партийной организации, чтобы вручить ему букет цветов… На картине вождь притягивает взоры всех, кто ее населяет… сияющие глаза женщин передают эротику власти»[195]. Киров, стоящий на высокой, массивной трибуне, недосягаем для устремленных к нему масс, да и сами эти массы теперь четко структурированы по росту и статусу. Если на митингах толпа как бы «омывала» трибуну оратора, то на парадах «колонны демонстрантов» соприкасаются с одиноким в своем величии вождем только обожающими взглядами, тянутся к нему издалека, из-за непреодолимой границы.
Как Киров на картине Самохвалова не похож на «Мироныча», каким его знали питерские рабочие и комсомольские вожди ленинского призыва! Последний хранитель «комсомольского стиля» в сталинском Политбюро посмертно изображен не таким, каким он был, а таким, каким ему по новым правилам надлежит быть: всезнающим, холодным, недоступным… Как сам великий Сталин.
Апогея женское желание, направленное на вождя, достигает в «Колыбельной» Дзиги Вертова (1937), где массы женщин, девушек, девочек с обожанием тянут руки к похожему на небольшого моржа, усатому, рябому, одетому в полувоенный френч человеку, который в ответ слегка поводит руками и улыбается им из своего недостижимого, прекрасного далека. Каждые несколько секунд повторяется имя «Сталин», «великий Сталин – детям самый лучший друг», а «друг детей» с плохо скрываемым раздражением отдирает от себя чудом (охрана недоглядела) очередное добравшееся до него обожающее женское тело.
Вот дневниковая запись от 22 апреля 1937 года Корнея Чуковского, побывавшего на каком-то съезде: «Вдруг появляются Каганович, Ворошилов, Андреев, Жданов и Сталин. Что сделалось с залом! А ОН стоял, немного утомленный, задумчивый, величавый… Я оглянулся: у всех были влюбленные, нежные, одухотворенные и смеющиеся лица. Видеть его – просто видеть – для всех нас было счастьем… Каждый его жест воспринимался с благоговением. Никогда я даже не считал себя способным на такие чувства…
Пастернак шептал мне все время о нем восторженные слова, и мы оба упивались нашей радостью»[196].
«Сталинский ученик, товарищ Косарев»
Александр Косарев, возглавивший комсомол в 1929 году, после краткого, десятимесячного секретарства Александра Мильчакова, уже на следующем комсомольском съезде обличил как предателей дела партии основателя комсомола Лазаря Шацкина и своего предшественника на посту генсека Николая Чаплина[197].
Сделал он это под сильнейшим давлением Сталина.
Дело в том, что по степени преклонения Сталин образца 1931 года (не говоря уж о более поздних личинах диктатора) и Сталин 20-х годов – две совершенно разные фигуры.
Борис Бажанов в начале 20-х годов работал секретарем, готовившим материалы для заседаний Политбюро. В мемуарах, написанных во Франции, куда ему удалось бежать, упоминается такой случай: как-то Сталин был не в духе и вместо того, чтобы передавать, как обычно, папки с материалами ему в руки, стал швырять их через стол. Бажанов пару раз стерпел, а потом, обидевшись, в свою очередь кинул очередную папку генсеку ВКП(б) через стол. Следующую папку Сталин передал ему в руки. В другой раз Бажанов, несмотря на настойчивую просьбу Сталина, отказался выпить с ним бокал грузинского вина. «Вино хорошее, кахетинское!» – «Я не пью, товарищ Сталин».
Если бы в начале 30-х годов этот жест повторил любой член Политбюро, не сносить бы ему головы.
Журналист и литературовед Иван Гронский, хорошо знавший вождя в 30-е годы, рассказывает случай, наглядно иллюстрирующий произошедшую метаморфозу. Однажды на приеме в Кремле Сталин был в хорошем настроении и часто поднимал бокал. «К нему подошел Бухарин и сказал: “Коба [подпольная кличка Сталина; так его имели право называть ближайшие друзья. – М.Р.], тебе больше нельзя”. И тут Гронский заметил, как сверкнул глаз вождя: “Николай, запомни: мне все можно…”»[198]
С некоторых пор ему действительно стало можно все.
Секретарство Николая Чаплина пришлось на время, когда ленинские диадохи боролись за власть. Контуры победы Сталина в этой схватке обозначились довольно рано, и возглавляемый им Цекамол неизменно был на его стороне. Но одно дело полемизировать с «отступниками» на пленумах и съездах, а другое – заклеймлять их как врагов и требовать физической расправы с ними.
Николай регулярно контактировал со Сталиным в 1924 – 1928 годах, получал от него указания и выполнял их как волю партии, но личные отношения были у него, похоже, с Крупской, Кировым и Орджоникидзе.
Косарева же Сталин приблизил, буквально привязал к себе, тот слыл его любимцем.
А чем это чревато для фаворитов вождя, мы уже знаем на примере Ломинадзе.
Вскоре новый лидер молодежи почувствовал на себе изнанку этой близости. «Мы, Косарев, с тобой в этой стране два руководителя такого ранга [имелось в виду – два генеральных секретаря. – М.Р.]. Признайся, тебе не хочется из “маленьких” генсеков в “большие”?» – как бы в шутку поинтересовался Иосиф Виссарионович.
Представляю, в какой ужас пришел от этого вопроса Александр! С какой страстью ему пришлось уверять болезненно подозрительного диктатора в отсутствии у него малейшего намека на подобные намерения!
В 1928 году Косарев женился на дочери старого большевика Виктора Нанеишвили, Марии. Сталин, у которого слежка за партийной верхушкой работала как часы, конечно, был об этом осведомлен.
И вдруг он, как ни в чем не бывало спросил у Александра, на ком же он все-таки женат. Узнав от него о Нанеишвили то, что ему и так было давно известно (подноготную каждого из старых большевиков, тем более грузинских, Хозяин знал наизусть), Сталин выпустил очередную порцию яда: «Я Нанеишвили хорошо знаю. Это мой враг, учти. Мы с ним спорили по национальному вопросу»[199].
Что должен был чувствовать Косарев, узнав, что он вот уже несколько лет изменяет генсеку, живя с дочерью его личного врага?
Как это отразилось на его отношениях с Марией, можно только догадываться, но с этого момента Косарев был еще на одном крючке у Сталина. При желании, если провинится, ему будет о чем напомнить – пусть знает и тем более старается услужить Хозяину!
И на подобных крючках у Сталина были развешаны все.
Косарев развил бурную деятельность: по его призыву комсомол взял шефство над ВВС, поддерживал клубы ДОСААФ, развивал парашютный спорт; по зову Орджоникидзе комсомольская бригада во главе с генсеком работала на Сталинградском тракторном заводе, и он лично спустил с конвейера пятитысячный трактор; при Косареве развивались школы ФЗУ, он звал молодежь на строительство гигантов советской индустрии.
В отличие от своего предшественника, впервые повидавшего Европу в качестве помощника кочегара, новый глава Цекамола часто бывал за границей на всевозможных антиимпериалистических, антивоенных конгрессах, избирался в международные организации. Его именем назывались улицы, заводы, совхозы, клубы, спортивные общества.
Звездным часом Александра Косарева стал Х съезд ВЛКСМ, состоявшийся в 1936 году. Делегаты наперебой пели ему дифирамбы, немыслимые в 20-е годы: «талантливый ученик Сталина», «боевой руководитель сталинской молодежи, которого вырастил таким сталинский ЦК ВКП(б) и лично товарищ Сталин». Под бурные аплодисменты звучали здравицы: «Ура товарищу Косареву!», «Да здравствует сталинский ученик т. Косарев!»
«Отец народов» требовал от своего ученика одного: обнаруживать, разоблачать и передавать в руки «органов» новых и новых врагов. Косарев старался как мог: на пленумах ЦК ВЛКСМ в 1937 году он назвал врагами народа многих своих старых, испытанных товарищей. На знаменитом пленуме ЦК ВКП(б) в феврале – марте 1937 года, с которого увели в наручниках Бухарина и Рыкова, Косарев громче всех требовал немедленного суда над ними и расстрельного приговора.
Но ненасытному «учителю» этого было мало: он требовал больше крови.
21 июля 1937 года Сталин пригласил к себе секретарей ЦК ВЛКСМ. Разговор проходил в присутствии Николая Ежова, которому «Ленин сегодня» предложил ознакомить комсомольских руководителей с «тем, какую враждебную работу проводят ваши комсомольцы». Нарком НКВД зачитал «показания» секретаря Саратовского обкома комсомола Михаила Назарова о том, как он был завербован в контрреволюционную организацию.
«Пикина [секретарь Цекамола. – М.Р.] не выдержала:
– Этого не может быть. Я знаю Мишу Назарова с детства. Мы были соседями по Васильевскому острову. Росли вместе. Месяц назад я ездила в командировку в Саратов. Назаров – энергичный, нормально работает, растит троих детей.
Ежов еле слышным голосом обронил: “Таковы данные, которыми мы располагаем”.
На это Косарев взорвался:
– Эти данные неверны! Назаров зарекомендовал себя с хорошей стороны.
– Мы предъявляем вам факты, а вы нам эмоции, – возразил Сталин»[200].
О том, что «факты» такого рода создаются в пыточных застенках НКВД, комсомольские вожди, естественно, в присутствии Сталина и Ежова заикнуться не смели.
Подобных эмоций – стремления заступиться за своих – Хозяин не прощал.
И он дал Косареву это понять.
В марте 1938 года в Кремле состоялся торжественный прием по случаю возвращения участников дрейфующей станции «Северный полюс». Сталин при всех демонстративно чокнулся с комсомольским лидером, обнял его и расцеловал. Раздались аплодисменты.
Только жена Косарева заметила: лицо мужа стало после этого поцелуя мертвенно-бледным. «Лишь выходя из Кремля, он объяснил: “Знаешь, что шепнул мне Сталин после поцелуя?
Если предашь – убью!”»[201]
Это было последнее предупреждение.
Косарев, прирожденный энтузиаст (на тогдашнем языке «закоперщик»), вдохновенный оратор, старавшийся быть в гуще молодежи, по привычке общаясь с ней как в 20-е годы, часто забывал, что в новой ситуации надо взвешивать каждое слово, иначе наживешь могущественных врагов.
Однажды на торжественном застолье на Кавказе он произнес тост, оказавшийся фатальным:
– Пью за большевистское руководство Закавказья, которого у нас нет!
После этого тоста первый секретарь ЦК КП Азербайджана Мир Джафар Багиров демонстративно встал из-за стола и вышел из зала, и понятно почему: во главе Закавказского бюро ЦК ВКП(б) стоял в то время его друг и покровитель Лаврентий Берия, вскоре ставший преемником Ежова.
Арестовывать Косарева Берия (это был, кажется, единственный подобный случай) 29 ноября 1938 года приехал лично.
В заключении Александр, несмотря на пытки, держался мужественно, кричал следователю Борису Родосу: «Гады, преступники, вы советскую власть губите. Все равно за все ответите, сволочи!»
Его пытали. Вот как это выглядело в описании свидетеля, дававшего показания в пятидесятые годы: «Косарев лежал на полу вниз головой и хрипел. Макаров держал его за ноги, Родос за голову, а Шварцман бил его резиновым жгутом»[202]. Историку Никите Петрову удалось выяснить, почему Косарев не опроверг на суде показаний, данных под пытками. Оказывается, следователь Лев Шварцман обещал уговорить Берию сохранить комсомольскому лидеру жизнь при условии, что Александр скроет от суда методы следствия. Он действительно ходил с заявлением Косарева к Берии [не знал, что Берия имеет на Александра зуб. – М.Р.], но тот наотрез отказал[203].
До сих пор по Рунету ходят слухи, что Берия готовил еще один комсомольский показательный процесс и лишь мужественное поведение на следствии Косарева и его друзей (прежде всего секретаря ЦК ВЛКСМ Валентины Пикиной[204]) не дало ему этого намерения осуществить.
Я, честно говоря, в это не верю.
Уж в чем в чем, а в логике спецопераций Хозяин разбирался прекрасно, и зачем ему было после казни ближайших соратников Ленина – Зиновьева, Каменева, Бухарина, Крестинского, Рыкова – выводить на публичную экзекуцию куда менее известных и «знаковых» руководителей комсомола?
Расстреляли Александра Косарева в Лефортовской тюрьме 23 февраля 1939 года. Да, по иронии судьбы это был день Красной армии, для укрепления которой он так много делал.
Товарищу Сталину передали предсмертное письмо Косарева, в котором была фраза, наверняка задевшая его безмерное самолюбие: «…Уничтожать кадры, воспитанные советской властью, безумие»[205].
Следующий вождь комсомола, Николай Михайлов, был назначен первым, а не генеральным секретарем.
Эпоха генсеков Цекамола закончилась.
Апокалипсис 1937 года
Логика происходившего в Москве в 1937 году еще далека от постижения. В этом честно признается автор самого, пожалуй, подробного исследования на эту тему – «Террор и мечта. Москва 1937 год», историк Карл Шлёгель: «Обратившись к самым разным сюжетам, эта книга не предлагает тем не менее никакого общего вывода, не содержит положения, которое связывало бы все воедино, и именно благодаря этому в ней есть то загадочное, что до сих пор отличает Москву образца 1937 года от многих других исторических катастроф»[206]. Книга представляет собой широкомасштабный коллаж, мозаику из параллельно развивающихся элементов террора (показательные процессы, Бутовский расстрельный полигон, празднование 20-летия ЧК в Большом театре, самоубийство Орджоникидзе, предсмертные записи Бухарина) и ликования (спортивные парады на Красной площади, празднование столетия смерти Пушкина, джаз, рекорды советских летчиков). Связующие звенья между сериями намечаются отдельными, скупыми штрихами. Автор как бы дает понять: более цельная картина, связанная с нахождением общего знаменателя между ликованием и террором, – дело будущего. И тут с ним трудно не согласиться.
Некоторые исследователи ставят под сомнение саму возможность объяснить террор средствами обычной логики. Для его постижения, считают они, нужна особая логика. Ян Филипп Реемтсма в книге «Доверие и насилие» пишет: «Попытки понять террор с помощью инструментальной логики терпели поражение потому, что для того, чтобы быть действенным, террор выводит эту логику за скобки. “Рациональным” террор является лишь в том случае, если он в достаточных количествах производит иррациональное. Террор обладает собственной рациональностью…»[207]
Но о том, как выглядит эта независимая от обычной логики «рациональность», мы пока узнаем скорее от писателей, художников и поэтов, чем от историков.
Едва ли в истории существовала элита, имевшее о себе столь искаженное, чтобы не сказать извращенное представление, как большевистская. По статусу это были представители рабочего класса, но пролетариев среди них нужно было искать днем с огнем. Для них еще при Ленине был введен партмаксимум (их оклады были привязаны к средним заплатам рабочих), они должны были жить как все, но de facto ее представители пользовались многочисленными привилегиями (санаториями, распределителями, спецпайками, служебными машинами, прислугой). И пусть уровня жизни западноевропейского среднего класса они не достигли, все, как говорится, познается в сравнении. А контраст с царящей вокруг беспросветной нищетой был разительным!
Фатальный 1937 год советская элита встретила во всеоружии иллюзий.
В «Крутом маршруте» Евгении Гинзбург умиляет описание того, как она, жена председателя Казанского исполкома, встретила 1937 год со своим старшим сыном Алешей в Астафьеве – доме отдыха для партийной элиты. Отдыхавшие там «ответственные дети» делили всех окружающих соответственно маркам служебных машин, которые были в распоряжении их отцов, дядей, дедов. «“Линкольнщики” и “бьюишники” котировались высоко, “фордщиков” третировали»[208]. Поскольку мужа Евгении возили «всего лишь» на «форде», дети, чьи родственники ездили на казенных «бьюиках» и «линкольнах», смотрели на ее сына свысока.
«Несмотря на то что в Астафьеве кормили как в лучшем ресторане, а вазы с фруктами стояли в каждом номере и пополнялись по мере опустошения, некоторые дамы, сходясь в курзале, брюзгливо критиковали местное питание, сравнивая его с питанием в “Соснах” и “Барвихе”.
Это был настоящий пир во время чумы…»[209]
Евгения Гинзбург права: девяноста процентам «хозяев жизни» предстояло в ближайшее время сменить астафьевские, барвихинские и иные апартаменты на нары Бутырской тюрьмы. Но и в преддверии катастрофы они, как видим, вели себя так, как если бы их благополучию ничто не угрожало – более того, в кругу «избранных» выставляли его напоказ.
Не думаю, что Александр Косарев или Николай Чаплин жили хуже, чем большинство обитателей этого партийного дома отдыха. Времена, когда «комса» носила потертые шинели, с аппетитом ела жаркое из воблы и пила чай с сахарином, миновали, хотя многие представители номенклатуры по-прежнему видели себя кто ссыльными большевиками-подпольщиками, а кто «комиссарами в пыльных шлемах» на Гражданской войне.
Тем болезненнее было для них падение с партийного Олимпа.
В 20-е годы слова «член партии с 1898 года», «большевик с подпольным стажем» произносились молодыми партийцами, комсомольцами с благоговением, едва ли не со священным трепетом; это была «тончайшая прослойка нашей партии», на которой держался ее авторитет, которой гордился Ленин.
Показательная казнь Зиновьева с Каменевым, за которой последовал ряд аналогичных расправ, истолковывалась в этих кругах как месть Сталина конкретным отступникам, которых и они дружно клеймили позором на партийных съездах, надеясь, что уж их-то – тех, кто всегда «колебался вместе с линией партии», верно служа Сталину, – не тронут.
Но в 1937 году планка требований к лояльности взлетела так высоко, а понукаемое, подстегиваемое Сталиным НКВД стало столь вездесущим, неразборчивым в средствах и кровожадным, что перестали выдерживать нервы и у самых закаленных бойцов, «проваренных в чистках, как соль», по словам Осипа Мандельштама.
На пленуме ЦК ВКП(б) 23 – 29 июня 1937 года член партии с 1898 года, многолетний руководитель Коминтерна Осип Пятницкий выступил против предоставления органам НКВД СССР чрезвычайных полномочий, за что тут же был выведен из зала, а через месяц арестован. Квартиру чекисты обыскали так тщательно, что пропали ценные вещи, сберегательные книжки, семейные накопления. Жена вчерашнего коммунистического полубога Юлия Соколова-Пятницкая бросилась к старым друзьям мужа – те как по команде куда-то пропали, словно испарились; на улицах знакомые стали шарахаться от нее.
Впрочем, родственница другого старейшего большевика, Арона Сольца, высокопоставленная дама по прозвищу Жаба, снизошла-таки до прокаженной, объяснила обезумевшей от горя женщине изменившуюся логику ситуации. На вопрос, как «они» могли так поступить с ее Пятницким, прекрасно зная, что ни шпионом, ни, упаси Бог, троцкистом он в жизни не был, Жаба ответила: «“Дело не в том, был он виновен или нет – дело в том, верят ему или нет… Елена Дмитриевна [Стасова. – М.Р.] пропустила через себя массу шпионов, устроила их на работу, но ей верят и не трогают. Серго Орджоникидзе ужасных дел натворил [конечно, не забыто в том числе его покровительство Бесо Ломинадзе. – М.Р.], окружил себя шпионами, но ему верят… Ну а Пятницкому не верят… Больше сказать ничего не могу”.
Потом я сказала: “Может быть, самый лучший выход – смерть для меня?” Она засмеялась и сказала: “Ну, это не так просто. Люди уходят из жизни, когда уже сил нет. А ты еще их сначала растрать”»[210].
Сил женщине хватило на три года; «органы» ей в этом помогли: Пятницкая умерла в лагере в 1940 году.
В октябре 1937 года не выдержал, «сорвался» сам Арон Сольц, еще один большевик с 1898 года, известный в партийных кругах как «совесть партии»: он потребовал создать комиссию по расследованию деятельности Генерального прокурора СССР Вышинского. Узнав об аресте Валентина Трифонова (отца писателя Юрия Трифонова), ветеран партийных чисток Сольц бросил в лицо Андрею Януариевичу: «Я знаю Трифонова тридцать лет как настоящего большевика, а тебя как меньшевика»[211].
Сталин о меньшевистском прошлом Генерального прокурора, естественно, осведомлен был не хуже Сольца. Но в НКВД под его руководством тогда готовились к постановке сталинского Gesamtkunstwerk, третьего, «бухаринского» показательного процесса. Хозяин нуждался в услугах на вид интеллигентного, образованного, красноречивого, циничного (хотя до «отца народов» и ему было в этом плане ой как далеко!) Вышинского.
В марте 1938 года «совесть партии» была принудительно помещена в… сумасшедший дом.
Действительно, сказать правду в конце 1937 года мог только сумасшедший.
В 1936 году Николая Чаплина за успешную работу на транспорте награждают орденом Ленина.
В середине тридцатых годов железные дороги становятся вотчиной Лазаря Кагановича. Масштабы развязанного им на транспорте террора поражают воображение даже на фоне зашкаливающих общесоветских. 3 июня 1937 года в газете «Гудок» появляется статья под типичным для того времени заголовком: «О вредительстве на Юго-Восточной железной дороге и оппортунистическом благодушии начальника дороги». Этим начальником был Николай.
«Трижды видели родные, как плакал “железный брат” Николай. В день смерти Ленина. После убийства Кирова. И в июне 1937 года, когда приехал на дачу к сестре в Переделкино, измученный матерщиной, оскорблениями, которыми осыпал его в своем кабинете нарком путей сообщения Каганович»[212].
Развязка не заставила себя долго ждать.
Сестра Николая, Мария Павловна, рассказала: «Только Александр с Николаем добрались домой (Коля едва успел стянуть сапоги), как те самые [курсив мой. – М.Р.] постучали в дверь. “Кто здесь Чаплин Николай Павлович? У товарища Кагановича срочное совещание”. – “Я Чаплин, какое уж там совещание…” Николай взялся за лацкан пиджака, хотел снять орден Ленина, чтобы он не пропал где-нибудь в застенках НКВД. “Не надо, оставьте. Мы едем в Кремль. Там награды не отбирают. Через часок-другой вернетесь”. Коля смолчал, обнял Александра (остальные домочадцы спали). Братья присели, как перед дальней дорогой. “Поцелуй своих, Машу и не дай пропасть Розе с детьми”, – шепнул Николай на прощанье. Больше мы его не видели».
Николай был арестован в кремлевском кабинете Кагановича 28 июня 1937 года.
Ходили слухи, что всего за несколько недель до ареста Сталин подбодрил бывшего комсомольского вождя: «Пора тебе, Чаплин, выходить на большую дорогу».
Арестованному Николаю Чаплину припомнили его связь с Бесо Ломинадзе, поддержку «право-левацкого блока», «двурушничество» и прочие грехи, каждый из которых имел свое название на тогдашнем партийном жаргоне. Кроме того, его обвинили в организации террористической группы на Мурманской железной дороге, ставившей якобы целью убийство наркома путей сообщения Лазаря Кагановича.
Часть 2. Революция кончается на Колыме. Сергей Чаплин
Ленинградское дело № 20278-38. Арест, следствие, приговор
Узнав 29 июня 1937 года, что над Николаем сгустились тучи, Сергей Чаплин бросился в Москву, но дома брата уже не застал.
Провожая его на вокзал, сестра Мария спросила: «Ну, Сереженька, где теперь встретимся?» – «На Соловках, наверное», – мрачно ответил он.
И вернулся в Ленинград.
Самый младший из братьев Чаплиных, Виктор, после семнадцати лет, проведенных в ГУЛАГе, вспоминал тот фатальный день: «В то летнее, по-ленинградски прохладное и ветреное утро меня разбудил необычайно ранний телефонный звонок. С Московского вокзала звонил Сергей, только что вернувшийся из столицы.
“Надо срочно встретиться. Давай у Пяти углов. Пока дойдем до места работы, успеем поговорить”.
Я уже знал, что брат Николай в Москве. Вызван из Воронежа. Наверно, к Кагановичу… Может, какая перестановка кадров. Сейчас только этим и занимаются.
Нет, что-то стряслось, иначе бы Сережа не ездил в Москву и не звонил бы с вокзала. Ну да сейчас узнаю.
Сережа был спокоен, но сумрачен. Обычного для него бодрого настроения как не бывало.
“Позавчера арестован Николай. Я его уже не застал…”
Дальше пока ни слова.
Выходим на Литейный. Привыкаю к тяжелой вести. Стараюсь представить разверзшуюся пропасть. Сразу охватывают скованность, безразличие, апатия.
“Что будем делать? Только уж Органам я больше не слуга,” – с возмущением и горечью добавляет Сережа. Отвечаю, что сейчас сообщим в партком, как делают все. Ничего плохого о Николае, да и о себе не знаем. За плечами у Сережи годы и годы работы в Органах, в том числе за рубежом. Как ни странно, но не знали, что больше никогда не увидимся.
Так в оцепенении вошли в Большой дом. Сережа через один подъезд – в ИНО, я через другой – в партком»[213].
После того как Сергей Чаплин вошел в подъезд Иностранного отдела, он сразу же написал заявление в партком о том, что его брат Николай Чаплин, начальник Юго-Восточной железной дороги, арестован в Москве, на что начальник 3-го отдела УГБ НКВД ЛО Шапиро ответил: можете идти, продолжайте работать. «Это было утром, а в 5 часов дня меня по телефону вызвал Яков Ржавский [капитан ГБ, заместитель начальника 3-го отдела. – М.Р.] и в присутствии лейтенанта Ноаха Альтварга заявил, что “мы, Чаплин, вынуждены вас арестовать, но вы не опасайтесь, так как дело будет вести ваш хороший приятель”». Первый следователь по делу, Альтварг, действительно хорошо знал арестованного. Задержание состоялось в кабинете Ржавского: «А после этого Юдашкин и Альтварг отвели меня в ДПЗ, где я был заключен в камеру»[214].
В следственной тюрьме НКВД началось двадцатипятимесячное (!) противостояние арестанта сменяющим друг друга следователям.
Если верить первому из обвинений, Николай Чаплин вовлек брата в контрреволюционную организацию правых, которой руководили: бывший член Политбюро Ян Рудзутак; бывший кандидат в члены Политбюро, Председатель Совета народных комиссаров РСФСР Сергей Сырцов; сменивший его на посту Председателя Совета народных комиссаров РСФСР Даниил Сулимов и бывший член ЦК ВКП(б) Николай Антипов – все старые большевики с подпольным стажем.
Обвиняемый категорически отказался признать вину.
Уже через десять дней после ареста, 11 июля 1937 года, не дожидаясь исхода дела, Дзержинский райком партии Ленинграда принял решение: «Чаплина С.П. как врага народа из рядов ВКП(б) исключить»[215].
В те времена арест за редчайшими исключениями был равен обвинительному приговору и признанию жертвы виновной. В сознание советских людей внедрялась мысль: доблестные «органы» не ошибаются!
Через месяц Сергея Чаплина переводят в другую ленинградскую тюрьму, «Кресты», заключают в одиночную камеру и пять месяцев, не допрашивая, держат, как потом он сам выразился, «без единой прогулки на голодном пайке». Спасает лишь то, что жена 9-го числа каждого месяца передает ему деньги (60 рублей), на которые можно что-то купить себе в тюремном ларьке.
1 января 1938 года Чаплина переводят обратно в следственную тюрьму НКВД, где 3 января предъявляют новое обвинение: его объявляют членом контрреволюционной организации на Мурманской (Кировской) железной дороге, созданной Николаем Чаплиным. К пункту 58.10 (контрреволюционная агитация) добавляют пункт 58.8 (подготовка теракта).
Сергей отрицает новое обвинение; следователь угрожает избиением и карцером.
Причины, по которым он месяцами сидит в камере без допросов, лежат на поверхности: в это время в Москве и Ленинграде следователи пытают его братьев Николая и Виктора, а также других свидетелей, добиваясь от них признательных показаний.
К маю 1938 года признания из подельников наконец выбиты. Теперь допросы ведутся в более агрессивной тональности.
«Вопрос: Зачитываю вам показания Чаплина Виктора Павловича от 26 февраля 1938 года, изобличающие вас в принадлежности к террористической контрреволюционной организации: “Вскоре после снятия Николая Чаплина с работы секретаря Закавказского крайкома ВКП(б) в Москву приезжал Сергей Чаплин… он полностью поддерживал контрреволюционные установки Николая”. Вы подтверждаете?
Ответ: Показания отрицаю.
Вопрос: А вот показания Николая Чаплина от 19 марта 1938 года: “… на нелегальных сборищах у меня на квартире были Чаплин Виктор, Чаплин Сергей… мы с правотроцкистских позиций критиковали политику ВКП(б) и Советской власти… нами высказывалась мысль о необходимости отстранения Л.М. Кагановича от руководства Наркомпути, причем имелось в виду насильственное устранение”. Вы признаете бесполезность дальнейшего отрицания своей вины?
Ответ: Повторяю, при мне таких бесед не вели»[216].
Следствие несколько раз продлевается под предлогом необходимости доследования с переквалификацией обвинения на еще более серьезное. В деле мелькают фразы вроде: «В процессе расследования получены новые данные о том, что обвиняемые… были связаны с агентами иностранных разведывательных органов, и в связи с этим необходимо провести дополнительное тщательное расследование… На допрос ряда свидетелей, проживающих вне Ленинграда, и сбора других уликовых материалов потребуется 1,5 – 2 месяца»[217].
Любой театр абсурда бледнеет перед выдвигаемыми обвинениями: например, если верить протоколу одного допроса, Сергей, «будучи завербован Чаплиным Н.П., пробрался в органы НКВД». Казалось бы, зачем в 1927 году Николаю, генеральному секретарю ЦК ВЛКСМ, вербовать своего брата, когда достаточно было просто послать его в ГПУ, остро нуждавшееся в кадрах, по комсомольской путевке?
Но, похоже, любой намек на здравый смысл воспринимался тогдашними следователями как личное оскорбление.
Наконец, 23 сентября 1938 года председатель Военной коллегии Верховного суда Василий Ульрих, приговоривший к расстрелу сотни старых большевиков – от Григория Зиновьева до Николая Бухарина, – рассматривает новое дело:
«СПРАВКА
23 сентября 1938 года в судебном заседании Военной коллегии Верхсуда СССР в г. Ленинграде было назначено к рассмотрению дело по обвинению Чаплина Сергея Павловича в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 58.8 и 58.11 УК РСФСР. На предварительном следствии и на судебном заседании Чаплин виновным себя не признал и объяснил, что показания на него, его брата Чаплина Н.П, Мусатова, Ледника, Охотина и других – вымышленные. Для тщательной проверки заявления обвиняемого Чаплина дело снято с рассмотрения и направляется на доследование»[218].
Избежать расстрела по статье 58.8 моему деду помог фактический ляп следствия, который даже такой суд, как сталинский, и такой судья, как Ульрих, иногда вынуждены бывали исправлять. В обвинительном заключении стояло: Сергей Чаплин, подстрекаемый братом и его сообщниками, дважды – в конце 1935 года и в 1936 году – покушался на жизнь Лазаря Кагановича. Но до декабря 1935 года дед находился за границей, в служебной командировке по линии ИНО НКВД, что было нетрудно подтвердить документально. А противоречить такой организации не решался даже сам Ульрих.
Следователи после такого прокола, конечно, заимели на упрямого разведчика зуб.
За несколько дней до отправки дела Сергея на доследование самый младший из братьев, Виктор, был приговорен Ульрихом к десяти годам лагеря.
Вот отрывок из заявления В.П. Чаплина прокурору при реабилитации 31 января 1955 года: «В судебном заседании Военной коллегии, происходившем в здании Ленинградской внутренней тюрьмы утром 18 сентября 1938 года, я виновным себя не признал и заявил, что на предварительном следствии ко мне применялись незаконные методы – моральные и физические пытки. Суд продолжался не более пяти минут, и я после своего заявления был отправлен в одиночную камеру. Не помню, сколько я просидел в это время в одиночной камере без объявления приговора, но мне кажется, прошло не менее суток. Затем я вновь был доставлен в тот же зал заседания Военной коллегии, где мне был скороговоркой прочитан Ульрихом приговор с определением меры наказания в 10 лет лишения свободы»[219].
23 сентября 1938 года, через пять дней после осуждения Виктора, в день суда над Сергеем, был расстрелян их старший брат Николай.
Очередной следователь предъявляет Сергею Чаплину новое обвинение: в создании террористической организации в УНКВД ЛО.
В ночь с 27-го на 28 января 1939 года на допрос его вызывают сразу три следователя (их имена есть в письме Чаплина к Берии, публикуемом ниже). Вместо допроса, надев наручники, они избивают его резиновыми дубинками.
Насколько сильно, можно судить по такому рассказу.
«Из протокола допроса 1 апреля 1955 г.
Ленинградка Л.А. Шохор-Троицкая, допрошенная в качестве свидетеля в ходе реабилитации ее отца, незаконно репрессированного в 1938 году, показала, что отец некоторое время сидел в одной камере с С.П. Чаплиным. Он рассказывал ей, что Чаплин держался в заключении стойко, являлся примером для других заключенных, поддерживал их в трудные минуты. Он был уверен, что находится в тюрьме по недоразумению, которое в конце концов должно разъясниться.
Но однажды Сергея Чаплина, этого здорового, волевого человека, после допроса принесли в камеру на носилках. Когда к нему вернулось сознание, он почти не мог говорить. Кое-как рассказал, что на допросе над ним зверски издевались и что в результате этого он все подписал. Он говорил, что в таком кошмаре, в каком он находился, нельзя было устоять, и от него добились, чтобы он подписал клеветнические показания. Помню, что отец передал его фразу, смысл которой сводился к тому, что его, Чаплина, пытали как в фашистском застенке»[220].
После избиения следователи-садисты допрашивают обвиняемого так, как если бы тот сознался во всем добровольно. Но если раньше протоколы были короткими и велись от руки – хотя почерк следователей, надо сказать, везде понятный, читаемый, – то теперь, как по мановению волшебной палочки, на сцене появляется стенографистка с пишущей машинкой. Сеансы послепыточной исповедальности длятся до середины февраля; протоколы этих допросов занимают в деле не менее двухсот страниц.
Дед признает, что впервые сомнения в правильности партийной линии зародились у него еще в 1924 году, сразу после смерти Ленина. На столе у брата Николая, жившего тогда в гостинице «Париж», он случайно наткнулся на брошюру английского троцкиста, посвященную завещанию Ленина: «В этой брошюре излагалась клеветническая, контрреволюционная точка зрения о руководстве Сталина ВКП(б) и Коминтерном… я долго носил в голове эти сомнения»[221]. Понятно, что тогда он не считал утверждения английского троцкиста ни клеветническими, ни контрреволюционными, но какое это имеет значение теперь, когда зверски избитая жертва исповедуется перед палачами? Все ее прошлое предстает как крещендо вины; оказывается, жертва не ошибалась, а только и делала, что намеренно, сознательно изменяла Сталину, революции, партии, инстанции, в абсолютной верности которой она (еще в несознательном возрасте) поклялась.
Главное в этих протоколах – их язык. Они написаны как бы от первого лица единственного числа, от имени «я» подсудимого, но это фикция: на самом деле язык полностью подконтролен следователю и стоящей за ним машине производства вины. Собрания работников Кировской железной дороги на квартире Николая – обычные производственные совещания – именуются не иначе как «контрреволюционные сборища»; протоколы нашпигованы прилагательными «вредительский», «предательский», «завербованный», «преступный». Внутри этого языка правым быть нельзя, и появление стенографистки после избиения Сергея глубоко не случайно: она записывает отредактированную следователем версию, делающую признание окончательным и необратимым. Смысл этой процедуры состоит в похищении, ампутации «я» обвиняемого, за которым признается одна- единственная функция – самообвинение. Вина, которую следует доказать, уже содержится в языке признания.
Сергей признается, что после снятия Николая Чаплина с должности второго секретаря Закавказского крайкома в 1931 году был в служебной командировке в Москве (сам Николай находился в это время на мясозаготовках в Казахстане) и от младшего брата Виктора, студента Индустриально-педагогического института [ректором которого был самый старший из братьев Чаплиных, Александр. – М.Р.], узнал, что тот недавно был у Николая Чаплина в Тбилиси, где вместе с Бесо Ломинадзе и другими участвовал в совещании в Каджорах [Каджори, пригород Тбилиси. – М.Р.]. На нем якобы была образована контрреволюционная право-левацкая организация.
Николай также рассказал Виктору, что на допросе в ЦКК [Центральная контрольная комиссия, внутрипартийный большевистский трибунал. – М.Р.] о его причастности к право-левацкому блоку Сырцова – Ломинадзе он был неискренним, в результате чего Комиссия ограничилась вынесением ему выговора. Во время XV съезда ВКП(б) в декабре 1927 года Николай, будучи, как и Ломинадзе, делегатом, скептически отнесся в докладу Сталина. «Все это вместе взятое и послужило вербовке меня в контрреволюционную организацию…
В основном я встал на контрреволюционную позицию под влиянием Николая Чаплина. Он был моим воспитателем с детства, моим политическим руководителем. Факт его снятия с поста 2-ого секретаря Закавказского Крайкома на меня оказал влияние в сторону обиды на линию партии, в частности, против Сталина…»[222]
Вот каким был первый факт его контрреволюционной деятельности: Александр Косарев после встречи со Сталиным предупредил Николая о грозящей ему опасности, а он, Сергей Чаплин, будучи сотрудником НКВД и зная, что генсек комсомола злоупотребил доверием генсека партии, скрывал это от «компетентных органов» до самого ареста. На вопрос Косарева, какого мнения Сталин о причастности Чаплина к блоку Сырцова – Ломинадзе, диктатор, как всегда осторожный в таких делах, ответил, что не уверен в непричастности Николая к этому делу.
На самом деле он, конечно же, был уверен в его причастности и тут же наказал оппозиционера, переведя его, как и Шацкина, с партийной на хозяйственную работу. Столь же наивно думать, что Сталин не знал о проступке Косарева. Знал он и о том, что Косарев продолжал встречаться со своими впавшими в немилость друзьями – Бесо Ломинадзе и разжалованным в главные советские повара Николаем Чаплиным.
Из следующего допроса выясняется, что Сергей знал Косарева с начала двадцатых годов и что тот дал ему рекомендацию в партию.
Далее допрашиваемый сообщает, что в 1936 году в гостях у Николая в Ленинграде был первый секретарь ЦК компартии Армении Аматуни, и они вместе написали письмо Ломинадзе [неужели не знали, что в 1935 году Бесо застрелился? – М.Р.], вспоминали совместную работу «и выражали недовольство, даже озлобление, по отношению к ЦК ВКП(б) и лично Сталину, который, по их мнению, погубил Ломинадзе»[223].
Николай предлагал заменить Сталина своим человеком. «Он усиленно говорил о Рудзутаке»[224].
Сначала я не понимал запредельной ненависти к Николаю, которой дышит буквально каждая страница этих допросов. Но после упоминания имени Яна Рудзутака причины ее отчасти прояснились. Дело в том, что вовсе не Николай, а сам Ленин, если верить большевистскому преданию, возмущенный грубостью Сталина, предлагал его заменить, сделав Генеральным секретарем ЦК ВКП(б) именно Яна Эрнестовича Рудзутака. В мемуарах Анастаса Микояна читаем: «Крупская сказала, что Ленин называл Рудзутака взамен Сталина на пост Генсека»[225]. Старая большевичка Ольга Шатуновская в своих воспоминаниях рассказывает об этом более подробно: «Ленин очень любил Рудзутака, и, когда диктовал свое завещание, он написал, что Сталина надо заменить человеком более лояльным. Крупская спросила: “Кого ты имеешь в виду?” Он ответил: “Я имею в виду Рудзутака”. – “Почему же ты не напишешь это прямо?” – “Не могу же я сам указывать наследника”. Завещание Ленина было известно, и Сталин знал, что Ленин писал о Рудзутаке…»[226] Наверняка об этом пожелании покойного вождя знал не только Сталин. Понятно, что Николай, друживший с вдовой Ленина, Надеждой Константиновной Крупской, слышал этот рассказ от нее и теперь в дружеском кругу, ссылаясь на него, требовал замены Сталина Рудзутаком. Зная чудовищную мстительность Хозяина, можно представить себе, как он возненавидел Николая за то, что тот осмелился шантажировать его последней волей обожествленного основателя СССР. годившийся Николаю в отцы, многолетний член Политбюро, Рудзутак ни в коем случае не был для него «своим человеком», и не он, а сам Ленин хотел видеть его во главе партии. Вероятно, в той брошюре английского троцкиста, с которой началось грехопадение моего деда, имя Рудзутака также фигурировало в качестве истинного наследника Ильича.
Затем следует типичное для тех времен признание, явно записанное под диктовку следователя:
«Со слов Николая Чаплина мне стало известно, что контрреволюционная организация правых на Кировской ж.д. ставила перед собой следующие задачи:
1. Подбор контрреволюционных кадров на дороге, создание на каждом железнодорожном участке контрреволюционных ядер.
2. Развал всего хозяйства дороги.
3. Вызов антисоветских настроений среди железнодорожников путем ухудшения их материального положения и охраны труда.
4. Искривление Кривоносовского движения [стахановское движение на транспорте, названное в честь его зачинателя, машиниста Петра Кривоноса. – М.Р.]»[227].
Перед нами типичное для того времени переведение объективно сложившегося положения дел (о чем Николай докладывал осенью 1934 года Кирову) в план чьей-то злой воли – с последующим наказанием ее демонического носителя.
(Обвинителей ничуть не смущало то, что за образцовую работу на транспорте в 1936 году Николай Чаплин был награжден орденом Ленина.)
В январе рокового 1937 года, как следует из протокола одного из допросов, в карьере Николая происходит положительный сдвиг: его назначают начальником Юго-Восточной железной дороги, «в связи с чем он был в Москве и, возвратившись в Ленинград, рассказал, что якобы он, будучи в ЦК, имел беседу со Сталиным и Сталин сказал ему, что он ему верит – “выходи на арену”… Неожиданное назначение Чаплина на пост начальника Юго-Восточной ж.д. и выраженное якобы Сталиным доверие сильно подействовало на Чаплина и, разговаривая на этом совещании, он вскользь высказал мысль об отходе от контрреволюционной деятельности в связи с таким большим доверием, которое было проявлено ему Сталиным»[228]. Вождь заверил Николая, что «ставит крест на его прошлых грехах».
Здесь интересно многократно повторяемое в протоколе в связи с доверием Сталина словечко «якобы»: следователь, в отличие от запертого в клетке подсудимого, знает, что Николай к тому времени уже расстрелян как враг народа, а тут обнаруживается, что два года назад «отец народов» ему доверял. «Якобы» маркирует воображаемый характер сталинского доверия; все это казненному пригрезилось, приснилось. «Органы» не ошибаются, а уж товарищ Сталин и подавно!
Изнанка «доверия» вождя (Сталин, как известно, не верил никому, включая ближайших родственников и сподвижников) вскоре обнажилась: уже в феврале того же 1937 года Лазарь Каганович предъявил Николаю Чаплину «материалы, изобличающие его в контрреволюционной деятельности на Кировской ж.д.». При этом нарком в своем кремлевском кабинете крыл подчиненного отборным матом.
Третья линия обвинения связана с работой Сергея Чаплина в НКВД. Его спрашивают, какая работа проводилась оппозиционерами по «оказанию помощи разведкам капиталистических стран в их борьбе против советской разведки». «Такие задачи, – парирует обвиняемый, – головкой нашей организации не ставились…»[229]
Он признает лишь неэффективность работы Иностранного отдела, срыв ценных вербовок в Выборге (на тот момент финском) и Ревеле (на тот момент эстонском), называет какие-то ничего не говорящие непосвященному имена агентов. Сообщает факт заброски начальником 3-го отдела НКВД ЛО группы «честнейших комсомольцев для внедрения в террористические круги белых молодежных организаций и оставление этих людей на произвол судьбы, без всякой связи, в результате чего они сами перевербовывались и становились [вражескими. – М.Р.] террористами и разведчиками»[230].
Мелькает в показаниях и имя разведчика Григория Сыроежкина. Сергей у себя дома познакомил с ним Николая: «Он произвел на Николая впечатление решительного и боевого человека, но в политическом отношении слабо ориентировавшегося… Сыроежкин не был удовлетворен своим положением по работе, и его обработка Чаплиным закончилась успешно, но так как он собирался уезжать из Ленинграда, он заявил Чаплину, что на него больших надежд возлагать не надо»[231]. Сергей явно не хотел втягивать своего учителя в это дело, тем более что тот вскоре уезжал в Испанию.
(Дед, конечно, не знает, что в конце февраля 1939 года «команда Блохина» расстреляла вернувшегося из Испании Сыроежкина как «польского шпиона».)
Сергей Чаплин признается, что, будучи уполномоченным Особого отдела при финском консульстве, должен был бороться с правотроцкистскими элементами, но «за полтора года работы не провел ни одного следственного дела по выявлению правотроцкистской контрреволюции». Дело «финского троцкиста» Артура Усениуса, проведенное 3-м Отделом НКВД ЛО, он называет «второстепенным и раздутым»[232].
Вишенкой на этом зловещем торте является обвинение братьев Чаплиных – Николая, Сергея и Виктора – в подготовке убийства Лазаря Кагановича. В деле есть туманный рассказ о том, как Николай Чаплин, встречая наркома на ленинградском вокзале, чтобы отчитаться о работе и заодно вручить ему платок, подаренный работницами фабрики «Красное знамя», увидел знакомого чекиста, который расхаживал по перрону без фуражки. Чаплин спросил, почему он носит фуражку в руках, и тот показал в фуражке наган и заявил: «здесь самое опасное место». Как понимать этот анекдот, неясно, но в те времена любое упоминание об оружии в чекистской фуражке служило для следствия однозначным признаком подготовки теракта[233].
Запланированный теракт не состоялся якобы потому, что 18 июня 1936 года Каганович, узнав о смерти Максима Горького, решил срочно вернуться в Москву и не доехал до места, где на него готовилось покушение. Сергею удалось убедить следователей, что он участником террористической группы не был, ибо «в случае провала одного из чекистов будет провалена вся остальная организация в НКВД»[234].
Это спасло ему жизнь.
Вполне вероятно, что Николай Чаплин, которого нарком обвинял во всех тяжких, хотел его отстранения от должности (хотя что он мог против всесильного Кагановича!), но между отстранением и устранением, как ни крути, дистанция огромного размера. Убивать ближайшего сталинского сподвижника – такое мнимым заговорщикам в голову не приходило. Слишком крепкими были связывавшие их при всех разногласиях партийные узы, слишком пафосно воспринимали они свою принадлежность к «ордену меченосцев», как однажды назвал партию Сталин.
На допросе от 3 апреля 1939 года Сергей отказывается от показаний, данных после пыток. Стенографистка и пишущая машинка тут же куда-то исчезают, протокол опять ведется от руки:
«Вопрос: На предыдущих допросах вы не полностью рассказали о практической контрреволюционной деятельности, которую вы в течение ряда лет вели против ВКП(б) и Советского правительства. Предлагаем вам дать правдивые показания по существу вопроса.
Ответ: Никакой контрреволюционной деятельности я не вел, и показывать нечего… Я оклеветал невинных людей и готов понести за это заслуженное наказание»[235].
В июле 1939 года в адрес Особого совещания при НКВД СССР направляется документ следующего содержания:
Обвинительное заключение по следственному делу № 20278-38 в пр. пр. ст. ст. 17-58-8; 58 ч.1 и 58-11 УК РСФСР.
По показаниям арестованного в 1937 году в Москве лидера контрреволюционного право-левацкого блока Чаплина Н.П. была установлена антисоветская деятельность бывшего помощника Начальника отделения III отдела УГБ УНКВД ЛО – Чаплина Сергея Павловича.
На основании этого последний был 2.VII-1937 г. был арестован и привлечен к ответственности.
Следствием по делу установлено, что ЧАПЛИН С.П., являясь враждебно настроенным к ВКП(б), еще с 1924 г. в общении со своими братьями В.П. ЧАПЛИНЫМ и Н.П. ЧАПЛИНЫМ (осуждены) на протяжении ряда лет вел с ними контрреволюционные беседы, резко враждебно критикуя при этом генеральную линию партии и Советской власти и в 1935 году был завербован ЧАПЛИНЫМ Н.П. в контрреволюционную право-левацкую организацию. (Том 1, л.д. 128 – 130, 150 – 177; том II, л.д. 3, 4, 12, 47.)
Следствием также установлено, что ЧАПЛИН С.П. систематически на протяжении 1935-1936-1937 г.г. посещал контрреволюционные сборища, устраиваемые на квартире одного из руководящих участников право-левацкого контрреволюционного блока ЧАПЛИНА Н.П., на которых вел антисоветскую агитацию против мероприятий ВКП(б) и советского правительства.
Кроме того, на этих сборищах организации правых, в том числе и ЧАПЛИН С.П. вырабатывали конкретные планы борьбы против ВКП(б) и высказывались за необходимость организации совершения террористических актов против членов ЦК ВКП(б) и Советского правительства.
(Том 1, л.д. 54, 63, 91093, 114; том II, л.д. 17.)
На допросах от 28, 29 января, 1, 4, 8 и 19 февраля 1939 года ЧАПЛИН С.П. показал, что, работая в УНКВД ЛО, С.П. ЧАПЛИН по заданию руководящего участника организации ЧАПЛИНА Н.П. на протяжении ряда лет вел активную контрреволюционную работу в органах и в 1936 году проводил новые вербовки из числа своих близких друзей и знакомых в контрреволюционную право-левацкую организацию.
(Том 2, л.д. 13, 14, 17.)
На допросе от 3 апреля 1939 г. ЧАПЛИН от своих показаний отказался. (Том 2, л.д. 159-163.)
На основании изложенного ОБВИНЯЕТСЯ:
ЧАПЛИН, Сергей Павлович, 1905 г. рождения, ур. Смоленской губ., Красносельского уезда, села Мигновичи, русский, гр-н СССР, сын священника, с 1932 г. член ВКП(б) – исключен в связи с арестом. До ареста работал в НКВД ЛО –
в том, что
1. С 1924 по 1935 г., будучи враждебно настроен против ВКП(б), вел среди своих братьев, ЧАПЛИНА В.П. и ЧАПЛИНА Н.П. (осуждены) контрреволюционную пропаганду с резкой враждебной критикой генеральной линии партии и Советской власти.
2. В 1935 году был завербован лидером право-левацкого контрреволюционного блока ЧАПЛИНЫМ Н.П. в контрреволюционную право-левацкую организацию и на протяжении ряда лет до ареста вел активную антисоветскую работу.
3. В 1935 – 1936 – 1937 г.г. принимал активное участие в контрреволюционных сборищах, на которых обсуждал конкретные планы борьбы против ВКП(б) и участвовал в разработке планов подготовки к совершению террористических актов против членов ЦК ВКП(б) и Советского правительства.
4. Работая в УНКВД ЛО, вел подрывную работу в органах и из числа своих близких друзей и знакомых проводил новые вербовки в организацию право-левацкого контрреволюционного блока, –
т. е. в пр. пр. ст. ст. 17-58-8, 58-10 ч.1 и 58-11.
Виновным себя в предъявленном ему обвинении признал, но впоследствии от своих показаний отказался,
Изобличается показаниями обвиняемых: ЧАПЛИНА Н.П., ЧАПЛИНА В.П., ОХОТИНА Л.Д., МУСАТОВА А.Г., ЛЕДНИКА К.Ф. – все осуждены, Цодикова Д.К. – арестован, приговора нет.
В связи с тем, что соучастники по преступной контрреволюционной деятельности ЧАПЛИНА С.П. осуждены (том 1, л.д. 167) и на судебное заседание в качестве свидетелей доставлены быть не могут, настоящее следственное дело направить на рассмотрение Особого Совещания при НКВД СССР.
СТАРШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ СЛЕДЧАСТИ
НКВД ЛО, сержант ГБ Иванов
«СОГЛАСЕН» ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА СЛЕДЧАСТИ УНКВД ЛО
Капитан Ковальчук
СПРАВКА
Обвиняемый ЧАПЛИН С.П. арестован 2. VII. 1937 г. и содержится в Лентюрьме УГБ.
ВЕЩЕСТВЕННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ПО ДЕЛУ НЕТ.
Старший следователь следчасти УНКВД ЛО
Сержант Госбезопасности (Иванов)
Как видим, обвинительное заключение представляет собой коллаж из трех предъявленных обвинений: 1) старший брат завербовал младшего в «право-левацкий блок»; 2) включил его в террористическую организацию на Кировской железной дороге; 3) по его заданию Сергей вербовал в организацию сотрудников ленинградского НКВД.
После знакомствами с делом складывается казалось бы простая и ясная картина: подсудимый упорно отрицает свою вину в течение полутора лет, потом следователи его жестоко избивают, и, не в силах выдержать пыток, он дает признательные показания. Стало быть, причиной «разоружения перед партией» являются пытки.
Но все не так просто.
Признавая партию орудием исторической необходимости, обещая посвятить служению ей всю жизнь и никогда не держать от нее тайн, Николай Чаплин, Александр Косарев, Бесо Ломинадзе и многие другие взяли на себя обязательства, оказавшиеся непосильными. В двадцатые годы, прежде чем отлучить от новой церкви и затравить очередного вождя, будь то Троцкий, Каменев или Зиновьев, партия публично доказывала его «вину» – отклонение от признанного остальными канона веры. Тогда считалось, что после смерти Ленина партия существует как коллективный организм, как общее дело. Сталин числился всего лишь наиболее ортодоксальным истолкователем ленинского канона, диадохом, за которым от съезда к съезду шло партийное большинство.
Превращение Сталина в воплощение партии, в «Ленина сегодня» (а произошло оно на фоне коллективизации, в 1929 – 1931 годах, молниеносно, никто и опомниться не успел) оказалось для руководителей Закавказского Крайкома столь неожиданным, что они по инерции попытались внести коррективы в темпы коллективизации, за что были немедленно наказаны, лишены занимаемых должностей, преданы партийному суду.
И тут, как следует из допросов Сергея Чаплина, в ответ на наказание они нарушили обязательство тотальной исповедальности, открытости перед партией, стали оспаривать право Сталина на единоличное руководство. Делать это открыто они не могли; свое несогласие высказывали в узком кругу единомышленников (например, на совещании в Каджорах).
Еще недавно они требовали (вспомним призывы Николая на комсомольских съездах) вынесения всего частного из кухонь, жилых комнат, пивных на суд партии, а вот теперь, отрицая право Сталина на лидерство, сами же нарушили то, в чем поклялись. Между тем партия нового типа изначально была партией конспираторов-профессионалов, и от соблюдения ими взятых на себя обязательств зависело все остальное (мировая революция, диктатура пролетариата, победа в соревновании с капитализмом).
Именно слепая вера в то, что ленинская партия – уникальное орудие исторической необходимости, оправдывало в их глазах сначала бессудную расправу над старой, «буржуйской» Россией, потом запрещение и преследование других революционных партий, затем расправу с «раскольниками» и их сторонниками в собственных рядах. И вот теперь, когда очередь дошла до них, оказывалось, что у них есть право на истолкование, на точку зрения, отличную от общепартийной – и желания отказаться от «ереси», «разоружиться перед партией» они более не испытывают.
Свое грехопадение, первую измену партии Сергей Чаплин связывает с недонесением о том, что после встречи со Сталиным, узнав от него, что против Николая Чаплина затевается партийное дело, Александр Косарев пытался предупредить друга о грозящей ему опасности. Поступок, по критериям обычной морали – в высшей степени достойный, тем более что, совершая его, генсек комсомола шел на серьезный риск. Но большевизм давно поставил себя над моралью, над обычной человеческой порядочностью.
Мой дед, разведчик, хранитель веры, внутренне считая себя обязанным поставить начальство в известность об измене, этого не сделал. Императив «немедленно доноси, если затронуты интересы партии, стоящие выше всего личного» давно стал руководством к действию для каждого партийца.
Артур Кестлер, основываясь на опыте жизни в СССР, одним из первых попытался постичь и литературно осмыслить логику большевизма. Героя романа «Слепящая тьма» Николая Рубашова, «по складу ума – сколок с Бухарина, по внешности и характеру – синтез Троцкого с Радеком»[236], следователь Иванов убеждает: «…Публичное отречение от своих убеждений ради того, чтобы остаться в рядах Партии, гораздо честней идеалистического донкихотства»[237]. Он презрительно отзывается о тех, кого волнует не то, кто объективно прав, а субъективная честность отдельных членов партии. Они, если верить герою Кестлера, отказываются понять главное: объективно правым бывает и субъективно бесчестный человек. Для нас, старых партийцев, повторяет следователь, субъективная честность не имеет значения: объективно правый, как бы преступно он ни поступал, все равно будет оправдан историей, а партийные товарищи, принесенные им в жертву, будучи субъективно невиновными, с точки зрения истории так и останутся преступниками. «…Добродетель, – проповедует Иванов опальному большевику Рубашову, – ничего не значит для истории… но зато ничтожнейшая ошибка [в условиях тоталитарного общества, где вождь отвечает за все. – М.Р.] приводит к чудовищным последствиям и мстит за себя совершившим ее до седьмого колена»[238].
В постреволюционном, переходном обществе все противоречит заявленным – в «Коммунистическом манифесте», в «Государстве и революции» Ленина – целям: хотели уничтожить государство, а имеем гигантскую бюрократию и всесильную политическую полицию; хотели братства, но доносительство стало нормой; проповедовали равенство, а поклоняемся вождю как богу; думали править от имени народа – и вот гоним обессилившие массы под дулами винтовок к цели, которой, кроме нас, никто не видит.
В романе фигурирует некто Первый, «верховный жрец», явно списанный со Сталина: «Диктаторы-дилетанты во все времена принуждали своих подданных действовать по указке: подданные Первого по указке мыслили». Причем в контроле над собственными мыслями они поклялись добровольно, считая это почетным долгом, доказательством безусловной преданности. Ради единства они отправили в тюрьмы и на плаху немало совершивших мыслепреступления товарищей. «Они погрязли в собственном прошлом, запутались в сетях, сплетенных ими же… короче, они были виновны, хотя и приписывали себе преступления, которых на самом деле не совершали. Они не могли возвратиться назад… Они сами вырастили Главного Режиссера и на пороге смерти по его указке скрежетали зубами и плевались серой…»[239]
То, что Кестлер называет «рубашовской версией» (принятие на себя старым большевиком несуществующей вины ради сакральной инстанции, во имя которой раньше им систематически совершались и тут же отмывались в горниле веры реальные преступления), не ограничивается узким кругом партийцев-подпольщиков. У вступивших в партию в шестнадцать лет вся жизнь протекала внутри революции: с юношеским радикализмом они поклялись в отказе от всего личного, не считаясь с последствиями столь радикального шага, и когда наступил момент истины, оказалось, что к столь последовательному самоотрицанию они не способны. Позволяя себе то, за что еще недавно осуждали Троцкого и Зиновьева, они, естественно, вели себя нелогично, испытывая от этого чувство вины; и партия голосом Сталина и его клевретов повелительно им об этом напоминала.
Задача следствия состояла в том, чтобы любым путем задействовать глубоко сидящий в каждом идейном партийце, тем более в чекисте, механизм самообвинения, связанный с использованием запретной, скрытой от партии речи. Превращение этой речи во «вредительство», «предательство», «террор» в процессе следствия потому и протекало успешно, что сама эта речь, с точки зрения носителя веры, уже являлась преступлением. Задача следователя состояла в достраивании мыслепреступления (тайного употребления запретной речи) до уголовно наказуемого деяния с помощью агрессивного обвинительного дискурса, а если понадобится, и пыток. Если бы обвиняемый не был носителем веры, если бы он не поклялся в том, что никогда не будет от партии ничего скрывать, никакое физическое воздействие, никакая пытка не заставили бы его покаяться. Но насилие ложилось здесь на благоприятную почву. Применяющие его знали: как только будет достигнут достаточно глубокий пласт, у жертвы автоматически включится механизм самообвинения. И тогда следователю останется перевести слова раскаяния на язык уголовного обвинения. Лозунги, среди которых они выросли, и стали в конечном итоге их приговором, а следователи лишь подталкивали их, заставляя делать последние выводы из логики веры.
Зачем, казалось бы, надо было выбивать признания из Сергея Чаплина, когда против него под пытками уже дали показания оба брата, старший и младший, и все руководство Кировской железной дороги, и он, твердили следователи, в достаточной мере изобличается ими? Что добавляет к этому самообвинение, от которого он в итоге отказался? Почему требуется очернить как можно больше людей, партийцев, железнодорожников, комсомольских вождей, чекистов? Почему вину так важно передать, как эстафетную палочку, следующим обвиняемым, транслировать ее на как можно большее число людей?
Потому что речь не шла об уголовном процессе в обычном смысле слова, где обвинение приводит доказательства вины в конкретном преступлении, а защита оспаривает их под по возможности объективным взглядом судьи, который взвешивает доводы сторон. Все аргументы обвиняемый должен был исторгнуть из себя, из своего внутреннего мира. Только обвинив себя сам, он мог предстать перед Особым совещанием, органом, которого не было в советском законодательстве, – фактически внутриведомственным уголовным трибуналом.
Процедура была больше похожа на суд инквизиции, где признание также играло решающую роль. Но инквизиция, будучи легальным институтом, получала от своих жертв признания по строго регламентированным пыточным правилам, а казнь раскаявшегося еретика совершалась публично, для вящего назидания другим. Сталинская инквизиция, напротив, выдавала результаты своей работы за продукт обычного судопроизводства; методы получения признания оставались тщательно оберегаемой тайной; расправа с сознавшимися в отступничестве носителями веры осуществлялась как бы в рамках Уголовного кодекса. Политические преступления (мыслепреступления) были объявлены худшей формой уголовных и наказывались поэтому значительно строже последних.
Итак, в сталинской судебной практике проверка на новую партийную идентичность (сталинскую, а не ленинскую, ставшую еретической, но публично не признанную таковой) производилась втайне, под видом уголовного процесса, применение пыток (осуществлявшееся в соответствии с секретными инструкциями Политбюро ВКП(б)) публично отрицалось, казнь также проходила в глубокой тайне. Пытаясь сохранить остатки революционной идентичности, жертва сталинских застенков прибегала к намекам, зашифрованным посланиям, отказу от признательных показаний, о котором никто не мог узнать[240].
Идейным большевикам ленинского чекана, чья убежденность в своей правоте находилась внутри них, трудно было вписаться в новый, институциональный канон веры, от носителей которого требовалось прежде всего безоговорочное подчинение, точное выполнение приказов. Изменение большевистского катехизиса становится единоличной прерогативой нового вождя. Предыдущий вождь обожествляется и как бы возносится над миром, оставляя его в наследство преемнику, а те, кто знал старого вождя, даже просто видел и слышал его, превращаются в опасных, нежелательных свидетелей. Мумия Ленина хранится в Мавзолее. Ленинские изображения приобретают статус иконы, заполняют собой весь социум, служат объектами культа, но право на истолкование этого культа приватизируется его наследником. А поскольку большевистская религиозность является атеистической, контроль над посюсторонним обеспечивает контроль надо всем (ибо земное и есть все). Смерть приобретает черты не виданной раньше окончательности: «Есть человек – есть проблема, нет человека – нет проблемы», – формулирует существо новой веры ее пророк Иосиф Сталин.
Сергей Чаплин: «Другая жизнь мне не нужна»
Письмо гражданину Берии, написанное в тюрьме заключенным С.П. Чаплиным:
Народному комиссару внутренних дел СССР Берия от з/к, бывшего работника УНКВД ЛО Чаплина Сергея Павловича
ЗАЯВЛЕНИЕ
Гр-н Народный Комиссар, в Вашем лице я обращаюсь к партии и правительству и убедительно прошу Вас разобраться в моем деле, которое с 23-VII-39 г. числится за особым совещанием НКВД СССР.
Два года тому назад 1-VII-37 г. я узнал, что в Москве арестован мой брат Николай Чаплин, бывший начальник Подора[241] Кировской железной дороги и начальник Юго-Восточной железной дороги. Я донес об этом рапортом начальнику 3 отдела УГБ УНКВД ЛО Шапиро[242] и в тот же день 1-VII-37 г. был арестован в здании УНКВД ЛО капитаном Ржавским[243] в его служебном кабинете и заключен в одиночку КПЗ.
Мне было предъявлено обвинение в том, что я являюсь членом к.р. организации правых, во главе которой якобы стоят Рудзутак[244], Антипов, Сулимов и Сырцов и в которую вовлек меня, якобы, мой брат Н. Чаплин. Тогда же я заявил, что это ложь и что я никогда ни в каких к.р. организациях не состоял и к.р. деятельностью не занимался. 29-VII-37 г. я был переведен в «Кресты», где просидел в одиночке, без единой прогулки и буквально на голодном пайке 5 месяцев до 1-I-38. Ни разу за 5 месяцев я никем не был допрошен, писал заявление Заковскому[245], в котором утверждал, что я арестован ни за что. 1-I-38 я был переведен обратно в ДПЗ, где 3-I-38 г. меня допросил работник ДТО Кировской железной дороги Кириллов[246], который предъявил мне по существу новое обвинение в том, что я являюсь членом к.р. орг. на Кировской дороге, созданной якобы Н. Чаплиным. Я заявил, что это ложь. Прошел январь и февраль 38 г. и ни единого допроса. В марте меня один раз допросил начальник ДТО[247] Кировской железной дороги Шумский[248], который, угрожая избиением и карцером, требовал от меня показаний. После этого допроса я сидел без вызова до мая 1938 г. В мае мне зачитали показания Н. Чаплина, В. Чаплина, Ледника, Охотина и Мусатова[249]. Зачитали эту чудовищную ложь и клевету на меня, без единого конкретного факта, и не дав очных ставок. В мае же от меня требовали показаний, под угрозой избиения, о моей якобы шпионской деятельности в пользу сначала Японии, потом Англии, без всяких на то оснований и каких-либо материалов. Я утверждал, что все это ложь.
Июнь, июль и август 1938 г. я сидел без допроса. 27 августа 1938 г. меня вызвали на допрос: следователь Баланов[250] бросил на стол дело и с улыбкой заявил: «Читай и удивляйся».
То, что я прочел в деле – показания Н. Чаплина, Ледника и других, – все это меня дьявольски поразило, и мозг мой буквально стал дыбом. В отношении меня была самая наглая, ничем не прикрытая клевета, без фактов, голословная, грубая ложь. Что касается их самих, то мне впервые стало об этом известно, и не укладывалось, и до сих пор не укладывается в сознании. Тогда же мне переквалифицировали обвинение, и если раньше была ст. 58 п. 10-11, то прибавили теперь, без всяких на это материалов пункт 8. На этом закончилось т. н. «следствие». 22-IX-38 г. я предстал перед военной коллегией Верхсуда СССР по обвинению в пр. пр. 58 п. 8-11 УК. Приходится удивляться, как мог Прокурор Вышинский утвердить такое обвинительное заключение, когда в деле не было показаний о причастности моей к террору, ведь Н. Чаплин в своих показаниях заявил, что он к террористической деятельности организации меня не привлекал, тем самым отпадают показания об этом Ледника и Охотина, которые показывают, что им, якобы, говорил об этом Н. Чаплин. Сам же, якобы, руководитель террористической группы Цодиков[251] ни слова не говорит обо мне как об участнике группы. В обвинительном заключении говорилось, что я принимал участие в 2-х покушениях на наркома Кагановича: в конце 1935 г. и летом 1936 г. На суде я заявил, что я лишь в декабре 1935 г. прибыл в СССР из заграничной командировки по линии ИНО ОГПУ, а с мая по октябрь 1936 г. я не встречался с Н. Чаплиным и др., и что все это ложь, и я ни в чем не виноват. Суд направил мое дело на доследование, которое кончилось после единственного допроса, произведенного 4-XI-38 г. Ни очных ставок, никаких новых материалов доследование не дало, а ограничилось одним протоколом, в котором указывалось на мое отсутствие из СССР с мая 1933 г. по декабрь 1935 г.
В декабре 1938 г. меня вызывает новый следователь и заявляет, что дело мое начинается сначала, и требует от меня показаний уже о предательской работе в УНКВД ЛО, намекая на какой-то неведомый мне заговор, заявив, что дело контрреволюционной организации на Кировской дороге следствие больше не интересует. Снова угрозы избиения и пр.
И в ночь с 27 на 28 января 1939 г. меня вызывают на допрос. 3 следователя – Голод, Ковальчук и Кривоногов[252] и под командованием пом. нач. 2 отдела[253] одевают мне наручники и приступают к зверскому избиению резиновыми палками. Круг замкнулся. От меня требуют показаний о каком-то заговоре внутри УНКВД ЛО, требуют новых лиц из отделов УГБ, из райкомов и Обкома ВКП(б). И я, распластанный на полу, в холодном кабинете с зажатым ногами горлом и связанный по рукам, в состоянии обреченности, начинаю чудовищную клевету на себя и на всех моих знакомых. Меня снабдили бумагой и карандашом, и я в одиночку построил легенду о своей контрреволюционной деятельности, никогда не существовавшей в природе. Эта легенда была записана стенографически, а потом переработана в нужном для следствия духе в протоколы допроса.
15 февраля 1939 г. я был вызван комиссаром Гоглидзе[254], который заявил, что все мои показания – ложь и клевета, что я сижу ни за что. В апреле 1939 г. был написан новым следователем Ивановым[255] отрицательный протокол, и было закончено следствие. И сейчас я сижу и жду решения Особого совещания. Сколько и куда? Два года в тюрьме и предстоящий лагерь. За что? Кому и зачем все это нужно? Заплевали, затоптали в грязь, украли честное имя, исключили из партии как врага народа, оторвали от работы, от семьи, от любимых детей. И все ни за что. С 1919 года воспитывался и работал в комсомоле, с 1929 года – в партии, 15 лет – пропагандист, 10 лет самоотверженно работал в КРО и ИНО ОГПУ – НКВД, из них почти 3 года работал за границей, где угробил свое здоровье. Никогда не был в оппозициях. В 1923 – 1924 гг. был затравлен троцкистами на рабфаке в Москве, ушел добровольцем во флот, где боролся в 1925 – 1926 гг. с зиновьевцами. Разоблачил как зиновьевца-троцкиста секретаря ЦК ВЛКСМ Цейтлина и др., написав об ихней подрывной работе письмо в ЦК ВЛКСМ. Это письмо зачитывалось в ЦК ВКП(б) и известно было Сталину. Я не враг народа, не контрреволюционер, а честный и идейный большевик и готов это доказать на любой работе. НКВД имеет возможность проверить меня, дав мне любое задание с верным риском для жизни. О контрреволюционной деятельности братьев я ничего не знаю. Чаплина знал как сталинца. Если мне нет веры, то уничтожьте меня, но я не желаю ни за что сидеть в тюрьме и в лагерях. Требую возвращения к радостной жизни и кипучей деятельности. Другая жизнь мне не нужна.
з/к С. Чаплин
Письмо написано в ленинградских «Крестах» 29 июля 1939 года и впервые опубликовано в газете «Ленинградская правда» через полвека, 12 августа 1989 года.
Многие из подвергнутых на следствии пыткам заключенных на суде об этом заявляли, но Сергей Чаплин идет дальше: он поименно называет тех, кто его пытал и тем самым вынудил сочинить легенду о «контрреволюционной деятельности, никогда не существовавшей в природе».
Этот документ – крик отчаяния. Его автор не знает, что за три дня до его написания, 26 июля 1939 года, Особое совещание при НКВД уже приговорило его к восьми годам исправительно-трудовых лагерей. (Этот внесудебный орган был, собственно говоря, и создан для того, чтобы иметь возможность приговаривать осужденных по 58-й статье заочно.)
Сноски я сохранил намеренно. Двенадцать из упоминаемых в них лиц либо на тот момент уже расстреляны, либо будут расстреляны в ближайшие годы. Пятеро будут уволены из «органов».
В результате у читателя создается ложное впечатление, что справедливость якобы восторжествовала. На самом деле арестовавший деда Шапиро и следователь Шумский, как и тысячи других, были сметены чекистами новой, «бериевской», волны, а пытавшие его Ковальчук и Кривоногов уволены из «органов» уже после смерти Сталина и расправы с Берией и Гоглидзе.
Письмо кончается словами: «Другая жизнь мне не нужна», и, как выяснится из дальнейшего, Сергей Чаплин на Колыме в конце концов отбросил эту «другую», ненужную ему жизнь, сознательно совершив поступок, каравшийся смертной казнью.
«Политическое доверие»
За несколько летних дней 1937 года жизнь нашей семьи, как и сотен тысяч других, радикально изменилась. Падение бывало тем болезненней, чем выше до этого удалось залететь, а Чаплины в 20-е годы поднялись высоко. Падение с большевистского Олимпа на самое дно с клеймом «врага народа» взрослые еще пытались себе как-то объяснить.
Но дети…
«В первых числах июля 1937 года меня, – вспоминала моя мама, которой тогда исполнилось десять лет, – неожиданно увезли домой из лагеря имени Менжинского в городе Луга, под Ленинградом. На вокзале меня встречала мама. Несмотря на страшную жару, она была в черном костюме. Я помню, что тогда это меня поразило.
Приехали домой. Мы жили на площади Труда, в доме № 6. Квартиру получили зимой 1936-го по возвращении из Эстонии. Родители не успели купить мебель, и НКВД предложил свои услуги – квартира была обставлена казенной мебелью. Теперь вещи лежали на полу, на подоконнике. Когда я спросила у мамы, в чем дело, она сказала, что мебель увезли, потому что они собираются покупать другую. Больше она ничего мне не сказала. Потом, когда я пошла гулять во двор, моя приятельница Рая, дочь нашего дворника, объяснила, что несколько дней тому назад Исайю, ее отца, пригласили к нам в квартиру, и он присутствовал при обыске, что мой отец арестован, и мебель нашу вывезли люди в военной форме. Я пришла домой, у нас тогда был в гостях мамин брат, дядя Володя. Я рассказала, что сказала Рая об аресте папы. Мама с дядей Володей стали объяснять, что это действительно так, что я уже большая девочка и должна все понять. Со мной была дикая истерика. Несколько раз приступали к объяснению, мне говорили: “Нет-нет, мы пошутили”, – и потом снова говорили, что это правда. Ничего тяжелее в жизни я не помню»[256].
Но истерика еще не самое страшное.
Дочь Николая, Клара, живая двенадцатилетняя девочка, отличница, узнав об аресте отца, никому ничего не сказав, просто пошла и… легла на рельсы. Ее спасли, но восстановиться после полученной травмы она, прожив долгую жизнь, так и не смогла.
Мама рассказывала, что, когда она пришла в школу после каникул, подруга (ее отец был ординарцем казненного маршала Тухачевского, его пока, видно, не тронули), сидевшая с ней за одной партой, пересела: соседство дочери врага народа ничего хорошего не сулило[257]. Бабушка после ареста мужа жестко сказала маме: «Сталина, больше я твоей учебой заниматься не могу, но в конце каждого учебного года ты должна приносить домой похвальную грамоту». Мама старалась изо всех сил, и однажды, когда ей показалось, что учительница – не помню по какому предмету – выставит ей за год четверку, она… пошла к Неве топиться. К счастью, все обошлось, грамоту ей дали.
Бабушка билась как рыба об лед, стараясь прокормить детей и помочь оставшемуся без родителей племяннику. Брала учеников, продавала привезенные из-за границы вещи, но скоро они кончились. К тому же параллельно работала агитатором – отказ от выполнения партийных поручений мог привести и к ее аресту.
Времени на детей не оставалось, платить домработнице было нечем. К счастью, эта женщина – полька, глубоко верующая католичка – согласилась ухаживать за мамой и ее шестилетним братом почти бесплатно. (Любопытно, что до революции она работала поварихой у адмирала Колчака в его бытность командующим Черноморским флотом.)
После ареста мужа моя бабушка Вера Михайловна Чаплина регулярно, 9-го числа каждого месяца передавала ему 60 рублей, о чем своевременно оповещала партком Центрального приемника-распределителя, в котором она работала педагогом-воспитателем.
Четырнадцать месяцев после ареста деда это сходило ей с рук.
А 1 октября 1938 года ее уволили, второй раз за год.
За полгода до этого она, кандидат в члены ВКП(б) с 1931 года, обращалась к партийному лидеру Ленинграда Андрею Жданову по поводу своей партийной принадлежности, после чего заявление было спущено на уровень Приморского райкома, а оттуда переслано по месту работы.
Второе увольнение окончательно лишало ее средств к существованию.
«Напоминаю Вам, – пишет она секретарю райкома тов. Поповой, – что причиной моего увольнения является то, что мой бывший муж… арестован и находится в предварительном заключении 1 год и 2 месяца.
В чем его обвиняют, я не знаю, как и никогда не знала сугубо секретной деятельности сотрудников УНКВД. По делу мужа я не привлекалась даже как свидетель, и при попытках узнать причину его ареста получала ясный ответ, что я в его деле человек посторонний…»[258]
Рядовые педагоги не нуждаются в допуске, их работа никакого отношения к оперативной деятельности НКВД не имеет, «поэтому считаю мое вторичное увольнение необоснованным и рассматриваю как факт огульного отношения к людям».
С 1931 года Вера Чаплина является кандидатом в члены ВКП(б) (видимо, прием в партию откладывался из-за заграничной командировки в 1933 – 1935 годах). После ареста мужа, которого она называет бывшим (разве арест означал развод?), она вновь прошла кандидатский стаж, была проверена со всех сторон и – признак благонадежности – продолжала работать пропагандистом. «Меня в партию принимали индивидуально, а не по коллективному заявлению с моим бывшим мужем, следовательно, и мне не следует отвечать за его грехи, он должен за них отвечать персонально»[259].
В заключение она просит тов. Попову «не толкать ее на путь морального уничтожения… ведь мучают меня 1 год и 2 месяца»[260].
После этого ее дважды вызывают на бюро парткома ЦПР, но она не является.
А 21 ноября 1938 года у бабушки произошел нервный срыв:
«В партком ЦПР от кандидата ВКП(б) Чаплиной В.М.
Заявление.
Прошу считать меня механически выбывшей из кандидатов ВКП(б). Сдаю кандидатскую карточку за № 0203661.
21. XI.38».
25 ноября на парткоме слушается дело об исключении из кандидатов ВКП(б) тов. Чаплиной Веры Михайловны, которая за более чем десять лет замужества не сумела разоблачить своего мужа, репрессированного органами НКВД, и до сих пор имеет с ним связь, систематически носит ему передачи.
Принимается решение о ее исключении «за связь с мужем, выразившуюся в систематической материальной помощи и ее высказываниях на партийных собраниях о его невиновности…
В личном разговоре выразила мнение: “Я считаю себя механически выбывшей, а не хочу быть исключенной как жена репрессированного мужа”»[261].
7 декабря 1938 года это решение первичной парторганизации утверждает бюро Приморского райкома с еще более жесткой формулировкой: «Постановили: Чаплину В.М. как жену врага народа исключить из кандидатов в члены ВКП(б)».
Идея с «механическим выбыванием» поддержки не нашла: хотя даже такой внесудебный орган, как Особое совещание НКВД, Сергея Чаплина на тот момент виновным еще не признал, райком уже называет его врагом народа.
23 июня 1939 года моя бабушка предпринимает попытку восстановиться кандидатом в члены ВКП(б), обращается к новому первому секретарю Приморского райкома тов. Харитонову (Поповой уже нет) с заявлением. В нем она опровергает формулировку исключения – за связь с врагом народа и отсутствие бдительности: «Если бы я была связана с врагом народа, то была бы арестована вместе с мужем… отсутствие бдительности тоже не имеет ко мне отношения. Я была рядовым советским педагогом, а муж сотрудником НКВД, деятельность которого моему контролю не подлежала. Я не понимаю, за какие свои грехи я должна страдать»[262].
26 июля 1939 года ОСО НКВД выносит решение об осуждении Сергея Чаплина на восемь лет лагерей, а 21 октября бюро парткома ЦПР рассматривает вопрос о восстановлении Чаплиной В.М. кандидатом в члены ВКП(б).
На вопрос о том, до какого времени она передавала мужу деньги, она отвечает: до отправления на этап. Решение ОСО считает правильным: «Для меня он как муж потерян, и никаких отношений к нему не должно быть». Об исключении из кандидатов в члены ВКП(б) попросила потому, что «была в таком состоянии, что не отдавала себе отчета, но, придя домой, одумалась, поняла, что совершила грубую политическую ошибку».
Начинается обсуждение.
Один из коммунистов считает, что Чаплина должна подать в парторганизацию заявление о разрыве отношений с мужем, другая полагает, что она поступила правильно, не отказавшись от мужа сразу же после ареста, как делают многие жены в подобных ситуациях. Все хвалят ее как работника, критикуют бывшего секретаря Попову (исключив Чаплину, она-де поступила как бюрократ, перестраховалась, руководствовалась принципом «лучше пересолить, чем недосолить» [к тому же мы не знаем, что в это время с самой Поповой – не арестована ли и она как враг народа? – М.Р.]). Все едины в том, что заявление о признании механически выбывшей и возвращение кандидатской карточки – поступок непартийный, свидетельство малодушия, но отчасти в этом виноваты другие партийцы, отнесшиеся к состоянию Чаплиной после ареста ее мужа бездушно и формально. Решают ходатайствовать о восстановлении перед райкомом после решения общего партийного собрания.
Оно состоялось 25 октября 1939 года. Чаплина повторяет, что в партию ее принимали как гражданку, а не как чью-то жену.
Ее спрашивают о статье, по которой осужден Сергей Чаплин. Ответ: «Я знаю лишь с его слов, что инстанция не судебная [ОСО действительно было внесудебным органом НКВД. – М.Р.], он точно не сказал, но репрессирован как брат Николая Чаплина, который осужден на 10 лет». Потом все-таки приходится добавить, что он осужден на восемь лет без поражения в правах и конфискации имущества; в другом контексте бабушка говорит о «высылке», короче, старается всячески смягчить приговор.
«Когда его высылали, меня официально пригласили прийти к нему на свидание и принести ему вещи». (Один коммунист цинично поясняет: «вызывали ее при отправке, потому что такой порядок; это делается для того, чтобы не за счет государства снабжать его [то есть осужденного. – М.Р.] для отправки».)
Чаплину опять хвалят как работника и как пропагандиста, говорят, что «она заслуживает политического доверия». Принимается решение просить райком о ее восстановлении в партии.
Наступает финальный аккорд семейной драмы – заседание райкома от 1 декабря 1939 года (ровно через пять лет после убийства Кирова, какое совпадение!). «Разбор дела бывшего кандидата в члены ВКП(б) Чаплиной Веры Михайловны, год рождения 1906, национальность еврейка, социальное положение служащая, образование высшее, специальность педагог-воспитатель. Работала в ЦПР НКВД в качестве педагога-воспитателя с 5 июля 1937 года по 2 сентября 1938 года и уволена в связи с арестом мужа. В настоящее время работает инструктором Красногвардейского и Выборгского района школ взрослых…
Постановили: Отклонить ходатайство первичной организации о восстановлении Чаплиной В.М. кандидатом в члены ВКП(б)»[263].
На самом деле, добиваясь восстановления, Вера Чаплина следовала двойной стратегии. Явно декларируемой целью было возвращение в партию, основной же, скрытой, – восстановление доверия к себе, без которого невозможно было физическое выживание ее и детей.
Дед был любовью всей ее жизни. Она не просто передавала ему деньги, без которых он не мог выдержать двухлетнего следственного марафона, – она поддерживала мужа, оправдывала как могла и, конечно, не считала его ни в чем виновным. Но вместе с тем понимала, что открыто – а тем более на партсобраниях – можно говорить лишь, что ничего подозрительного за ним за двенадцать лет брака не замечала, что работа его была секретной, для нее полностью закрытой (уверен, она знала о ней гораздо больше). Над ней как дамоклов меч висел арест. Моя мама рассказывала, что все эти годы бабушка ложилась спать, кладя рядом собранный саквояж со всем необходимым – на случай ночного ареста. Жены двух других братьев Чаплиных, Николая и Виктора, были арестованы, а ее – второй раз за год – уволили с работы.
Первое увольнение случилось сразу после ареста мужа и было понятно. ОТК (Отдел трудовых колоний) НКВД – институт, работа в котором связана с так называемым допуском. А Особоуполномоченный НКВД (в Ленинграде им в то время был Фриновский), к которому она обратилась, сказал: мужа обвиняют в членстве в контрреволюционной организации, стало быть, эта работа не для вас. Но и ЦПР (Центральный приемник-распределитель) – тоже структура НКВД, поэтому и там те же проблемы. Ее увольняют вторично.
15 августа 1937 года глава НКВД Николай Ежов подписал приказ № 00486. Согласно ему, аресту подлежат все жены арестованных, в том числе знавшие, но не сообщившие об их контрреволюционной деятельности (отсюда постоянные заверения бабушки, что она об этом ничего не знала). Не арестовываются только беременные женщины, матери грудных, заразных или больных детей, имеющие преклонный возраст, а также «жены осужденных, разоблачившие своих мужей». Ни к одной из этих категорий бабушка не принадлежала, а поверить в то, что, прожив в браке двенадцать лет, она совсем ничего не знала о настроениях мужа, было трудно. Отсюда еще один аргумент в свою защиту: меня принимали в партию не как чью-то жену, а как индивида, гражданку.
Решение ОСО от 26 июля 1939 года лишает ее возможности продолжать утверждать, что вопрос с виновностью мужа не решен, находится в процессе рассмотрения. Она должна публично с ним порвать, но и здесь делает все, чтобы смягчить вынесенный приговор, представить его как высылку в отдаленные районы.
Она была единомышленницей мужа, носительницей идей Октябрьской революции, которые, по мнению таких людей, теперь попирались сталинизмом. Сергей виделся ей праведной жертвой, которая вынуждена раскаиваться в преступлениях, которых не совершала. А что касается совершенных во имя революции преступлений, она, как и он, считала их подвигами во имя святого дела, поступками, добела отмытыми верой, ставшими своей противоположностью.
В конце концов ее вынуждают капитулировать, отказаться от мужа. Первая ласточка капитуляции – словечко «бывший». Они не разведены, она носит ему передачи (уверен, передавались не только деньги), тем не менее – «мой бывший муж».
Моя десятилетняя мама два раза в год, первого мая и седьмого ноября, писала Сталину о невиновности отца, о том, что произошла трагическая ошибка.
«Против лома нет приема», защититься от сталинского лома можно было (и то временно) только систематической ложью, предательством близких, разрывом самых интимных отношений.
Бабушка добилась своего, избежала ареста, спасла детей от участи тех, чьи родители попали под сталинский каток, ушла из системы НКВД в обычную школу. Условие этого – выраженное ей политическое доверие.
А возвращение в партию – ну что поделаешь, не получилось.
Да и партия теперь не та, в которую она когда-то так рвались…
Назначенный «шпионом». Дело Георгия Жженова
После ареста брата молодой артист Георгий Жженов, как мы знаем, отказался ехать с семьей в ссылку в Казахстан, несмотря на недвусмысленное предупреждение людей из «конторы»: «Не поедешь – посадим».
В поезде по пути в Хабаровск Жженов с компанией актеров, которые, как и он, ехали сниматься в фильме «Комсомольск», познакомился с хорошо говорившим по-русски американцем по фамилии Файмонвилл; потом еще дважды случайно встретился с ним в Москве. Вели светские беседы об искусстве, актер курил американские сигареты, а в конце, несколько удивив Файмонвилла, предупредил, что знакомство прекращает.
Возвратившись в Ленинград, вздохнул с облегчением, узнав, что дело против него прекращено, подписка о невыезде снята и ему ничто не грозит.
Но радоваться было рано: Георгий попал в оперативную разработку, невидимые «органы» «копали» на него материал.
5 июля 1938 года, возвратившись ночью, он застал у себя дома красноармейца с винтовкой и командира в форме НКВД, который предъявил ордера на обыск и арест. Со страхом, который он испытал в тот момент, не могло сравниться ничто из испытанного позднее: это был, признается он, «самый страшный страх в моей жизни»[264].
«Моя реакция на пережитый страх была неожиданной: я уснул»[265].
Да, реакция была неожиданной, но не редкой; реагируя на шок, глубоко засыпали, «отрубались» в первый момент и другие арестовываемые.
Еще одна особенность таких моментов – на полную мощь включается непроизвольная память; увиденное отпечатывается и сохраняется в мельчайших деталях на всю жизнь. Жженов запомнил скорбную позу дворника, жуткую вежливость офицера НКВД, распахнувшего перед ним дверь «эмки», весь маршрут от Васильевского острова на другую сторону Невы, мимо Эрмитажа, до угла Литейного проспекта и улицы Воинова (до революции Шпалерной); врезался в память и номер, под которым его фамилию занесли в регистрационную книгу внутренней тюрьмы НКВД, – он был 605-м. Начинался нередкий для того времени «урожайный» день.
Позже у Жженова сочинилось незамысловатое четверостишие об этом доме:
На улице Шпалерной
Стоит волшебный дом:
Войдешь в него ребенком,
А выйдешь – стариком.
«По сигналу “эмки” ворота гостеприимно распахнулись и поглотили вместе с машиной все двадцать две весны моей жизни. Такие понятия, как честь, справедливость, совесть, человеческое достоинство и обращение, остались по ту сторону ворот»[266].
Жженова обвинили в шпионской связи с американцем, вынуждали признаться, что Файмонвилл завербовал его «как человека, мстящего за судьбу брата…»[267].
И расшифровка, конкретизация обвинения, хотя и выглядела абсурдной, бросающей вызов здравому смыслу, читалась вполне нормально в свете царившей тогда в СССР шпиономании: например, «передал ему сведения о морально-политических настроениях работников советской кинематографии и т. д.»[268].
Поскольку Георгий упорно сопротивлялся, не признавая предъявленного ему обвинения, его провели через «конвейер» [непрерывный допрос, который сменяющие друг друга следователи ведут до тех пор, пока изможденный обвиняемый не подпишет протокол нужного им содержания. – М.Р.]. Один из следователей, угрожая избиением, орал: «И не таких ломали. Уж как-нибудь ты у меня пять лет на Камчатке отработаешь!» Другой сжалился, назвал реальную причину ареста: «Семье контрреволюционера нет места в городе Ленинграде. Надо было не быть дураком и уезжать вместе с родными в высылку, в Казахстан, а не сопротивляться»[269].
Что имеется в виду под «моральными и физическими методами воздействия», Жженов не расшифровывает, но об этом нетрудно догадаться: длительные допросы без пищи, воды, сна, оскорбления, избиение (один следователь, например, поднимал его за волосы).
«В конце концов сломили, конечно, мою волю, и, отчаявшись во всем, на одном из тяжелых допросов я подписал ложный, сочиненный следствием сценарий моих “преступлений”… мне было все равно, лишь бы оставили в покое»[270].
Сергей Чаплин принадлежал к поколению видевших Ленина и по его призыву «штурмовавших небо». Родившийся на десять лет позже, Жженов вырос при советской власти: «С искренней верой и простодушием мы распевали побасенки Лебедева-Кумача… Мы многого не знали! Не знали, не ведали, что в стране, “где так вольно дышит человек”, тюрьмы уже под завязку набиты сотнями тысяч таких же, как и мы, ликующих жертв»[271]. Но актер был не просто «теленком, смотревшим на мир сквозь «розовые очки», но и достаточно жестким, недоверчивым человеком, сыном своего времени, верившим советской мифологии больше, чем собственному брату. И теперь, когда его веру разрушали такие же ее извращенные носители, он не понимал смысла происходящего: «Знать бы, во имя чего ты принимаешь муки – было бы легче!»
Будучи еще одной «ликующей жертвой», он больше физических страданий боялся сумасшествия, неотделимого от утраты смысла жизни.
Признанием вины дело не закончилось.
Придя в себя после ежовского «конвейера», Жженов потребовал бумагу: хотел отказаться от показаний, полученных незаконными методами. Объявлял голодовку, ничто не помогало – бумагу кое-как дали после перевода из «Шпалерки» в «Кресты». Писал всем, вплоть до Сталина, но все без толку – никто не удостоил юного сидельца ответом.
Камеру, в которую Жженов попал в «Крестах» (в ней он познакомился и подружился с моим дедом, чье дело было отправлено на доследование), предназначавшуюся для двоих, населяли двадцать один человек; у входа стояла «параша», рядом с которой клали новоприбывших. Тюрьма набита до предела, на оправку приходится бегать «на рысях», прогулки отменены. Кормят отвратительно. У Георгия, молодого, крепкого парня, спортсмена, появились первые признаки цинги (стали кровоточить десны, зашатались зубы). Чтобы предотвратить попытки самоубийства, в «Крестах» на уровне второго этажа натянута металлическая сетка. Для исключения контактов между подсудимыми надзиратели бьют по перилам огромными ключами, предупреждая о приближении.
Когда Берия сменил Ежова во главе НКВД и начал чистить «органы» от кадров своего предшественника, «Кресты» немного разгрузились, применять физическое насилие стали реже [хотя Сергея Чаплина зверски избили именно в это время. – М.Р.], кое-кто под шумок даже вышел на волю. Начальство неожиданно отреагировало на многочисленные жалобы Жженова. Его вызвали к врачу, та сказала: «Показывай следы избиений, переломов, увечий». Но к тому времени следы от побоев успели зарасти, улик на теле Жженова не осталось.
Примечательные «шмоны» проводились в «Крестах» перед главными советскими праздниками, майскими и ноябрьскими: изымалась бумага, острые предметы и… все красное. С Жженова сняли красные лыжные штаны: «Видно, опасались, как бы в юбилей Великой Октябрьской революции я не стал размахивать ими сквозь намордник зарешеченного окошка камеры»[272].
Но все познается в сравнении. Оказаться после «Крестов» в следственной тюрьме НКВД на улице Воинова не хотел никто; память о «допросах с пристрастием» тело хранит долго.
Оказавшись вновь в следственной тюрьме НКВД, Жженов отказался подписать протокол об окончании следствия, требуя, чтобы к делу были приобщены его письма протеста. После рукопашного боя со следователем ему дали лист бумаги, разрешили письменно зафиксировать отказ от подписи под протоколом.
«Думаю, что усилия мои были напрасны. Тогда следствие произвольно перенумеровывало страницы дела, выдирая из него любое, что было неугодно, и внося то, с чем не хотели знакомить подследственного»[273].
Со следственными документами того времени следует обращаться крайне осторожно, с поправкой на то, какой манипуляции они подвергались на разных этапах, что там осталось от признаний обвиняемого, а что идет от указаний чекистского начальства, следователя, машинистки, стенографистки. Информация – и, что еще опасней, само время – в них часто фальсифицированы настолько, что не поддаются восстановлению.
В итоге дело Георгия Жженова (как и дело Сергея Чаплина) было передано в ведение Особого совещания при НКВД, внесудебного органа, выносившего приговоры заочно, в отсутствии обвиняемых. На дворе стоял конец августа 1939 года, в Кремле только что был подписан пакт Молотова-Риббентропа. Немецкий диктатор, сам того не желая, пришел на помощь советскому в его борьбе с «врагами народа». «Сталинский альянс с Гитлером окончательно развеял (надежды) многих тысяч жертв беззакония, томившихся в переполненных тюрьмах и все еще продолжавших верить, что арест – трагическое недоразумение, ошибка и не более того…»[274]
Жженова вызвали в канцелярию, где в присутствии начальника тюрьмы объявили приговор (пять лет лагерей) и предложили расписаться в ознакомлении. «Правда сдохла», – через всю официальную бумагу крупными буквами вывел свежеиспеченный зэк и расписался. Чиновник, зачитавший приговор, пригрозил бунтарю карцером, но дело до этого не дошло.
Расписавшись в получении срока, Георгий перестал провожать каждый проведенный в тюрьме день «своеобразной молитвой»: «Еще одним днем ближе к свободе!» До него окончательно дошло, что свободы предстоит дожидаться много лет. Завтра, пишет он, из ворот тюрьмы выйдет не тот, кто год назад в нее вошел: не наивный паренек, веривший в справедливость, а взрослый, разочаровавшийся, хлебнувший горя человек, которому предстоят большие испытания. Правда, и в его юношеской вере в справедливость не оставалось места для тех, с кем, подобно его старшему брату, поступили не менее несправедливо. И точно так же пареньки, которых – нередко по чистой случайности – не засосало (или еще не засосало) в сталинскую мясорубку, продолжали считать, что живут в лучшем из миров, а те, кого посадили, с кем приключилось несчастье, отверженные, возможно, сами во всем виноваты. Ведь «органы» не ошибаются, а «чужая душа – потемки».
Люди, похоже, еще не понимали, что своим инстинктивным недоверием к ближнему – знакомому, соседу, отцу, брату, да просто человеку – они питают цепную реакцию террора, подыгрывают собственным палачам. Им надо было самим угодить в жернова террора, чтобы прозреть (и то не всегда).
Объявление приговоров воспринималось жертвами как нечто, настолько далекое от реальности и абсурдное, что они… хохотали: в комнате воцарялось лихорадочное веселье, бахтинская карнавальная атмосфера.
«Энкэвэдэшник с тремя кубарями в петлицах зачитывал приговоры:
– Сидоров!
– Есть!
– Отвечать как положено: имя, отчество, год рождения, статья, срок?
– Владимир Федорович, год рождения 1908, статья 58-10!
– Срок?
– Не знаю.
– Восемь лет!
– Премного благодарен, – общее веселье в толпе зэков. Сидоров смеется.
– Фейгин?
Фейгин скороговоркой:
– Есть Фейгин, Семен Матвеевич, 1904 года рождения, статья КРТД – “троцкист”. Срок не знаю.
– Десять лет! – общий хохот. Фейгин притворно плачет. И так далее и т. п.»[275].
Невольно спрашиваешь себя: разве это наше юродство, способность смеяться над собственным несчастьем не делают неизбывным само это несчастье, не позволяют ему, как дурному сну, повторяться веками?!
Обвиняемые понимали: объявленные сроки не просто «липовые», но и «резиновые»: самые короткие из них – трех- и пятилетние – одновременно и самые опасные; их могут в случае чего удвоить или утроить.
Последние часы пребывания в «Крестах», иронически замечает Жженов, начальство постаралось сделать особенно памятными.
В ожидании этапа около сорока заключенных тюремные надзиратели коленями и сапогами запихнули в одну из одиночных камер первого этажа. Пятнадцать часов они простояли притертыми друг к другу настолько плотно, что нельзя было ни повернуться, ни поднять руку. На оправку не выводили, было нечем дышать, люди обливались потом, мочились под себя, «стояла несусветная вонь». И в этих условиях осужденные хлебали тюремную баланду, потому что были голодны и не знали, когда накормят в следующий раз. Миски передавали по головам, те, кому не досталось ложек, хлебали суп через край.
За спиной Георгия вполголоса говорили. Прислушавшись, он, к своему великому изумлению (уж больно неподходящая обстановка для лирики), узнал стихи о Прекрасной Даме: «Я послал тебе черную розу в бокале». «Сплющенные, как скоты в загоне, только что клейменные, униженные и растоптанные люди слушали печальные и прекрасные слова Блока о красоте, о любви, о Петербурге… о вечности»[276]. А потом кто-то стоявший за ним, где-то рядом, но оставшийся невидимым в этой давке (нельзя было повернуть голову) стал читать собственные стихи. «Прекрасные стихи об узнике, потерявшем ощущение времени, о жажде жизни, о тщетности надежд…»[277] Впоследствии он выяснил имя автора, поэта-любителя, чьи стихи в восточном стиле, невыдающиеся сами по себе, настолько соответствовали его тогдашнему настроению, что тут же врезались в память, запомнились на всю жизнь.
Вообще роль поэзии в ГУЛАГе еще ждет своего исследователя. Она была огромной: Варлам Шаламов, Евгения Гинзбург, Нина Гаген-Торн, Ольга Слиозберг и многие-многие другие узники были страстными поклонниками и знатоками русской поэзии, помнили сотни стихотворений наизусть, читали их друг другу.
В «Крестах» Георгий Жженов (вот что значит молодость!) отчаянно влюбился в тюремного врача – жену начальника тюрьмы, читал ей стихи Пушкина, сочинял сам. Узнав о приговоре, эта красивая самовлюбленная женщина на память подарила «поэту» ромашку. «Когда цветок стал вянуть, я не удержался и сыграл с ним в “вернусь – не вернусь”.
Последний лепесток на ромашке носил имя “вернусь”.
Что ж!.. Какая ни есть, а надежда»[278].
С этой надеждой он ушел на этап, товарищем по которому был мой дед.
Этап 1. По Транссибу
Георгий Жженов и Сергей Чаплин попали на этап, который покинул Ленинград в начале сентября 1939 года. Он состоял в основном из военных.
Первую часть пути на Колыму заключенные проделывали в вагонах двух типов: пассажирском – «столыпине», или товарном, который почему-то (вероятно, из-за раскраски) прозвали «краснухой». В каком из них оказались герои моего рассказа, неизвестно.
В так называемых «столыпинских вагонах» перегородка, отделяющая коридор от купе, заменялась решеткой, вход в каждое из пяти купе – площадью по девять квадратных метров – был тоже через решетку. И оба тамбура зарешечены: в одном – уборная конвоя, в другом – место для «оправки» зэков, без двери (охранник не терял их из виду и во время отправления естественных надобностей).
Вдоль обеих перегородок каждого купе – полки в три яруса, один над другим, соединенные между собой. На каждой полке – средняя считалась самой удобной, за нее боролись – могли разместиться по четыре человека, то есть купе было рассчитано на двенадцать заключенных (последнее купе в вагоне служило карцером). На самом деле в это пространство нередко «забивали» до тридцати и больше рабов ГУЛАГа. Лежать узники должны были обязательно головой к решетке. Зарешеченные окошки имелись только в купе конвоя: видеть «свет божий» для зэков – в отличие от царских времен, когда окна были везде – считалось непозволительной роскошью. Узники все время лежали или полулежали – выпрямиться не позволяло расстояние между полками. Питание, как правило, выдавалось сухим пайком и состояло обычно из соленой рыбы. «Муки жажды непременно сопутствуют перевозкам», – пишет Жак Росси в «Справочнике по ГУЛАГу»[279]. Обеспечивать заключенных водой – обязанность конвоя, а ведра воды еле хватало на купе, вот и представьте себе, по сколько «ходок» совершали конвоиры на станциях и как старались экономить эту влагу!
Каждые три-четыре дня заключенных на станциях, где имелись тюрьмы, выгружали и передавали под расписку местному тюремному наряду. На «пересылке» они «припухали», проходили «санобработку» и получали обычный тюремный паек в ожидании продолжения этапа, которое могло длиться до нескольких недель.
«В царское время, – продолжает Жак Росси, – “столыпин” прицеплялся к поезду от случая к случаю. На остановках конвой не препятствовал публике подходить к нему и через окно передавать арестантам хлеб, курево и пр. Большевики же сразу запретили приближаться к “столыпину”»[280]. В 30-е годы «столыпины» прикреплялись к каждому составу, сразу за паровозом, перед почтовым вагоном. Их тщательно скрывали от посторонних глаз, в случае длительной стоянки загоняли на запасные пути или в тупики.
В «Архипелаге ГУЛАГ» Александр Солженицын называет «столыпины» «тюрьмами на колесах» и сравнивает их содержимое (если взглянуть на него извне) со зверинцем: «Все вместе из коридора это очень напоминает зверинец: за сплошной решеткой, на полу и на полках, скрючились какие-то жалкие существа, похожие на человека, и, жалобно смотря на вас, просят есть и пить. И в зверинце никогда так тесно не скучивают животных»[281].
С горькой иронией автор «Архипелага» продолжает:
«Нет, не для того, чтобы нарочно мучить арестантов жаждой, все эти вагонные сутки в изнемоге и давке их кормят вместо приварка только селедкой или сухою воблой… И, конечно, не для того, чтобы арестант мучился, ему не дают после селедки ни кипятка (это уж никогда), ни даже сырой воды… Потом: носить воду ведрами далеко, да и обидно носить: почему советский воин должен воду таскать, как ишак, для врагов народа?»[282]
Естественно, и каждая «оправка» во время недобровольного путешествия на Колыму становилась проблемой. Конвоиры понимали: чем больше воды дашь узникам, тем чаще они будут проситься в уборную; а ведь среди зэков были страдавшие диареей, диабетики и просто пожилые люди, умолявшие отвести их на «оправку» чаще других. Им отказывали, они «делали под себя»; можно представить себе, какой запах стоял в купе, где и так было не продохнуть.
Другими словами, пытки скученностью, недостатком кислорода, острой, соленой пищей, жаждой были запрограммированы – невидимой рукой всемогущего ГУЛАГа – для этапируемых на Колыму, крайняя жестокость – для их охранников.
Больше «повезло» (если в аду уместно такое слово) тем, кого, подобно Евгении Гинзбург, летом 1939 года везли во Владивосток в товарных вагонах (так называемых «краснухах»), оборудованных сплошными двухъярусными нарами. «Под самым потолком – два густо зарешеченных окошка. В полу прорезано отверстие-параша. Оно обито железом, чтобы заключенные не смогли расширить его и выброситься на путь… В “краснухах” нет ни умывальников, ни освещения»[283]. Они также зачастую бывали переполнены. Преимущества этих «телячьих» вагонов очевидны: в них нет купе, следовательно, больше воздуха, по вагону можно передвигаться; есть собственный нужник – большое облегчение: не надо проситься на «оправку».
Правда, были и другие «прелести»: два раза в день охрана устраивала перекличку и обыск («шмон»).
Горячая пища выдавалась раз в сутки и, как водится, тоже была очень соленой. Заключенные женщины предпочитали голодать: «Почти никто не ест соленую баланду. Она хоть и жидкая, но после нее еще страшнее хочется пить. Селедочные хвосты в ней варятся. Конвоиры выносят почти всю баланду нетронутой»[284].
Староста вагона умоляла начальника конвоя выдать хотя бы воду, которая уходит на приготовление этого варева, – целых два ведра!
«Вот что, староста седьмого вагона, – последовала отповедь, – это нам с вами никто права такого не давал, чтобы самовольно режим менять. Положено – горячий харч раз в сутки этапникам, ну и обеспечиваем… режим меняться не будет»[285].
В день женщинам полагалась одна кружка воды на все про все – и помыться, и утолить жажду, и постираться. Некоторые старались растянуть эти несколько глотков на весь день, лежали «обессиленные на нарах, избегая лишний раз пошевелить растрескавшимися губами.
В головах у каждой – неуклюжая глиняная кружка… Она – источник страшных волнений. Как уберечь воду от расплескивания? При толчках вагона. При неосторожном движении соседок… То и дело возникают конфликты…»[286].
Наконец женщины не выдержали, взбунтовались, кричали «не верим, что в Советской стране могут истязать людей жаждой»[287], – кончилось тем, что две зачинщицы угодили в карцер, а весь вагон перевели на «карцерное положение» (в два раза меньше пайка, никакой горячей пищи).
Единственным утешением во всех их бедах, прошлых, настоящих и будущих, служили этим женщинам стихи. Читали по очереди целые поэмы. Однажды на остановке ворвался разъяренный начальник конвоя и потребовал срочно отдать ему книгу. Он, оказывается, целый час стоял и слушал, как что-то читают, и, сам полуграмотный, представить себе не мог, что при этом обходятся без книги. Не верил, думал, водят за нос, пока своими ушами не убедился, что такое чудо возможно (Евгения Гинсбург наизусть прочитала ему по главам «Евгения Онегина»).
(Не всем, кстати, нравились эти поэтические марафоны. Надежда Гранкина, следовавшая тем же этапом, сожалела: «Я мучительно искала ответа на свои вопросы и оправдания всего происходившего с нами, а они старались уйти от этих вопросов в бездумье, в музыку стихов Блока, Ахматовой, Гумилева. Женя [Евгения Гинзбург. – М.Р.] читала наизусть целые поэмы Пушкина, “Русских женщин” Некрасова»[288].)
В Свердловске этап прошел в местной тюрьме санобработку. Женщин заставили раздеться догола и в таком виде провели мимо выстроившихся солдат с оружием. Преодолев шок от унижения, они столпились у огромного зеркала (обходились без него годами) и… долго не могли себя узнать.
«И вдруг я увидела, – пишет сосланная на Колыму Ольга Слиозберг, – усталые и печальные глаза моей мамы, ее волосы с проседью»[289].
Евгения Гинзбург вторит ей: «Я узнала себя только по сходству с мамой»[290].
Дорога до Владивостока заняла целый месяц. Из-за запущенного авитаминоза треть этапниц поразила куриная слепота; ее лечили рыбьим жиром.
На пике террора, в 1937 – 1939 годах, по Транссибу непрерывно шли составы по двадцать – пятьдесят вагонов, на которых было крупными буквами написано «спецоборудование», на крышах и на площадках располагались охранники с автоматами.
Умерших выносили и прямо тут же, у насыпи, закапывали в землю; на каждого составлялся акт.
«И на Тихом океане свой закончили поход», как пелось в песне времен Гражданской войны.
«Транзитка [официальное название которой было Владперпункт. – М.Р.] представляла собой огромный, огороженный колючей проволокой, загаженный двор, пропитанный запахами аммиака и хлорной извести (ее без конца лили в уборные)»[291]. В «колоссальном сплошном деревянном бараке» с тремя ярусами нар хозяйничали клопы, столь свирепые, что «на нарах невозможно было не только спать, но и сидеть»[292].
Спали под открытым небом, благо был август, стояло теплое лето. Многие увидели звезды впервые с тридцать седьмого года.
Здесь Евгения Гинзбург и другие женщины из седьмого вагона встретили своих мужчин, таких же коммунистов, таких же изнуренных и оборванных, как они, и писали друг другу трогательные письма, призывали мужаться.
Этап 2. На «Джурме» (рейсы 1939 года)
Накормили этапниц во владивостокской «транзитке» чем-то столь неудобоваримым, что число «поносниц» удвоилось; сама автор «Крутого маршрута» взошла на борт «Джурмы» больной, с высокой температурой и «неудержимым цинготным поносом».
Название корабля – «Джурма» – происходит от эвенкийского слова, которое переводится как «светлый путь»; он был построен в Голландии в 1921 году, куплен СССР в 1935-м и с тех пор перевозил грузы и заключенных из Владивостока в Магадан.
«Это был старый, видавший виды пароход. Его медные части – поручни, каемки трапов, капитанский рупор – все было тускло, с прозеленью. Его специальностью была перевозка заключенных, и вокруг него ходили зловещие слухи: о делах, о том, что в этапе умерших зэков бросают акулам даже без мешков»[293].
За «Джурмой» шла дурная слава.
В июле 1939 года (за месяц до Гинзбург и ее подруг) на ней везли на Колыму комдива Александра Горбатова, будущего генерала армии, Героя Советского Союза, в 1945 году коменданта Берлина.
Порядки были либеральней, чем через несколько месяцев: заключенным разрешали ежедневно полчаса постоять на палубе. Когда «Джурма» проходила через пролив Лаперуза, Горбатов, кадровый военный, понял: в случае войны японцы пролив закроют и выбраться с Колымы морским путем никто не сможет.
Но главное событие плавания на злосчастном пароходе ждало впереди. «В Охотском море со мной стряслось несчастье»[294]. Два «уркагана», избив комдива, выхватили из-под его головы сапоги. «Другие “уркаганы”, глядя на это, смеялись и кричали: “Добавьте ему! Чего орешь? Сапоги давно не твои”. Лишь один из политических вступился: “Что вы делаете, как же он останется босой?” Тогда один из грабителей, сняв с себя опорки, бросил их мне»[295].
Все семь суток плавания этапников кормили наполовину разворованным сухим пайком и кипятком. Многие не выдержали, заболели.
Короче, ни один рейс «Джурмы» из Владивостока в Магадан без потерь не заканчивался.
Но возвратимся к «Крутому маршруту».
На борт «Джурмы» этап долго не принимали, женщины качались в больших деревянных лодках, от морского воздуха подташнивало, кружилась голова. Но главное, Гинзбург и через четверть века краснела от стыда за то, какие песни ее подруги затянули в тот день: задорные комсомольские песни, прославляющие Родину, агитки, совершенно неуместные перед погружением в мрачный трюм для отправки на Колыму.
Наконец вся эта масса, вскарабкавшись по лесенкам, оказалась в трюме на грязном полу, друг на друге, такая царила теснота.
«Ах, наш седьмой вагон! Как он был, оказывается, комфортабелен! Ведь там были нары»[296].
Но самое страшное было впереди: на борту «Джурмы» «тюрзак» (политических заключенных) ждала встреча с блатнячками, «самыми сливками уголовного мира». Их матерящаяся, татуированная, кривляющаяся масса с ходу принялась терроризировать «фраерш», отнимать хлеб, грабить узелки. «Их приводило в восторг сознание, что есть на свете люди, еще более презренные, еще более отверженные, чем они, – враги народа!»[297]
К счастью, и среди политических нашлась женщина, бывший секретарь райкома, мощным ударом пославшая одну из блатных в нокаут, объявленная после этого старостой и своим авторитетом заставившая «стерв» отдать награбленное. Но блатные все-таки преподнесли остальным этапницам «подарок»: у всех завелись жирные белые вши.
«Это был один из счастливых, вполне благополучных рейсов “Джурмы”. Нам повезло. С нами не случилось никаких происшествий…
Когда поносников стало уж очень много, нам разрешили даже выходить по лестнице на нижнюю палубу в гальюн»[298].
Действительно повезло, если сравнить с другими рейсами овеянного мрачной славой корабля!
Через шесть дней плавания «Джурма» пришвартовалась в бухте Нагаево. Евгению Гинзбург и других доходяг вынесли на носилках и сложили на берегу аккуратными штабелями.
Свой первый колымский рассвет она встретила на земле. Был теплый август 1939 года.
Следующий рейс «Джурмы» вошел в историю как один из самых кошмарных за всю историю Колымы. 27 августа 1939 года, когда корабль проходил пролив Лаперуза, гласит официальная версия, в трюме № 2 уголовниками был совершен поджог смазочных материалов: они хотели, чтобы «Джурма» зашла в ближайший порт на ремонт, а оттуда уже совершить побег. Их заперли в трюме, пустили пар. «Джурма» зашла в порт Марчекан в сопровождении парохода «Дзержинский». Сотни трупов скинули за борт.
А вот как рассказывается об этом рейсе в «Архипелаге ГУЛАГ»: «А с “Джурмой” в другой раз, в 1939-м, был такой случай: блатные из трюма добрались до каптерки, разграбили ее, а потом подожгли. И как раз это было около Японии. Повалил из “Джурмы” дым, японцы предложили помощь – но капитан отказался и даже не открыл люков! Отойдя от японцев подале, трупы задохнувшихся потом выбрасывали за борт, а обгоревшие, полуиспорченные продукты сдали в лагеря для пайка заключенных»[299].
Надежда Гранкина плыла на Колыму этим рейсом. «Уголовники, выпущенные на палубу для обслуги, взломали замок и обокрали один из трюмов. Кто-то им помешал, и они, чтобы скрыть следы, подожгли помещение. Деревянные крашеные перегородки начали гореть. Рядом был мужской трюм. Мужчины, задыхаясь от дыма, полезли из трюма, конвой стал стрелять… Бросились тушить пожар, заливали водой из брандспойтов и, наконец, в трюм, где еще были мужчины, пустили сжатый пар…
Должно быть, положение парохода было очень тяжелое, потому что встретившийся нам пароход “Феликс Дзержинский”, шедший во Владивосток, вернулся и конвоировал нас… Море, к счастью, было спокойно, и тридцатого [августа 1939 года. – М.Р.] мы причалили к берегу в бухте Веселая, вблизи Магадана. Конвой сразу же сняли и арестовали, так как капитан отказался подписать акт о том, что они стреляли при попытке к бегству. Говорили, что потоптали в панике и сварили сжатым паром сто двадцать человек. Наших женщин вызвали сшить мешки, в которых их побросали в море»[300].
Как писала 29 сентября 1939 года газета «Советская Колыма»: «Пароход прибыл в Нагаево [а не в Веселую. – М.Р.] с минимальными потерями груза [о смерти людей не упоминается; главное, груз почти цел. – М.Р.]. За проявленное мужество, отвагу и дисциплинированность… всему экипажу парохода объявлена благодарность»[301].
Я не стал бы так подробно останавливаться на рейсах «Джурмы» образца июля – августа – сентября 1939 года, если бы на одном из следующих после описанного рейсов именно на «Джурме» на Колыму не прибыли герои моего повествования – Георгий Жженов и Сергей Чаплин.
Жженов оставил подробное описание этого рейса.
Злоключения этапников начались с того, что в транзитной тюрьме Владивостока их в день отправки накормили… да, той самой селедкой, которая неделями отравляла зэкам жизнь в «столыпиных» и «краснухах». На пути от Второй речки до бухты Золотой Рог они еще кое-как превозмогали жажду, но это было только начало мучений: потом их двенадцать – пятнадцать часов перед погрузкой продержали на берегу без капли воды. Мольбы об утолении жажды жестко (с помощью прикладов, а как же еще – «не к теще на блины приехали»!) подавлялись конвоем.
Сначала, пишет Жженов, грузили лошадей. Несколько часов их бережно, поодиночке заводили по широким трапам на палубу, размещали в специальных палубных постройках – отдельное стойло для каждой лошади… В проходе между стойлами стояли бачки с питьевой водой, к каждому была привязана кружка…
«В отличие от лошадей, с людьми не церемонились…
Как стадо баранов, людей гнали сквозь шпалеры вооруженной охраны, выстроенной по всему пути, в широко распахнутую пасть огромного тюремного трюма… Гнали рысью, под осатанелый вой собак и улюлюканье конвоя, лихо, с присвистом и матерщиной… “Без последнего!”»[302]
Зловещий выкрик «без последнего» на Колыме понимал каждый; он означал: отстающего конвой подгонял вперед ударами прикладов до тех пор, пока тот не падал.
Стоило «Джурме» отвалить от причала, как в наглухо задраенном трюме «уже созрел жуткий, сумасшедший бунт». Сотни людей, озверевших от жажды, исступленно требовали воды.
Капитан (наученный горьким опытом предыдущего рейса, когда бунт уголовников пришлось подавлять сжатым паром) отказался выходить в открытое море «с сумасшедшим домом в трюме».
Предыдущий конвой он (как мы знаем из рассказа Надежды Гранкиной) в Магадане отдал под суд, обвинив в халатном отношении к своим обязанностям, – было от чего перепугаться и этому конвою.
«Конвоиры раздраили трюмный люк. С палубы в ствол трюма, в этот ревущий зверинец, начали опускать на веревках бачки с пресной водой. Бесполезно, слишком поздно спохватились!
К бачкам с мисками, кружками бросились сотни жаждущих, не контролирующих себя людей. Они с концами обрезанной веревки исчезали в недрах, так никого и не напоив, превратившись на глазах у всех “в пыль, в брызги, в ничто”.
Тогда в трюм спустились конвоиры. Короткими автоматными очередями по проходам трюма им удалось на какое-то время разогнать всех по нарам, приказать лежать и не двигаться. С верхней палубы в проем трюма быстро спустили огромную бочку, размотали в нее пожарный шланг, подключили помпу…
Мгновенно у бочки образовалась свалка. За место у водопоя началась драка. В ход пошли лезвия безопасных бритв, ножи, утаенные уголовниками после этапных шмонов. Запахло кровью…
Вода из прорванных шлангов текла по лицам, телам, по набухшей одежде, стекала по ступеням лестницы… К ней лезли друг через друга, сильные сталкивали с лестницы слабых, те остервенело сопротивлялись, хватались за набрякшую, сочившуюся водой одежду соседа. Как пиявки впивались зубами, повисали на ней и с жадностью обсасывали, торопились напиться, пока их не сбросили вниз, на дно…»[303]
Короче, и бочка не напоила обитателей трюма; бунт не утих.
Тогда «собственные, решительные меры» принял капитан «Джурмы»: «В этой критической ситуации, когда насмерть перепуганная, растерявшаяся охрана [еще бы не перепугаться; им была известна судьба их предшественников. – М.Р.] не знала, что делать, капитану ничего другого не оставалось, как решиться на крайнюю меру – единственную, пожалуй, которая еще могла утихомирить людей и предотвратить катастрофу…»[304]
Он приказал залить трюм водой из всех имеющихся на борту средств. Подтянули дополнительные шланги, включили помпу. В трюм закачали столько воды, что она доходила до щиколоток; «упились ей вдоволь, что называется, от пуза – пей, не хочу!»
Капитан, меланхолически замечает Жженов, предотвратив бунт, спас корабль… но не людей.
«Уже на следующее утро у сотен зэков «обнаружились признаки одной из самых страшных в условиях длительных этапов болезни – дизентерии…»[305].
За пять суток корабль «полегчал» на несколько сот заключенных: умершие от дизентерии были выброшены за борт – похоронены в холодных водах Охотского моря.
Но не все загнанные в трюм «Джурмы» страдали от жажды; было одно исключение.
За битвой сотен зэков за воду с верхних нар, удобно расположившись у распахнутого люка (поближе к свету и свежему морскому воздуху), невозмутимо, подобно олимпийским богам, наблюдала «компания блатных авторитетов, элита преступного мира». «Они, эти подонки, были настоящими хозяевами этапа. Как римские патриции, возлежали они на разостланных по нарам одеялах, не боясь никого и не таясь, нагло потешаясь над происходящим. От жажды они не страдали – у них было все! Все, вплоть до наркоты! Всевозможная еда, спирт, табак и даже – женщина! (Если можно было называть женщиной полуголое существо в мужских подштанниках.) Вдребезги пьяная, распатланная девка, размалеванная похабными наколками, одному сатане известно, откуда и как приблудившаяся к мужскому этапу, томно каталась по нарам, за спинами резавшихся в карты воров»[306].
Как и в «Крутом маршруте», в рассказе «Этап» на борту «Джурмы» происходит первая встреча «политических» с уголовным миром. И в обоих случаях рассказчики потрясены: Гинзбург развязными манерами, наглостью и матерным сленгом блатнячек (слава Богу, их удалось тогда усмирить), Жженов – абсолютно привилегированным положением «воров в законе», как бы парящих над клубком сцепившихся в борьбе за живительную влагу тел. В лагерях они еще не раз столкнутся с выходцами из этого мира, с его моралью.
Превращение в колымского зэка
«Джурма» с моим дедом и Георгием Жженовым на борту пришвартовалась в бухте Нагаево 5 ноября 1939 года, в преддверии двадцать второй годовщины Октябрьской революции. Серые колонны выгружаемых из трюма измученных зэков – очередная ирония судьбы! – встречали «кумачовые полотнища, славящие нерушимую дружбу партии и народа»; на зданиях, «как пятна крови, рдеют флаги». Рабочую силу «Дальстроя» конвоиры прогоняют сквозь плотные шеренги охраны и с матом, под истошный вой собак выстраивают по пятеркам, тут же перестраивают в сотни. «Сформированную партию в сто человек подхватывает конвой и “без последнего”, рысью гонит прочь из порта, на выход, в сторону магаданской транзитной тюрьмы»[307]. Георгий Жженов и Сергей Чаплин идут с сотней, с которой они проделали весь путь от Ленинграда до Магадана; их спутники – военные, старший и средний командный состав Красной армии, если не считать нескольких случайно «приблудившихся» к колонне блатных. Сразу бросается в глаза различие между блатными, идущими налегке, и офицерами, которые, обливаясь потом, понукаемые, подгоняемые конвоем, несли на спинах собранные для них женами личные вещи. Вопреки благим намерениям женщин, эти вещи не скрасили, не облегчили лагерной жизни. Особенно туго пришлось полковнику Борису Борисовичу Ибрагимбекову, «нашему [то есть Жженова с Чаплиным. – М.Р.] подопечному другу», который волок на спине «целый вигвам роскошных бесполезных вещей: новый полковничий китель, штаны с лампасами, сапоги и прочие принадлежности офицерского гардероба, с которыми из гордости не хочет ни за что расстаться. Шатаясь, подгоняемый тычками и матом, старик упорно продолжал тащить свой “крест”… И как мы с Сергеем Чаплиным ни уговаривали, сколько ударов в спину он ни получал от конвойного, ничего не действовало… В ответ старик крутил головой и кричал:
– Вы нелюди!.. Вы звери, животные!.. Неужели не понимаете, что я – офицер? Я давал присягу!.. Я не могу лишиться чести.
– Старый дурак! – втолковывали мы ему. – Конвой забьет тебя до смерти с твоей честью, пропади она пропадом!..
Кончилось тем, что пришлось насильно стащить с его спины вещи и выбросить через забор на кладбище, мимо которого в этот момент нас гнали.
Подхватив упирающегося старика под руки, мы с Чаплиным поволокли его в середину колонны, подальше от конвоя»[308].
Блатные не обратили на добротное обмундирование полковника ни малейшего внимания; они явно знали нечто неизвестное остальным – цепляться за вещи бессмысленно: «шмотки» скоро все равно отберут, они достанутся начальству и лагерным придуркам.
Наконец этап остановили перед вахтой, над воротами которой «красовался выцветший кумачовый транспарант, в категорической форме предупреждавшей, что “путь в семью трудящихся – только через труд”». Бесконечные бараки магаданской «транзитки» Жженов сравнивает с занесенными снегом совхозными теплицами: «Лишь дым из труб да расчищенные в снегу ходы в бараки говорили о присутствии в них самих “трудящихся”»[309]. Зона обнесена забором из колючей проволоки, через каждые сто метров высятся сторожевые вышки с прожекторами и пулеметами. Отдельно от зоны «маячила уродливая громадина транзитной бани», куда, предварительно пересчитав, загнали всю сотню. Военные насторожились: весь пол бани был покрыт полуметровым слоем самых разнообразных вещей.
Дальше все было разыграно как по нотам, процедура «превращения в безликую массу беспомощных колымских зэков» была отработана здесь многократно, доведена до совершенства. «На пороге возникли несколько дюжих придурков из “бытовиков”, с лоснящимися, сытыми мордами. Этап притих.
– Раз-де-вайсь! – громко скомандовал один из придурков»[310].
Блатные и несколько бытовиков тут же стали выполнять команду, разделись и голыми выстроились у открытой двери.
«А вам, фашисты, что, отдельно приглашение нужно?» – закричали на осужденных по 58-й статье этапников. Все их попытки как-то защитить свое добро ни к чему не привели. Пришлось, оставив его на полу, раздеться и пройти в баню, где они поэтапно переживали второе рождение: сначала их тупой машинкой наголо остригли, потом была баня, наиболее сильным удалось вылить на себя несколько шаек воды, а тем, кто послабее, пришлось довольствоваться одним тазом. Затем им из одной двери швырнули кальсоны и рубаху, из другой – ватные штаны и гимнастерку, из третьей – телогрейку и кирзовые сапоги с портянками. Итоговый аккорд этого магаданского конвейера – бушлат, вигоневый шарфик и шапка-ушанка солдатского образца.
«Пути назад, к оставленным на полу личным вещам, не было. За какой-нибудь час дьявольский лабиринт пройденных дверей… лишил имущества и памяти… Сбереженные после бесчисленных шмонов в этапных тюрьмах реликвии, дорогие сердцу каждого: письма, фотографии детей, жен, матерей, близких – все исчезло, пропало. Наиболее ценное окажется потом у начальства и на карточных столах блатных и придурков. Остальное будет выкинуто, безжалостно сожжено»[311].
Под влиянием колымской метаморфозы в полковнике Ибрагимбекове, полном георгиевском кавалере, командире Дикой дивизии во время Гражданской войны, награжденном двумя орденами Красного знамени, навсегда надломилось что-то, «помогающее человеку бороться за жизнь… хотеть жить!»[312] Через три года он умрет на «инвалидке» (инвалидной командировке) 23-го километра.
Оставшиеся домашние вещи зэки берегли как реликвии. В рассказе «На представку», открывающем первый цикл «Колымских рассказов», один блатной, бригадир, проигрывает другому в карты и должен срочно отдать долг. Его взгляд останавливается на зэке по фамилии Гаркунов, у которого под телогрейкой скрыт шерстяной свитер, «последняя передача жены перед отправкой в дальнюю дорогу». Тот берег его как зеницу ока, сушил после бани на себе, ни на минуту не выпускал из рук, боялся, как бы ни украли. Поставленный блатными перед дилеммой, отдать свитер или умереть, Гаркунов платит жизнью за семейную святыню.
На командировке «47-й километр»
На четырех грузовиках, по двадцать пять зэков в каждом, сотню с Георгием Жженовым и моим дедом повезли по Колымской трассе. «Нашему этапу крупно повезло. Наслаждались мы колымским пейзажем недолго. Через пару часов нас сгрузили в хозяйстве Дукчанского леспромхоза, всего в сорока семи километрах от Магадана.
Правы оказались те, кто предсказывал: “Раз одевают в кирзовые ботинки, далеко в тайгу не повезут”. Логично»[313].
Эта командировка действительно считалась привилегированной.
В конце рассказа Шаламова «Тифозный карантин», действие которого разворачивается в той самой магаданской транзитке (там «припухает», лечит себя после ада золотых забоев герой – зэк по фамилии Андреев) другой зэк, «седой, похожий на профессора печник» перечисляет лучшие, прилегающие к Магадану командировки в таком порядке: «порт, четвертый километр, семнадцатый километр, двадцать третий, сорок седьмой…»[314]. Дед с Жженовым и их товарищи по несчастью попали на последнюю из перечисленных командировок, на «47-й километр». На эти командировки на Колыме стремились все: во-первых, чем ближе к столице Колымы, тем климат мягче, во-вторых, работа на лесоповале, сама по себе тяжелая, все же оставляла больше шансов на жизнь, чем добыча золота, касситерита, урана на пятидесятиградусном морозе.
Была, как станет ясно ниже, и еще одна немаловажная причина считать везением приземление на 47-м километре. Жженов пишет: «За два года пребывания в лагере Дукчанского леспромхоза я акклиматизировался окончательно. Освоил несколько профессий: лесоруба, грузчика, дорожника, автослесаря, водителя…»[315]
Да, водителя: его и моего деда, у которого в Ленинграде была машина «эмка», иногда снимали с лесоповала; они ремонтировали машины, нередко и сами садились за руль.
Но в основном, конечно, валили, распиливали и складывали в штабеля лес, помогали «Советской власти превращать лесотундровую Колыму в окончательно безлесную – тундровую».
До нападения Германии на СССР жили (по сравнению с тем, что началось потом) вольготно. Лагерь только строился, работали на 47-м километре бесконвойно; все начальство находилось на 23-м километре трассы. «Унижений, связанных с положением и режимом содержания заключенного, почти не испытываем. Валим тайгу»[316].
Поскольку речь идет о 1939 – 1940 годах, после чтения «Колымских рассказов» эти описания Жженова кажутся невероятно идиллическими. В четырех сотнях километров дальше по Колымской трассе начиная с зимы 1937 – 1938 годов, на золотых приисках Ягодинского района, где тогда работал Шаламов, вовсю свирепствовала смерть, конвой прикладами выбивал из обессилевших зэков план, всего за месяц здоровые молодые мужчины превращались в лагерных доходяг, а тут…
Рядом со строящимся лагерем стояли избы колонистов, завезенных на Колыму с материка в самом начале 30-х годов с условием остаться здесь навечно. Сердобольные бабы-колонистки подзывали зэков помоложе, «выносили из сеней пригоршни заготовленных на зиму, замороженных пельменей и высыпали их в наши закопченные консервные банки-котелки, по-матерински причитая на наш счет»[317]. В тайге они их с удовольствием поедали во время перерывов, разогрев на костре. На крыльце, у входа в столовую стояли две бочки с соленой горбушей; наедались «от пуза».
Зона лагеря обозначалась чисто символически – ни вышек, ни охраны еще не было; выход на работу регистрировался комендантом лагеря, бригадиры просто расписывались о числе выведенных в тайгу в вахтенном журнале. О подъеме, обеде, разводе и других событиях дня извещал ударами железяки о подвешенный на лиственнице кусок рельса дневальный, уже упомянутый Борис Борисович Ибрагимбеков.
Тайгу валили по старинке, пилами и топорами, но она была чахлой и редкой – выполнить план было очень тяжело. Летом спасения не было от комаров, валили тайгу, задыхаясь в накомарниках, зимой пятидесятиградусные морозы, а на ногах – обувь из старых автомобильных покрышек (о валенках в те годы можно было только мечтать). Жженов из всего «лесорубного процесса» (повал, разделка, штабелевка) предпочитал штабелевку – меньше болела поясница. Его постоянным напарником на лесоповале был мой дед.
«С советским разведчиком Сережей Чаплиным мы были сокамерниками в ленинградских “Крестах”, товарищами по этапу на Колыму, напарниками на таежных делянках Дукчанского леспромхоза, где два года кряду выводили двуручной пилой один и тот же мотив: “тебе – себе – начальнику”»[318].
Они шоферили на грузовых ГАЗах и ЗИСах; впрочем, засидеться за баранкой зэкам и до войны не давали – слишком большая честь. «Начальство за разного рода провинности, действительные и мнимые, часто снимало с машины и наказывало, отправляя либо на лесоповал, либо грузить лес или дрова»[319].
И 22 июня 1941 года Георгий Жженов встретил за рулем грузовика. На оперпосту 47-го километра машину остановили. Поняв, что шофер – заключенный, стрелок приказал выйти из кабины, отвел в сторону, позвонил куда-то и потребовал прислать вольнонаемного водителя, сославшись на приказ из Магадана. «На мой недоуменный вопрос, в чем дело, что случилось, он ответил: “Война”»[320].
До этого дня у Жженова, у моего деда и многих других, возможно, еще теплилась надежда: их приговоры – «результат преступной деятельности всякой сволочи», в конце концов в Москве со «сволочью» разберутся, восстановят справедливость.
В день начала войны надеждам пришел конец. Стало ясно: государству в ближайшие годы будет не до них…
На горнообогатительной фабрике «Вакханка». Лагерное дело № 5677
Георгий Жженов ошибся (и немудрено – мемуары создавались через полвека), написав, что они с дедом были напарниками на делянках Дукчанского леспромхоза в течение двух лет.
Пребывание Сергея Чаплина на командировке 47-го километра продлилось год, до сентября 1940 года; после этого их пути на Колыме на время расходятся.
Деда перевозят по Тенькинской трассе значительно глубже в тайгу, в Омчагскую долину, которую также называли «долиной смерти» и «долиной маршалов» (из-за того, что тамошние рудники носили имена советских маршалов Буденного, Ворошилова, Тимошенко). Он работает лесорубом, чернорабочим на 4-м километре горнообогатительной фабрики «Вакханка». Фабрика входила в состав лагеря Бутугычаг, на котором до и во время войны добывали касситерит, главный рудный минерал для получения олова, а после войны начали добывать уран. Рудник находился в 320 километрах от Магадана, между поселками Усть-Омчуг и Нелькоба. О том, что там был резко повышенный радиационный фон, заключенные, конечно, не знали, но слава о Бутугычаге на Колыме шла самая мрачная, смертность на нем была огромной. Впоследствии «Вакханка» была женским лагпунктом, но в 1940 – 1941 годах, когда там работал Сергей Чаплин, лагерь строился и женщин там еще не было.
В июне 1941 года оперуполномоченный РО НКВД, сержант государственной безопасности Пинаев[321] нашел: что «Чаплин Сергей Павлович, рост выше среднего, цвет волос темно-русый, глаза серые, нос прямой, на спине две родинки», отбывая меру уголовного наказания в Севвостоклаг НКВД, работая в ОЛП «Вакханка» Теньлага, «систематически среди заключенных в лагере занимается распространением контрреволюционной клеветы на руководителей партии и Советского правительства, распространяет различные вымыслы по отношению проводимых мероприятий Советским правительством и партией» [сохраняю стиль оригинала, отклоняющийся от норм русского языка. – М.Р.]. Другими обвиняемыми по делу № 5677 проходят старые большевики, заключенные с высшим образованием: Карл Янович Берзин и Константин Сергеевич Журавлев, а также уроженец польского города Лодзь Давид Тратлевич Зисман.
Через два дня после начала войны, 24 июня 1941 года, Пинаев произвел обыск в лагерном бараке, но никаких вещественных доказательств по делу не нашел. Так что рассчитывать ему приходилось – как, впрочем, и во всех подобных делах, и не только на Колыме – исключительно на показания завербованных им доносчиков, «стукачей», как из заключенных, так и из вольнонаемных. У Пинаева эта сеть оказалась достаточно (даже слишком) густой.
Обвиняемые встречаются в свинарнике на конбазе, где работает Берзин, на дровоскладе электростанции, месте работы Журавлева, в лагерных бараках.
Особенно много всего доносчики «накопали» на Берзина и Журавлева.
Заключенный Кадраилов донес, что Берзин, с которым он работал на конбазе, сказал, что «ленинской большевистской партии больше не существует, что страной управляет один человек, Сталин. В настоящее время у нас в стране имеет место не что иное, как бонапартизм [Кадраилов и Пинаев пишут «бонопартизм». – М.Р.]». В других разговорах он жалуется на то, что «нас, старых коммунистов, пересажали совершенно безвинно в тюрьмы и сослали на Колыму на каторгу», что та же судьба постигла работников Коминтерна «и вследствие этого рабочее движение на Западе продано фашистской Германии». Журавлев, Берзин и Чаплин обсуждают ход «второй империалистической войны» и предсказывают, что весной 1941 года «в орбиту второй империалистической войны под давлением Гитлера будет неминуемо втянут Советский Союз» [они ошиблись всего на месяц. – М.Р.].
Кадраилов доносит на Журавлева, что тот в разговоре с Берзиным и Чаплиным признавался в симпатиях к Троцкому: «Я как ранее придерживался программы Троцкого, за что, надо сказать, несу наказание, так и по сей день в ней глубоко убежден. Он заранее предсказывал, что Советский Союз офашизуется, так оно и получается в настоящее время»[322].
Еще больше масла в огонь подливает другой информатор, Клишин. Он доносит, что зимой Чаплин на вопрос Журавлева о здоровье стал жаловаться: работать в лесу тяжело, он очень устает. В ответ Журавлев якобы дал совет: «Нужно беречь себя, постараться устроиться на легкую работу. На кого мы работать будем, на наше правительство, что ли? Им не то что руководить страной – свиней пасти и то нельзя доверить. Этот пират Сталин загнал в лагеря миллионы, не только нас. Да зачем же мы на них работать будем, себя гробить? Надо беречь себя, Чаплин».
Другой информатор, явно более образованный, чем Клишин с Кадраиловым, Цитовский донес, что 7 декабря по пути на работу Чаплин заявил: «Да, в фашистской Германии революционеров держат в тюрьмах и на каторге, и у нас то же самое. Ленин в свое время говорил, что социализм – это беспрерывное улучшение уровня жизни рабочего класса, а у нас наоборот получается».
Но главное, что вменяют моему деду все три «стукача», – песня, которую он поет в свинарнике на конбазе у Берзина 30 декабря 1940 года, а в бараке лесорубов в феврале и марте 1941 года.
Цитовский на допросе 18 июня 1941 года поставил Пинаева в известность о таком его антисоветском деянии: «3-4 февраля 1941 года вечером в бараке лесорубов после работы Чаплин, лежа в постели, под видом частушек распевал стихотворение контрреволюционного характера. Из коего мне запомнилась в то время одна выдержка: “Ничто не вечно под луной. Не век страдать в тюрьме народам! Он сдохнет, мудрый и родной, и все мы выйдем на свободу”.
20 – 22 марта 1941 года там же, в бараке лесорубов, Чаплин вновь распевал стихотворение упаднического характера, отражающее тяжелый труд заключенных, на страдания которых никто не обращает внимания. Из него мне, доносит Цитовский, запомнилась выдержка: «Я умру, замученный, отбывая срок, и, рогожей скрученный, заметет сугроб. Только ворон северный в тишине ночной над могилой свежею пролетит порой. Пролетит, прокаркает, сядет на снегу и начнет оплакивать не мою ль судьбу? А в Москве-столице, городе моем, злой кавказский коршун собирал добычу целый день. И порой вечерней, сидя за столом в Кремле, вычеркивает из списка на земле живых людей».
Чаплин сказал Пинаеву на допросе, что автор этих строк не он, а заключенный, с которым он работал на командировке 47-го километра и который умер зимой 1939 года.
Что касается «ничто не вечно под луной», перед нами любительское подражание последней строфе пушкинского стихотворения «Во глубине сибирских руд».
Имя Сталина не упоминается, но о ком идет речь, конечно, понятно. Поражает инстинктивная память жертвы о действиях палача: ведь тогда никто не мог знать о том, что Сталин, «злой кавказский коршун», штудировал и подписывал в Кремле сотни расстрельных списков[323].
Проблема лагерных дел, которые сочинялись дирижером-оперуполномоченным совместно с целым оркестром завербованных им «стукачей», заключалась в том, что иногда доносы, сведение счетов, разрастаясь, начинали жить своей жизнью, выходили из-под контроля дирижера. (Тем более в начале войны, когда перед оперативниками НКВД замаячила перспектива отправки на фронт.)
Обвинение Берзину, Журавлеву и Чаплину было предъявлено по статье 58-10 УК РСФСР – клевета на советский строй.
Но Кадраилова «заносит»; он явно выходит за пределы вменяемой статьи, когда 28 мая 1941 года докладывает Пинаеву, что присутствовал при том, как Журавлев передал Берзину газету «Советская Колыма»[324], после чего между ними имел место разговор такого содержания. На вопрос Берзина о настроении Журавлев якобы «с большой злобой на лице и твердыми словами в присутствии меня, Берзина и кого-то еще из заключенных заявил: “Да, настроение у меня неважное. Перспектив [малограмотный Кадраилов говорит «приспектив», так и в протоколе. – М.Р.] нет. Надо метить. Неужели этот отец наш родной (имея в виду Сталина и выразившись при этом нецензурно) все будет жить и неужели никто не найдется с ним покончить?” Заключенный Берзин согласился с высказанным мнением Журавлева и как бы в подтверждение последнего заявил: “Да, надо метить, Костя”… Берзин неоднократно говорил мне о том, что, когда он освободится, постарается за все перенесенное им в лагере стократно отомстить советской власти».
Но это уже не просто клевета и не статья 58-10, а расстрельная статья 58-8 (террор) в чистом виде!
Взгляды Журавлева, Берзина, Чаплина могут сколько угодно не нравиться Кадраилову, Клишину, Цитовскому, казаться какими угодно антисоветскими, но рассуждают все трое вполне здраво, проницательно, логично. Впечатления сумасшедших точно не производят. Между тем, сидя в свинарнике на конбазе горнообогатительной фабрики «Вакханка», возжелать прямо «метить» [то есть убивать. – М.Р.] «отца народов» могли разве что психически безнадежно больные люди.
Тут бы сержанту ГБ Пинаеву обуздать зарвавшегося сексота, вычеркнув из протокола эту часть показаний (тем более что еще на одну «десятку» они, дирижер и его оркестр, всем четырем обвиняемым и так уже накопали), но этого почему-то не произошло.
Возможно, сыграли свою роль трагические первые недели Великой Отечественной войны.
Лагерное начальство вместе с обвинительным заключением направляет в Магадан характеристику на заключенного Чаплина Сергея Павловича, л/д 275540, осужден ОСО НКВД СССР по статье АСА и вредительство к 8 годам ИТЛ.
«За время нахождения в ОЛП “Вакханка”, работая на дровозаготовках, средняя производительность труда за 1 полугодие 1941 г. до 110 %, поощрений не имел, административному взысканию подвергался за халатное отношение к работе и несоблюдение режима в лагере объявлен выговор (приказ № 99 от 25.05.1941). В культурно-воспитательной работе лагеря участия не принимал и не желал».
Обвинение всем четырем лагерникам местные тенькинские особисты предъявили, как и хотели, по статье 58-10, пункт 1 и в таком виде отослали его на утверждение в Магадан.
Судьбу моего деда и его подельников, Берзина и Журавлева, решил большой магаданский чин, начальник УНКВД и УМВД «Дальстроя» Павел Игнатьевич Окунев. 22 сентября 1939 года он из лейтенантов, перепрыгнув через два звания, стал майором госбезопасности[325]. Прочитав обвинительное заключение, Окунев направил в Усть-Омчуг грозный разнос: расследование проведено «исключительно недоброкачественно, с грубыми нарушениями норм УПК». Во-первых, в допросе Берзина дословно зафиксированы его контрреволюционные высказывания; во-вторых, некоторые места исправлены, подчищены, а подписей допрашиваемых нет. Но главное следует потом: «В процессе следствия установлено, что обвиняемые Берзин, Журавлев, Чаплин высказывали среди заключенных террористические намерения в отношении руководителей Партии и Правительства, но обвинение по ст. 58-8 почему-то предъявлено не было, а в обвинительном заключении указаны их террористические намерения»[326]. Окунев приказал передопросить Берзина, устранить формальные нарушения и, главное, предъявить обвинение Берзину, Журавлеву и Чаплину по расстрельной статье, пообещав в случае невыполнения применить к виновным строгие меры наказания.
Обвинительное заключение было исправлено и передано в суд.
Четверо заключенных и четверо вольнонаемных отказались свидетельствовать против обвиняемых, и на суд их не пригласили. Лагерные «стукачи» повторили свои показания.
20 августа 1941 года в поселке Усть-Омчуг трибунал войск Дальневосточного округа постановил «подвергнуть Берзина, Журавлева и Чаплина высшей мере наказания – расстрелу». В конце привычная фраза: «Приговор окончательный и обжалованию не подлежит».
Константин Сергеевич Журавлев и Карл Янович Берзин были расстреляны 21 сентября 1941 года, а Сергей Павлович Чаплин, если верить официальной версии, почему-то почти на полгода позже, 14 февраля 1942 года. Зисману добавили десятилетний срок по статье 58-10: он, уроженец Польши, восхвалял жизнь за границей и клеветал на советскую прессу, самую правдивую в мире.
«Поворот судьбы»
После начала войны Георгий Жженов в состоянии крайнего физического истощения опять оказался в магаданской транзитке. Там он, как герой рассказа Шаламова «Тифозный карантин» Андреев, пытался немного отлежаться, отдохнуть, прийти в себя после лесоповала. Но пересылка стремительно разгружалась, заключенных, хоть сколько-нибудь способных к тяжелому физическому труду, машины увозили от мягкого климата побережья «на промерзшие рудники и прииски – на золото, на касситерит, на гибель», читаем в рассказе Жженова «Поворот судьбы». В лагере заседала медкомиссия, отбиравшая очередную сотню зэков для работы в тайге. Так как действительно здоровых на пересылке после предыдущих отсевов практически не оставалось, члены комиссии стали объявлять вчерашних больных сначала выздоравливающими, а потом здоровыми. Их спешно сажали в машины, ждавшие за вахтой.
«Из зоны за погрузкой наблюдали человек пятьдесят “счастливчиков” – отсеянных комиссией доходяг, откровенно больных и убогих. Они сидели на земле под охраной стрелка и с тревогой ждали, когда, наконец, этап уйдет и можно будет разойтись по баракам»[327].
Это значило: опасность миновала и до следующего приезда медицинской комиссии отправка в тайгу им не грозит.
И тут бытовик Усман Хайдаров, уже погруженный в кузов, схватился за живот, срочно попросился на «оправку» и «сопровождаемый стрелком, резво затрусил в уборную». Через минуту стрелок поднял крик, начальство бросилось к уборной: «В выгребной яме, по уши в дерьме, барахтался Усман Хайдаров, решивший таким оригинальным образом избежать гибельного этапа на прииски…»[328]
Начальник конвоя категорически отказался принять на борт «этого говнюка» и потребовал замены. За дело взялся начальник УРЧ (учетно-распределительной части). Брезгливо осмотрев отсев, он подошел к Георгию: «“По какой причине комиссован?” – “Цинга. Вот… зубы шатаются… – я задрал штанину, – язвы на ногах”. – “Фамилия, год рождения, статья, срок?” – “Жженов Георгий Степанович, 1915 год, ОСО, литер Ш, пять лет”, – ответил я, предчувствуя недоброе.
Он повернулся к нарядчику:
– Ступай за его формуляром… быстро! – и снова ко мне: – Следуй за мной, шпион! Поедешь в санаторий… цингу лечить. Остальным разойтись по баракам!..
Так я оказался на этапе на Оротуканские прииски, откуда далеко не всем было суждено вернуться живыми»[329].
Ехать по трассе на этот раз пришлось долго, больше четырехсот километров.
На прииске Верхний
Поселок Оротукан находится на 406-м километре Колымской трассы. От него дорога ведет к прииску 17-й (название, скорее всего, указывало на то, что до него от Оротукана 17 километров), а от 17-го до прииска Верхний, куда попал Жженов, автомобильной дороги не было, нужно было идти вверх десять километров пешком вдоль русла высохшего ручья. В общем, лагпункт еще тот – хуже не придумаешь!
На Верхнем, как и на соседних рудниках Бутугычага, добывали касситерит. Олово было необходимо военной промышленности, о его добыче приисковое начальство ежедневно отчитывалось перед Магаданом. Привезенных зэков сразу же по прибытии, не дав выспаться и оглядеться, выгоняли на работу в забои.
А тут еще начальство, вместо того чтобы, пользуясь коротким колымским летом, обустроить бараки, подготовить их к зиме, занималось подвозом колючей проволоки, строительством вышек и домов для охраны. Над сложенными из лиственницы воротами вахты спешно повесили известный гулаговский транспарант: «Труд в СССР есть дело чести, славы, доблести и геройства!».
Неожиданно жара сменилась ливнем, «библейскими потоками», которые лились на головы зэков шесть дней подряд. Работа в забоях, и так тяжелая, стала просто невыносимой. Зэки почувствовали это на себе уже в первый день.
«Ноги с налипшей на них глиной делались стопудовыми, скользили и разъезжались… Груженые тачки заваливались с трапов в грязь, глина липла к лопатам, не вываливалась из тачек… Нечеловеческие усилия требовались, чтобы удержать опрокинутую груженую тачку и не дать ей свалиться в бункер вместе с породой…
Но накормить в этот день людей не удалось: залило дождем обеденные котлы, чадили и не разгорались плиты, внутри наспех сооруженной кухни шел дождь.
Здоровьем заключенных расплачивалось начальство за собственное легкомыслие.
Потекли и крыши бараков, намокли постели. Дневальные круглые сутки шуровали печи. В не просыхавших за ночь “шмотках” – матрацах и подушках – в одежде, развешенной на просушку вокруг раскаленных докрасна бочек из-под солидола, превращенных в печи, завелись белые помойные черви…»[330]
Протест
В один из холодных, дождливых дней начала осени 1941 года произошло событие, запомнившееся Жженову на всю жизнь. Более чем через полвека он описал его в рассказе «Убийство».
Зэки, политические и блатные, работали «на урок». «Уркаганы» терпеть не могут работать от звонка до звонка; соглашаются только «на урок», чтобы, выполнив условленную норму, свалить в лагерь или «кантоваться» в забое до конца смены. «Работали “на урок” в одних рубахах, а то и вовсе голые по пояс, мокрые… Спешили выполнить и поскорее сняться в лагерь»[331].
Начался перекур, люди побросали инструмент и мигом укрылись от дождя, кто под куском натянутого брезента, а кто и прямо на месте, под опрокинутой тачкой.
Один заключенный, вор-карманник по кличке Тихарь[332], во время перекура продолжал работать, бегал с тачкой. На вопрос бригадира, почему он не отдыхает как все, Тихарь ответил «Побегаю, однако, маленько… У меня свой план! Я его недовыполнил еще»[333].
А потом, когда другие приступили к работе, Тихарь, решив, видимо, что внутренний свой план он выполнил, сел перекурить в одиночестве. К нему пристал охранник, стал требовать, чтобы он работал вместе со всеми. Карманник, не обращая внимания на эти приставания, продолжал курить до тех пор, пока охранник с криком «Встать! Марш в забой! Стрелять буду!» не передернул затвор винтовки.
«И тут Тихаря прорвало. Он психанул. У блатных бывают моменты, когда обида, оскорбленность, отчаяние рвутся наружу и выражаются в диком исступлении. Они делаются помешанными, доходят до припадка…
– Стреляй, гад, фашиста кусок, стреляй, падло, сучий потрох, позорник несчастный, дерьмо собачье, ну?! – Тихарь разорвал на себе рубаху. – Ну что, сука позорная, боишься?.. Стреляй, сволочь! – и он пошел грудью на охранника: – Стреляй, тварь трусливая, Гитлера кусок.
Охранник взвизгнул, вскинул винтовку, приложился и почти в упор выстрелил.
Отброшенный выстрелом, Тихарь нелепо задергался всем телом, упал и забился, словно в эпилептическом припадке… Засучил ногами, как заводная игрушка. Конвульсии продолжались долго. В конце концов он затих, оскалившись в сторону убийцы…
Появилось начальство: начальник лагеря, младший лейтенант, ухарского вида коробейник с казацким чубом из-под фуражки, и оперуполномоченный по прозвищу Ворон. В лагерях Оротукана его знали все.
– Ну, что тут у вас? – уполномоченный легко спрыгнул в забой, обошел вокруг труп, внимательно осмотрелся. – Что произошло? За что ты его гробанул? – обратился он к охраннику.
Тот судорожно хватал ртом воздух, давился, не в силах произнести ни слова от страха.
– Чего давишься? – Ворон улыбнулся. – Никогда не убивал, что ли? В первый раз? Ну, чего молчишь?
Охранник закивал головой.
– Привыкай! Не к теще в гости приехал.
– Он, что… бежать, что ли, собрался? – подсказал стрелку начальник лагеря.
– Он полез на меня… Хотел выскочить из забоя! – обрел наконец дар речи охранник.
– Ладно. Все ясно – продолжай службу! Комендант, оформляй акт на беглеца, – уполномоченный двинулся прочь из забоя.
И тут произошло то, чего я больше всего боялся с тех пор, как мы очутились на Верхнем. Сережа Чаплин не выдержал. Сорвался… Остановить его было уже невозможно – он жег корабли!
Резко оттолкнув меня, как бы давая понять, чтобы я не смел вмешиваться, он вышел вперед.
– Прекратите издеваться! – громко и властно сказал он. – Прекратите беззакония! Мы требуем человеческого обращения!
Опешив от неожиданности, Ворон остановился, соображая, уж не ослышался ли он, обернулся и, как бы носом учуя свою добычу, поманил Сергея к себе:
– Ну-ка, ну-ка, подойдите ближе… так что вы требуете, повторите…
– Я требую, чтобы вы прекратили издевательства, прекратили произвол! – Сергей был спокоен. – Только что на глазах у всех конвоир застрелил человека – убил ни за что! Убил зверски и бессмысленно! Вот он, убийца! Мы все – свидетели этого преступления. Этого негодяя следует арестовать и судить, дабы неповадно было другим! Вместо этого вы оправдываете его, поощряете безнаказанностью на дальнейший произвол… В лагере вовсю свирепствует дизентерия. Люди измучены. Вы что, не видите этого? Не видите, в чем мы работаем? У нас черви завелись в одежде, смотрите! – Сергей сунул Ворону под нос свою шапку. Вывернул ее наизнанку: – Смотрите, любуйтесь! Где трактора с продовольствием?! Где обмундирование, где продукты? Утонули на полдороге, в ключе. Вы прозевали время. Занимались не тем, чем надо. Колючую проволоку завозили вместо муки! Зима еще только начинается, а людей уже нечем кормить!.. Подумайте об этом. Людей постреливать – дело нехитрое, отвечать за них научитесь!
– Хватит. В карцер его! – от удара уполномоченного Сергей упал в грязь.
Поднявшись, выплюнул изо рта кровь, сказал:
– Вот-вот… Только этому вы и научились. Фашисты.
Жить ему оставалось считанные дни»[334].
Жженов и мой дед расстались на командировке 47-го километра в сентябре 1940 года и встретились вновь уже на Верхнем под Оротуканом почти через год. Автор «Убийства» ничего не знает о деле, заведенном на Сергея Чаплина на горнообогатительной фабрике «Вакханка», и о расстрельном приговоре, вынесенном Дальневосточным трибуналом в поселке Усть-Омчуг 20 августа 1941 года.
Но мне, знающему об этом деле, неясно самое главное: как мог человек, приговоренный к расстрелу, оказаться на другом касситеритовом руднике?
Возможное объяснение: приговор был пересмотрен, заменен добавленной к основному сроку «десяткой».
В таком случае зэков с добавленным сроком на старое место работы действительно никогда не возвращали – из опасения, что они могут отомстить уполномоченному и его «стукачам».
Знай Георгий Жженов о том, что его другу пришлось испытать за тот год, что они не видели друг друга, он наверняка лучше понял бы мотивы поступка Сергея Чаплина на Верхнем. «Другая жизнь мне не нужна!» – писал он Берии из «Крестов» в 1939 году. А два года его жизни на Колыме, особенно год на «Вакханке», и теперь ближайшая перспектива – превращение в доходягу и смерть от голода на Верхнем, что это, как не та самая «другая жизнь» в наихудшем варианте, какой только себе можно представить?
Уверен: мой дед не сорвался, не поступил опрометчиво, не «жег корабли» в состоянии аффекта – он вполне сознательно («он был спокоен») совершал самоубийство: не хотел больше «другой жизни», был ею сыт по горло, решил уйти достойно, пока еще есть силы.
Пока они оставались у Варлама Шаламова, пока он не «дошел», став легкой мишенью для самоутверждения тех, кто посильней, он тоже замышлял уйти из жизни, оказав сопротивление, не дав себя унизить[335].
На следующее утро Ворон, сидя верхом на лошади и размахивая нагайкой, на глазах всего лагеря угнал Сергея Чаплина с Верхнего на 17-й. Больше его никто не видел.
Свидетельство Жженова – последнее, что достоверно известно об отце моей матери. Об остальном можно строить гипотезы, догадываться, гадать.
«Саночки». Парадокс Ворона
После описанного в рассказе «Убийство» эпизода положение на Верхнем продолжало ухудшаться, беды сыпались на рудник одна за другой.
Средние сентябрьские температуры в районе Оротукана – 3 – 4 градуса тепла, снежный покров ложится в середине, реже в начале октября. Зима 1941 – 1942 годов была, как известно, очень холодной.
После шестидневного непрерывного дождя «ударили настоящие морозы с температурой минус 20 – 25 градусов!»[336]
Влажное, дымящееся от пара тряпье, отогретое на печке в бараке, на морозе тут же становилось колом, инструмент намертво врастал в землю, его приходилось из нее вырывать.
Трактора и сани с грузом продовольствия и теплых вещей, посланные на спасение Верхнего с 17-го, попали в мощную пургу, застряли в ущелье в завалах твердого, как камень, снега, превратились «до весны в часть колымского пейзажа»[337]. Попытка сбросить продовольствие с самолета также не удалась; из-за плохой видимости или ошибки летчика большая часть груза приземлилась за территорией прииска.
«Транспортная связь с внешним миром прекратилась»[338].
Даже охранники и «вольняшки» затянули от недоедания пояса, а что уж говорить о зэках!
«Невероятно исхудавшие или, наоборот, распухшие от цинги, пораженные фурункулезом люди жалкими кучками лепились к стенам лагерной кухни, заглядывали в щели и лихорадочными, воспаленными глазами сумасшедших следили за приготовлением пищи…
Каждое утро на нарах оставались несколько умерших (“давших дуба”) заключенных. Их… прикапывали до весны в снег. Кайлить, “выгрызать” могилы в вечной мерзлоте не было сил…
Доски и жерди с освободившихся нар тут же шли в печь. Карабкаться за сухостоем на склоны сопок по уши в снегу посильно здоровому человеку, а их в лагере оставались единицы»[339].
Обезумевшие от голода люди бросались на бочки с солидолом, судорожно запихивали его себе в рот.
Обитателями Верхнего все больше овладевала апатия, безразличие ко всему; смерть уже не пугала, казалась скорее желанной. «В эту зиму смерть стала привычным, не вызывающим никаких сострадательных эмоций явлением»[340].
Из семисот зэков зиму пережила половина.
Все эти мотивы – голод, цинга, полная потеря сил, покорность смерти, ее лишенная какого-либо символизма банальность – есть в «Колымских рассказах»; но, честно говоря, в такой убийственной концентрации, как на Верхнем зимой 1941 – 1942 годов в описании Георгия Жженова, они даже у Шаламова встречаются редко. Не помню, к примеру, чтобы у него где-то доходило до жадного поедания солидола!
Первые признаки цинги, как мы знаем, появились у Жженова еще в ленинградских «Крестах»; на 47-м у него еще были силы валить лес, но там и питание было несравненно лучше; в магаданской «транзитке» у него уже шатались зубы, были язвы на ногах. Но по-настоящему «дошел» заключенный по прозвищу Артист на Верхнем ужасной, первой военной зимой. К февралю – марту 1942 года, середине бесконечной колымской зимы, он откровенно «фитилил», из-за спины ему вслед от зэков покрепче – «придурков», конечно, – доносилось: «Ну, этот – местный» (то есть не жилец, кандидат в «дубаки», в «жмурики», как именовались лагерные покойники на блатном жаргоне). Он стоял в бане у бойлера, «следить за которым была моя последняя обязанность на этом свете»[341]. Да и сам он уже не сопротивлялся: как замерзающему человеку, чье тело покидает боль, ему все чаще становилось неожиданно легко – лишь бы оставили в покое, не трогали, не досаждали.
Неожиданно Жженов узнал от начальника лагеря, что на его имя на 17-й пришли из Ленинграда две посылки, но принести их ему оттуда никто не сможет (неудивительно: в лагере сплошь доходяги) – эти десять километров Артисту придется пройти самому. Сообщение о посылках «занозой вошло в заторможенное цингой сознание», вывело из состояния апатии, фаталистической готовности умереть. Пропал сон, все мысли были об одном: как преодолеть проклятые километры до 17-го?
Он готовился, собирался с силами, тронулся на свой страх и риск, но пройти против ветра в сорокаградусный мороз смог за два часа чуть больше одного километра и… развернулся назад. Понял – весь путь ему не осилить.
Через три дня после неудачного похода на 17-й в баню пришли начальник лагеря и Ворон, «высокий, худощавый офицер (лейтенант МГБ) с внимательным взглядом темных недоброжелательных глаз». Кличка Ворон прилипла к нему не столько из-за внешнего сходства со зловещей птицей, «сколько за ту недобрую молву, мрачным шлейфом ходившую за ним по жизни, где бы они оба ни появлялись – птица и человек…
И исчезал он так же внезапно, как и появлялся. Случалось, вместе с его исчезновением и в лагере становилось на несколько человек меньше…
В его обязанности входило все про всех знать! Искать криминал, находить виновных…
Оперуполномоченный имел среди заключенных своих информаторов и сексотов. Они снабжали его сведениями о своих же товарищах. Информация угодная, данная не по долгу совести, а из страха. Кто станет сотрудничать с уполномоченным по доброй воле? Только слабые или подлые люди, заклейменные презрительной кличкой “стукач”»[342].
Как работает эта система, мы уже знаем – на примере лагерного дела против четырех узников «Вакханки».
Итак, начальник лагеря «с лихим казацким чубом» и Ворон вошли в баню. Начальник – понятное дело, сытый голодного не разумеет, особенно если голодный – враг народа, – начал приставать к Жженову как бы со смешливыми (а на самом деле запредельно жестокими) вопросами о том, почему тот не выдюжил, не одолел эти десять километров, не дошел до 17-го.
«Я, можно сказать, поставил на тебя… побился об заклад с лейтенантом [то есть с Вороном. – М.Р.], а ты взял и обманул меня… Нехорошо!.. Я говорю ему, – он показал рукой на уполномоченного, – пойми, говорю, у него нет другого выхода, он должен дойти!.. Иначе подохнет здесь, это он понимает!.. Это я про тебя… А он мне свое: “Один не дойдет, замерзнет”»[343].
Пока начальство парилось и, травя анекдоты, весело плескалось в бочках с горячей водой, Жженов из их разговора понял: завтра утром Ворон пойдет через 17-й в Оротукан. Он решил использовать свой последний шанс – попросить уполномоченного взять его с собой.
Автор «Саночек» пишет, что до сих пор не может объяснить, как ему в голову пришло обратиться к Ворону со «своей фантастической просьбой», но из рассказа начальника лагеря следует, что уполномоченный вошел в его ситуацию, проявил сочувствие, сказав: «Один не дойдет, замерзнет».
Наконец, уловив момент, когда, накинув полушубки, они докуривали цигарки, он, набравшись смелости, «подошел к уполномоченному и, глядя ему прямо в глаза [как Сергей Чаплин перед тем, как заявить протест в забое. – М.Р.], тихо сказал:
– Гражданин начальник! Возьмите меня с собой до 17-го»[344].
И тот пообещал.
Ворон появился перед рассветом. Он был в форме, «фетровые, с отворотами светлые бурки… распахнутый, пригнанный по фигуре черный полушубок ладно сидел на нем – видно, лагерный портной очень старался угодить»[345]. За ним бежали детские саночки, на которых лежал маленький чемоданчик. «Зачем ему санки? – подумал я. – Такой чемоданчик проще нести в руках»[346].
В этот момент Жженов совершил главное открытие своей жизни, открытие, которое имеет прямое отношение к колымской судьбе моего деда.
«Я думал: “В каких закоулках человеческой души или сознания добро научилось уживаться со злом, милосердие с жестокостью? Все соединилось воедино, все перемешалось… Иначе какими доводами разума можно сопоставить вчерашний поступок уполномоченного с его же поступком полгода назад?..”
…Тогда, во время вечерней поверки, из строя заключенных неожиданно вышел высокий человек и, глядя в упор на уполномоченного, заявил протест против бесчеловечного обращения с людьми, против издевательства, жестокости и произвола, творимого лагерным начальством…
Такое, конечно, не прощалось. Ночь он просидел в карцере. А потом уполномоченный, сидя верхом на лошади и исступленно размахивая нагайкой, на глазах у всего лагеря угонял непокорного в следственный изолятор 17-го…
С советским разведчиком Сережей Чаплиным мы были сокамерниками в ленинградских “Крестах”, товарищами по этапу на Колыму, напарниками на таежных делянках Дукчанского леспромхоза…
Когда началась война и нас этапировали в тайгу на прииски [на самом деле Жженов попал на Верхний из магаданской «транзитки», а Сергей Чаплин – с горнообогатительной фабрики «Вакханка», после суда в поселке Усть-Омчуг. – М.Р.], мы поклялись друг другу:…тот из нас, кто уцелеет во всем этом бардаке и кто вернется домой, должен разыскать родственников другого и рассказать им все, что знает.
Суждено было остаться в живых мне одному – Сережа погиб. Я выполнил данное ему слово. Разыскал его родственников. Беседовал с его дочерью. Родители назвали ее Сталина (какая жуткая ирония судьбы!!!).
Ушел из жизни редкого мужества гордый человек, достойный за свое благородство и смелость самых высоких почестей и наград! Его “отблагодарили” по-своему и сполна!
Преступно осудили по статье 58.1 за измену Родине [к счастью, у деда была более «мягкая» (по сталинским, конечно, масштабам) литерная статья: АСА и вредительство, восемь лет. – М.Р.]. Позорно предали, предали в своих же органах НКВД, офицером которых он был и которым служил, как настоящий коммунист, беззаветно и рыцарски честно всю свою недолгую жизнь!
Время, великое мудрое время в конце концов все расставило по своим местам!.. Время восстановило светлую память о нем. После смерти Сталина его реабилитировали полностью. О Сергее Чаплине написана книга [имеется в виду книга Арифа Сафарова «Фальшивые червонцы». – М.Р.]. Честная книга. Увы – посмертно!
Сегодня мне предстояло повторить последний путь моего друга. Повторить в той же компании, только на этот раз человек, спускавшийся сейчас по тропинке со своими саночками, был пеший… и без нагайки.
“Только бы не передумал”, – шептал я про себя, как заклинание, глядя на подходившего ко мне уполномоченного»[347].
Эти отрывки из «Саночек» относятся к разным временным отрезкам и нуждаются в комментарии, которым займусь позднее, чтобы не отвлекать от захватывающего похода Жженова и Ворона на 17-й.
Уполномоченный колебался, идти или нет; ругал себя на чем свет стоит за то, что дал слабину, связался с этим «контриком», Артистом, и его посылками. Роль благодетеля была для него совершенно непривычной, требовалось время, чтобы как-то с ней освоиться. Ворон поставил доходяге очень жесткое условие: упадешь – уйду, и крутись, как знаешь; иди за мной или оставайся подыхать на дороге!
С погодой на этот раз повезло: стоял безветренный солнечный день. И Жженов пошел, медленно ступая пудовыми, неподчиняющимися ногами, галлюцинируя о содержимом ждущих его на 17-м посылок; в воображении он наполнял их своими любимыми продуктами – салом, хлебом с тмином, сахаром, воблой… даже мороженым. Несколько раз падал в снег, кое-как поднимался на ноги. Ворон разделил с ним завтрак, дал закурить, после чего у доходяги все поплыло перед глазами. Двигать ногами становилось все труднее; оперуполномоченный ругался, грозился уйти, бросить его умирать на полпути, и Артист, спотыкаясь на каждом шагу, полз за ним, понимая: это последний шанс. Из десяти километров Жженов своим ходом одолел шесть, после этого дорога на «17-й» шла под откос. Ворон посадил «контрика» на санки (теперь Артист окончательно понял, зачем он их с собой прихватил), крепко привязал, впрягся в них, как бурлак, и, проклиная все на свете, матерясь, протащил его оставшиеся четыре километра. Свое состояние в «Саночках» автор передает так: «…во мне пели ангелы! С каждой минутой торжественней и громче!..»[348]
На 17-м Жженов совершил поступок, который справедливо причислял к самым главным в своей жизни. Он попросил Ворона сказать охране, чтобы та выдавала ему содержимое посылок по частям (три раза в день в течение трех дней). Так он избежал заворота кишок, заслужив похвалу от уполномоченного («Теперь верю – жить будешь!»[349]). Посылки шли больше двух лет, внутри все слиплось, превратилось в сплошную массу; охранники ножом отрезали от них куски и бросали Жженову. Он ходил вокруг вахты, выл, как зверь, боялся, что посылки украдут, ругался, требовал срочно дать ему поесть, но охранники неукоснительно выполняли указание Ворона. За три дня двадцатисемилетний – вот какие чудеса творит молодость! – заключенный Жженов подкормился, окреп, пришел в себя и возвратился на Верхний своим ходом. Спасшие жизнь саночки оперуполномоченный ему подарил – «за характер»…
Дальше его судьба на Колыме сложилась более благоприятно, ужасы Верхнего больше не повторялись. Какое-то время добывал золото на прииске имени Буденного в Долине маршалов, а к весне 1943 года уже работал диспетчером в гараже для экскаваторов под руководством старшего лейтенанта Николая Ивановича Лебедева, большого тенькинского начальника (Жженов шутливо называл его «Моя судьба» – и не ошибся). Впал у него в немилость; сидел с блатными в холодном карцере; попал на штрафной прииск «Глухарь», но там его на общие работы почти не посылали – начальник понимал: Лебедев может в любое время сменить гнев на милость, спохватиться, востребовать своего «лучшего работягу». Два раза дрался с блатными, те дважды «распинали» его, ломали руку. Против своей воли становился бригадиром доходяг, однажды даже хлеборезом – должность, о которой большинство колымских зэков могли только мечтать, Жженов же ее ненавидел (не хотел и не умел «химичить») и оставил при первой возможности.
Еще из владивостокской «транзитки» написал в КВЧ [культурно-воспитательную часть. – М.Р.] «Дальстроя», что он – артист, киноактер и хотел бы найти применение своим талантам. Но «врагу народа», посаженному по подозрению в шпионаже, роскошь крепостного творчества, естественно, не полагалась – только общие подконвойные работы!
Но в конце концов глас вопиющего в пустыне был (не без помощи того же Лебедева, конечно) услышан, и когда на штрафной прииск «Глухарь» приехала культбригада, ее руководитель Константин Александрович Никаноров пригласил Жженова на прослушивание. Старый актер был потрясен тем, как талантливо зэк в лохмотьях, похожий на героя пьесы Погодина «Аристократы» Ваську Пепла, вора и бандита, прочитал изящный рассказ Антона Чехова «Шуточка»; он поклялся, что вытащит этого зэка с «Глухаря».
И действительно, вскоре Жженова перевели в культбригаду в Усть-Омчуг, центр Тенькинского района Магаданской области. Он, естественно, понятия не имел, что здесь, в этом поселке, два года назад выездная бригада Военного трибунала «Дальстроя» приговорила к смерти трех заключенных, в том числе его друга, Сергея Чаплина.
Пятилетний срок в 1943 году истек, но шла война, и он был одним росчерком пера продлен до ее окончания.
«Крепостные артисты» «Дальстроя», даже тенькинские, провинциальные, существовали, по колымским стандартам, роскошно. «В бараке, где жили артисты, чисто, просторно, нары одноэтажные… Бачок с кипяченой водой и кружкой, половички на полу, простыни… И это после “Глухаря” – невероятно! Такое чувство, будто попал в рай!»[350] В культбригаде Георгий скоро стал своим: играл в скетчах, читал стихи «и даже танцевал “Яблочко”» в номере ритмического танца[351]. Ездил на стареньком автобусе с концертами по бесчисленным лагерям Тенькинского района. Обрел и радости любовные, для обычного зэка уж совсем экзотические.
«Во всей Теньке был один-единственный пункт, куда наш ветеран [автобус. – М.Р.] бежал, забыв свои старческие болезни, весело, не нуждаясь в подталкивании на перевале, это – горнообогатительная фабрика “Вакханка” – единственный женский лагерь на Теньке! Эпицентр всех наших желаний!
“Вакханка” – место, где мужчины и женщины, увядшие и поглупевшие друг без друга за годы вынужденного воздержания, с удовольствием возвращались к радости бытия, лихорадочно, презрев все условности. Вспоминали забытый ими ритуал продолжения рода человеческого.
С сотворения мира живая природа ежегодно празднует время любви, время брачных игр.
С нашим приездом наступала пора брачных игр и на “Вакханке”. И никакие угрозы начальства, никакие охранительные меры оказывались в эти дни не в силах оторвать мужчину от женщины… Помешать торжествующей вакханалии любви!»[352]
Ни в одном из известных мне текстов о Колыме о подобных вакханалиях чувственности, честно говоря, не упоминалось. О любви между женщиной и мужчиной, о сексуальных извращениях блатных – да, но не о сексе со случайными партнерами.
И, конечно, вспоминая подзабытые брачные игры, Жженов меньше всего мог предположить, что за три года до него – когда еще никаких женщин там не было – на «Вакханке» лесорубом и чернорабочим работал его друг Сергей Чаплин. И что здесь другой оперуполномоченный, не Ворон, завел на него дело о контрреволюционной агитации и, хуже того, о террористических намерениях в отношении самого товарища Сталина.
В Усть-Омчуге Жженов проработал недолго. Конец войны застал его в магаданском театре.
Летом 1945 года начальник УСВИТЛа (Управления Северо-Восточных исправительно-трудовых лагерей) полковник Драбкин подписал указ об «условно-досрочном освобождении» артиста (хотя к тому времени тот пересидел свой срок на два года).
После семи лет тюрьмы и лагеря ему выдали паспорт, но этот документ был, как шутили тогда, «с повышенной температурой» – с запрещением жить в 39 крупных городах СССР (как раз тех, где были театры и киностудии). «Да и последующие десять лет, – признается Жженов в рассказе «Клейменый», – мало отличались от семи предыдущих: два года мытарств с “подозрительным” паспортом в поисках разрешенного места жительства… повторный арест в 1947 году… и опять – тюрьма, теперь уже в городе Горьком… Снова камера, снова дурацкие допросы, через полгода – очередной этап на восток, через всю Россию, в Красноярский край… Правда, на этот раз на допросах не били, а вместо нового срока все то же Особое совещание наградило бессрочной ссылкой на Таймыр, в Норильск…»[353]
Окончательно актера Норильского драматического театра Георгия Степановича Жженова освободили из «бессрочной» ссылки только к лету 1954 года. А еще через год он был реабилитирован и «начал свою профессиональную жизнь актера сызнова, как говорится, с нуля»[354].
Заключение
Оттепель
После смерти Сталина начинается, а в 1955 – 1956 годах набирает обороты процесс, получивший название реабилитации. Сотни тысяч выживших в ГУЛАГе возвращались домой. Их дела и дела их погибших товарищей пересматривались и, как правило, закрывались со стандартной формулировкой: «за отсутствием состава преступления». Создавалось впечатление, что следователи сталинских времен действительно расследовали совершенные подсудимыми преступления, но ошиблись или были введены в заблуждение, неверно оценили данные показания (стандартное обвинение того времени держалось исключительно на них) и не сумели доказать их совершение в соответствии с тогдашними законами. На самом деле все было по-другому: следователи в соответствии со спущенным сверху планом не расследовали совершенные преступления, а в строго определенной пропорции создавали, производили преступления двух типов: 1-й категории (расстрел) и 2-й категории (лагерь). А так как перевыполнение плана всячески поощрялось – повышениями в звании, орденами, медалями, подарками, премиями, – многие старались выбиться в «стахановцы», добывая показания любыми средствами, включая пытки. Эти «успехи» не служили гарантией выживания: победившие в 1937 году «ежовцы» расправились с теми, кто выдвинулся при Генрихе Ягоде, и через полтора года многие из них сами пали жертвой чекистов новой, «бериевской» волны. С единицами переживших Сталина «отличников» Большого террора (Борисом Родосом, Львом Шварцманом) расправились позже, после секретного доклада Хрущева о культе личности. Кого-то уволили из «органов», и те затаились, ушли в подполье. По «фактам дискредитации» в 1956 году были лишен генеральского звания и многочисленных орденов и когда-то всемогущий глава колымского НКВД Павел Игнатьевич Окунев. (Видимо, выживших жертв его произвола было так много и у них оказались такие влиятельные покровители, что его пришлось отправить в отставку.)
В сталинские годы о репрессированных родственниках в семьях говорили разве что между собой, в укромных местах, где не подслушивали, желательно шепотом. Публично старались от них если не откреститься, то упоминать об их существовании как можно реже, а если все-таки приходилось, отписывались, говоря: «местонахождение неизвестно». Так писала в графе «отец» моя мама, а сын Николая Чаплина, Борис, как-то удачно отшутился на вопрос об отце, когда поступал в Горный институт: сделал вид, что не понял, о ком идет речь. Мою бабушку еще в 1939 году вынудили отказаться от репрессированного мужа; жены Николая и Виктора Чаплиных подверглись репрессиям, детей взяли на воспитание родственники (в нашей семье посадили не всех; у других бывало и хуже). На робкие запросы о Сергее Чаплине магаданское начальство отвечало стандартной отпиской: умер в лагере от воспаления легких в августе 1941 года. В отношении Николая повторялось столь же известное клише: он якобы получил «десять лет без права переписки».
После доклада Хрущева наступили другие времена, началась оттепель. Николая Чаплина уже в 1955 году не просто реабилитировали, как Жженова, Шаламова, моего деда, сотни тысяч других. Нет, КПСС – наследница ВКП(б) – в его случае пошла дальше: как в русских сказках, полила расстрелянного богатыря «живой водой» – решением ЦКК он был посмертно восстановлен в рядах партии! Что должен был означать этот жест в религиозном плане (ведь большевистская вера не допускает существования загробного мира, из которого можно кого-то возвращать), расшифровать не так-то просто. Тем более что человек, из-за которого он погиб – Лазарь Каганович, – продолжал до 1957 года заседать в Политбюро. Но если отвлечься от прозы жизни, символически акт обливания «живой водой» прочитывался без труда: теми, кого еще вчера под угрозой наказания заставляли стыдиться, теперь – причем той же инстанцией – было приказано гордиться. Гордиться следовало, однако, в меру, не слишком тщательно вороша старое, а тем более не требуя привлечения к ответственности виновника его гибели, не говоря уж о возмещении материального ущерба. Таковы были границы, в которых сводились счеты с прошлым, пределы советского гуманизма времен оттепели. Редкие попытки их нарушения родственниками репрессированных наказывались.
Короче, «реабилитаторы» следовали известной поговорке: чтобы «и волки были сыты, и овцы целы». На самом деле у волков были еще слишком крепкие зубы, а овец при «отце народов» так выдрессировали, приучили к такой безусловной покорности, что те в массе своей пришли в восторг, когда с них наконец сняли ярлык «врагов народа».
После реабилитации Николая в середине 1955 года оправдание Сергея Чаплина стало чистой формальностью: все обвинение в 1937 – 1939 годах строилось на том, что в «право-левацкий блок» его завербовал старший брат. Были допрошены шесть свидетелей, подтвердивших, что во время следствия Сергея Чаплина жестоко пытали, вспомнили и о том, что 3 апреля 1939 года он от данных после избиения показаний отказался.
Моя бабушка энергично добивалась пересмотра дела, писала во все судебные и партийные инстанции. Теперь, в отличие от 1938 – 1939 годов, она уже не сдерживала своих эмоций: «Я с 1926 года являлась женой, соратником и другом кристально чистого перед партией и Советским государством человека – Сергея Павловича Чаплина…
Я была у Гоглидзе, в секретариате Берии – они мне бубнили одну свою вражескую шпаргалку: “Ваш муж враг. Откажитесь от него письменно, и вы будете жить спокойно”…
Братьев мужа знала только с лучшей стороны, они всегда были образцом твердого служения марксизму-ленинизму, партии»[355].
Что ж, на дворе стоял 1955 год: Берия и Гоглидзе сами были расстреляны как «враги народа».
28 декабря 1955 года ленинградское дело моего деда было «прекращено производством за отсутствием состава преступления». Состав же преступления тех, кто фабриковал и, главное, заказывал миллионы подобных дел, не готовы были расследовать ни в СССР тогда, ни в России теперь. Огромная литература на эту тему существует, но юридического осмысления и решения на этот счет нет.
На тех же основаниях в 1956 году было закрыто колымское дело деда.
Из пяти «стукачей» допросить в процессе реабилитации удалось только одного. Один из доносчиков после освобождения погиб в Магадане. Другой умер на общих работах в 1942 году. Третий, Кадраилов, чудовищно – даже по масштабам того подлого времени – много «наклепавший» на Журавлева и Берзина, умер в лагере 16 января 1943 года. Следы еще одного информатора после освобождения затерялись. Пятый доносчик, Цитовский, в 1955 году еще сидел (по второму разу) в Дубровлаге. На допросе он подтвердил: Чаплин читал в присутствии других заключенных стихи контрреволюционного содержания, говорил, что сидит ни за что. Показания о «террористических намерениях» дал под угрозой: Пинаев грозил карцером или переводом в такое место, откуда не возвращаются.
Судя по судьбе этих пятерых людей, представления о привилегированном положении «стукачей» в лагерях преувеличены. Не случайно Варлам Шаламов, не отрицая очевидной гнусности этого ремесла, и их отнес к племени колымских мучеников.
Дело закрыли, но загадка осталась. Как же все-таки приговоренный к расстрелу зэк мог оказаться на Верхнем?
Тем более что 11 августа 1956 года Военный трибунал Дальневосточного военного округа в Хабаровске выдал родственникам справку следующего содержания:
«По имеющимся в Военном трибунале Дальневосточного военного округа официальным данным, гр. ЧАПЛИН Сергей Павлович, 1905 года рождения, уроженец села Мигновичи, бывшей Смоленской губернии, находясь по приговору Военного трибунала от 20 августа 1941 года в местах заключения, умер [курсив мой. – М.Р.] 14 февраля 1942 года.
Справка выдана Военным трибуналом Дальневосточного военного округа на предмет предъявления в органах ЗАГС-а.
Зам. Председателя Военного трибунала
Полковник юстиции Ярин».
Из справки следует, что приговор не был расстрельным или, что тоже вероятно, первоначально расстрельный приговор был заменен добавкой к сроку. Тогда становится понятно, каким образом дед после «Вакханки» и суда в поселке Усть-Омчуг оказался на Верхнем.
Но почему нигде, ни в одном юридическом документе ни словом не упоминается эпизод с протестом на Верхнем, в двух разных вариантах (в «Убийстве» и в «Саночках») рассказанный Жженовым?
И это тоже объясняется, если допустить, что расстрельный приговор Чаплину потом смягчили, заменили, скажем, «десяткой».
Представьте себе: Ворон пригоняет на 17-й и дальше, в Оротукан, заключенного, которому вы только что смягчили приговор, а он такое учудил; невиданное дело: осмелился открыто протестовать! Как вы поступили бы в таком случае, тем более в начале большой войны с неизвестным на тот момент исходом? Доложив начальству об эксцессе, рискуешь не просто карьерой, а головой. «Это кто там смягчил приговор смутьяну? Подать сюда Тяпкина-Ляпкина!»
Вот и решили изъять эпизод с протестом из обращения, сделав вид, что 14 февраля 1942 года был приведен в исполнение приговор, вынесенный 20 августа 1941 года.
Я на сто процентов исключаю, что Жженов эту сцену придумал – слишком большое значение имела она в его жизни, слишком много раз он рассказывал ее во всех подробностях. Да и как мемуарист Георгий Степанович заслуживает полного доверия. Мемуары он действительно написал поздно, кое-какие мелочи за полвека подзабылись, но в целом передал все, до деталей, верно (его описание лагерного быта можно перепроверить по «Колымским рассказам» Шаламова, «Крутому маршруту» Евгении Гинзбург, «Пути» Адамовой-Слиозберг, мемуарам генерала Горбатова – все сходится один к одному).
Да и вероятность того, что доходяга с касситеритового рудника образца 1941 – 1942 годов по прозвищу Артист выживет, прославится, да еще на старости лет напишет мемуары, была ничтожно мала.
Не будь дела на «Вакханке» (о котором Жженов не знал), Ворон тут же донес бы о нем рапортом начальству, с его согласия раструбил бы на всю Колыму о пресечении бунта (тогда и из мухи-то лепили слона, а тут, подумать только, самый настоящий прямой бунт). Моему деду тогда был бы вынесен расстрельный приговор за протест, а не за песни на «Вакханке»! Но кто-то – скорее всего вышестоящий – помешал это сделать. По чьему-то приказу Ворон вынужден был положить столь выигрышный для карьеры эпизод под сукно.
А формулировка «умер в местах заключения» по тем временам вполне могла в слегка закамуфлированном виде скрывать в себе и расстрел.
В сохранившемся в семейном архиве письме от 18 октября 1989 года моя мама писала, что «сведения об отце, сообщаемые в этой справке, лживы от начала до конца». Она прочитала в журнале «Огонек» за 1988 год рассказ Георгия Жженова «Саночки», в котором сообщается о протесте и столкновении с Вороном, и решила, что расстреляли ее отца за это. Да, фактически это так и было, но ни в одном юридическом документе этот эпизод, повторяю, не упоминается, никакого приговора ему за это вынесено не было. Юридически (насколько можно вообще говорить о праве в те темные времена – другой вопрос) Сергей Чаплин был расстрелян по приговору, вынесенному 20 августа 1941 года ему, Журавлеву и Берзину по статье 58-8 УК РСФСР (террор). Колымское дело своего отца мама получила и переписала позже, в 1992 году, поэтому думала, что на Верхний Чаплин попал вместе с Жженовым.
Действительно в июне – начале июля 1941 года бабушка получила последнее известие от мужа, состоявшее всего из четырех слов: «Не жди. Выжить невозможно». Но послано оно было не с Верхнего, а из следственной тюрьмы НКВД в поселке Усть-Омчуг, где Чаплин вместе с подельниками после ареста на «Вакханке» находился под следствием.
Впрочем, это не единственное темное пятно во всей истории. Сохранилось письмо моей бабушки Александру Чаплину, написанное еще до реабилитации, где есть такой пассаж: «Александр Павлович, я получила справку о смерти Сергея, но удивлена датой. Ведь они все время называли 26 августа 1941 года. Что это значит? Стоит ли снова куда-то писать?»
Откуда взялась такая дата смерти, непонятно, никакими документами она не подтверждается.
Такое впечатление, что судебные органы сталинского времени считали себя вправе распоряжаться не только жизнью, но и смертью репрессированных ими людей по своему усмотрению; то есть в СССР было буквально реализовано то, что Францу Кафке подсказывала его фантазия.
Официальная дата смерти моего деда, 14 февраля 1942 года, никакого доверия не внушает. Почти наверняка он, как предполагает Жженов, был расстрелян в Оротукане через несколько недель или даже дней после протеста на Верхнем. До 1942 года он точно не дожил. Причиной расстрела был его протест, а не приговор, вынесенный ему раньше.
Самый младший из братьев, Виктор Чаплин, отбывал наказание в Соловецкой тюрьме, потом в заполярном Норильлаге. После окончания срока был отправлен в «вечную ссылку» в Дудинку. К счастью, «ничто не вечно под луной», даже правление «отца народов». Виктор возвратился из ГУЛАГа с новой семьей – женой (она помогла ему выжить) и сыном. В 1955 году был реабилитирован вместе с братом Николаем. Написал диссертацию с осуждением культа личности, занимал кафедру философии в Смоленске в 60 – 70-е годы.
В те годы в десятках тысяч советских семей родственники – отцы, матери, жены – просили вернувшихся, а если нужно было, то требовали от них забыть все, что они там видели и испытали, и жить дальше. Вспоминать о лагерном опыте в СССР было не только психологически трудно (с этой проблемой столкнулись и выжившие узники нацистских концлагерей), но и социально опасно. Репрессировавшая их политическая система оказалась куда более жизнеспособной, чем фашистская и нацистская. Бывшим узникам еще предстояло при ней жить, а большинству и умереть.
Когда в Москву с Колымы приехал Варлам Тихонович Шаламов, между ним и женой состоялся такой диалог:
«– Дай мне слово, что оставишь Леночку [дочь Шаламова. – М.Р.] в покое, не будешь разрушать ее идеалы. Она воспитана мною лично, подчеркиваю это слово, в казенных традициях, никакого другого пути я для нее не хочу.
– Еще бы – такое обязательство я дам и выполню его. Что еще?
– Но не это самое главное, самое главное – тебе надо забыть все.
– Что все?
– …Ну, вернуться к нормальной жизни…»[356]
К «нормальной жизни» Шаламов не вернулся. Наоборот, стал писать без малейшей надежды на публикацию, еще до знаменитой речи Хрущева на ХХ съезде, заклеймившей культ личности Сталина, когда забальзамированное тело генералиссимуса еще покоилось рядом с ленинским в Мавзолее.
Шаламов проговаривал свои рассказы во время письма, выкрикивал их – фразу за фразой, плача, стараясь убедить себя в том, что невозможное, знаки которого он заносит на бумагу, уже случилось с ним однажды. Желание смягчить было, конечно, огромным, и можно представить себе, сколько отчаянной решимости скрывается за аскетизмом этой прозы, сколько просившихся на бумагу «красивостей» приходилось убирать автору. Не прошедшим через экстремальный опыт людям трудно поверить, что о нем нельзя просто поведать, что прошедшим через него людям приходится каждый раз с болью вырывать его из себя.
Для дочери Шаламов так и остался чужим, с женой он через три года расстался.
КГБ всю жизнь не спускал с него глаз. В «контору» постоянно доносили о его политических и литературных взглядах; даже в доме для престарелых «наседка» следила за каждым, кто посещал наполовину ослепшего и оглохшего писателя.
Из всех «Колымских рассказов» при жизни была опубликована только зарисовка о стланике – части колымского пейзажа: ее политического подтекста цензоры не смогли расшифровать (хотя и там он был).
Повторить одинокий подвиг Шаламова никому из колымских узников было не дано.
В 1955 году в Ленинград возвратился после шестнадцати лет ГУЛАГа сорокалетний Георгий Степанович Жженов. Актер был наконец реабилитирован, взят в труппу Ленинградского областного драматического театра и Театра им. Ленсовета.
Он сдержал слово, данное своему другу Сергею Чаплину на Верхнем в начале осени 1941 года, – рассказать семье, как тот погиб. Жженов связался с моей бабушкой Верой Михайловной Чаплиной, мамой и ее младшим братом, названным в честь деда Сергеем, предложил встретиться, рассказать обо всем, что знал. Бабушка встречаться не смогла, сославшись на то, что ее нервы и так расстроены и слушать о гибели мужа ей будет невыносимо тяжело. Мой дядя тоже – не помню под каким предлогом – от встречи уклонился. Судя по письмам тех лет, бабушка после всего пережитого в годы Большого террора и во время войны не выходила из состояния глубокой меланхолии. В письме Александру Чаплину, семейному патриарху, «большевистскому заводиле», она жалуется: «Моя совесть чиста перед Сережей, кто же больше моего хлопотал в те страшные годы. Единственное, о чем я сейчас жалею, что нужно было следовать за ним и погибнуть вместе [непонятно, правда, что в таком случае стало бы с ее малолетними детьми. – М.Р.]. Все равно жизнь разбита вдребезги. Но это уже история, даже архив». В другом письме к нему звучит тот же мотив: «Ведь так я одинока, так связана с прошлым, что оторвет только могила».
С Жженовым стала встречаться моя мама Сталина Сергеевна Чаплина. Отец, которого она в последний раз видела, когда ей было десять лет, остался в ее памяти воплощением мужественности, и, надо сказать, рассказ актера ее в этом плане не разочаровал. В те годы он наверняка помнил «прожитое» в куда больших подробностях, чем через тридцать лет, когда взялся за написание мемуаров.
От мамы я (гомеопатическими дозами, как бы между делом, из случайно оброненных фраз) узнавал о дружбе Жженова с дедом, начавшейся в «Крестях», о «дезинтерийном» этапе на «Джурме», о жизни на лагпункте «47-й километр», где оба рубили тайгу, шоферили, подкармливались у местных ссыльных женщин, веря, что выживут и возвратятся домой. И, конечно, уже тогда в центре повествования стоял эпизод с протестом Чаплина на Верхнем – с его последующим угоном на верную гибель оперуполномоченным по кличке Ворон. Поведал Георгий Степанович и о том, как через полгода тот же Ворон спас его, Жженова, от голодной смерти, «загадав загадку на всю жизнь»: что же такое есть человек?
Мое детство прошло на колесах, в постоянных разъездах между Ленинградом и Владивостоком (а позже Петропавловском-Камчатским) с короткими заездами в Москву (там жила семья отца). Отец, патологоанатом и судебно-медицинский эксперт, служил на Тихоокеанском флоте; мы преодолевали десять тысяч километров туда и обратно почти каждый год. Пионерский лагерь под Владивостоком, на станции Океанская, находился в непосредственной близости от места бывшей «транзитки», откуда в 1939 году тех, кого еще носили ноги, отправляли на Колыму. Вопреки всякой логике мама считала, что если бы бабушка последовала за мужем сюда, а потом на Колыму, его можно было спасти. Мы хором пели «Орленок, орленок, взлети выше солнца» и «Взвейтесь кострами, синие ночи», а дома слушали об ужасах, которые выпали здесь на долю предков.
Георгий Жженов, начавший сниматься в кино еще в тридцатые годы, вновь был тарифицирован как киноактер во второй половине пятидесятых. Всенародную любовь он снискал в эпизодической роли деревенского автоинспектора в фильме Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля», сыгранной в тандеме со старым другом (они вместе играли в Норильском театре, где Жженов отбывал ссылку), исполнителем главной роли Иннокентием Смоктуновским. Фильм был о том, что если воруешь машины у тех, кто сам нечист на руку, а деньги от их продажи переводишь бедным детдомовцам, то это не преступление, а проявление социальной справедливости. Узнав о благородных мотивах вора, следователь предлагает ему свою помощь, гаишник (Жженов) его отпускает; ну и симпатии миллионов зрителей, конечно же, на стороне советского Робин Гуда. Фраза Жженова «Ты убегаешь, я догоняю» полюбилась миллионам, вошла в советский фольклор.
Настоящий прорыв Жженова к массовому зрителю состоялся в 1967 году, когда на студии Горького ему предложили сняться в роли резидента. В то время он играл в шпионской трилогии о «Сатурне» («Путь “Сатурна”», «Конец “Сатурна”», «Бой после победы») роль генерала КГБ, и режиссер фильмов Виллен Азаров отговаривал, советовал отказаться от этого предложения: «Ну что ты, Жора! Ты здесь играешь начальника КГБ, генерала. А там – шпиона».
Жженов не послушался и никогда потом об этом не жалел.
В тетралогии о резиденте, которая дебютировала в 1968 году фильмом «Ошибка резидента» и завершилась аж через восемнадцать лет (!), в 1986 году, лентой «Конец операции “Резидент”», Жженов сыграл роль разведчика Михаила Тульева – русского графа, эмигранта, потомственного врага советской власти (отец его тоже был вражеским разведчиком), засланного в СССР под псевдонимом «Надежда» с целью активизации старых и вербовки новых агентов, создания шпионской сети. Он подается как ас, опытный разведчик, но, как и полагается по законам советского детективного жанра, с ходу совершает непростительную для профессионала ошибку: не может распознать в подосланном к нему под видом уголовника Бекасе советского контрразведчика Синицына, попадает к нему под колпак. Граф устраивается шофером в автопарк, заводит роман с диспетчером Марией. Первая же разведывательная операция «Надежды» проходит под контролем КГБ, а в конце первой серии его и вовсе тайно, по-домашнему – да он и не сопротивляется – арестовывают на рыбалке. К тому времени Тульев успел подружиться с Синицыным, полюбить историческую родину. Оказывается, его старик-отец не умер в Париже, а был убит «фашистом»; а мечтой всей жизни старого графа было вернуться на родину и там «половить окуньков» на рассвете. О том, чем его не устраивали иностранные окуньки, зрителю остается только догадываться. Перевербовав Тульева-младшего, КГБ вновь отправляет его на Запад, уже в качестве своего резидента. Советская спецслужба в противоположность ее западным контрагентам подается в тетралогии как суперпрофессиональная инстанция, которой ее врагам, в мелочах вроде тоже не бездарным (иначе смотреть было бы неинтересно), по большому счету нечего противопоставить.
В одном критики были едины: фильмы держались на игре Жженова. Она спасала, делала убедительными даже наиболее неправдоподобные, провальные в сюжетном плане эпизоды. Зритель верил именно этому конкретному актеру и с нетерпением ждал продолжения.
КГБ не остался в долгу.
В одном из интервью исполнитель роли Тульева признался: «В результате того, что я сыграл этого резидента, я получил все почетные грамоты наших силовых органов – КГБ, МВД, все ордена, которые существуют. Все у меня есть – благодарственные письма, грамоты, чего только нет! Я ведь перелицовывался в картине, начинал служить советской власти»[357].
О биографической подоплеке убедительности Жженова в образе Тульева тогда никто не догадывался; даже Михаил Ножкин, игравший Бекаса-Синицына (вторую главную роль), о гулаговском прошлом партнера не знал. На самом деле актера после ареста «Надежды» завозили в те самые «Кресты», из переполненной камеры которых он в 1939 году писал: «Я много видел и перенес, несмотря ни на что, был, есть и буду честным советским человеком»[358]. Тогда Жженов засыпал прокуратуру протестами, яростно отвергая обвинение в шпионаже, – и вот он играет настоящего шпиона, обретшего родину, перешедшего на сторону врага, ставшего «честным советским человеком», каким он сам всегда хотел быть. Актер как бы через героя вторично проживал собственную судьбу, на подсознательном уровне передавал зрителю информацию о себе самом, кричал: «Я не шпион!»
В эссе «Судьба и роли» журналист Георгий Добыш высказал любопытное предположение: «Своеобразным памятником еще одному военному, его другу, советскому разведчику Сергею Чаплину, стала роль Тульева в фильмах “Ошибка резидента”, “Судьба резидента”, “Возвращение резидента”, “Конец операции ‘Резидент’”, как, впрочем, и роль генерала-контрразведчика Тимерина в лентах “Путь в ‘Сатурн’”, “Конец ‘Сатурна’”, “Бой после победы”…
Думается, свою лепту в восстановление справедливости, памяти об этом необыкновенном человеке [Сергее Чаплине. – М.Р.] стремился внести и актер Жженов работой над образом своего героя»[359].
Неизвестно, что мой дед рассказывал Жженову, который был моложе его на десять лет, о своей работе в разведке и в контрразведке, но судя по тому, что актер через полвека после гибели все еще называл Сергея Чаплина своим «лучшим другом», влияние на него он оказал немалое.
Жженов принципиально отказывался играть отрицательных персонажей, утверждая, что создает образы людей не такими, какие они есть, а такими, какими они должны быть, своей игрой подчеркивает присущее им положительное начало. Другой его любимой идеей было не просто разучивать и исполнять роли, а перевоплощаться, становиться тем, кого играешь. Эти правила ограничивали его актерский репертуар, но они же сделали его культовой фигурой, с которой отождествлялись миллионы. В воображении зрители охотно поднимались до его героев, всех этих генералов, благородных шпионов, летчиков, космонавтов; спуск в прозаическую обыденность куда менее приятен. Режиссер Александр Митта, снимавший актера в фильме «Экипаж» (первый советский фильм-катастрофа) в роли командира самолета, вспоминал: «…Для Георгия Степановича кино было работой – творчеством он свою игру никогда не называл. Он буквально врастал в роль. Дубли с ним можно было не делать – они все равно получались один в один»[360].
Но своей лучшей ролью Георгий Жженов считал не амплуа образцовых советских людей, а образ губернатора Вилли Старка, созданный им в телесериале по роману Роберта Пенна Уоррена «Вся королевская рать». Это предпочтение понять можно: в фильмах на советские сюжеты добро должно было подаваться по возможности беспримесным, дистиллированным, неотъемлемо присущий ему компонент зла по идеологическим причинам искусственно занижался, уходил в подтекст (который, впрочем, актером тоже передавался и зрителем прочитывался). А тут ему довелось изображать американца, жизненное кредо которого стояло близко к его собственному: «Добро можно делать только из зла, потому что его больше просто не из чего делать»[361]. Даже в жизни другого героя сериала, судьи Ирвина, кажущейся безупречной, вытесненная изнанка – из-за него когда-то покончил самоубийством конкурент – вдруг дает о себе знать с такой силой, что тот убивает себя. И Старк хочет сделать добро, построить современную больницу для бедных, но она для него – средство, с помощью которого он рвется в Сенат, сметая все на своем пути.
В отличие от Варлама Шаламова, чьи первые «Колымские рассказы» датируются 1954 годом, Жженов написал мемуары во второй половине 80-х годов, в разгар перестройки, через полвека после описываемых в них событий. Все знавшие актера отмечали его особую сдержанность, осторожность, когда речь заходила о прошлом. До публикации рассказа «Саночки» в журнале «Огонек» многочисленные поклонники еще строили наивные догадки: «Скажите, Георгий Степанович, вы поехали на Колыму и на Таймыр по комсомольской путевке?»
После публикации книги «От “Глухаря” до “Жар-птицы”» армия почитателей его таланта еще больше возлюбила актера, поняв, через что изобразителю положительного советского начала довелось пройти. Возник культ колымского зэка, настоящего «русского мужика», прошедшего через ад, но не озлобившегося, более того, и там остававшегося настоящим советским человеком. При этом предавалось забвению основное правило жженовского актерского мастерства: все эти люди в погонах и без погон сыграны им не такими, какими они были, а такими, какими они должны были быть. Должное принималось за то, что якобы было, потому что миллионы людей хотели видеть себя такими.
Жженов на вопросы о мемуарах отвечал: писал их поздно, полагаясь исключительно на память, за точность в деталях не ручаюсь, но «большей частью они документальные, и я готов 700 раз подписаться, что это правда. И, кстати говоря, я очень благодарен, что очень многие писатели – Астафьев, Гранин, Солоухин – во мне своего брата-писателя признали и хвалили меня как литератора. Мне это было приятно»[362].
Два эпизода с Вороном на Верхнем стали, можно сказать, основой его жизненной философии: актер к ним постоянно возвращался в многочисленных интервью – в доказательство того, насколько человеческая природа сложна, практически непознаваема. Вот типичный пример из беседы с Полиной Капшеев (Израиль) в 1996 году:
«– Георгий Степанович, выйдя из заключения, вы не стали активным борцом против советской власти. А ведь могли бы стать…
– Здесь ведь все дело в индивидуальности. Варлам Шаламов прекрасно написал о лагере… Разница между нашими с Шаламовым книгами не только в мастерстве и профессионализме (я, конечно, дилетант), а и в том, что его, как он сам говорит, питала ненависть, а о себе я этого сказать не могу. Вы читали мой рассказ “Саночки”?
– Да, конечно, в “Огоньке”.
– Уполномоченный, который тащил меня на саночках, – это что такое? А ведь тащил… Тот самый человек, который моего лучшего друга Сережу Чаплина, по сути, уже уводил на расстрел. Человек – существо сложное и противоречивое»[363].
А вот отрывок из интервью на те же темы (Шаламов, Ворон, Сергей Чаплин, саночки, посылка, чудесное спасение), которое актер перед своим 90-летним юбилеем (и за несколько месяцев до смерти) дал корреспонденту «Известий» Артуру Соломонову:
«Известия: Если сравнивать вашу лагерную прозу и то, что пишет Варлам Шаламов, то у него гораздо больше ненависти и отчаяния.
Жженов: Тут дело в разном понимании жизни, разных характерах. Если у Шаламова превалировала ненависть к палачам, то во мне – нет. То ли по молодости, то ли я так психически устроен. В моих рассказах есть и положительная оценка тех людей, которые были палачами там. Человек – сложное существо. Ну, возьмите хоть оперуполномоченного, на совести которого смерть моего друга Сергея Чаплина. А как он поступил со мной? Ведь он, матерясь и ругаясь, вывез меня, обмороженного… Зачем ему это надо было? А потом еще позаботился о том, чтобы я, получив посылку, не умер от заворота кишок, набросившись на еду. Даже джентльмены Джека Лондона не поступали так, как он»[364].
Эпизод с протестом Чаплина на Верхнем, преломившись в сознании слушателей, становился мифом, обрастал совершенно невероятными деталями. Например, зять Хрущева Алексей Аджубей – сосед Жженова по подмосковной даче – в книге воспоминаний пересказывает его с массой искажений: «Жженов рассказывал, что однажды вернувшиеся в “зону” с лесоповала долго стояли в строю перед бараком. Начальник лагеря – он был верхом на коне – “выдерживал” людей на тридцатиградусном морозе. Один из них вышел из строя и заявил протест. Начальник, пришпорив коня, нагайкой погнал смельчака к лесу. Через несколько минут послышался выстрел, а затем появился начальник лагеря. “Эта сволочь еще задумала бежать, – прохрипел он. – Теперь не убежит, скоро его сожрут волки”.
Так расстреляли советского разведчика Чаплина. Он был настолько предан Сталину, что назвал дочь, родившуюся перед арестом, Сталиной…»[365]
Неважно, что тут перепутано буквально все (не лесоповал, а добыча касситерита; не начальник лагеря, а оперуполномоченный; и моя мать родилась не перед арестом, а в 1927 году, в разгар полемики с Троцким, когда Сталин еще не был «отцом народов»; ну и расстрел в лесу как «вишенка на торте»), – такова неизбежная судьба мифов.
Ясно одно: тогда, зимой 1942 года, Ворон, расправившийся до этого с «лучшим другом», не просто спас Артисту жизнь. Двойная спираль переходящего в добро зла стала мировоззренческим кредо Жженова, основой, на которой строилось его позитивное отношение ко всему, в том числе к невыносимому.
После тетралогии о резиденте любовью к исполнителю роли Тульева воспылали не только зрители, но и КГБ. Проявлялась она весьма своеобразно, в соответствии с профессиональными навыками поклонников в погонах, «бойцов невидимого фронта». Так, анонимный доброжелатель прислал ему личные дела следователей, пытавших актера после ареста.
Но никому мстить Жженов не желал.
В начале 2000-х годов о его судьбе был снят трехсерийный фильм «Русский крест». В первой серии актер посещает дом на Васильевском острове, где прошло его детство; в «Крестах» тюремщики принимают актера как дорогого гостя, показывают камеру, где тот когда-то сидел, и ту набитую до отказа, где он провел последнюю ночь перед этапом. В Большом доме на Литейном чекисты ведут его в архив. Почетного посетителя осыпают подарками: передают папки – не только с его делом, но и с делом его отца (о котором он ничего не знал), с делом брата Бориса, отдают конфискованные при аресте документы, дарят толстые тома со списками репрессированных в годы Большого террора людей. Есть в деле и имя человека, который его в 1938 году «заложил»: это известный советский актер, вместе с которым они ехали на съемки фильма «Комсомольск». Большая часть того, что Жженов говорит по ходу фильма, известна из его мемуаров.
Вторая серия показывает народного артиста на Колыме. Его везут по знаменитой Колымской трассе на командировку «47-й километр», где когда-то они с моим дедом работали на лесоповале. Он всматривается в знакомые места, в сопку, на которой они собирали хворост, вроде узнает даже оперпункт, где его машину остановили 22 июня 1941 года.
Разговор заходит о кладбищах: «Какие там кладбища! У вольняшек, может, и были – а зэков кто же хоронил-то? Их кости разбросаны здесь везде».
Вдруг Жженов оживляется, входит в образ, говорит: «У меня тут есть рассказ, смешной!» – и начинает, как будто речь о пустяках, рассказывать на блатной фене… нечто ужасное. Зима 1942 года, прииск Верхний, Артист в бане у Липпкарта (этот банщик, ненавистный немец, несколько раз упоминается в «Саночках»). Работяги после смены в забое приносят в баню на горбу полузамерзшего «дубаря» [ «давшего дуба», умершего зэка. – М.Р.], сбрасывают, как ледышку, с плеча прямо на пол. На просьбу отнести тело в зону отвечают трехэтажным матом и уходят. Два зэка начинают носить ведрами воду [значит, дело происходит после получения посылок, иначе на это не было бы сил. – М.Р.], сажают полутруп в шайки ногами и руками. Вода в шайках превращается в лед, а сам «дубарь», которому в рот заливают чай, начинает чудовищно, «до слоновьих размеров», распухать (понятно, оттаивают замороженные конечности) и… вдруг, открыв глаза, изрекает: «За-ку-рить». «Ишь ты, он закурить захотел! Да мы сами два месяца не курили!» На этом кошмар не кончается: полутруп на глазах банщиков встает на ноги и, что-то бормоча себе под нос, пускается в пляс. Следующим утром Артист обнаруживает «трупик» в парилке завалившимся под полати, в куче говна. «Видно, хотел пойти опорожниться». Вызывают «лепилу» (врача), чтобы констатировать смерть. Потом Жженов с «урчком, воришкой» выносят «жмурика» за зону, ставят в сугроб, обряжают труп в бушлат, шапку, засовывают в рот папиросу. Видя возвращающихся с работы зэков, уркаган орет: «Ванька, Иван, закурить хочешь?» – «Ну в какой же бригаде, – радостно комментирует народный артист, – нет Ивана?» Курево на зоне – валюта, ценность, оно на дороге не валяется. И вот какой-то Иван уже бежит через сугробы закуривать и… видит ряженый труп. «Ой, батюшки!» – в ужасе восклицает он, поняв, что перед ним мертвец…
Номер удался: разыгравшие Ивана зэки (в том числе и будущий исполнитель роли графа Тульева) хохочут.
Да, я помню фразу из «Саночек»: «В ту зиму смерть стала привычным, не вызывающим никаких сострадательных эмоций явлением». Да, трупы выносили за зону и присыпали снегом до весны; сил копать могилы в вечной мерзлоте ни у кого не было.
В рассказе Шаламова «Ночью» два зэка обворовывают, оголяют труп, но чтобы вот так превращать «жмурика» в посмешище, в объект розыгрыша – нет, такого и в «Колымских рассказах» не припомню.
Главное, с каким выражением лица, смехом, прибаутками все это рассказывалось!
Сквозь этот (казалось бы, проходной, случайный) анекдот, рассказанный на «47-м километре» более чем через полвека, после того как они валили там лес с моим дедом, проступает иной, скрытый лик актера Жженова – любимца народа, КГБ, армии, МВД, выразителя положительного начала в советском человеке. Слушаешь такое – и всеми фибрами души чувствуешь: каким же жестким, прямо-таки стальным на самом деле был человек, которого не смогла сломать Колыма, какой ценой оплачена его не вызывающая сомнения гуманность, его право не играть, а быть.
И при публикации литературного наследия Жженов проявил присущую ему осторожность. Полное собрание его рассказов под названием «Прожитое» увидело свет поздно, в 2002 году, тиражом в десять тысяч экземпляров (не таким уж и большим, принимая во внимание культовый статус автора). Там, в рассказе «Клейменый», читаем: «…Фашизм – это гидра с несколькими головами. Отрубив голову германскому фашизму, мир избавился от Гитлера… На шестой части земли, в СССР, выстоял и торжествовал победу над соперником еще более жестокий, более человеконенавистнический фашизм – фашизм сталинский, коммунистический! [курсив мой. – М.Р.]»[366]. Вы не ослышались: да, сталинский фашизм, на взгляд бывшего колымского зэка, был хуже (и, конечно, долговечней) гитлеровского. Мысль, прямо скажем, неожиданная в устах того, кто всю жизнь, насаждая положительное начало, играл суровых, но гуманных советских генералов, чекистов, командиров экипажей.
Жженов не оговорился. Свою оценку он повторяет в интервью «Известиям», данном за несколько месяцев до смерти: «Вы знаете, между нацистским режимом в Германии и нашим большевизмом есть связь. Наверное, произвол и там был, но такого дикого произвола, как в России… Мне даже не верится, что в Германии так было. Может быть, там как-то изощреннее душили, но каким-то иным, европейским, цивилизованным способом, не так, как у нас»[367]. Тому, как душили «у нас», Жженова, опытного зэка, прошедшего пыточный «конвейер» на «Шпалерке», «дезинтерийный» этап, лесоповал, золото и ад на Верхнем, учить было не надо.
Так что ядро жизненной философии актера – познать человека до конца невозможно, добро всегда делается из зла – применимо не только к его героям, но еще больше к нему самому.
В отличие от Жженова, его «лучший друг» Сергей Чаплин был всей своей жизнью, семейными узами связан с Октябрьской революцией, с ее обещанием всеобщего освобождения. Для него арест, допросы, пытки, этап, лагерь мерялись этой мерой, виделись на этом фоне чудовищным кощунством, крахом всей жизни. Таких людей на Колыме было немало. Но времена, когда одна из заключенных могла озаглавить свое письмо генералу Никишову «Губернатору Колымы от заключенного, большевика-ленинца Нушик Захарьян», прошли[368]. Шаламов рассказывает, как зимой 1937 – 1938 годов их, «троцкистов», целыми бригадами угоняли в следственную тюрьму, на Серпантинку, там расстреливали. Берзин, Журавлев, Чаплин, приговоренные к расстрелу в Усть-Омчуге в 1941 году за террористические намерения, – последние из этих могикан. Они не хуже других «постигли законы лагеря», но жить в соответствии с принципом «умри ты сегодня, а я завтра» не позволяла их вера. Жженов понимал: «Не каждый очутившийся во власти ГУЛАГа считал возможным принять жесткие правила игры, предложенные лагерным “катехизисом”…»[369]
Он получил все возможные награды. В Челябинске ему – единственному из советских актеров – при жизни воздвигли памятник («Удовольствия мне это не доставило – до сих пор неловко»). С 90-летием президент Путин поздравил юбиляра в Белой гостиной Кремля. Обещал прочитать подаренную ему книгу «Прожитое». Первый фильм о резиденте Тульеве вышел на экраны, когда Путину исполнилось шестнадцать лет, и он пришел в ленинградский КГБ предложить свои услуги; а когда в прокат выпустили последнюю серию, нынешний президент уже работал по линии КГБ в Дрездене.
После смерти Жженова в Москве, на доме, в котором он жил, появилась мемориальная доска; на его могиле на Новодевичьем кладбище в 2009 году на деньги поклонников актеру поставили памятник; в марте 2015 года торжественно отметили столетие со дня его рождения.
Имя Сталин
Возвратившись из эвакуации в 1946 году, наша семья – ее после ареста деда выселили из более светлой и просторной квартиры – получила квартиру на 3-й линии Васильевского острова, между Средним и Малым проспектами, в доме-колодце (Петербург застраивался ими во второй половине девятнадцатого – начале двадцатого века; их ранние образцы попали в романы Достоевского). На наш первый этаж скупое ленинградское солнце заглядывало разве что на закате, и то на несколько минут, не больше. Во дворе стояли поленницы дров; за каждой квартирой был закреплен подвал, дровами из которого жильцы отапливались зимой. Вход был прямо в кухню, из нее дверь вела в большую комнату, обставленную старой, мрачноватой, разностильной мебелью и служившую гостиной, спальней и кабинетом, где бабушка, учительница литературы, проверяла бесконечные сочинения своих учеников. Здесь же стояло чудо тогдашней техники – телевизор «Авангард» с линзой, немного увеличивавшей его крошечный экран. В другую комнату-пенал из кухни вел узкий коридор. В ней были печь, кровать и рабочий стол, заваленный кастетами, ножами, заточенными гвоздями, самодельными пистолетами, конфискованными моим дядей Сережей, работавшим тогда в уголовном розыске. Была еще крошечная комнатка на возвышении (чтобы в нее попасть, надо было не забыть преодолеть две ступеньки), где мы мыли руки холодной водой. Ванные и горячая вода появились позже, при Хрущеве.
В этой квартире мы встречали 1957 год. Сидели за столом с салатом оливье, сыром, шпротами, колбасой, другими советскими яствами. Провожали год ХХ съезда партии, на котором Хрущев выступил с тайной речью о культе личности, и дядя Сережа, подвыпив, произнес тост, где Сталин упоминался в каком-то непочтительном контексте. Старый друг деда, дядя Степа Антонов, не дослушав, побагровел, встал, обозвал его мальчишкой, у которого еще молоко на губах не обсохло, а он имеет наглость говорить в таком тоне о человеке, благодаря которому мы построили социализм и одержали великую победу!
Повисло неловкое молчание.
Дядя Степа, директор парфюмерной фабрики, сам был жертвой культа личности, недавно возвратился из ГУЛАГа, был реабилитирован и вот теперь, несмотря ни на что, с пылом защищает собственного палача.
Уже тогда стало ясно, что у Сталина кроме миллионов соучастников, сообщников и просто выдвинувшихся при нем, обойденных репрессиями людей есть немало сторонников из числа жертв. И никакие тайные речи новых вождей их убеждений изменить не в силах.
Утро 12 апреля 1961 года, средняя школа на Васильевском острове, в Ленинграде, я – ученик шестого класса.
После урока русского языка, который провела моя бабушка Вера Михайловна Чаплина (по совместительству завуч школы), меня неожиданно вызвали к директору. Думал, нажаловался географ, с которым я поругался на вчерашнем уроке.
Но войдя в кабинет, увидел на директорском столе объемистый темно-синий том с закладкой посередине. При виде меня осанистый седоватый человек, историк – обычно он появлялся в классе, когда надо было кого-то отчитать, – раскрыл книгу на заложенной странице и стал непривычно торжественным тоном говорить, что в Советской энциклопедии (стало понятно, что за том он только что раскрыл) появилась статья о Николае Павловиче Чаплине – дяде моей матери, комсомольском вожде 20-х годов, генеральном секретаре ЦК ВЛКСМ, кандидате в члены ЦК, члене ЦИК и ВЦИК. Пару фраз он, как историк, думаю, добавил от себя, сказав, что Николай Чаплин знал Ленина, Дзержинского, Луначарского, дружил с Кировым и Крупской. Прозвучало и имя Александра Чаплина, старшего брата Николая – также крупного партийного деятеля 20-х годов.
Сталин – понятное дело, на дворе стояли хрущевские времена, только что прошел XXI съезд КПСС с очередной критикой культа личности – упомянут не был, как и то обстоятельство, что в сентябре 1938 года Николай Чаплин был расстрелян как «враг народа».
Потом, привычно пожурив за не лучшие оценки и неважное поведение, директор уже начал было призывать меня быть достойным семьи, внесшей большой вклад в победу Великой Октябрьской социалистической революции, но… так и не договорил.
В кабинете вдруг ожил громкоговоритель: сначала угрожающе заскрипел, а потом из него полился голос, автоматически приводивший в священный трепет любого советского человека. Это был «государственный» голос Юрия Левитана, звучавший очень редко, по особо торжественным случаям, голос-институт, объявивший о начале и конце Великой Отечественной войны. Но ожидание катастрофы на этот раз продлилось не больше нескольких секунд; голос оттаял, стал журчать в непривычной поздравляющей всех, ликующей тональности: ракета-носитель вывела на орбиту космический корабль «Восток» с первым космонавтом Земли Юрием Гагариным на борту.
Директору было уже не до меня, не до статьи в Советской энциклопедии – он бросился собирать всех на линейку, посвященную эпохальному событию. После линейки всех распустили по домам, но нам было не до того.
На улицах царило ликование, незнакомые люди обнимались, плакали, в глубине питерских домов-колодцев накрывали столы, из динамиков лилась трансляция с Красной площади, майор Гагарин из космоса приветствовал «дорогих соотечественников». Везде группы энтузиастов с плакатами: «Юрий – герой!», «Ура Белке, Стрелке и Гагарину!», «Все в космос!», «Мы в космосе! Ура!».
Страна, где на официальных праздниках было принято изображать ликование, на этот раз действительно ликовала, и это казалось чем-то совершенно нереальным, сном, от которого не хотелось пробуждаться.
В моей памяти навсегда переплелись два события, на самом деле слабо связанные между собой, просто совпавшие во времени: возвращение на советский Олимп репрессированной, буквально разгромленной при Сталине семьи Чаплиных и триумфальный полет первого космонавта Юрия Гагарина.
К 1965 году мой отец, военный врач, демобилизовался, наша семья возвратилась в Москву. Я поступил на философский факультет МГУ, занимался историей философии, эстетикой.
Бывал у Марии Павловны Чаплиной, сестры деда, врача-психиатра. Она раскладывала фотографии любимых рано погибших братьев Николая и Сергея, рассказывала, какими они были красивыми, жизнерадостными, музыкальными. Работа траура только начиналась. Попытки говорить с ней об «обратной стороне Луны», о той грани Красного Октября, которая большевиками была вытеснена, грани, за которой пролилось столько крови, было совершено столько несправедливости, испытано горя, ни к чему не приводили, натыкались на упорное молчание, немую обиду. Это не было банальным запирательством: она и другие родственники настолько отождествились с ролью жертв, что говорить о том, какую роль наша семья сыграла в возвышении Сталина, было выше их сил. Стало ясно: если педалировать табуированную тему, мне просто откажут от дома. (Немцы моего поколения сталкивались с подобным обетом молчания при попытках расспросить родственников об их роли и месте в Третьем рейхе; в этом «молчании ягнят» кроется одна из причин студенческих протестов конца шестидесятых годов.)
Не до подобных разговоров им, «видевшим Ленина», было еще по одной причине.
Семья возвращалась на большевистский Олимп.
В годы Большого террора погибли все комсомольские вожди двадцатых годов. Но одно исключение все-таки было: репрессированный Александр Мильчаков отсидел (по рассказам мамы, находясь в заключении, он оставался начальником, руководил каким-то строительством), возвратился после смерти Сталина, был реабилитирован.
Сын Николая Чаплина, Борис, инженер-геолог, в начале 60-х годов женился на дочери близкого друга его отца – Галине Мильчаковой.
Началась партийная карьера, за которой, затаив дыхание, следила семья. Борис стал первым секретарем Черемушкинского райкома Москвы. В 1974 году перешел на дипломатическую работу, был послом СССР во Вьетнаме; при нем заканчивалась война в Индокитае, северные вьетнамцы шли по «тропе Хо Ши Мина», брали Ханой. Потом Борис Чаплин работал генеральным консулом в Шанхае, был заместителем министра иностранных дел. С 1974-го по 1990 год он, как и отец, избирался кандидатом в члены ЦК КПСС. Теперь в Большой советской энциклопедии рядом с рассказом об отце красовалась статья о сыне.
Помню, когда в середине семидесятых сын Виктора Чаплина, кинорежиссер Станислав Чаплин, собрался вместе с женой эмигрировать в Израиль, в семье только и разговоров было – как бы это не отразилось на карьере Бориса, не повредило ей. То же, что по приказу их любимца в начале 1974 года в Черемушках была разгромлена известная «бульдозерная выставка», родных, казалось, не волновало. Ведь и Николай Чаплин принимал в свое время «трудные» решения, призывал молодежь к бдительности, боролся с «уклонами». По его приказу комсомольцы громили «зиновьевскую» оппозицию в Ленинграде, разгоняли демонстрацию сторонников Троцкого 7 ноября 1927 года, в которой участвовал Варлам Шаламов.
Прошлое и настоящее семьи доходило до меня от мамы мелкими, казалось не связанными между собой фрагментами. Они как бы сами собой вырывались из нее в разное время, без особого порядка. То вдруг выяснилось: вдову Николая Чаплина, возвратившуюся из ГУЛАГа, поселили в номенклатурном доме на Фрунзенской набережной, на одном этаже с… Лазарем Кагановичем (в покушении на него обвиняли трех братьев Чаплиных в 1937 году)! Ежедневно видеть такого соседа, конечно, было пыткой, но едва ли это было сделано намеренно: просто член Политбюро Каганович впал в немилость примерно тогда же, когда Николая посмертно «воскресили», восстановив в партии. Розалия Исааковна Липская дружила с вдовой Косарева. За год до смерти она подарила маме брошюру о Николае с надписью: «Милой, дорогой Сталиночке на добрую память о нашей комсомольской юности».
В другой раз мама рассказала, как в день убийства Кирова родители – это было в Ревеле – долго сидели у радио, и она слышала, как бабушка уговаривала деда не возвращаться, а тот ответил: «Вера, а как же братья?!» Возвратившийся из ГУЛАГа Виктор на семейных застольях, выпив, винил себя в гибели братьев, и все его утешали. На следствии его пытали, связывали за спиной руки и подвешивали на дыбе. Помню принадлежавшие деду предметы: стальную вилку, подаренную друзьями на день рождения в 1927 году, виниловые пластинки фирмы «His master’s voice» с записями Джильи, Карузо, которыми он особенно дорожил. Мама так часто цитировала любимое четверостишие деда – «Ничего! гони во все лопатки, / Труден путь, да легок конь. / Дожигай последние остатки / Жизни, брошенной в огонь!», что я в детстве наивно приписывал их авторство деду. Позже проверил: это стих любимого русскими народниками и революционерами поэта Николая Алексеевича Некрасова, написанный в 1854 году. Он как нельзя лучше отражает судьбу героев этой книги, поколения, бросившего жизни в огонь Красного Октября.
10 октября, в день рождения деда, выпивали по рюмке, и мама вспоминала, какой ее отец был красивый, высокий (почти метр девяносто), как хорошо бегал на лыжах, водил машину, пел. Над кроватью висело их с бабушкой фото – молодых, улыбающихся, двадцатилетних.
Имя Сталина отец дал ей в апреле 1927 года, в разгар борьбы с троцкистской оппозицией, несмотря на сопротивление жены («Ты с ума сошел, это же девочка, а не плакат!» – кричала она ему из окна роддома в Севастополе). Мама всю жизнь не знала, что ей со своим именем делать. Понимала, конечно, в честь кого оно дано, несколько раз собиралась поменять, но вспоминала о погибшем отце, начинала колебаться, откладывала решение на потом…
Но дело не только в этом. Мама заведовала приемной одной из московских префектур; через ее кабинет проходили тысячи людей, и за тридцать лет работы никто, насколько мне известно, не удивился, не выразил недовольства ее именем. Оно вызывало скорее почтительный трепет.
Так и умерла Сталиной.
Преследовало это имя и Георгия Степановича Жженова. Однажды тбилисские друзья уговорили его участвовать в концерте памяти умерших грузинских киноактеров. Он стоял на фоне Вечного огня спиной к экрану, на котором крутили фрагменты из фильмов, лицом к залу, и вдруг зал, до этого спокойный, взорвался бешеными аплодисментами, люди буквально неистовствовали. Оказалось: это «покойный артист Геловани изображал генералиссимуса Иосифа Виссарионовича Сталина в фильме Чиаурели “Падение Берлина”»[370].
Жженов схватился за голову: «Выходит, я добровольно участвовал в торжественных поминках по преступнику, загубившему миллионы жизней… в том числе и мою?! Я – жертва – стоял по стойке “смирно” у Вечного огня своему же палачу?!»[371]
А вечером в тбилисском номенклатурном доме снова тосты за товарища Сталина, «вдохновителя наших побед», за его гениальное, мудрое руководство! Опять пришлось пить за собственного палача. В результате Жженов не выдержал, плюнул на условности и рассказал о роли, которую «отец народов» сыграл в его жизни. Наступило напряженное молчание.
После этого его не приглашали в Грузию десять лет.
Так что в плане долгожительства Сталина нельзя сравнивать с другими диктаторами его времени. Разоблачения Хрущева и горбачевская перестройка оказались не в силах сокрушить его культ, а при Путине его всячески подогревают. И дело не в личности. Просто процессы, связанные с этим именем собственным, развязанные им, в России до сих пор не завершены.
Надеюсь, эти размышления об одной семейной истории на фоне истории страны послужат еще одной каплей правды, упавшей на пьедестал диктатора, возможно даже сдвинувшей его на миллионную долю миллиметра.
И не знаю, сколько еще потребуется таких капель, чтобы памятник Сталину, стоящий на пьедестале из закаченного им в нас бессилия и страха, наконец потрескался и рухнул…
Берлин, июнь 2016 – февраль 2017 годаИллюстрации
Николай Чаплин в 20-е годы
У истоков комсомола
В центре справа налево: Надежда Крупская, Анатолий Луначарский, Николай Чаплин – члены пленума ЦК ВЛКСМ. 1925 год
Николай Чаплин в 30-е годы
Мемориальная доска Николаю Павловичу Чаплину – подготовительный материал к дипломной работе, над которой работал в 1971 году Николай Викторович Чаплин (племянник Николая Павловича Чаплина)
Символическое захоронение Николая Чаплина с женой и дочерью на Новом Донском кладбище, колумбарий 14, секция 58
Курьер Губкома комсомола Сережа Чаплин с сестрой Марией. Смоленск, 1919 год
Сергей Чаплин – матрос на линкоре «Марат». 1926 год
Молодожены Сергей и Вера Чаплины. Ленинград, 1926–1927 годы
Сергей Чаплин – курсант школы морских летчиков. Севастополь, 1927 год
Сергей Чаплин в ИНО ОГПУ. Ленинград, конец 20-х годов
Сергей Чаплин. Первая половина 30-х годов
После ареста. 1937 год
Старший и младший братья, Александр и Виктор Чаплины. 70-е годы
Сноски
1
Хобсбаум Э. Эпоха крайностей: Короткий двадцатый век (1914 – 1991). М.: Издательство «Независимая газета», 2004. С. 96.
(обратно)2
Арендт Х. Эйхман в Иерусалиме. М.: Европа, 2008. С. 43.
(обратно)3
История сталинизма: жизнь в терроре. М.: РОССПЭН, 2013. С. 438.
(обратно)4
Там же. С. 438 – 439. Сводил счеты с приговоренными к смерти врагами и нарком Николай Ежов: «Ежов велел Дагину [один из высокопоставленных чекистов, приближенный Ежова. – М.Р.] избить своего предшественника Ягоду перед исполнением приговора: “А ну-ка, дай ему за всех нас”» («Сталинский питомец» – Николай Ежов. М.: РОССПЭН, 2009. С. 156).
(обратно)5
Петров Н. Палачи. Они выполняли приказы Сталина. М.: Новая газета, 2013. С. 199 – 200.
(обратно)6
Там же. С. 199. Другой историк Большого террора, А.Г. Тепляков, считает выбор «отца народов» вполне осознанным: «Сталин желал иметь палачей при себе, на глазах, доверяя им свою особу как лучшим охранникам. Люди, стрелявшие в затылок врагам Сталина, были именно теми, кому вождь мог доверить сохранность собственной головы» (История сталинизма. С. 439).
(обратно)7
Авдеенко А. Наказание без преступления. М., 1991. С. 97. Цит. по:
(обратно)8
Цит. по: .
(обратно)9
Цит. по: .
(обратно)10
Цит. по: -ru/archives/717 .
(обратно)11
Волков О. Погружение во тьму. Из пережитого. Православное братство святого апостола Иоанна Богослова. М., 2008. С. 318.
(обратно)12
Москвичев А.Н., Соколов Я.Д. Николай Чаплин. Тула: Приокское книжное издательство, 1969. С. 7 – 8.
(обратно)13
Москвичев А.Н. Указ. соч. С. 8.
(обратно)14
Чаплина Н. Что остается внукам. С. 3 (рукопись).
(обратно)15
Москвичев А.Н. Указ. соч. С. 9.
(обратно)16
Чаплина Н. Указ. соч. С. 3.
(обратно)17
Чаплин А. Движение учащейся молодежи в Смоленске (1912 – 1913 годы). Из воспоминаний участника. Шагай вперед, комсомольское племя. Смоленск, 1963. С.18.
(обратно)18
Москвичев А.Н. Указ. соч. С.10.
(обратно)19
Чаплин А. Движение учащейся молодежи. С. 18 – 19.
(обратно)20
Шаламов В. Собрание сочинений. М.: Книжный клуб Терра, 2005. Т. 4. С. 116.
(обратно)21
Шаламов В. Собрание сочинений. Т. 4. С. 131.
(обратно)22
Шаламов В. Новая книга. Воспоминания, записные книжки, переписка, следственные дела. М.: ЭКСМО, 2004. С. 138.
(обратно)23
Шаламов В. Собрание сочинений. Т. 4. С. 324.
(обратно)24
Цит. по: /%DO%9A%DO%BE%D1%80%…
(обратно)25
Короленко В. Письма Луначарскому // Есть всюду свет. Человек в тоталитарном обществе. М.: Возвращение, 2000. С. 13.
(обратно)26
Там же. С. 43.
(обратно)27
Там же. С. 15.
(обратно)28
Короленко В. Указ. соч. С. 15.
(обратно)29
Там же. С. 17.
(обратно)30
Там же. С. 19.
(обратно)31
Там же. С. 20 – 21.
(обратно)32
Там же. С. 21.
(обратно)33
Там же. С. 25.
(обратно)34
Там же. С. 24 – 25.
(обратно)35
Там же. С. 28.
(обратно)36
Короленко В. Указ. соч. С. 29.
(обратно)37
Там же.
(обратно)38
Там же. С. 32.
(обратно)39
Там же. С. 36.
(обратно)40
Там же. С. 13.
(обратно)41
: html.
(обратно)42
Там же.
(обратно)43
: html.
(обратно)44
Кантакузина Ю. Революционные дни. Воспоминания русской княгини, внучки президента США. 1876 – 1918. М.: Центрполиграф, 2007. С. 269 – 270.
(обратно)45
Там же. С. 271.
(обратно)46
Барятинская М. Моя русская жизнь. Воспоминания великосветской дамы. 1870 – 1918. М.: Центрполиграф, 2006. С. 294 – 295.
(обратно)47
Рахманинов С. Воспоминания. М.: Радуга, 1992. С. 176.
(обратно)48
Рахманинов С. Воспоминания. С. 177.
(обратно)49
Там же. С. 178.
(обратно)50
Boyd B. Vladimir Nabokov. The Russian Years. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1990. P. 133.
(обратно)51
Зверев А. Набоков. М.: Молодая гвардия, 2004. С. 53.
(обратно)52
Набоков В. Terra Incognita. М.: «ДЭМ», 1990. С. 143.
(обратно)53
Цит. по: .
(обратно)54
Там же.
(обратно)55
Гиппиус З.Н. Современная запись. 1914 – 1919 гг. // Дмитрий Мережковский. Больная Россия. Избранное. Л.: Издательство Ленинградского университета, 1991. С. 224.
(обратно)56
Там же. С. 226.
(обратно)57
Там же. С. 228.
(обратно)58
Там же. С. 233.
(обратно)59
Там же. С. 235.
(обратно)60
Гиппиус З.Н. Современная запись. 1914 – 1919 гг. С. 230.
(обратно)61
Там же. С. 234.
(обратно)62
Там же.
(обратно)63
Stepun F. Das Antlitz Russlands und das Gesicht der Revolution- Aus meinem Leben 1884 – 1922. München: Kösel-Verlag, 1961,S. 371.
(обратно)64
Керенский А.Ф. Русская революция 1917. М.: Центрполиграф, 2005. С. 211.
(обратно)65
Петибридж Р. Русская революция глазами современников. Мемуары победителей и побежденных. 1905 – 1918. М.: Центрполиграф, 2008. С. 306.
(обратно)66
Петибридж Р. Русская революция глазами современников. С. 306 – 307.
(обратно)67
Москвичев А.Н., Соколов Я.Д. Николай Чаплин. Тула: Приокское книжное издательство, 1969. С. 13.
(обратно)68
Москвичев А.Н., Соколов Я.Д. Николай Чаплин. С. 15.
(обратно)69
Мильчаков А. Николай Чаплин // Вожаки комсомола. М.: Молодая гвардия, 1974. С. 141.
(обратно)70
Москвичев А.Н., Соколов Я.Д. Указ. соч. С. 19.
(обратно)71
Там же. С. 19 – 20.
(обратно)72
Мильчаков А. Николай Чаплин. С. 146.
(обратно)73
Цит. по: /Косарев_Александр_Васильевич.
(обратно)74
Мильчаков А. Николай Чаплин. С. 145.
(обратно)75
Рассказ одного из участников III съезда РКСМ на сайте: : memory&id=204: bez…
(обратно)76
Рассказ одного из участников III съезда РКСМ на сайте: : memory&id=204: bez…
(обратно)77
Рассказ одного из участников III съезда РКСМ на сайте: : memory&id=204: bez…
(обратно)78
Там же.
(обратно)79
Мильчаков А. Николай Чаплин. С. 149.
(обратно)80
Кант И. Собрание сочинений: В 8 т. М.: Чоро,1994. С. 84.
(обратно)81
Фюре Ф. Прошлое одной иллюзии. М.: Ad Marginem, 1998. С. 20.
(обратно)82
Там же. С. 84.
(обратно)83
Ленин В.И. Что делать? М.: Издательство политической литературы, 1969. С. 157.
(обратно)84
Рид Дж. Десять дней, которые потрясли мир. СПб.: Лениздат, 2012. С. 17.
(обратно)85
Там же. С. 56.
(обратно)86
Там же. С. 356.
(обратно)87
Уэллс Г. Россия во мгле. М.: Алгоритм, 2015. С. 46.
(обратно)88
Там же. С. 46 – 47.
(обратно)89
Там же. С. 44 – 45.
(обратно)90
Там же. С. 44.
(обратно)91
Уэллс Г. Россия во мгле.
(обратно)92
Бьюкенен Дж. Мемуары дипломата. М.: Международные отношения, 1991. С. 326.
(обратно)93
Там же. С. 304.
(обратно)94
Там же. С. 311.
(обратно)95
С иронией, почти со смехом отреагировал на октябрьский переворот английский журналист Ричард Прайс, находившийся в столице: «К 9 ноября стало ясно, что власть в Петрограде действительно находится в руках Военно-революционного комитета, который действует от имени Второго Всероссийского съезда Советов. В то же время все это казалось очень забавным, и мне хотелось смеяться над событиями последних трех дней. Я все никак не мог привыкнуть к атмосфере революции. Я пытался представить себе, как в Лондоне появляется комитет из обыкновенных солдат и рабочих и объявляет себя правительством и что без его подписи никакие указы из Уайтхолла не имеют силы. Я пытался представить, как британский кабинет министров входит в переговоры с этим комитетом, в то время как Букингемский дворец окружен войсками, а король, переодевшись посудомойкой, бежит через боковую дверь. И тем не менее нечто подобное происходит в России. Было почти невозможно представить, что Российская империя, насчитывающая несколько столетий своего существования, рассыплется буквально на глазах, с потрясающим отсутствием чувства собственного достоинства» (Петибридж Р. Русская революция глазами современников. С. 269 – 270). Прайс не мог себе представить, что такое правительство не только продержится больше нескольких недель, но и серьезно займется экспортом революции.
(обратно)96
Балабанова А. Моя жизнь – борьба. Мемуары русской социалистки. 1897 – 1938. М.: Центрполиграф, 2007. С. 281.
(обратно)97
Балабанова А. Моя жизнь – борьба. С. 298.
(обратно)98
Там же. С. 256.
(обратно)99
Там же. С. 284.
(обратно)100
Цит. по: /.
(обратно)101
Серж В. От революции к тоталитаризму. Воспоминания революционера. Оренбург: Оренбургская книга, 2001. С. 165.
(обратно)102
Там же. С. 233.
(обратно)103
Там же. С. 413.
(обратно)104
Паскаль П. Русский дневник. 1916 – 1918. Екатеринбург: ГОНZО, 2014. С. 416.
(обратно)105
Там же. С. 431.
(обратно)106
Цит. по: Ватлин А. Комнитерн: идеи, решения, судьбы. М.: РОССПЭН, 2009. С. 244.
(обратно)107
Беньямин В. Московский дневник. М.: Ad Marginem, 1997. С. 48.
(обратно)108
Ватлин А. Коминтерн: идеи, решения, судьбы. С. 288.
(обратно)109
Там же. С. 289.
(обратно)110
Там же. С. 288 – 296.
(обратно)111
Очень жаль, что Ленин не был знаком с письмом Маркса к Вере Засулич и, главное, не читал четырех подробных набросков ответа на это письмо, сделанных автором «Капитала» в 1881 году. К сожалению, эти документы увидели свет в 924 году, уже после смерти вождя.
Основные тезисы основателя марксизма сенсационны.
Во-первых, он ограничивает неизбежность смены феодализма капитализмом исключительно странами Западной Европы. Цену, заплаченную в этих странах за переход от собственности, основанной на личном труде, к капиталистической частной собственности, основанной на обладании средствами производства, он объявляет непропорционально высокой, издержки – чрезмерными и поэтому не советует России, где земля никогда не была в частной собственности земледельца, идти этим путем. Во-вторых, он исходит из того, что русская «сельская община, еще существующая в национальном масштабе, может постепенно освободиться от своих первобытных черт и развиваться непосредственно как элемент коллективного производства в национальном масштабе» (цит. по: http://m-introduction.livejournal.com/49030.html). Дожив до капитализма, община может воспользоваться его достижениями, не проходя «через все его ужасные перипетии». Другими словами, Маркс предлагает развивать русскую сельскую общину, а не разрушать ее, подражая странам, «которые еще находятся под ярмом капиталистического строя» (http://m-introduction.livejournal.com/49030.html).
В самом письме к Засулич от 8 марта 1881 года Маркс выражается более сдержанно и кратко, но и в нем он ограничивает капиталистический путь западом Европы и называет общину «точкой опоры социального возрождения России».
Конечно, это не народничество в буквальном смысле слова (ведь общину предлагается развивать, обогащать достижениями капитализма, осовременивать). Но представление о том, что все страны, прежде чем отваживаться на социалистические революции, обязательно должны пройти через стадию капитализма, сам Маркс, похоже, не разделял. А между тем и все упреки большевикам за их революционные импровизации, и их собственное яростное стремление к мировой революции основывались на уверенности в обязательности прохождения капиталистической стадии всеми странами.
Основатель марксизма уже в XIX веке был критическим западным интеллектуалом – в том смысле, что ничего хуже капитализма (при всех его огромных достижениях) для него не было.
(обратно)112
Мильчаков А. Николай Чаплин // Вожаки комсомола. М.: Молодая гвардия, 1974. С. 154 – 155.
(обратно)113
Там же. С. 155.
(обратно)114
Москвичев А.Н., Соколов Я.Д. Николай Чаплин. С. 38.
(обратно)115
Платонов А. Чевенгур. Рига: Лиесма, 1989. С. 106
(обратно)116
Там же. С. 115.
(обратно)117
Там же. С. 129.
(обратно)118
Мильчаков А. Указ. соч. С. 158.
(обратно)119
Платонов А. Чевенгур. С. 352.
(обратно)120
Письмо Сергея Чаплина – рукопись из семейного архива предоставлена Н.С. Чаплиной.
(обратно)121
История Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков). Краткий курс. М.: Государственное издательство политической литературы, 1938. С. 256 – 257.
(обратно)122
Сложная интрига, связанная с отсутствием Троцкого на похоронах Ленина, разбирается в его новейшей биографии: Фельштинский Ю., Чернявский Г. Лев Троцкий. Оппозиционер. Книга третья 1923 – 1929. М.: Центрполиграф, 2013. С. 83 – 85.
(обратно)123
Мильчаков А. Указ. соч. С. 161.
(обратно)124
Оказывается, не имел и сам в этом признавался. На том же XIII съезде Троцкий, тогда еще Главвоенмор, сказал: «Товарищи, никто из нас не хочет и не может быть правым вопреки партии. В конечном итоге партия всегда права, потому что она представляет собой единственный инструмент истории, который дан пролетариату для решения его основной задачи… Я знаю, что никто не может обладать правотой вопреки партии. Есть только одна возможность – быть правым вместе с партией и благодаря партии, поскольку никаких других способов для реализации истины в истории не существует» (цит. по: Баберовски Й. Красный террор. История сталинизма. М.: РОССПЭН, 2007. С. 86). В тот момент Троцкий еще считал себя «партией», но представляю, какой бальзам на раны Сталина пролили эти заклинания!
(обратно)125
Мильчаков А. Указ. соч. С. 187. Узнав, что Ханин видит его «человеком с первородным диалектическим умом, разбиравшимся в сложных противоречиях жизни задолго до того, как им были прочтены книги мудрецов» (Там же. С. 187), Николай, сочтя эту характеристику незаслуженно лестной, поставил на полях знак вопроса и приписал: «Явное художественное оформление» (Там же. С. 152).
(обратно)126
Москвичев А.Н., Соколов Я.Д. Указ. соч. С. 50.
(обратно)127
Там же. С. 28.
(обратно)128
Мильчаков А. Указ. соч. С. 172 – 173.
(обратно)129
Мильчаков А. Указ. соч. С. 170.
(обратно)130
Там же.
(обратно)131
Там же. С. 254 – 255.
(обратно)132
Лейбович О.Л. Индивидуальные стратегии сопротивления террору в годы Большого Террора // История сталинизма: жизнь в терроре. Социальные аспекты репрессий. М.: РОССПЭН, 2013. С. 418.
(обратно)133
Там же. С. 418 – 426.
(обратно)134
Москвичев А.Н., Соколов Я.Д. Указ. соч. С. 25.
(обратно)135
Мильчаков А. Указ. соч. С. 154.
(обратно)136
Там же. С. 155.
(обратно)137
Шаламов В. Собрание сочинений. Т. 4. С. 432. В 1918 году Осип Мандельштам опубликовал в газете левых эсеров «Знамя труда» стихотворение «Сумерки свободы», пронизанное ощущением свободного падения, характерного для того времени: «…огромный, неуклюжий / Скрипучий поворот руля. / Земля плывет… / Мы будем помнить и в летейской стуже, / Что десяти небес нам стоила земля». Спустив небо на землю, большевики невиданно возвысили ее над небом христианства.
(обратно)138
Мильчаков А. Указ. соч. С. 182.
(обратно)139
Мильчаков А. Указ. соч. С. 182 – 183.
(обратно)140
Чаплина Н. Что остается внукам (рукопись). С. 13 – 14.
(обратно)141
Там же. С. 13.
(обратно)142
Платонов А. Чевенгур. С. 228.
(обратно)143
Москвичев А.Н., Соколов Я.Д. Указ. соч. С. 64 – 65.
(обратно)144
Там же. С. 68 – 69.
(обратно)145
Боффа Дж. История Советского Союза. От революции до Второй мировой войны. Ленин и Сталин, 1917 – 1941. М.: Международные отношения, 1994. С. 397.
(обратно)146
Цит. по: .
(обратно)147
В годы Большого террора Сталин узнал, что Ломинадзе неоднократно делился своими оппозиционными взглядами с Орджоникидзе. В речи на февральско-мартовском пленуме ЦК 1937 года он сообщил, что еще в 1926 – 1928 годах Орджоникидзе знал об ошибках Ломинадзе «больше, чем любой из нас». Сталин заявил, что «Серго получил одно очень нехорошее, неприятное и непартийное письмо от Ломинадзе». Орджоникидзе рассказал ему об этом письме «антипартийного характера», сообщив, что дал Ломинадзе слово не передавать его содержания. После этого Сталин предупредил Орджоникидзе: «Если ты эту штуку спрячешь от ЦК и будешь отстаивать, Ломинадзе и впредь будет надеяться, что можно и впредь ошибки против ЦК допускать… но потом он может попасться на чем-то большем, и, если он на большем попадется, мы его разгромим вдребезги, пыли от него не останется» (Коммунист. 1991. № 13. С. 56 – 57).
О том, что Ломинадзе в присутствии Орджоникидзе и других грузинских коммунистов резко критиковал Сталина, рассказывал в 1937 году на следствии один из старейших грузинских большевиков, Михаил Орахелашвили. «На квартире у Серго Орджоникидзе… Бесо Ломинадзе в моем присутствии после ряда контрреволюционных выпадов по адресу партийного руководства допустил в отношении Сталина исключительно оскорбительный и хулиганский выпад. К моему удивлению, в ответ на эту контрреволюционную наглость Ломинадзе Орджоникидзе, обращаясь ко мне, сказал: “Посмотри ты на него!” – продолжая после этого в мирных тонах беседу с Ломинадзе» (Берия: конец карьеры. М., 1991. С. 378. Цит. по: ).
(обратно)148
Бежавший во Францию секретарь Сталина Борис Бажанов отзывался о Лазаре Шацкине как об «очень умном, культурном и способном юноше из еврейской, крайне буржуазной семьи». Он придумал комсомол и был его создателем и организатором.
(обратно)149
Боффа Дж. Указ. соч. С. 398.
(обратно)150
Цит. по: /%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%B8… // Quelle nennen//.
(обратно)151
Цит. по: //Quelle nennen//.
(обратно)152
Боффа Дж. Указ. соч. С. 397.
(обратно)153
Цит. по: /N-25-html/chaplin/Chap…//.
(обратно)154
Симбирцев И. Спецслужбы первых лет СССР. 1923 – 1939. На пути к Большому террору. М.: Центрполиграф, 2008. С. 25.
(обратно)155
Ленинградская правда. 1989. 11 авг. № 183.
(обратно)156
Ленин В.И. Что делать? Наболевшие вопросы нашего движения. М.: Издательство политической литературы, 1969. С. 176.
(обратно)157
Там же. С. 157.
(обратно)158
Ленин В.И. Что делать? С. 175.
(обратно)159
Кара-Мурза А.А., Поляков Л.В. Русские о коммунизме. СПб.: Издательство Русского Христианского гуманитарного института, 1999. С. 72 – 73.
(обратно)160
Симбирцев И. ВЧК в ленинской России. 1917 – 1922. В зареве революции. М.: Центрполиграф, 2008. С. 304.
(обратно)161
Серж В. От революции к тоталитаризму. С. 10.
(обратно)162
Симбирцев И. ВЧК в ленинской России. С. 43.
На другом полюсе ей вторил белый генерал Антон Деникин: «Террор у них [большевиков. – М.Р.] не прятался стыдливо за “стихию”, “народный гнев” и прочие безответственные элементы психологии масс – он шествовал нагло и беззастенчиво» (Симбирцев И. ВЧК в ленинской России. С. 262).
(обратно)163
Stepun F. Das Antlitz Russlands und das Gesicht der Revolution. S. 372.
Результатом эпидемии террора Степун считает «невероятный уровень внутренней и внешней маскировки» и продолжает: «Наиболее ужасающей стороной большевистской террористической системы был анонимный, всепроникающий сыск. Сердце каждого билось не в его собственной груди, а в холодной руке невидимого чекиста» (там же).
(обратно)164
Симбирцев И. ВЧК в ленинской России. С. 377.
(обратно)165
Мельгунов С. Красный террор в России 1918 – 1923. М.: СП «PUICO», 1990. С. 177.
(обратно)166
Ленинградская правда. 1989. 11 авг.
(обратно)167
Симбирцев И. ВЧК в ленинской России. С. 354.
(обратно)168
Симбирцев И. ВЧК в ленинской России. С. 364.
(обратно)169
Симбирцев И. Спецслужбы первых лет СССР. С. 117.
(обратно)170
Там же.
(обратно)171
Ленинградская правда. 1989. 11 авг.
(обратно)172
Симбирцев И. Спецслужбы первых лет СССР. С. 121. Судьба Хомутова, как и большинства агентов советской разведки, была незавидной. «В конце более чем десятилетней эпопеи тайного сотрудника советской разведки Хомутова ему разрешили в качестве награды вернуться в Советскую Россию, арестовали в 1937 году практически сразу по приезде в Москву и как врага советской власти расстреляли» (Там же. С. 121).
(обратно)173
Ленинградская правда. 1989. 11 авг.
(обратно)174
Там же.
(обратно)175
Интервенция фальшивых червонцев [план Карумидзе. – М.Р.]. Цит. по: -tyurmi-i-ot-sumyi/3956669/ //Titel der Quelle zitieren.
(обратно)176
Lutherot J. Der Schein des Anstoßes. Цит. по: -falschgeld-affaere-der…
(обратно)177
Ibid.
(обратно)178
Ibid.
(обратно)179
Цит. по: -tyurmyi-i-ot-sumyi/3956669/.
(обратно)180
Ленинградская правда. 1989. 11 авг.
(обратно)181
Цит. по: //Quelle zitieren/.
(обратно)182
«В Финляндии [Григорий Сыроежкин. – М.Р.] поддерживал связь с бывшим руководителем Кронштадтского восстания, от которого узнал о массовом военном строительстве на границе СССР и Финляндии» – /Сыроежкин,_Григорий_Сергеевич //gibt es keine seriöse Quelle?//.
(обратно)183
Ленинградская правда. 1989. 11 авг.
(обратно)184
Чаплина Н. Что остается внукам. С. 14.
(обратно)185
Баберовский Й. Красный террор. С. 22.
(обратно)186
Жженов Г. От «Глухаря» до «Жар-птицы». М.: Современник, 1989. С. 27.
(обратно)187
Серж В. От революции к тоталитаризму. С. 305 //s.o.//.
(обратно)188
Шаламов В. Собрание сочинений. Т. 4. С. 435 – 436 //deutsche Übersetzung//.
(обратно)189
Мильчаков А. Указ. соч. С. 157.
(обратно)190
Цит. по: /неизвестный-киров-stranica-18.html //Quelle zitieren//.
(обратно)191
Чуковский К. Дневник 1930 – 1969. М.: Современный писатель, 1995. С. 110.
(обратно)192
Там же. С. 111.
(обратно)193
Жженов Г. От «Глухаря» до «Жар-птицы». С. 7.
(обратно)194
Рольф М. Советские массовые праздники. М.: РОССПЭН, 2009. С. 159 //deutsches Original zit.//.
(обратно)195
Там же. С. 160.
(обратно)196
Чуковский К. Дневник. С. 141.
(обратно)197
Есть доказательства оказанного на Косарева давления.
Как следует из протокола допроса Сергея Чаплина в следственной тюрьме НКВД в 1939 году, Косарев, узнав от Сталина, что над головой Николая Чаплина сгущаются тучи, советовал его младшему брату Виктору поехать в Тбилиси, чтобы предупредить его. С этой целью они послали на Кавказ шифрованную телеграмму. Но потом с Косаревым, видно, Сталин – а это он умел! – «поработал» так, что новый генсек отрекся от ближайших друзей.
(обратно)198
Постижение Запада. Иностранная культура в советской литературе, искусстве и теории 1917 – 1941 годов. М.: ИМЛИ РАН, 2015. С. 658.
(обратно)199
Цит. по: -sudba-aleksandra-kosareva///Quelle benennen//.
(обратно)200
Цит. по: //Quelle?//.
(обратно)201
Цит. по: -sudba-aleksandra-kosareva/.
(обратно)202
Цит. по: -pochemu-aleksandr-kosarev-stal-po…
[Пророчество Косарева в виде исключения сбылось: пытавших его следователей Бориса Родоса и Льва Шварцмана действительно расстреляли после ХХ съезда партии. – М.Р.].
(обратно)203
Петров Н. Палачи. Они выполняли приказы Сталина. М.: Новая газета, 2011. С. 156.
(обратно)204
Валентина Пикина вспоминала, что о намерении провести молодежный процесс ей сказал сам Лаврентий Берия. Однако, несмотря на пытки, от нее не добились показаний на Косарева и дело заглохло (Петров Н. Палачи. С. 157).
(обратно)205
Цит. по: -pochemu-aleksandr-kosarev-stal-po…
(обратно)206
Schlögel K. Terror und Traum. Moskau 1937. München: Carl Hanser Verlag, 2008. S. 30
(обратно)207
Reemtsma J.Ph. Vertrauen und Gewalt. Versuch über eine besondere Konstellation der Moderne. Hamburg, Hamburger Edition, 2008. S. 411
(обратно)208
Гинзбург Е. Крутой маршрут. Хроника времен культа личности. М.: Советский писатель, 1990. С. 27 //deutsche Übersetzung zit.//.
(обратно)209
Гинзбург Е. Крутой маршрут. С. 27
(обратно)210
Соколова Ю. Из дневника. 1937 – 1938 годы // Доднесь тяготеет. М.: Возвращение, 2004. С. 288.
(обратно)211
Чаплина Н. Что остается внукам. С. 15.
(обратно)212
Цит. по: /N-25-html/chaplin/Chap…
(обратно)213
Цит. по: /N-25-html/chaplin/Chap…
(обратно)214
Следственное дело № 20278-38 г. по обвинению Чаплина Сергея Павловича. С. 24.
(обратно)215
Ленинградская правда. 1989. 11 авг.
(обратно)216
Следственное дело № 202778-38 г. С. 38.
(обратно)217
Там же [страница не указана].
(обратно)218
Там же. С. 79.
(обратно)219
Ленинградская правда. 1989. 13 авг.
(обратно)220
Там же.
(обратно)221
Следственное дело № 20278-38 г. С. 41.
(обратно)222
Следственное дело № 20278-38 г. С. 45.
(обратно)223
Там же. С. 238.
(обратно)224
Там же.
(обратно)225
Цит. по: #1563473 //Quelle nennen//.
(обратно)226
Цит. по: #0008f79e.htm //Quelle nennen//.
(обратно)227
Следственное дело № 20278-38 г. С. 70.
(обратно)228
Там же. С. 104.
(обратно)229
Следственное дело № 20278-38 г. С. 256 – 257.
(обратно)230
Там же. С. 235 – 236.
(обратно)231
Там же. С. 236.
(обратно)232
Там же. С. 99, 203.
(обратно)233
Там же. С. 93. Финский коммунист Артур-Фредерик Усениус, из рабочих, сотрудник Коминтерна, с 1921 года член ВКП(б), в 1933 году нарком легкой промышленности, работал в Петрозаводске и Ленинграде, расстрелян 27 ноября 1937 года. Скорее всего, он был не троцкистом, как презрительно называет его Сергей Чаплин, а таким же, как и сам Чаплин, коммунистом-ленинцем.
Поскольку мой дед после возвращения из загранкомандировки до своего ареста был уполномоченным НКВД при финском консульстве в Ленинграде, хотелось бы, конечно, больше знать о его роли в трагедии «красных финнов». Но архивы пока молчат.
(обратно)234
Там же. С. 122.
(обратно)235
Следственное дело № 20278-38 г. С. 159 – 163. После отказа от показаний дело тут же закрывают. Оно состоит из двух томов. В первом томе 304 страницы, во втором 165 страниц. По объему получается средних размеров детективный роман, правда выдуманный не писателем, а карательными органами государства по подвижным законам жанра.
4 апреля 1939 года составляется протокол об окончании следствия по делу 20278-38 г. «Старший следователь НКВД – ЛО, сержант ГБ Иванов, руководствуясь статьей 206 УПК, сего числа объявил обвиняемому Чаплину С.П. о том, что следствие по его делу закончено и направляется по подсудности».
Чаплин с делом ознакомлен, возвратил подписанное дело в 24 часа.
В деле имеется выписка от 26 июля 1939 года на бланке НКВД о заключении в справительно-трудовой лагерь сроком на ВОСЕМЬ лет начиная с 1 июля 1937 года.
В конце важная для ГУЛАГа приписка: «Сергей Чаплин медицинское обследование прошел. Практически здоров. Заключение: к физическому труду годен, следовать этапом может. 5 сентября 1939 года». По прибытии в лагерь это означало подконвойные общие работы.
Дело сдано в архив. Штамп от 4 августа 1939 года.
(обратно)236
Кестлер А. Слепящая тьма. М.: Новая газета, 2011. С. 203 //Original zit.//.
(обратно)237
Там же. С. 128 – 129.
(обратно)238
Там же. С. 208.
(обратно)239
Кестлер А. Слепящая тьма. С. 287.
(обратно)240
Ригель К. – Г. Марксизм-ленинизм как политическая религия. М.: Полиграфия, 2001. С. 98 – 99.
(обратно)241
Подор – политотдел Кировской (Мурманской) железной дороги.
(обратно)242
Шапиро-Дайховский Н.Е., помощник начальника, затем – заместитель начальника УНКВД ЛО. Участвовал в фальсификации ряда следственных дел, на основе которых незаконно репрессированы многие ленинградцы. В 1938 году осужден к высшей мере наказания.
(обратно)243
Ржавский Я.П., заместитель начальника отдела УНКВД ЛО. В 1937 году уволен из органов госбезопасности.
(обратно)244
Рудзутак Я.Э., член партии с 1905 года; Антипов Н.К., член партии с 1912 года; Сулимов Д.Е., член партии с 1905 года; Сырцов С.Н., член партии с 1913 года – видные деятели партии и государства. Незаконно репрессированы в 1937 – 1941 годах. Посмертно реабилитированы.
(обратно)245
Заковский Л.М., начальник УНКВД Ленинградской области. Непосредственно участвовал в фабрикации многих следственных дел, незаконных репрессиях. Один из примеров этого приводится, в частности, в докладе «О культе личности и его последствиях» на XX съезде КПСС. В 1938 году приговорен к высшей мере наказания.
(обратно)246
Кириллов Г.Ф. Уволен из органов УНКВД в 1946 году.
(обратно)247
ДТО – дорожно-транспортный отдел УНКВД.
(обратно)248
Шумский Н.С., начальник ДТО УНКВД Кировской железной дороги. В 1941 году приговорен к высшей мере наказания.
(обратно)249
Ледник Н.Ф., Охотин А.Д., Мусатов А.Г. – руководящие работники Кировской (Мурманской) железной дороги. Незаконно репрессированы. По имеющимся данным, Ледник – начальник дороги – был расстрелян 1 октября 1937 года, за месяц (!) до составления обвинительного заключения по его делу.
(обратно)250
Баланов А.С. Уволен из органов УНКВД в 1938 году.
(обратно)251
Цодиков Б.Е. – один из руководителей Кировской (Мурманской) железной дороги, арестованный в 1937 году по ложному обвинению.
(обратно)252
Голод М.Р. – в 1939 году уволен из органов НКВД. Ковальчук Н.К. – в 1954 году уволен из органов госбезопасности, лишен генеральского звания. Умер в 1972 году. Кривоногов А.Д. – в 1954 году уволен из органов госбезопасности, умер в 1956 году.
(обратно)253
Фамилия в письме не указана.
(обратно)254
Гоглидзе С.А. – бывший начальник Управления НКВД ЛО, затем – один из руководителей МВД СССР. В 1954 году вместе с Берией и его сообщниками осужден к высшей мере наказания.
(обратно)255
Обнаружить какие-либо данные об этом лице не удалось.
(обратно)256
Рыклин М. Пространства ликования. Тоталитаризм и различие. М.: Логос, 2002. С. 31.
(обратно)257
Поэтому меня удивил рассказ дочери Александра Косарева, Елены, о том, как соученики отреагировали на арест ее отца: «…В школе никто и вида не подал, что знает о моем горе. Относились так, словно ничего в моей жизни не изменилось. Вообще, мне кажется, что дети тогда, да и учителя тоже, были добрее и тактичнее нынешних» (цит. по: ). Хотелось бы верить, что это было так, но такое поведение по тем временам – скорее исключение. Как правило, от детей врагов народа отворачивались.
(обратно)258
Секретарю Приморского райкома ВКП(б), тов. Поповой от кандидата ВКП(б) Чаплиной В.М., парторганизация ЦПР НКВД, Кировский проспект, 66.
(обратно)259
Там же.
(обратно)260
Там же.
(обратно)261
Выписка из протокола № 11 закрытого партсобрания при Центральном приемнике-распределителе УНКВД по ЛО от 25 ноября 1938 года.
(обратно)262
Выписка из протокола № 14 закрытого партийного собрания ЦПР УНКВД по ЛО от 26 октября 1939 года.
(обратно)263
Решение бюро Приморского райкома ВКП(б) 1 декабря 1939 года: «Отклонить ходатайство первичной организации о восстановлении Чаплиной В.М. кандидатом в члены ВКП(б)».
(обратно)264
Жженов Г. От «Глухаря» до «Жар-птицы». С. 42.
(обратно)265
Жженов Г. От «Глухаря» до «Жар-птицы». С. 41.
(обратно)266
Там же. С. 42.
(обратно)267
Там же. С. 16.
(обратно)268
Там же.
(обратно)269
Там же. С. 17.
(обратно)270
Там же. С. 17 – 18.
(обратно)271
Там же. С. 8.
(обратно)272
Жженов Г. От «Глухаря» до «Жар-птицы». С. 46.
(обратно)273
Там же. С. 19.
(обратно)274
Жженов Г. Прожитое. М.: Пропаганда, 2002. С. 70.
(обратно)275
Жженов Г. От «Глухаря» до «Жар-птицы». С. 73 – 74.
(обратно)276
Жженов Г. Прожитое. С. 75.
(обратно)277
Там же. С. 77.
(обратно)278
Жженов Г. От «Глухаря» до «Жар-птицы». С. 50.
(обратно)279
Росси Ж. Справочник по ГУЛАГу. М.: Просвет, 1991. Ч. 2. С. 394 – 395.
(обратно)280
Там же. С. 395.
(обратно)281
Солженицын А. Собрание сочинений. М.: Терра, 1999. Т. 4. С. 490.
(обратно)282
Там же. С. 492 – 493.
(обратно)283
Гинзбург Е. Крутой маршрут. С. 194.
(обратно)284
Гинзбург Е. Крутой маршрут.
(обратно)285
Там же. С. 196.
(обратно)286
Там же. С. 200.
(обратно)287
Доднесь тяготеет. Т. 1. С. 177.
(обратно)288
Там же. С. 63.
(обратно)289
Гинзбург Е. Указ. соч. С. 205.
(обратно)290
Там же. С. 218.
(обратно)291
Гинзбург Е. Крутой маршрут. С. 224
(обратно)292
Там же.
(обратно)293
Там же. С. 228.
(обратно)294
Горбатов А.В. годы и люди. Цит. по: .
(обратно)295
Там же.
(обратно)296
Гинзбург Е. Указ. соч. С. 229.
(обратно)297
Там же. С. 230.
(обратно)298
Там же. С. 231.
(обратно)299
Солженицын А. Собрание сочинений. Т. 4. С. 596.
(обратно)300
Доднесь тяготеет. Т. 1. С. 180 – 181.
(обратно)301
Советская Колыма. 1939. 29 сент.
(обратно)302
Жженов Г. Прожитое. С. 81.
(обратно)303
Жженов Г. Прожитое. С. 82 – 83.
(обратно)304
Там же. С. 85 – 86.
(обратно)305
Там же. С. 87.
(обратно)306
Там же. С. 84 – 85.
(обратно)307
Жженов Г. Прожитое. С. 88.
(обратно)308
Жженов Г. Прожитое. С. 90 – 91.
(обратно)309
Там же. С. 92.
(обратно)310
Там же. С. 93.
(обратно)311
Там же. С. 96.
(обратно)312
Жженов Г. Прожитое.
(обратно)313
Там же. С. 96 – 97.
(обратно)314
Шаламов В. Собрание сочинений. М.: Терра, 2004. Т. 1. С. 220.
(обратно)315
Жженов Г. Прожитое. С. 97.
(обратно)316
Жженов Г. От «Глухаря» до «Жар-птицы». С. 51.
(обратно)317
Жженов Г. Там же. С. 52.
(обратно)318
Там же. С. 72.
(обратно)319
Там же. С. 53.
(обратно)320
Жженов Г. Прожитое. С. 53.
(обратно)321
На сайте: А.Н. Жуков. Кадровый состав органов Государственной безопасности СССР, 1935 – 1939 гг. есть только один сержант государственной безопасности по фамилии Пинаев, Александр Андреевич. До 1940 года врид. нач. Новоторьяльского РО УГБ НКВД Марийской АССР.
(обратно)322
Дело № 5677.
(обратно)323
Сергей Чаплин как в воду глядел: АП РФ, оп. 24, дело 418, лист 250 содержит расстрельный список, который лег в 1937 году на рабочий стол Сталина. В нем 15 человек, включая трех братьев Чаплиных. Всех предлагается приговорить по 1-й категории, то есть к расстрелу. Так что Виктору и Сергею еще, можно считать, повезло – остальные фигуранты списка были расстреляны.
(обратно)324
В 1941 году заключенным категорически запрещалось иметь любые печатные материалы, поэтому даже газета «Советская Колыма» – криминал.
(обратно)325
П.И. Окунев дослужился до звания генерал-майора, пятикратный орденоносец. Был разжалован при Хрущеве.
(обратно)326
В этом месте моя мама, переписывавшая от руки дело своего отца на Лубянке в начале 90-х годов, приписала от себя: «Будь трижды проклят, написавший эти строки!»
(обратно)327
Жженов Г. Прожитое. С. 107.
(обратно)328
Жженов Г. Прожитое. С. 108.
(обратно)329
Там же. С 109.
(обратно)330
Жженов Г. От «Глухаря» до «Жар-птицы». С. 36 – 37.
(обратно)331
Жженов Г. Прожитое. С. 110.
(обратно)332
В «Справочнике по ГУЛАГу» Жака Росси слово «тихарь» на блатном жаргоне расшифровывается как «мелкий вор, прикидывающийся ни к чему не причастным» (Ч. 2. С. 408). Происходит, вероятно, от наречия втихаря – сделать что-либо, чтобы никто не знал.
(обратно)333
Жженов Г. Прожитое. С. 111.
(обратно)334
Жженов Г. Прожитое. С. 112 – 114.
(обратно)335
В рассказе «Две встречи» из цикла «Воскрешение лиственницы» читаем: «Я давно дал слово, что если меня ударят, то это и будет концом моей жизни. Я ударю начальника, и меня расстреляют. Увы! я был наивным мальчиком. Когда я ослабел, ослабела и моя воля, мой рассудок. Я легко уговорил себя перетерпеть и не нашел в себе силы душевной на ответный удар, на самоубийство, на протест. Я был самым обыкновенным доходягой и жил по законам психики доходяг. Все это было много позже, а тогда, когда мы встретились с гражданином Анисимовым на прииске, я был еще в силе, в твердости, в вере, в решении.
Кожаные перчатки Анисимова приблизились, и я приготовил кайло.
Но Анисимов не ударил. Его красивые крупные темно-карие глаза встретились с моим взглядом, и Анисимов отвел глаза в сторону» (Шаламов В. Собрание сочинений. М.: Терра, 2004. Т. 2. С. 122).
Сергей Чаплин боялся, что и ему на Верхнем была уготована та же судьба: стать доходягой и «жить по законам психики доходяг». Судя по описанию Жженова (голод, издевательства, непосильный труд в забое на Верхнем), это произошло бы в ближайшие недели, возможно дни. Чтобы избежать неизбежной метаморфозы, он, заявив протест Ворону, совершил самоубийство.
(обратно)336
Жженов Г. От «Глухаря» до «Жар-птицы». С. 57.
(обратно)337
Там же. С. 58.
(обратно)338
Там же. С. 58.
(обратно)339
Жженов Г. От «Глухаря» до «Жар-птицы». С. 59. В Карагандинской области Казахстана, по данным французского историка Николя Верта, в лагерях смертность была в 20 раз ниже, чем на Колыме. Но во время войны положение колымских узников, и так крайне тяжелое, стало просто невыносимым.
«Условия содержания в лагерях значительно ухудшились. Эвакуация на восток сотен тысяч заключенных еще более усилила перенаселенность бараков. Жилая площадь заключенного сократилась с 1,5 до 0,7 квадратного метра; заключенные по очереди спали на полу, поскольку нары отныне отводились “ударникам”. “Норма калорий” снизилась в 1942 году на 60 %… Заключенные были доведены до голода… в 1942 году умерли 18,5 % заключенных, в 1943 году – 17,2 %… на конец 1942 года едва ли 19 % заключенных были годны к тяжелому физическому труду и 17 % – к физическому труду средней тяжести. 64 % инвалиды…» (Верт Н. Террор и беспорядок. Сталинизм как система. М.: РОССПЭН, 2000. С. 185).
На Верхнем же положение было еще хуже.
(обратно)340
Жженов Г. От «Глухаря» до «Жар-птицы». С. 60.
(обратно)341
Там же. С. 71.
(обратно)342
Жженов Г. От «Глухаря» до «Жар-птицы». С. 67 – 68.
(обратно)343
Там же. С. 70.
(обратно)344
Там же. С. 71.
(обратно)345
Там же. С. 71 – 72.
(обратно)346
Там же. С. 71.
(обратно)347
Жженов Г. От «Глухаря» до «Жар-птицы». С. 72 – 73.
(обратно)348
Там же. С. 81.
(обратно)349
Жженов Г. От «Глухаря» до «Жар-птицы». С. 82.
(обратно)350
Там же. С. 132.
(обратно)351
Там же. 139.
(обратно)352
Жженов Г. От «Глухаря» до «Жар-птицы».
(обратно)353
Там же. С. 164 – 165.
(обратно)354
Там же. С. 12.
(обратно)355
Лениградская правда. 1989. 13 авг.
(обратно)356
Шаламов В. Собрание сочинений. М.: Терра, 2005. Т. 4. С. 446.
(обратно)357
Цит. по: .
(обратно)358
Жженов Г. От «Глухаря» до «Жар-птицы». С. 154.
(обратно)359
Добыш Г. Судьба и роли. Георгий Жженов. Цит. по: .
(обратно)360
Цит. по: -pomnili.com/page.php?id=1133.
(обратно)361
Цит. по: /Вся королевская рать.
(обратно)362
Цит. по: ; -pomnili.com/page.php?id=1133.
(обратно)363
Цит. по: …
(обратно)364
Цит. по: .
(обратно)365
Аджубей А. Крушение иллюзий. Хрущев. Время в событиях и лицах. М.: Интербук, 1991. С. 200 – 201.
(обратно)366
Жженов Г. Прожитое. С. 164.
(обратно)367
Цит. по: .
(обратно)368
Жалобы на Евгению Захарьян, ее мужа Соломона Сербского и десятки других «неразоружившихся троцкистов» поступали руководству лагпункта им. Берзина в 1936 – начале 1937 года. Они добивались статуса политзаключенных, отказывались от работы, объявляли голодовку. Оба супруга были расстреляны 13 октября 1937 года. От их сына долгое время скрывали, кто его родители; потом, до 1989 года, уверяли, что они умерли от придуманных болезней (Доднесь тяготеет. Т. 2. С. 449 – 457).
(обратно)369
Жженов Г. От «Глухаря» до «Жар-птицы». С. 109.
(обратно)370
Жженов Г. Прожитое. С. 262.
(обратно)371
Там же.
(обратно)




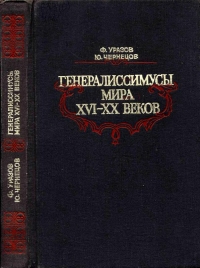
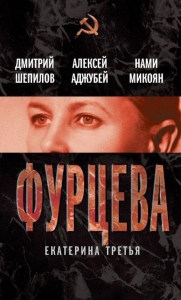


Комментарии к книге «Обреченный Икар», Михаил Кузьмич Рыклин
Всего 0 комментариев