Ф.М. Оржеховская Пять портретов Повести о русских композиторах
ЗАБЫТЫЙ ЧЕРНОВИК
1. Находка
Владимир Васильевич Стасов[1] разбирал свой архив.
Свидетель многих лет и событий, он прочно хранил их в памяти, и, если кто-нибудь из молодых просил его рассказать о минувшем, Стасов припоминал подробности, начисто забытые его современниками.
Он помнил самого Глинку. Это особенно удивляло молодёжь. Она знала музыку Глинки, знала, что он великий композитор, но как можно было его помнить? Ведь он жил давным-давно и уже становился легендой.
Для молодёжи, но не для Стасова.
Но вот знакомая певица спросила его о Верстовском. Какая старина! Хотя позвольте-ка — Верстовский был современником Глинки. Вот как относительны наши понятия о времени.
Чтобы обстоятельнее ответить на вопрос, Владимир Васильевич на этот раз достал свои старые записи. Он нашёл заметку об «Аскольдовой могиле»[2] и описание домашнего концерта, на котором исполнялась модная тогда «Чёрная шаль»[3]. И тускнеющий образ прояснился.
…А это что? Пожелтевший листок, исписанный очень знакомым почерком. Среди зачёркнутых строк Владимир Васильевич разобрал слова: «…как же ты не понял?..», «Это бесподобное произведение…», «…накануне нового столетия…», «…и ты убедишься, как был неправ…»
Черновик его собственного письма, начатого в далёкой юности к Александру Серову[4]!
Они были неразлучны в ту пору. Посетители концертов привыкли видеть их всегда вместе: Серова в длиннополом фраке, Стасова в форменном мундирчике. Серов уже окончил Училище правоведения, Стасов ещё учился. Он был моложе своего друга на четыре года.
Страстные любители музыки, они после концертов долго провожали друг друга, разговаривая и споря об услышанном. Но этого им казалось мало: разойдясь по домам, они садились писать друг другу, чтобы высказаться до конца.
Так было и в тот вечер, когда они впервые услыхали «Руслана и Людмилу» Глинки. Во время спектакля Серов был непроницаем, а на пути домой заявил, что опера ему не понравилась. Музыка интересна, но нет сюжета, нет обобщающей мысли. Вряд ли опера будет жить долго.
Эти слова возмутили Стасова. Чтобы окончательно не рассориться со своим другом, он поспешил покинуть его. Но, вернувшись домой, тут же сел за письмо. Он упустил из виду, что Серов, в сущности, порицал не музыку, а либретто, и стал возражать ему со всей пылкостью восемнадцатилетнего сердца:
«…Как же ты не понял, при своей чуткости, что это бесподобное произведение. Не стыдно ли? Вспомни хотя бы увертюру, второе действие, марш Черномора — всё, всё…»
Он закончил письмо вызовом:
«Ты сказал: вряд ли будет жить долго. Посмотрим. Назначаю тебе свидание накануне Нового столетия. Почему бы нам не дожить до того времени? Мы будем уже глубокими стариками, но это неважно. Встретимся на представлении „Руслана“, и ты убедишься, как ты был неправ…»
На другой день друзья объяснились, и в письме уже не было надобности. Остался только черновик.
…А время пришло. Наступил канун нового столетия. Но Серов не мог выполнить условие: он умер за тридцать лет до назначенного срока.
2. Встреча
За семь месяцев до этого письма Стасов не знал ни «Руслана», ни самого композитора. Первая опера Глинки, о которой все толковали, поразила Стасова новизной и красотой мелодий, но он не мог постичь всего её значения. Ему мешало довольно распространённое среди знатоков мнение, будто идея оперы монархическая: жизнь за царя.
Первая встреча с Глинкой была неудачна.
Стасов хорошо помнил этот день — 8 апреля 1842 года. Прославленный Лист, приехавший на гастроли в Россию, давал в Петербурге свой первый концерт. Успех был огромный. Стасов и Серов, разумеется, пришли и безумствовали. В антракте, когда они с трудом пробирались среди толпы в фойе, Серов шепнул: «Смотри! Глинка! — И прибавил не без важности: — Хочешь, я тебя представлю?» Серов был знаком с автором «Сусанина». Но Глинка в это время разговаривал с какой-то светской дамой. «Каков Лист! — восклицала она. — Не правда ли, выше слов?» Стасов прислушался. И что же? Совершенно невозмутимо Глинка заявил, что Лист не всегда ровен: то играет превосходно, а в иные разы — манерно, вычурно. Да и звук резкий. Сам Глинка, видите ли, учился у Фильда[5] и привык к мягкой игре, без стукотни! Стасов кипел негодованием. Так отозваться о великом артисте, перед которым весь мир преклоняется! «Стукотня!»
Сама наружность Глинки показалась Стасову несимпатичной. Глинка был интересен, немного походил на испанца, и глаза у него были хороши. Но острый взгляд, сдвинутые брови, закинутая назад голова — какая самоуверенность, надменность! Стасов был даже рад, что знакомство не состоялось.
3. Песня Баяна
Но в те времена юноши быстро взрослели.
Бывая среди музыкантов, Стасов невольно вовлёкся в «орбиту» Глинки. Всюду говорили о новой опере композитора, очень смелой, в каком-то необычном для него, сказочном духе.
В начале сентября Стасов получил записку от князя Одоевского[6]:
«Любезный Вольдемар, если хотите перенестись в мир волшебного, постарайтесь приехать ко мне завтра, к пяти часам».
Дом князя Одоевского был один из наиболее известных в столице; там всегда выступали лучшие артисты, а поэты читали впервые свои стихи.
В тот вечер Глинка пел свои романсы.
Он аккомпанировал себе сам, и оттого казалось, что фортепьяно и голос — единое целое. А голос был небольшой, даже немного хриплый, но неистощимо богатый оттенками. Сколько значений имеет слово? Среди бесчисленных — только одно верное. И это единственное значение было известно Глинке. Что бы он ни пел: давний ли, всем известный романс Баратынского или новые — на пушкинские стихи, Стасова не покидало чувство, что и он причастен к этому. Не так полгода назад он слушал Листа. Тогда он восхищался виртуозом. Теперь же не мог ни одобрять, ни судить, ни даже восхищаться, а только переживать то, что велит чародей: отвергать запоздалые уверения, любоваться милой Мери, нетерпеливо ждать и ревновать испанку Инезилью[7].
Глинка пел долго, но восхищённые гости не отпускали его и просили спеть что-нибудь из новой оперы: ведь до спектакля целых два месяца. Тут вмешался хозяин дома. Шепнув что-то Глинке и, видимо, получив согласие, он поднял руку.
— Господа, — начал он, — то, что вы сейчас услышите, может быть, требует разъяснения. Беру это на себя. Опера, написанная на пушкинский сюжет, сама по себе памятник Пушкину. Но вы убедитесь, что наш великий поэт присутствует в опере незримо… Каким же образом он очутился среди витязей и древних колдунов? — продолжал Одоевский, возвысив голос. — Как удалось соединить языческую старину и наше время? Спросите об этом Глинку: он и сам кудесник.
Но Глинка молчал: художник не разъясняет свои творения. И, поскольку Одоевский взял это на себя, он продолжал:
— По русским сказаниям нам хорошо знаком облик вещего Баяна, непременного участника языческих пиров. Выведен он и в опере Глинки — в прологе. Он славит новобрачных, ибо присутствует на свадьбе, — поминает минувшие битвы, а хор радостно откликается. Но старцу ведомо и грядущее. И он запевает новую песню[8]. «Через многие века, — так предвещает Баян, — родится на Руси великий певец: он вновь воспоёт Людмилу и Руслана и тем сохранит их от забвения».
— Пушкин! — воскликнул кто-то из гостей.
Одоевский кивнул и торжественно закончил свою речь:
— Так был воздвигнут памятник внутри памятника!
…Когда хозяин умолк, Глинка начал фортепьянное вступление к песне Баяна. То было сильное, но печальное предвестие — не в лад со свадебным весельем.
…Есть угрюмый край, безотрадный брег…
По смыслу и звучанию песня была светла — пророчество силы и славы. Но какой-то щемящий звук слышался в ней и не умолкал, какая-то скрытая боль и горесть. Глинка пел протяжно и заунывно, запевал, как полагалось в древние времена Баяну, но произносил слова с такой живой грустью, что не прошлое, а настоящее предстало перед всеми: недавняя утрата — гибель Пушкина.
Торжественно и медлительно Глинка заключил песню скорбным афоризмом:
…Но недолог срок на земле певцу…
И последний перебор струн не возвращал к языческому пиру.
4. Опера
На первое представление не удалось попасть; может быть, и к лучшему, оттого что несравненный Ратмир[9] не участвовал в первых спектаклях.
До поднятия занавеса шли толки об опере.
Насколько счастлива была судьба «Сусанина», настолько труден путь второй оперы Глинки. Говорили, что он и сам «замучил» своё создание всевозможными переделками.
— Они были необходимы, — объяснял своему соседу сидевший неподалёку от Стасова граф Вьельгорский[10].— Я сам многое сокращал и, полагаю, — удачно. Дирекция этого требовала. Но даже и теперь, в сущности, сюжета нет, а есть лишь ряд картин с прекрасной музыкой.
— Странные вы люди, господа! — возразил собеседник Вьельгорского, седой полковник. — Прекрасной музыки для вас уже мало! Как будто она раздаётся всюду и всегда… А что до сюжета, то позвольте спросить: что такое сюжет в опере? Можно ли говорить столь определённо о сюжете, когда мы в основном наслаждаемся музыкой и пением? Есть ли сюжет у «Оберона»[11]? Бог его знает. А «Волшебная флейта»? [12] Никогда не понимал, что там происходит. Ну и пусть: музыка прекрасна, большего мне и не надобно.
— Однако бессмысленной музыки не бывает.
— Разумеется. Но в чём он, смысл? Я вот слушал великолепного «Сусанина». Во втором действии враги, поляки, танцуют свои танцы, замышляют недоброе. Мне бы негодовать, а я думаю про себя: «Что за прелесть эта музыка! Хоть бы повторили всё действие, вот была бы радость!»
Вьельгорский засмеялся.
Для Стасова разговор был очень интересен, а кое в чём и задел за живое… Но в зале стало темнеть. Началась увертюра.
Что может быть сильнее юношеских впечатлений? В более поздние годы разбираешься подробнее, как будто и понимаешь лучше.
Но, может быть, прав был именно тогда?
Стасов знал увертюру, но первые удары оркестра заставили его вздрогнуть. Как обширна Россия! Стремительный поток переносил его из одного конца в другой. То сковывало холодом, то палило зноем; что-то ухало, завывало, гремело, стучало… Проносились смутные видения… И вдруг на смену скрипичной буре раздался виолончельный напев — совсем как человеческий голос… И снова буран, снег, рой бесов… Как это было не похоже на другие — немецкие или итальянские — бури! Как самобытно, по-русски вольно и широко!
Но уже в прологе что-то нарушилось, словно действие остановилось. Оказалось, что Вторая песня Баяна[13], посвящённая Пушкину, которую все ждали и которую Стасов слыхал в исполнении самого Глинки, исчезла: её перечеркнула театральная цензура. От огорчения Стасов не расслышал новое вступление хора.
И всё-таки он был счастлив. Даже мертвенная гамма, знаменующая незримое вторжение Черномора, не могла не восхитить. Этот зловещий звукоряд, лишённый мелодии, был задуман великим мелодистом не зря: будь здесь певучесть, как бы мы ощутили присутствие злой силы?
В каждой картине был свой поэтический смысл. Порой Стасову казалось, что, если закрыть глаза и не видеть декораций и костюмов, этот смысл проступит ещё яснее. Даже в танцах: они вовсе не были развлекательными вставками. Если в замке Наины порхание волшебниц было грациозно, легко и музыка говорила, что их назначение — пленять, то в царстве Черномора слово плен обретало другое значение: там были пленники, рабы. Они тоже плясали, но в их движениях, в самой музыке, особенно в неистовой лезгинке, была судорожность, смятение. Слыша приближение Руслана-избавителя, ибо уже раздался клич его боевой трубы, — пленники начинали метаться, рвать свои путы.
Так воспринимал Стасов очарованным, юношески обострённым слухом.
Всё нравилось ему, но более всего — сцена Ратмира. Не оттого ли, что Ратмир был его ровесником?
Низкие, протяжные звуки английского рожка предваряли исповедь юного хана. Они были под стать его изнеженному облику и пылкому, мечтательному нраву.
А его восхитительный романс… Нет, скорее вальс и по размеру, и по настроению. «Чудный сóн — жи-вóй люб-вú»… Конечно, вальс. Но ударения не там, где их ждёшь: такты кажутся укороченными — так и слышится перехваченное дыхание и учащённое биение сердца: «Слёзы жгут — мо-ú гла-зá…»
Стасов невольно покачивался в такт вальсу; сидевший рядом Серов незаметно ущипнул его.
Не зря говорили, что опера Глинки до спектакля подвергалась переделкам и сокращениям. Стасов и сам замечал пропуски и порой словно проваливался куда-то и опять выкарабкивался на поверхность. Но, за исключением этих минут, он слушал и смотрел удивительную сказку, где побеждало Добро.
А что делалось вокруг, как принимали оперу? Было трудно понять.
В антрактах толковали по-разному. Одни превозносили оперу, другие прямо называли её неудачной, третьи недоумевали: «Учёная музыка, ничего не поймёшь». В зрительном зале также нельзя было определить, успех или неуспех. По-видимому, и то и другое. Аплодисменты после увертюры и потом — долгое молчание. Вызовы в самом конце, и где-то впереди — заглушаемый, но отчётливый свист, даже это!
Занавес много раз поднимался, раздавалось имя автора, и опять где-то свистали. Стасову послышалось даже, что в оркестре. Могло ли это быть? Глинка выходил к рампе как будто неживой. Но всякий раз он обращал глаза к ложе, где сидела сухонькая, не старая ещё женщина, его мать. Она ни разу не взглянула в зал, но часто улыбалась и кивала сыну, когда он смотрел в её сторону.
Стасову не сиделось на месте. Он и слушал, и следил за публикой, с нервной чуткостью улавливая оттенки настроений. Публика! Неустойчивая в своих мнениях, чужая, равнодушная… И, пока на сцене гремел финальный хор, Стасова не покидала настороженность. К тому же Серов, где-то пропадавший в антрактах, во время действия был холоден как лёд. Вот и произошла размолвка в тот вечер — господи, пятьдесят восемь лет назад!
5. Глазами друга
Через два года после первого представления «Руслана» Глинка уехал за границу. Стасов так и не успел или не решился познакомиться с ним.
Разговоров о Глинке было немало. Заурядные люди, называющие себя его близкими друзьями, рассказывали о нём охотно и подробно.
Глинка? (Некоторые даже называли его Глиночкой.) Что ж, добрый малый, беспечный, весёлый, хотя и не без странностей.
Любит застолье и музицирование в домашнем кругу. Глядя на него и не скажешь, что это он создал «Ивана Сусанина». Самолюбив, обидчив и оттого называет себя «мимозой».
Ещё — влюбчив, как и полагается художнику. Но в семейной жизни бедняге не повезло. А потому, что неразборчив: пленяется внешней красотой, а души не видит…
…Конечно, в тридцать восемь лет две оперы за спиной да ещё куча романсов — это говорит о таланте, о божьем благословении. Но надо сознаться, он ленив — опять-таки как полагается художнику.
Пошлость этих суждений угнетала Стасова.
Жену Глинки — его бывшую жену — он встречал в свете и был даже представлен ей, но от дальнейшего знакомства уклонился.
А что говорил Владимир Фёдорович Одоевский, образованный, обладающий тонким вкусом? Он высоко ценил музыку Глинки, но его самого, должно быть, знал поверхностно.
И Стасов понял, что великий композитор был, в сущности, одинок.
Но оказалось, что у него был друг, не музыкант и не столичный житель. Петербургских «приятелей» Глинки он избегал, тем более что в столицу приезжал редко. Это был украинский помещик Валерьян Фёдорович Ширков, либреттист «Руслана»[14].
Стасов познакомился с ним случайно и очень заинтересовался этим приятным и скромным человеком.
Разумеется, более всего Стасов расспрашивал о «Руслане». Отчего Глинка выбрал фантастический сюжет? Не сам ли Пушкин навёл его на эту мысль?
Ширков подтвердил: это так. Пушкин воображал свою поэму в виде сказочной оперы. Наподобие «Фрейщюца»[15], но в русском духе. И говорил об этом Глинке.
— А либретто? Он намеревался писать его?
— Это неизвестно. И Глинка не узнал: мы очень скоро потеряли Пушкина. Но, думается, вряд ли.
— Почему же?
— Пушкин сказал однажды, что он бы даже для Россини не пошевелился. Для своего кумира.
— Это могло быть сказано случайно.
— Думаю, что нет. Но если бы даже он захотел…
— Так что же?
— Глинка был бы польщён, но… вряд ли доволен.
— Как это?
— Он не нуждается в готовом либретто, потому что писал свои оперы да и некоторые романсы без слов. До слов.
Это действительно была новость.
…Ширков рассказывал:
— Михаил Иванович приезжал в наши края четыре года назад по делам певческой капеллы. Его «хозяин», князь Львов[16], послал Глинку на юг для набора певчих… Завистник! Как будто другой не справился бы!
— Зачем Глинке служить в капелле? — спросил Стасов. — Ведь он помещик и, кажется, богатый.
— Ну, не такой уж богатый. Семья там большая, а он не единственный у матери. Да и приобщение к капелле могло быть полезным для музыканта, если бы не унизительное обращение директора… Глинка порвал с этим князем.
— Стало быть, вы познакомились в тридцать восьмом году?
— Да. В провинции, знаете, дружба завязывается легче, чем в столице. Глинка стал бывать у меня в доме. Вероятно, заметил мою любовь к музыке. Да и жена моя отличная музыкантша… Глинка говорил, что в нашем доме ему тепло… В один из вечеров он сыграл нам чудесную вещь. Заметьте, не спел, а именно сыграл — на фортепьяно. Он назвал эту пьесу «Моя тоска». Жена захотела переписать её для себя, чтобы разучить, но Глинка сказал, что это не фортепьянное, а вокальное сочинение — каватина[17] Гориславы.
Стасов слыхал о русской языческой княгине Гориславе.
— Нет, не княгиня, что вы! Пастушка, возлюбленная Ратмира. В поэме Пушкина у неё нет имени. Если помните, это мягкий, но беглый портрет. А у Глинки — сильный женский характер… Вот так я узнал, что он пишет оперу на пушкинский сюжет. «Либретто ещё нет, — сказал он, — но весь ход оперы, весь её нравственный смысл вот здесь: в голове и в сердце. Сначала будет музыка, потом слова».
Я мог лишь вымолвить: «Как же так?»
«Мыслей у меня достаточно, — сказал Глинка, — не могу же я дожидаться, пока кто-нибудь изготовит либретто».
«А разве нельзя, — спросил я осторожно, — найти подходящие строки в самой поэме?»
«Не всегда и не везде, — сказал он нахмурясь. — Одним четырёхстопным ямбом не обойдусь. Наконец, слова могут появиться и позднее».
Я неловко спросил:
«Кто же их напишет?»
И услыхал немыслимый ответ:
«Я, собственно, надеялся на тебя. Ведь ты не откажешься?»
— …Если знать обстоятельства, — продолжал Ширков, — то можно и не удивляться. Я кое-что писал для себя; Глинке были известны мои опыты. И он выбрал меня прежде всего потому, что поэт знаменитый не согласился бы. Добро ещё, написать либретто, по которому музыкант построит свою оперу. А то подбирать к готовой музыке слова… «За кого вы меня принимаете, милостивый государь!» Добрейший Василий Андреевич Жуковский был крайне удивлён, когда Глинка принёс ему свою первую оперу в наивной надежде найти в нём либреттиста. Поэт не удостоил рассердиться, только смеялся.
«Ну и размеры! — восклицал он. — Да тут язык сломаешь!»
И, чтобы получилось ещё забавнее, стал нарочно сочинять к музыке нелепые слова да ещё вставлять бессмысленные слоги. Глинка тоже смеялся.
«Эта музыка не согласуется с российским стихосложением», — заключил поэт. Но он желал добра Глинке и отослал его к стихотворцу барону Розену. Тот плохо знал русский язык. Но музыкальные размеры усвоил и натягивал на них свои вирши, как на болванки. К счастью, все были настолько очарованы музыкой, что не замечали нелепостей либретто.
— Положим, замечали, — сказал Стасов.
— Может быть. Тем более, во второй раз рисковать не стоило. Но… знаменитый поэт не взялся бы, а барон Розен решительно не годился. Я же был ни то, ни другое… И Глинка сказал мне:
«Ума и вкуса у тебя достаточно. Я буду посылать тебе ноты, расскажу примерно, о чём речь, а ты уж постарайся угадать слова».
Вот как: угадать.
«Это будет нелегко, — продолжал Глинка, — слова должны быть слышны, но не навязчивы; послушно следовать за мелодией и как бы растворяться в ней, нечувствительно усиливая действие музыки. Тут нужно быть и поэтом и музыкантом… Одним словом, ты справишься».
И ушёл, оставив у меня свёрток нот: «тоску» своей Гориславы.
— И вы отлично справились, — сказал Стасов.
— Глинка одобрил мои старания. Но потом… от либретто не так уж много осталось. Что говорить. Если с его музыкой могли так поступить — и сокращать её и перекраивать, — то что значил здесь мой скромный труд?
6. Некоторые тайны мастерства
— Как же понять? — допытывался Стасов. — Глинка вместо арий писал сначала оркестровые или фортепьянные пьесы?
— Не всегда. Но «Иван Сусанин» был сперва задуман как ряд симфонических картин.
— Как странно!
— Для Глинки это естественно. Он не раз говорил мне, что не может подчиниться чему-то готовому, заданному, определяющему его музыку. Для него мелодия — это уже характер. А как она рождается, это для нас тайна. Говорят, что Шуберт записывал свои мотивы где придётся — на садовой скамейке, на ресторанном счёте, — так внезапно настигало его вдохновение. Возможно, я передаю лишь вымысел современника, но тогда он применим и к Глинке: вдохновение также не покидает его. Слыхали вы миф о царе Мидасе: до чего ни дотронется, всё превращает в золото. Это не пошло ему впрок: царь хотел золота лишь для себя. А Глинка — он все свои впечатления претворяет в музыку и дарит её, как и самого себя, всему свету. Ибо по своей натуре он расточитель, а не собиратель. Но расточитель особого рода: его богатства не оскудевают.
— Разумеется, у мастера свои тайны, — сказал Стасов, — но вам, должно быть, известно больше, чем другому: вы так близко стояли к нему.
— Кое-что удалось подслушать, — сказал Ширков. — Во всяком случае, мне стало известно происхождение некоторых картин «Руслана».
И он принялся рассказывать:
— Как я уже говорил, воображение Глинки неисчерпаемо: мимолётного впечатления достаточно, чтобы родилась целая сцена. Помните ли вы строки, посвящённые Людмиле:
…Она чувствительна, скромна, Любви супружеской верна, Немного ветрена… так что же? Ещё милее тем она.«Немного ветрена»… Эти слова Глинка не раз повторял про себя, когда мы обсуждали будущую каватину Людмилы в прологе. Я не понимал смысла этого бормотанья. Когда же получил от него совсем готовую каватину, то понял: двух слов поэта было достаточно для Глинки, чтобы сообщить музыке оттенок грациозного лукавства. Из двух слов «немного ветрена» возникло разнообразное, ироническое приветствие, которое невеста обращает к своим неудачливым поклонникам: Ратмиру и Фарлафу. Каждое из её обращений к ним содержит как бы их косвенную характеристику: то оно ласково, чуть грустно, чуть томно, так сказать, с восточным колоритом — это приветствие Ратмиру. По отношению же к Фарлафу оно задорно, слегка вызывающе: княжна, в сущности, передразнивает глупого хвастуна. Всё здесь изящно, легко. Но мы-то слышим, какая насмешница наша Людмила.
— «…ещё милее тем она», — подхватил Стасов.
— Вот именно… Но к своим открытиям Глинка приходил разными путями. Бывало так, что поразившее его впечатление забывалось и снова всплывало. Здесь мой рассказ будет продолжительнее, и если вам не наскучит…
— Помилуйте!
— Поэму Пушкина Глинка узнал ещё в детстве. Он рассказывал мне, как ещё в пансионе[18] он и младший брат Пушкина, Лёвушка, слушали чтение их любимого наставника Кюхельбекера. Тот воспитывал в учениках любовь к поэзии и, правда значительно позднее, познакомил их с «Думами» Рылеева. Одна из них была «Иван Сусанин».
Теперь представьте себе: поздний вечер, Вильгельм Карлович читает «Руслана и Людмилу». Мальчики знают поэму наизусть, но они с волнением ждут, когда откроется пещера и перед утомлённым, потерявшим надежду Русланом предстанет волшебник Финн. Вот он рассказывает свою жизнь. Тихий, словно задыхающийся голос Кюхельбекера оттеняет каждый эпизод рассказа: явление красавицы Наины, её жестокий ответ влюблённому; битвы; дружбу с колдунами; наконец, превращение Наины в горбатую колдунью. Всё это вариации[19] на одну горестную тему: неразделённой, запоздалой любви. Прошу заметить это слово: вариации — я его недаром вспомнил.
Затем проходит много лет. Глинке уже за двадцать. Он возвращается домой из Выборга. Северная белая ночь; пейзаж однообразный, пасмурный. И в полном соответствии с этим пейзажем молчаливый финн, который вёз Глинку, затягивает песню на своём языке. Напев печальный, однообразный, без начала и без конца. Но почему-то хочется, чтобы он не умолкал.
Доехав до места, Глинка расплатился с возницей и поднялся к себе. Унылый мотив всё ещё раздавался в ушах. Какое-то живое горестное чувство таилось в этом скупом, упорно повторяющемся звукоряде.
…Потом и двенадцать лет прошло. (Всё это Глинка рассказывал мне сам и с большой живостью.) Он уже писал свою вторую оперу и дошёл до встречи Руслана с волшебником Финном. И тут ожили воспоминания: белая ночь среди чёрных сосен, грустная песенка возницы… Вспомнилось также, как читал Кюхля исповедь старого Финна, чувствительно выделяя каждый эпизод.
Здесь, в музыке, ах как были бы уместны вариации! Сельская природа; любовь; звон булата; тайны колдовства, и так далее. Разнообразная форма вариаций как нельзя более соответствует рассказу старца, он столько повидал, столько пережил. К тому же он кудесник; ему ли не близка магия превращений! А ведь вариации — это и есть превращения!
Но, с другой стороны, народная финская песенка, запомнившаяся композитору, была прекрасна именно своей простотой, своим грустным однообразием: она не поддавалась варьированию, разве только чуть-чуть. А отказаться от неё было невозможно, ибо в ней-то вся суть, вся душа доброго, простосердечного Финна, не забывшего свою первую любовь.
Как разрешить противоречие? Как сохранить единство в разнообразии? Глинка и стоял перед этой задачей.
Стасов слушал чрезвычайно внимательно. Вся баллада Финна припомнилась ему.
— …Но для гения нет ничего невозможного. Старый кудесник у Глинки поёт, как вы помните, свою простую, грустную песенку, западающую нам в душу. А в оркестре, который сопровождает её… О, там-то со всей роскошью и развиваются задуманные превращения. Это сочетание разнородных… явлений представляется мне счастливейшим изобретением музыканта… А вот и ещё один путь, ещё толчок — обыкновенный мимолётный эпизод, коего я был непосредственным свидетелем.
Приехав впервые в Петербург и навестив Глинку, я застал его за работой. И что же? Он немедленно всё бросает, усаживает меня, расспрашивает о моём житье-бытье, затем вызывается показать мне столицу. «Да ведь ты занят!» — «Вовсе нет». И потащил меня с собой.
До обеда мы с ним бродили, были свидетелями ссоры двух поручиков на Литейной — чуть до дуэли не дошло, но кончилось обоюдным согласием закусить и выпить. После обеда мы с Глинкой ненадолго расстались, а вечером он изобразил на фортепьяно будущее рондо[20] своего Фарлафа. Удалой буффонной[21] скороговоркой он напевал: «Близок уж час торжества моего». Только эти слова он и придумал, остальные я потом присочинил.
Я хохотал от души. Глинка мне признался, что эта ария самодовольного забияки была ранее начата, но лишь сегодня получила своё завершение: ссора военных, очень забавных в своём спесивом фанфаронстве, хорошая погода, встреча с приятелем — вот источник задорной комической арии, которую он набросал за четверть часа. Позднее он ещё отделывал её. Не правда ли, сколько во всём этом душевной открытости, славной беспечности, заставляющей вспомнить о Моцарте?
— Однажды я видел его другим, — сказал Стасов.
— Да, бывает, что он замкнётся в себе, станет холоден, но ненадолго. Он ведь тоже замечает недостатки людей. Зато я ни разу не видал, чтобы он что-нибудь прятал — будь то имущество или духовная ценность. Отсюда и родилась догадка о какой-то его лени, нерадивости, — догадка глупых людей.
Жаль, что вам не удалось узнать его: молодёжи это знакомство полезно, ибо он очень образованный, просвещённый человек, хотя и без печати «избранничества». С ним просто и легко, как на вольном воздухе. Не таково ли и действие его музыки?
О чём ещё рассказывал Ширков? По его мнению, Глинка родился слишком рано. Как метеор ворвалась его музыка в нашу жизнь, но для понимания этой музыки ещё не настало время.
Вот почему, страстно любящий Россию, он чувствует себя здесь порой неуютно. Вот он уехал — расстроенный, в тоске. Но другая тоска, тоска по родине, заставит его вернуться.
Противоречий в его жизни много. Общительный и всегда окружённый людьми, Глинка нередко тяготится ими. Стремясь к теплу, он страдает от холода: его душа зябнет.
Но что хуже всего: люди, почему-то имеющие право судить его, распоряжаться им, требуют от него меньше, чем он может дать. Какая трагедия для художника! Он гигант, а его хотят видеть человеком маленького роста. Вспомните, как стремились сделать его оперу хуже, то есть по чужой мерке. И в жизни с ним поступали так же.
Неожиданно Ширков спросил:
— Не думаете ли вы, что такие вот натуры чаще других надламываются?
— Никак не могу с этим согласиться, — сказал Стасов.
7. Позднее знакомство
…Зачем он сидит здесь в полном бездействии у своего рабочего стола и думает о композиторе, который давно уже стал классиком? К чему теперь эти воспоминания, когда они исчерпаны в его, Стасова, многолетних трудах? Всем известно, что он пропагандист Глинки и его многострадальной оперы, недаром Стасов назвал её «мученицей нашего века». Многие знают, как Стасов добивался, чтобы «Руслана и Людмилу» поставили наконец полностью, без сокращений. И в конце концов он добился этого.
«Чего же ты хочешь от меня, Глинка?»
В юности впечатления были свежи, чувства непосредственны и пылки. Но разве с годами эта пылкость прошла? И теперь ещё Стасова называют протестантом, бунтарём. И он гордится своим авторитетом просветителя, идущего против течения.
Чего же ещё добивается упорная память?
В 1849 году Стасов наконец познакомился с Глинкой, недавно вернувшимся из-за границы. Он довольно подробно описал это знакомство, воспоминания Стасова изданы. В них он ничем не погрешил против истины. Но теперь он вспомнил то, что не записал. В ту пору это не казалось значительным.
Композитор сильно изменился за последние годы. Не то что постарел, хотя седина уже проступала в волосах, но в его лице и фигуре была заметна усталость. И всё же первое впечатление было другое… Он держал себя с молодым гостем, как ровесник. Глинка не признавал возрастных рангов. Что такое двадцать лет разницы? Лишь бы люди понимали друг друга.
В просторном кабинете было тепло, светло. Птицы заливались в клетках.
Стасову бросилось в глаза обилие книг: они теснились в шкафах, загромождали большой стол, придвинутый к стене.
Когда Стасов сказал, что он не музыкант и не живописец, а только изучает эти предметы, «чтобы проверить их влияние на жизнь общества», Глинка одобрительно кивнул.
Стасов был уже не юнцом, а двадцатипятилетним человеком, уверовавшим в себя. Он заговорил о Бетховене (самая современная тема!), о его музыке, исполненной непримиримости. И привёл в пример первую часть Героической симфонии. Глинка слушал как-то удивлённо. Сыгранный Стасовым отрывок, как видно, не убедил его.
— Не знаю, можно ли выразить непримиримость в музыке, — сказал он, — да ещё в инструментальной. Непримиримость! К кому? К чему?
— Это свойство сильного характера, — сказал Стасов.
— Сильный характер вмещает многое. Также и доброту.
Но Стасов не мог побороть в себе будущего критика и наставника. Он стал говорить о непременных обязанностях художника: умении ограничивать себя, шагать наравне с веком.
Глинка слушал, слегка откинувшись назад, словно бы собеседник говорил слишком громко.
Он не спорил, но и не поддерживал разговора. Стасов стал рассказывать о своей недавней поездке в деревню и о вынесенных оттуда тяжёлых впечатлениях.
— О, как Радищев был прав! — сказал он. — Если бы появились такие «Путешествия» в музыке!
— Я вижу, вы большой поборник свободы, — сказал Глинка, — но, может быть, и музыкантов и вообще художников также не следует притеснять?
Ирония была едва заметна. Но чувствовалось, что Глинка уже перестал быть ровесником своего гостя. Разница в годах восстановилась.
Прошло некоторое время, и Глинка снова уехал. Он побывал в Париже, в Испании. Говорили, что именно в Испании он нашёл много радостного для себя и даже хотел там задержаться. Но это было лишь намерением… «Арагонская хота» и «Ночь в Мадриде»[22] остались как память о стране, где ему было так хорошо.
Глинка не писал больше опер, но его открытия в музыке продолжались. Была ли то прекрасная музыка к плохой пьесе «Князь Холмский», или новые романсы, или ещё в тридцать девятом году вышедшая лирическая исповедь «Вальс-фантазия», или, наконец, «родоначальница» русской симфонической музыки «Камаринская», — всё это оставляло впечатление блеска и новизны и в то же время чего-то угаданного, до удивления знакомого и отрадного, точно эту музыку давно ждали. Так чувствовал Стасов, так воспринимала Глинку молодёжь… Но в Петербурге в ту пору двор и придворные круги предпочитали итальянскую оперу, и русские композиторы чувствовали себя пасынками.
Вернувшись после странствий на родину в пятьдесят четвёртом году, Глинка застал большие перемены. Уходил в прошлое мир его молодости. Вокруг были новые люди, молодые, энергичные, решительные. Обо всём они судили категорически, а в искусстве разбирались, пожалуй, лучше, чем любители двадцатых и тридцатых годов.
Александр Серов и братья Стасовы[23] были центром нового кружка. Глинка присматривался к ним, чуть подсмеивался над их прямолинейностью и свирепостью, но находил в них много занимательного и дельного.
Он охотно проводил с ними время. Неторопливо, почти флегматично, но со свойственной ему язвительной образностью рассказывал о своих зарубежных впечатлениях. О народных испанских обычаях, о парижском театре. О Гекторе Берлиозе, чьи симфонии восхищали его, а оперы казались не оперными. О знаменитых парижских музыкантах, которые не понимали Бетховена: ухитрились до неузнаваемости исказить Пасторальную симфонию.
— Так и украли её у меня, — прибавил Глинка с комическим вздохом.
Он охотно играл на фортепьяно, особенно любимого Шопена, но собственные новые сочинения показал не сразу.
То были отрывки из начатой симфонии «Тарас Бульба» и оперы «Двумужница».
В опере действие происходило на Волге. Через много лет, слушая «Чародейку» Чайковского, Стасов мог уловить сходство между музыкальным обликом двумужницы Груни и Чародейки — Настасьи. А ведь Чайковский не знал неоконченной оперы Глинки.
В то время Глинка подолгу изучал Баха и Глюка. Он говорил, что от музыки старинных мастеров пролегает мост к будущему, ибо она, эта музыка, неисчерпаема.
Порой он признавался, что его тяготит мелодика[24], среди которой он живёт. Самые пленительные напевы дороги нам как уже созданные. И они вечны. Но горе композитору, который вздумает так или иначе повторять их. Обновление — вот его задача.
«Из всех элементов музыки, — так говорил Глинка, ошеломляя этим Стасова, — мелодия более всего тянет назад. Создавая оригинальную мелодию, прежде всего побеждаешь привычку».
И, может быть, вместо мажора и минора следовало бы вновь полюбить старинные церковные лады, где минор и мажор не так разграничены? Сколько разнообразия появилось бы в сплаве этих ладов с напевами вашего века!
Таковы были высказывания Глинки, которые Стасов запомнил. Что же он упустил? (А сознание упущенного не покидало его.) Может быть, следовало записать чудесные импровизации Глинки, тем более что сам Глинка — расточитель! — не повторял их, редко записывал, не хранил.
Было заметно, что он опять затосковал. Странны и резки были перемены в нём: то его охватывало какое-то лихорадочное нетерпение: скорее бы покинуть всё и уехать.
Он жаловался на холод, кутался в меховой халат и говорил, что только на юге продлится его жизнь. А в иные дни уверял, что не двинется с места и остаток дней проведёт только в Новоспасском.
«Там я родился, там умру…»
Откуда же этот блеск, сила музыки, радость? — думал Стасов в такие минуты, глядя на понурого, молчаливого композитора. — Или не следует разгадывать тайну чудес и не встречаться с волшебниками, а любить только их дела?
Неужели он надломился, как боялся его друг Ширков? Он охладел и к опере, и к симфонии и совсем оставил их. Изменила ли ему та лёгкость сочинения, которая, по словам друга, роднила его с Шубертом? В самом деле, он постарел, болезни донимают его…
Но не слишком ли поверхностны наши рассуждения о лёгкости писания? И — легко ли было Шуберту?
Вспоминая тот сумеречный период в жизни Глинки, Стасов приходил к мысли, что композитор был тогда весь устремлён в будущее. Изучение старинной музыки, поиски новых мелодий, отказ от собственных творений — это не было признаком упадка. Совсем напротив.
Теперь Стасов понимал, что на смену годам достижений и успехов в жизни художника наступают не только недели, но иногда и годы молчания, и эти-то годы значительны, а молчание плодотворно. Потому что в глубине вызревает что-то новое, и чем оно значительнее и новее, тем продолжительнее бывает безмолвие художника.
И кто скажет? Если бы скорая смерть не унесла Глинку, он, может быть, подарил бы нам ещё более прекрасную музыку, чем та, которую мы узнали?
«Но недолог срок на земле певцу».
…Видя уныние Глинки, Стасов принялся убеждать его начать автобиографические записки. Глинка как будто обрадовался предложению, но записки двигались медленно, и писал он их так, словно обязан сообщить лишь необходимые факты, а самое глубокое и душевное прятал.
Весёлым он бывал теперь редко, но Стасов запомнил один радостный день. Явившись с утра, он застал у Глинки Александра Дмитриевича Улыбышева, автора первой русской биографии Моцарта. Улыбышев был не один: он привёл с собой молодого человека, черноволосого и черноглазого, с лицом вызывающим и смелым.
Это был девятнадцатилетний Милий Балакирев, сын бедных родителей, земляк Улыбышева, которого тот случайно встретил и на время приютил у себя, а главное, воспитал музыкально. Должно быть, нелегко было приручить такую своевольную, независимую натуру. Но Улыбышеву, как видно, удалось.
— Вот, рекомендую, — сказал он Глинке, — отличный пианист и горячий ваш поклонник. Сочинил Фантазию на тему вашей оперы… Милий!
Юноша неуклюже поклонился, потом сел за фортепьяно и начал играть. То была фантазия на тему трио из «Сусанина» «Не томи, родимый».
Балакирев показал себя не только отличным пианистом, но и талантливым композитором. Его «фантазия» во всём отличалась от других подобных пьес. Кто только не сочинял фантазий на оперные темы! После Листа это повсеместно вошло в моду. Но Стасова поразило изящество обработки и умный способ сохранить тему. Среди оригинальных гармоний плавно и мягко выделялась певучая мелодия, в которой как бы запечатлелась любовь тридцатых годов: во второй половине века люди любили не менее сильно, но иначе — Стасов это различал. А у Глинки… От раннего романса «Не искушай» и до «Вальса-фантазии» да и позже, — в романсах оживала она, эта юная, вечная мелодика, с её выражением доброй грусти, благодарности, ненавязчивого прощания. В ней была и весенняя чистота, и звонкость, как в песне жаворонка. И Стасову вспомнилось пушкинское «Печаль моя светла…»
Потом Балакирев играл другие свои пьесы. Одна была примечательна. Стасов никогда не слыхал такой странной, почти дикой музыки — вольной, с каким-то явственным посвистом и топотом, с приближением и удалением песни, то бесшабашно-удалой, то заунывной.
— Чудесно! — восклицал Глинка. — Подлинность во всём. Везде сила!
Когда гости, обрадованные похвалами, удалились, Глинка сказал:
— Вот оно, наше будущее. Возможно, что этот юнец станет моим преемником.
Подождав немного, Стасов напомнил о записках. Первую, отредактированную им часть он принёс с собой. Глинка взглянул рассеянно:
— В другой раз, хорошо?
И опять заговорил о Балакиреве. Улыбышев-то молодец — какую нашёл жемчужину!
— Да, — сказал Стасов, — я слыхал об этом Милии. У него было нелёгкое детство.
— Ну, ему тоже палец в рот не клади, — с явным одобрением сказал Глинка. — И сам найдёт дорогу, и других поведёт за собой.
Так оно в точности и произошло[25]…
8. Размышления о новогоднем тосте
…Следовало бы для наступившего новогоднего праздника набросать застольное слово: Стасова на всех сборищах выбирали председателем пира. Шутка ли: канун Нового столетия.
В доме Стасова, как всегда, будет много гостей: Римский-Корсаков, Кюи и тот самый Балакирев, которого чуть ли не полвека назад благословил Глинка. Будут и «внуки», среди них — Глазунов.
Бородина и Мусоргского уже нет с ними. Но хозяин дома почтит их: невидимые, они будут присутствовать на празднике.
Но первое его слово будет о Глинке.
«Как от солнца лучи…» Да, именно так и следует начать тост. «Как от солнца лучи, идут от Глинки все пути русской музыки. Всё — и сказочное, и героическое, и задушевное, — всё от Глинки. И женские характеры, и русский Восток, великолепно открытый в „Руслане“».
Это будет как бы обзор всей русской музыки за прошедший век.
Правда, Стасов уже писал об этом. И нужен ли его собратьям такой обзор, особенно в дружеском кругу? Русские композиторы и сами знают, чем они обязаны Глинке.
Не высказать ли свои теперешние мысли о Глинке, о его последних годах? О том, как его дух не надломился в конце жизни, а продолжал бороться. Не рассказать ли о забытом черновике?
Но, если подумать, разве для современников и будущих поколений так важны намерения художника? Важно то, что он им оставил. А оставил он так много, что всякие мысли и предположения о том, чего он не успел, можно и не высказывать. Тем более в торжественной обстановке.
Так размышлял Стасов.
Что же касается воспоминаний, думал он далее, то они бывают двух родов: одни стоят того, чтобы сделать их всеобщим достоянием — они поучительны. Другие, как бы ни волновали душу, должны остаться в её глубине. Их хранишь, как старинный сувенир, драгоценный для тебя одного.
…Разве какой-нибудь писатель напишет об этом психологический этюд.
Но не такова была натура Стасова, чтобы вспоминать прошедшее для себя без выводов, полезных обществу. Уединения он не любил, одиночества никогда не знал. И то, что не было его прямой задачей, он отвергал.
Вот почему он был склонен даже упрекнуть свою совесть за то, что просидел битый час у рабочего стола, не работая, а только перебирая в памяти какие-то дополнения к биографии, которую он уже исчерпал. Сколько бы ни осталось времени, пускай совсем мало, — занятия живые и нужные ещё ждут.
Со вздохом он отобрал найденные материалы о Верстовском — ведь для этого он и заглянул в свой архив, потом спрятал черновик в шкаф, где хранились старые бумаги.
Был уже вечер. Но пока он продолжается, не прекращается и работа. Владимир Васильевич ещё некоторое время ходил по кабинету. Но скоро успокоился; верный своему обыкновению, он перевернул страницу календаря и стал проверять дневник завтрашних необходимых дел.
ИЗ РАЗНЫХ ДАЛЕЙ
Пролог
Очень высокий, худой человек в очках, не скрывающих ясную голубизну его глаз, стоял в саду, у террасы, глядя вдаль. Он, видимо, ждал кого-то. Солнце уже село, наступил долгий светлый вечер.
Из дома раздавались звуки рояля: жена играла фа-минорный ноктюрн Шопена. Как артистично! Она могла бы давать концерты и радовать не только близких… Не пришлось — в том была не её вина.
Среди кустов запел соловей, но это не мешало слушать музыку. Была какая-то гармоничность в одновременном звучании ноктюрна и соловьиной песни, словно у них был один источник.
Он чувствовал себя очень утомлённым. Напоминала о себе и тяжёлая болезнь. Но в те дни, когда она отступала, он особенно явственно ощущал природу, её запахи, краски, звуки.
Задумчивый Любенск, где он проводил летние месяцы, тихий ласковый вечер, пение соловья и звуки рояля — всё это настраивало на поэтический лад.
Скоро взойдёт луна, а соловей умолкнет. Серебристый свет над озером будет такой же, как в ту ночь, когда морская царевна покинула свой подводный терем, чтобы послушать песню гусляра.
Да, они покидают своё волшебное царство, неземные существа, сказочные духи. Завороженные людскими песнями, они приходят к людям. И тогда рождается новая песня или сказка. Но милые призраки недолго остаются среди людей: они исчезают, тают, и только их прощальные голоса слышатся в брызгах ручья, в журчании убывающего снега.
Надежда Николаевна перестала играть и вышла на террасу. Она знала, о чём думает композитор: недаром они более тридцати лет пробыли вместе. Гости, которых он ждал, приятны ему. Но на прошлой неделе после отъезда таких же приятных гостей ему сделалось худо.
Угадывая её мысли, композитор сказал:
— Будет только Ястребцев да ещё один молодой человек.
— А как ты себя чувствуешь?
— Отлично. Особенно после ноктюрна. — И он поцеловал у неё руку.
Ястребцева, любителя музыки, композитор называл «своим великим почитателем». Ещё молодой, любознательный, напористый, Василий Васильевич Ястребцев был очень музыкален, обладал феноменальной памятью и способностью к анализу. Он и сочинял немного, но было ясно, что он станет не композитором, а, скорее, музыкальным критиком.
Ястребцев приехал вместе со своим протеже, шестнадцатилетним родственником. Тот умолил привести его сюда. Ястребцев сказал хозяевам:
— Вот мой Алёша Дубровин, о котором я вам говорил. Утомлять не будет. Тем более, что я предупредил: не задерживаться и говорить мало.
— Там видно будет, — улыбаясь, сказал композитор.
Юный гость наблюдал.
Хозяин, высокий, бледный, с длинной седой бородой, сам направлял и поддерживал разговор. Один только раз запнулся: «Там, в моей опере… ну там… где пляска скоморохов…» Подумать только: он запамятовал название своей «Снегурочки»!
Ястребцев деликатно напомнил, и разговор продолжался.
К террасе вела длинная аллея. Когда стемнело, показалась луна и осветила озеро среди тростников. Хозяйка, стройная женщина с красивым строгим лицом, заговорила о том, как была создана опера «Садко».
— А вот и декорации! — сказал Ястребцев, указав на озеро и луну. И прибавил, обращаясь к Алёше Дубровину: — Хозяин этого дома — волшебник. Он умеет музыкой рисовать фантастические образы, совсем не похожие на живых людей.
Композитор чуть поморщился.
— «Фантастическая» музыка существует давно, — сказал он, — да и не стоит так резко противопоставлять фантастику реальности. В искусстве эти понятия часто сливаются.
— Например? — спросил Ястребцев.
— Могу сослаться на собственный опыт. Известно, что Царская Невеста — вполне реальное лицо. Это дочь московского боярина, жившего в шестнадцатом веке. Но её нежная, кроткая натура была чужда грубости и жестокости, среди которых она жила. Оттого я придал ей черты Снегурочки, сказочного существа. Снегурочка не жилица у нас на земле. А беззащитная Марфа как бы истаивает в своей прощальной арии.
— Это только подтверждает мою мысль, — сказал Ястребцев, — вы и в реальной жизни различаете две стихии. И если ваши земные создания так часто обретают «неземной» облик, то и духи, не говоря уж о Снегурочке или Волхове, даже Водяной царь и Леший у вас полны жизни.
— Это всё мои хорошие знакомые, — сказал композитор, — я принимаю их всерьёз.
— И однажды поплатился за это, — вставила хозяйка.
— Поплатился в буквальном смысле. За «Шехеразаду» мне решили уплатить только половину гонорара. Никто не сомневался в достоинствах самой музыки, но сказка из «Тысячи и одной ночи» — помилуйте, что за сюжет! Один из членов комиссии так и сказал: «Жаль, что время и усилия потрачены на такой пустяк!»
Гости посмеялись. Ястребцев, должно быть, забыл своё намерение не утомлять хозяев и затеял новый разговор:
— Какое загадочное искусство — музыка! Сильно действует, это правда. Но если нет программы или комментариев, как угадать, что именно замыслил автор?
Хозяин так и встрепенулся:
— Вот как? А в живописи вам всё понятно? Если бы известная картина Леонардо не называлась «Тайная вечеря», угадали бы вы, что там происходит?
— Догадался бы.
— Ну хорошо, возьмём другой пример: что говорят вам без комментариев фигуры Сикста и святой Варвары в не менее известной картине Рафаэля[26]? И, наконец, в литературе — неужели всё ясно? Зачем же критики так ожесточённо спорят и никак не могут прийти к единому мнению? Нет, друг мой, все искусства многозначны; музыка, пожалуй, более других, я согласен. Но она и без всяких объяснений заставляет нас волноваться, и это волнение не безотчётное.
— Я знаю людей и вовсе равнодушных к музыке, — сказал Ястребцев.
— В этом музыка не виновата.
— Разумеется. Но как было бы хорошо, если бы вы, Николай Андреевич, написали книгу о музыкальной эстетике!
— Ну, это не моё дело, скорее ваше. Скрипач — скрипи, трубач — труби… А сочинитель — сочиняй!
— Буду, буду трубить, буду вашим трубадуром, — весело отозвался Ястребцев (он любил такого рода каламбуры), — да только кому же судить об искусстве, как не самому музыканту?
Юному гостю также не терпелось высказаться:
— Эстетики ещё не было, а художники уже творили.
Хозяин с нарочитым удивлением поднял брови:
— Творили? Да разве они боги?
— Да, боги. Сотворил ли бог небо и землю, сомнительно, а Девятая симфония сотворена. И «Снегурочка» также. И… «Пиковая дама».
— Благодарю, что поместили в таком лестном соседстве, — сказал композитор, — но позволю себе заметить, что лучше избегать таких восторженных отзывов. Скромность необходима не только в нашей самооценке, но и в том, как отзываемся о других.
После чая хозяин и гости снова спустились в сад.
— Как мелодичны пьесы Шумана! (Надежда Николаевна играла одну из них для гостей.) Мелодия — это душа музыки. Тем обиднее замечать, что современные музыканты в своих сочинениях пренебрегают мелодией, — заметил Ястребцев.
— Пренебрегают? — переспросил Николай Андреевич. — Нет, погодите, это обвинение серьёзное, но вряд ли оно справедливо. Создать оригинальную мелодию становится всё труднее. И нередко мне приходит в голову, что мелодии уже оскудевают! Это процесс неизбежный, как постепенное угасание солнца. Но наша планета остывает медленно, а для мелодии — увы! — остаются в запасе не миллиарды лет, а какие-нибудь жалкие десятилетия.
— Будем надеяться, — сказал Ястребцев, — что ваши опасения не сбудутся. Если верить математикам, мелодические комбинации неисчерпаемы.
Композитор заволновался:
— Ах, разве дело в комбинациях? Никакая математика не поможет, если нет главного. Мелодии не составляются и не комбинируются. У них более глубокий источник.
Что он хотел сказать? Но продолжение разговора могло ещё сильнее утомить хозяина; да и Надежда Николаевна приближалась с пледом в руках. Это было сигналом. Они проводили гостей в отведённые им комнаты во флигеле. Возвращались молча. Надежда Николаевна была встревожена. Опять он долго не уснёт, потом выйдет в сад и просидит там до рассвета. Но кто знает, всегда ли спасительны осторожность, опасливость, уединение?
Композитор тоже молчал. Окутанный пледом, тяжело опираясь на руку жены, он медленно передвигался по дорожке к дому, не отводя глаз от блистающего озера.
«Нет, — думал он, — всё-таки я задиристый старик. Наедине с природой смиряюсь, как будто все вопросы решены, а перед людьми всё ещё стремлюсь высказаться».
1
Этот июньский вечер много лет спустя описывал историк музыки Алексей Петрович Дубровин. Он писал своему молодому тёзке, который ещё недавно был его учеником.
Теперь этот способный юноша работал в небольшом городе преподавателем музыкальной школы и лектором филармонической группы. В школе с учениками ему было легко. Но с людьми, далёкими от музыки, с посетителями концертов он чувствовал себя на первых порах неловко. Говорить с ними научно — наведёшь скуку, излагать популярно — прослывёшь дилетантом и утратишь доверие.
«Вы как-то нам говорили, — писал он старому педагогу, — что знали самого Римского-Корсакова. Правда, вы были тогда очень молоды, но ведь юношеские впечатления остаются на всю жизнь. Я был бы очень рад, если бы вы рассказали мне об этом знакомстве. Мне так нужен живой штрих!
Музыку Римского-Корсакова я очень люблю, но, когда прочитал его „Летопись“[27], он показался мне каким-то сухим педантом, совсем не похожим на его музыку. Я мог бы, конечно, разобрать перед слушателями некоторые его произведения и этим ограничиться. Но нельзя же ничего не сказать о человеке. А сказать, что он был сухой, холодный, непоэтичный, я же не могу. Да это и неверно».
Алексей Петрович подробно описал свою единственную встречу с композитором в Любенске и отослал письмо. Но в тот же вечер под влиянием живых воспоминаний и грусти начал второе.
«…Не сердитесь за откровенность, милый Алёша, но меня удивляет, зачем вам, музыканту, и музыканту довольно тонкому, с хорошей фантазией, понадобились ещё чужие впечатления. Как дополнительный материал — возможно. Но неужели сама музыка Римского-Корсакова так мало говорит вам о нём самом? А если взять одну только биографию — то, что нам известно, — неужели вы ничего не нашли, кроме сухости и педантства? И вся его жизнь, в которой так своеобразно отразилась эпоха, неужели вы находите эту жизнь неинтересной?
Менее всего я собираюсь давать вам советы в вашем деле. Вы справитесь с ним сами. Но вы заблуждаетесь по существу дела: вы не понимаете Корсакова. Вы даже сами так думаете. Это даёт мне право поделиться с вами мыслями о композиторе и человеке: я не разделяю эти два понятия.
Прочитав „Летопись“, вы пришли в недоумение: сказочник с таким огромным воображением и так сух, так неромантичен в своей исповеди. Обо всём отзывается иронически, совсем не эмоционален и строг, как чиновник… Воспел с такой любовью древние обряды и сам же, по собственному признанию, к обрядности более чем равнодушен.
Вы не одиноки — многие спрашивают меня: „Как он мог написать „Снегурочку“, „Майскую ночь“, „Садко“?“
Но позвольте: где это решено и кем подписано, что любящий фантастику художник обязан всегда говорить о фантастическом, а воспевающий древние обычаи — водить хороводы и, взывая к богу Яриле, прыгать через костёр? Что за смешение художественного с повседневным?
Признаюсь, я терпеть не могу актёров и актрис, которые при обычных, будничных обстоятельствах ведут себя, как на сцене. Так называемая поэтичность, возвышенность, одержимость, проявляемая в быту, все эти необыкновенные „случаи из жизни“, сообщаемые вслух, оскорбляют меня вульгарностью, фальшью. Мне очень не нравится, когда на человеке так и висит его профессия.
„Летопись“, по-моему, выгодно отличается от многих автобиографий, она написана сдержанно, скупо, но очень искренне. Не говоря о том, как много она открывает нам.
Жизнь человека можно прочитать по-разному: одни ничего не видят, кроме унылых фактов, и не вдумываются в них; другие проникаются смыслом этих фактов, видят самого человека среди них — и всё представляется в другом, истинном свете.
Да, жизнь Корсакова кажется ровной, размеренной, как будто без ярких событий, но это на первый взгляд. В действительности она вся состояла из резких толчков и поворотов.
Основные периоды этой жизни удивительно ярки и поэтичны. Город Тихвин, где Корсаков провёл детство, старинные обычаи и обряды (проводы масленицы), северные зори, монастырское пение, колокольный звон! Даже Морской корпус с его муштрой, холодом, телесными наказаниями не мог изгладить эти воспоминания и превратить маленького мечтателя в унылого, загнанного ученика. Но жизнь дарит ему новые радости: его самобытный талант не остаётся незамеченным. Потребность в дружбе удовлетворена полностью: музыканты, старшие годами и более зрелые, принимают его, как равного, в свой кружок[28], а что это за кружок и какое он имел значение для всей русской музыки, вам хорошо известно.
А кругосветное плавание: дальние страны, тропическая природа, океан! Ночные вахты, во время которых он видит несметные чудеса моря и неба. Правда, он был недоволен вначале, что его оторвали от любимого кружка и заставили следовать семейной традиции[29], но как много значили для его таланта эти годы плавания! Почти три года.
В самом деле, откуда эти свежие гармонии и необычная инструментовка его ранних сочинений для оркестра? Откуда это сказочное, волшебное, восточное, что поразило нас в „Антаре“? Дирижёр Артур Никиш, которого я имел удовольствие знать лично, высоко ценил эту симфонию Корсакова. И, наконец, откуда это изображение морской стихии в музыке — ведь тогда это услыхали впервые!
А между тем сила здесь не в одних только редкостных впечатлениях, не в них главный источник, а в вечно живой поэтической душе, которая так чутко их воспринимала. К этому я и веду. Музыкальный дар — это само собой, этого мы не обсуждаем, я говорю о личности.
Были в жизни Корсакова и засушливые периоды (один из них он уготовил себе сам). Но он же и находил для себя обновление.
Я напомню вам об этом.
Римский-Корсаков был ещё молод, его талантливые вещи имели успех — чего же больше? Но то, что не видно посторонним, ощущает строгий к себе художник. И наступает новый поворот, не внешний, а внутренний. А такие повороты не менее резки и значительны, чем толчки извне.
Ни ранняя слава, ни сознание своего таланта не заглушили в нём другого сознания: что ему не хватает мастерства. Он понял, что одной самобытностью не продержишься, а только начнёшь повторять самого себя.
И вот композитор, написавший две симфонии, прекрасные романсы, симфоническую картину и даже оперу[30], начинает снова учиться. Почти целый год, да и позже, он не позволяет себе сочинять: изучает технику композиции. Его друзья недоумевают: одни считают это блажью, другие — „изменой“ (в кружке Балакирева презирали консерваторское учение). Один лишь Чайковский, далёкий от балакиревского кружка, пишет Корсакову, что преклоняется перед его решением и сильным характером.
А ведь в решении Корсакова был риск. Первое же сочинение, которое он после большого перерыва показал друзьям, вышло неудачным: оно было сухо, немелодично, перегружено техническими подробностями. Этот квартет никому не понравился — и самому автору тоже.
Я так ясно представляю себе это злосчастное исполнение, как будто сам, страдая, при нём присутствовал. Так и вижу нахмуренного и даже разгневанного Балакирева, деликатного и очень огорчённого Бородина, непроницаемо-иронического Цезаря Кюи и, разумеется, решительного Стасова, который про себя уже произнёс приговор и сейчас его выскажет: „Погубил ты себя, милый человек, иссушило тебя твоё ненужное учение!“
Но Стасов ошибался, как это нередко бывало с ним. Помните ли вы сказку о мёртвой и живой воде? Лежит в поле убитый богатырь. Прилетел к нему ворон с мёртвой водой, обрызгал тело — раны закрылись, срослись обрубленные члены, а жизни нет. Прилетел с живой водой — богатырь очнулся, встал на ноги. И выходит, что без мёртвой воды живая не помогла бы.
Горько было Корсакову, но он ни о чём не пожалел. Время учения и было для него той необходимой мёртвой водой.
А в чём была живая? Он сухо сообщает нам, что обработка народных песен, за которую он тогда взялся, да редактирование двух опер Глинки возродили его дух; он вернулся к творчеству. Но уверяю вас, и это не помогло бы, не будь он сам богатырь.
В биографиях я нередко читал: „Жизнь мастера уже шла под гору, силы его иссякали, но время от времени он ещё радовал нас…“ Жизнь Корсакова всё время шла в гору. И особенно, пожалуй, после пятидесяти лет. Была, правда, остановка перед этим, его преследовали несчастья: умерла дочь; театры не ставили его опер; ему не писалось, мучили тяжёлые мысли. Но прошло немного времени, и опять наступило возрождение.
Я говорю о том, как он нашёл свой театр в Москве. Вернее, как театр нашёл его[31]. Там пел Шаляпин, дирижировал Рахманинов, декорации писали Васнецов и Врубель. А музыку сочинял Корсаков. Композитор вновь обрёл молодость и силу. Он прожил после того ещё четырнадцать лет и за эти годы написал одиннадцать опер.
Всё выше, всё глубже, совершеннее. „Царская невеста“, „Садко“, „Салтан“. На склоне лет — великолепная партитура „Сказание о граде Китеже“. И острый, злободневный „Золотой петушок“.
Посмотрите, как наряду с этим продолжается его общественная деятельность. Он живёт не одним только искусством. В девятьсот пятом вместе со своими учениками присоединяется к всероссийской забастовке. И его увольняют из консерватории — старого профессора-бунтаря.
Всё это вы знаете не хуже меня, то есть основные этапы. Я же хочу, чтобы вы увидали не ровно исчерченную поверхность, а ту вулканическую глубину, которая под ней скрывается.
…Вы просили рассказать о единственном свидании с Римским-Корсаковым. Я же рассказал о многих, пусть воображаемых, но достоверных. Получилось длинно — прошу извинения.
Порой мне кажется, что мы говорим с вами из разных далей. Слышите ли вы, по крайней мере, мой голос?
Ваш А. П.».2
Ответ Алексея-младшего пришёл скоро. После необходимых слов благодарности он описал свой первый доклад (или лекцию) о Римском-Корсакове.
«…Перед этим был разговор с моим „шефом“. Не могу удержаться, чтобы не передать этот краткий, но поучительный диалог.
Он. Когда будешь говорить о „Кащее Бессмертном“, не забудь сказать, что во время спектакля весь зал кричал: „Долой самодержавие!“
Я. Не весь зал, а только один голос.
Он. Неважно: это был глас народа. А о самой музыке „Кащея“ можешь не распространяться: говорят, она была декадентская.
На этот счёт я его успокоил.
Поначалу я волновался. В зале не рояль, а пианино со слабым звуком. Но играть можно было. Народу пришло больше, чем я ожидал.
Уселись в задних рядах. Приглашаю сесть поближе, жду, никто не трогается с места. И только один, с газетой в руках, расположился в первом ряду перед моим носом да ещё громко шелестел листами. Попросил его не мешать или уйти. Никто не пришёл мне на помощь. Страдая, начал лекцию — решительно и зло. И тот — представьте! — вскоре отложил газету. А задние стали тихо пересаживаться.
Баритон очень недурно спел арию Грязного. И Любаша была хороша, и одна и в дуэте.
Сказав всё, что следовало, я осведомился, есть ли вопросы. Опять молчание. Жду. Наконец — записки. Я предпочёл бы видеть тех, кому отвечаю. Но что поделаешь.
Кое-какие записки дельные: о романсах Корсакова, о его учениках. Правда ли, что Хачатурян его музыкальный „внук“[32]? Можно ли назвать „Шехеразаду“ симфонией? И ещё — о редактировании „Бориса Годунова“. Довольно интересные вопросы. Зато другие!
„Когда к нам приедет польский (или чешский) джаз?“
„Отчего по радио всегда передают Бетховена?“
„А сами-то вы женаты?“
И уже не вопрос, а назидание:
„Классики были слишком медленные, а наши сегодняшние темпы этому не соответствуют“.
Как видите, аудитория хотя и небольшая, но разнородная по вкусам и развитию.
Сегодня была общая тема, а в следующий раз — специальная. О сказочных образах Римского-Корсакова. Это меня немного беспокоит.
…Весь этот сухой отчёт я написал до того, как получил ваше письмо. А когда прочитал его, то понял, что не сказал самого главного.
Вам, конечно, хочется знать, доволен ли я. Безусловно. Есть какая-то особенная радость в том, что приобщаешь людей к музыке. Не то что чувствуешь себя артистом, на это я не претендую, но как-то сознаёшь, что живёшь не зря.
Вот вам мой ответ на вопрос, слышу ли ваш голос.
А вообще — трудно.»
3
«…Рад вашему успеху, Алёша. Интересно, что вы ответили о редактировании чужих опер. Ведь это тоже часть биографии Корсакова. А во мне это задело ещё одну живую струну.
Мы много рассуждаем о дружбе. Приводим иногда — в последнее время всё реже — классические примеры: Орест и Пилад, Дон Карлос и маркиз Поза. А я вам скажу, что не знаю более сильного примера, хотя это не бросается всем в глаза, чем подвиг дружбы, который совершил наш композитор по отношению к своим товарищам.
Я не могу читать без волнения, как он принёс однажды Бородину нотную тетрадь, в которой ещё ничего не было написано, кроме названия: „Князь Игорь, опера Бородина…“ И тех строк, где Корсаков пишет, что готов сделаться секретарём Бородина, только бы он закончил свою чудесную оперу. А она существовала лишь в набросках. И его письма к Бородину, в которых предлагает всячески помогать, перекладывать для оркестра и переписывать по указанию автора. И прибавляет: „А вы совеститься не извольте, ибо поверьте: мне чуть ли не больше вашего хочется, чтобы ваша опера пошла на сцене, так что с удовольствием буду вам помогать, как бы работая над собственной вещью“.
Вы скажете: и Глазунов тут потрудился. Да, конечно, благодаря феноменальной памяти Глазунов воспроизвёл то, что слыхал от самого Бородина. Он запомнил всё, что пелось и игралось на фортепьяно. Большое спасибо за это Глазунову. Но главный труд завершения, как вы знаете, принадлежит Корсакову.
И разве только „Игоря“? А окончание „Хованщины“? А оркестровка „Бориса Годунова“? А „Каменный гость“? Может быть, новые поколения музыкантов кое-что и осудят: скажут, что Корсаков вложил слишком много своего. И уже осуждают. И, может быть, правы. Но разве это умаляет благородство самого поступка?
Мастера уходили из жизни, не успев завершить свои творения, а их современник взял это на себя. Не говорил себе: жизнь коротка, у меня у самого много неисполненного. Он даже не раздумывал над этим; просто взялся за дело и довёл его до конца.
Но я умолкаю: не хочу нарушить ту необходимую скромность, которую некогда завещал мне уходящий из жизни композитор: скромность не только в оценке нас самих, но и в характеристике других лиц, почитаемых нами.
Пишите мне подробно о вашей пропаганде. Это очень хорошо, что вы находите радость в вашем деле — приобщении людей к искусству. Напрасно вы говорите: я не артист и не претендую на это, — вы должны быть артистом. Справедливо избегая сухости в изложении, вы боитесь и свободы, боитесь говорить о композиторе как о любимом вами человеке. Вы, я знаю, опасаетесь, что вас заподозрят в недостаточных знаниях. Но если знания есть, изящная форма не помешает их обнаружить.
Отчего вас беспокоят „сказочные образы“?»
4
«…Итак, Алексей Петрович, я рассадил на эстраде своих музыкантов и в промежутке между их выступлениями рассказывал, что происходит в музыке.
Я не хотел, чтобы это были обычные музыковедческие пояснения: „Здесь в звуках арфы изображаются…“ Или: „Тема, изложенная скрипкой, рисует…“
Но мне и не хотелось излагать голый сюжет оперы. Я попробовал набросать картину — в данном случае Новгородского торжища, поскольку речь шла о „Садко“.
О, сколько прилагательных я обрушил на головы моих слушателей! Были тут вскипающие и отступающие волны (как вы догадываетесь, вступление к песне Варяжского Гостя) и плавный, расстилающийся напев, а также скользящие переходы по извилистым тропинкам (две темы Индийского) и отдалённый, тающий зов Морской Царевны. И реющий колокольный звон. И, наконец, ликующий гимн и горячее понижение голоса в песне Веденецкого Гостя. И другое в таком же роде. О, как приблизительно!
Одно лишь утешение: вслед за моими описаниями раздавалась прекрасная музыка. Она смягчала, облагораживала то, что я говорил. Надеюсь, что, по крайней мере, я не посрамил музыку. Так что, возможно, она простит меня.
Допустил я и небольшое отступление: по поводу песни Веденецкого Гостя. Я сказал, что это баркарола[33], и добавил, что наши русские композиторы удивительно умели воссоздавать дух чужой музыки, будь то итальянская, испанская или какая-нибудь другая.
Я назвал Испанские увертюры Глинки и его романс „Я здесь, Инезилья“. Привёл в пример сцену польского бала в „Сусанине“. Напомнил об „Итальянском каприччио“ Чайковского и, разумеется, об „Испанском каприччио“ Римского-Корсакова. Тут я сослался на вас, как вы, будучи в Испании, слыхали от тамошних жителей, что они чувствуют себя в этом „Каприччио“, как в родной стихии.
Вернувшись домой, я захандрил. Я думал: отчего мне было так трудно? Отчего у меня всё время было такое чувство, словно я должен… ну, оправдать, что ли, композитора за то, что он сочинял сказки? Сознаюсь вам: Корсаков — педагог и общественник, автор „Псковитянки“ и „Царской невесты“, где нет никаких превращений и чудес, мне ближе, чем вся его „волшебная“ музыка. Скажите, чем она была для него?
Отдыхом, развлечением? Средством забвения? Или его сутью, душой, кровной потребностью? В чём источник этого стремления? Может быть, это связано с его жизненной философией?
Вы спрашиваете, почему меня беспокоила тема „Сказочные образы“. Сделаю вам одно признание, может быть, новое для вас. Моё детство проходило как-то мимо сказки. Мои родители, вполне современные люди, увлекаются научной фантастикой, а отец даже пишет в этом жанре. Но в сказках, преданиях и мифах они видят нечто наивное, слишком простое: нужное, может быть, для детей, но устаревшее. Мои ровесники в большинстве думают так же. Да и я… Может быть, из-за моего рационалистического воспитания мне не следовало серьёзно учиться музыке и вообще заниматься искусством?»
5
«…Милый тёзка, вы мучаетесь тем, что не можете найти точные слова, определяющие музыку. Абсолютной точности здесь и не может быть, только приблизительная. Если удаётся хоть пробудить интерес к композитору и к его музыке, то, право же, это самое бóльшее, о чём мы, пропагандисты, можем мечтать.
В вашем отношении к сказке для меня нет ничего нового. Я давно подозревал, что вы слишком… современны. Меня нисколько не удивляет, что люди, увлекающиеся в наши дни научной фантастикой, могут быть равнодушны к сказкам. Это разные миры, Алёша, несмотря на то что и там и здесь необходимо большое воображение. В одном мире — восхищение техническим прогрессом, способностями человека-изобретателя; а сказка сильна прежде всего своей нравственной силой, подвигом доброго человека. Вот почему она никогда не устареет.
Я не смогу объяснить вам, отчего Римский-Корсаков так любил сказку. Может быть, это природное свойство. Но одна ваша догадка безусловно верна: это было его кровной потребностью и в какой-то степени связано с его жизненной философией.
Любовь к сказке для Римского-Корсакова — это часть его любви к природе. Он любит природу, как язычник, как древний славянин, который одушевлял её и поклонялся солнцу за то, что оно дарует жизнь всем и всему на земле. Вы посмотрите: каждому времени года Корсаков посвящает оперу. „Майскую ночь“ — весне, „Снегурочку“ — началу лета. Унынием и увяданием скована природа в его осенней сказочке, в „Кащее Бессмертном“. Зато „Ночь под рождество“ — какое обилие снега, смеха, весёлых игр, чудесных превращений!
Посмотрите: композитор жалеет Снегурочку, растаявшую под солнцем, а сам вместе со своими солнцепоклонниками — берендеями приветствует лучезарное божество гимном:
Свет и сила, Бог Ярило, Светлое солнце наше, Нет тебя в мире краше!Да ещё древним, редчайшим, одиннадцатисложным размером, неудобным для певцов, но родственным старинной славянской песне… Солнце рождает песню, песня творит добро.
Я всегда сравниваю и отождествляю Римского-Корсакова с его любимыми героями. Этот парубок Левко, который бродит майской ночью со своей бандурой, этот любимец солнца пастушок Лель, будящий лес звуками свирели, этот сильный духом гусляр Садко, пленивший всё подводное царство, и мудрый Берендей, и даже Шехеразада с её завораживающим напевом — все они сродни нашему композитору. И не в его ли сети сверкали три золотые рыбки: труд, вдохновение, мастерство?
Но вернёмся к вам, питомцу нашего века. Вы не дружили вовремя со сказкой, не чувствовали её прелести. Готовя себя к профессии педагога, вы менее всего думали, что это тоже искусство. Тем достойнее уважения ваши поиски. Пусть ваши определения не всегда верны, порой холодноваты, иногда напыщенны, но вы музыкант, а музыка научит вас тому, чего вы не успели обрести. Итак, дерзайте, милый Алёша, приближайтесь к истине, и, как вы прекрасно выразились, музыка простит вас. Только вслушивайтесь в неё почаще.
Теперь мы уже не говорим с вами из разных далей.
А. П.».ЩЕДРОЕ СЕРДЦЕ
Часть первая. Обычный день
По вешнему по складу
Мы песню завели.
А. К. ТолстойУтро
1
В половине шестого уже не спится. К тому же накопилась такая масса дел, что лучше приняться за них безотлагательно. В доме ещё тихо, и только из комнаты, где спят девочки-воспитанницы, порой раздаётся бормотание или глубокий вздох.
Лиза спит крепко: она живёт в доме давно и привыкла к здешнему порядку, вернее, беспорядку. Леночку знают с детства, но взяли к себе только год назад; ей всё чудится, что приёмная мать зовёт её во время припадка, что в доме тревожно. Теперь Екатерина Сергеевна живёт в Москве, можно спать подольше, но Леночка по своей натуре хлопотлива, неспокойна; всё ей кажется, она чего-то недоглядела.
Девочки-воспитанницы… А кто их воспитывает? Мать всегда больна, отец постоянно занят. Вот и сейчас он уже встал, сидит за отчётом, а впереди — лекции в академии, занятия в лаборатории, заседание в Обществе химиков да ещё какая-то комиссия по расследованию аптечных трат. Через час в квартиру начнут стекаться разные посетители, званые и незваные, свои и чужие.
Квартира казённая, помещается в самой академии. Кухня внизу, ступени высокие, неудобные. Каждый год в конце лета в квартире перекладывают печи, разбирают полы, чистят канализацию. Из окон дует, всё разворочено. Прислуга нерасторопная, ненадёжная. Но жить всё равно интересно: каждый день насыщен впечатлениями и оставляет приятную память. Если сравнить свою судьбу с судьбами других людей… и если даже не сравнивать, придёшь к мысли, что жизнь очень удачно сложилась: любимый труд, умная, чуткая жена, общение с молодёжью, талантливые друзья; не покидает юмор. Есть даже возможность иногда всласть позаняться музыкой, как это было прошедшим летом.
Конечно, всё имеет свою тень. Занятия порой утомительны, и их слишком много, здоровье уже не то, что было. Жену он не видит несколько месяцев в году и сильно тоскует во время разлуки. Когда же поздней осенью после очередного ремонта петербургской квартиры Катя наконец приезжает из Москвы, начинается то невообразимое существование, которое ужасает Стасова и всех друзей.
У Кати тяжёлая астма, по ночам она не спит, кашляет, задыхается и при этом много курит — частью по привычке, частью потому, что верит, будто курение помогает ей. Когда же в середине ночи ей становится легче, она оживляется; ей приходят в голову разные интересные мысли. Обрадованный Бородин не может оставить её в одиночестве. Но он утомлён предыдущими ночами, когда ухаживал за больной, и Леночка приходит его сменить. (Лизу и пушками не разбудишь, а потом она сердится: «Что же вы мне не сказали?») Но он ещё остаётся. Катя, хмуря брови, говорит: «Тебе нужен покой, уходи». Но видно, что ей хочется отвести душу. И снова чай, и Катино куренье, и разговоры. Когда же приходит утро и начинается жизнь в академии, Катя отсылает всех и засыпает.
2
Осенью в Петербурге слякоть, дождь пополам с ветром, густой чёрный туман. Поскольку квартира не приспособлена для жилья, Катя отсутствует. В Москве климат лучше, да и родные Кати милые, добрые люди, она очень привязана к ним. Бородин сам любит их, но жить с ними долго не может. Весь их уклад, разговоры, полные страхов и недобрых предчувствий, удручают его. Отец Кати был врачом, и нельзя сказать, чтоб семья терпела лишения, но впечатление такое, что им всем угрожает бедность и даже нищета.
Общая тональность этого дома — надрыв; никто, в сущности, ничего не делает, никуда не спешит, все главным образом жалуются: положение ужасное и будет ещё хуже, а облегчить нельзя. Когда их пытаешься обнадёжить, они сердятся:
— Значит, ты отрицаешь, что есть на свете неудачники?
Это спрашивает любимый брат Кати, Алексей Сергеевич, у которого никак не наладится жизнь: у него жена и дети, а он не может найти службу и постоянно лечится.
— Отрицаю. Если у человека есть руки и голова, он не имеет права называть себя неудачником. Завтра может прийти удача. Если, конечно, не бездействовать.
— Тебе легко говорить. Тебе всегда везёт.
На месте Бородина он не сказал бы этого.
Мать Кати, тоже добрая и милая, всегда волнуется. «Ох, сердце не на месте! Так я и знала!» — её постоянный припев. А так как сама Катя умнее и решительнее своих родных, то не им отучить её от дурных привычек. Но в Москве она меньше задыхается и кашляет, вот в чём дело.
Она тоже тоскует по своему петербургскому дому, по мужу, ревнует, порой отчаивается, вообразив себе разные страхи, но домой не торопится и только посылает подробные письма. Пишет она очень живо, интересно, а её описания московских концертов не уступают отчётам хороших тамошних критиков. Жаль, что она почти забросила фортепьяно.
Восемнадцать лет назад, когда он познакомился с Катей в Гейдельберге, она поразила его смелостью и широтой взглядов. Это была новая женщина, в духе Чернышевского. А какая артистка, какой музыкальный талант! Уже тогда она знала всех новейших западных композиторов, играла фортепьянные пьесы Шумана, о которых Бородин имел самое смутное понятие. Он был так счастлив тогда в Гейдельберге, что отблеск этого солнца любви озарил всю их дальнейшую жизнь. Когда он два года назад ездил в Германию и нарочно побывал в Гейдельберге, чтобы всё вспомнить, он плакал от волнения, обходя те места, где они когда-то побывали вдвоём.
Да и теперь ещё, независимо от воспоминаний и несмотря на огорчения, Катя — радость его жизни, его лучший друг. Когда он играет ей своё, она слушает — и как музыкант, и одновременно как непосвящённый любитель. Её замечания метки, удивление и радость непритворны; она боготворит его талант, верит в него и совершенно искренне называет новым Глинкой. И в то же время строга: Балакирев может пропустить то, что Катя заметит и посоветует изменить.
Вообще женщины — строгие ценители: его друг, певица Кармалина, сестры Пургольд, Людмила Ивановна Шестакова[34]. Но более всех — Катя.
Она и сама страдает от своих недостатков. Она писала ему когда-то, что хотела бы любить его «сладко, без яду», то есть без надрыва, меланхолии, тревожных мыслей.
Это не получилось. Что ж, не будь тени, кто ощущал бы свет?
3
Нынешний сентябрь не похож на обычный петербургский. Голубое небо, светлая вода на Неве, прозрачный воздух. Тепло, как летом.
А ведь само лето было холодное, шли дожди! В августе трава пожелтела, а потом опять всё расцвело, пришла запоздалая жара. И тогда-то…
Какое благодатное лето он провёл недавно в селе Давыдове, особенно август! Как много и легко писалось! «Смерть жаль расставаться с моим роскошным огромным кабинетом, с громадным зелёным ковром, уставленным великолепными деревьями, с высоким голубым сводом вместо потолка…» Так писал он в Петербург из деревни. «Роскошный огромный кабинет» — это было место на открытом воздухе под деревьями, на неудобной даче, на задворках дома, где он жил и писал оперу — своё «Слово о полку Игореве». Но пришлось расстаться со всем этим и ехать в Петербург, прервав работу над «языческой» оперой, которая вот уже десять лет как пишется и всё ещё не готова окончательно. Но кое-что прибавилось теперь, и довольно значительное.
И ведь как бывает! У иных вдохновение медлит или препятствия мешают успеху. А тут вдохновение всегда к его услугам, его музыку не отвергают, напротив — ждут её. А приходится подавлять порывы к ней, заглушать: другие неотложные заботы требуют своего. В последнее время это особенно грустно, когда чувствуешь, что сердце уже не то, и устаёшь, и бег времени ощутительнее. И ведь именно теперь, благодаря пропаганде Листа, этого друга русской музыки, имя Бородина стало известно в Европе.
А в иные дни как будто и всё равно. Говоришь себе: такова жизнь, ничего не поделаешь.
Половина восьмого. Девочки уже проснулись, слышатся их голоса. У Лизутки низкий, сочный голос. Полная, румяная, всё ещё заспанная, она не спешит вставать. Ей уже семнадцать, у неё своя жизнь, скоро она, может быть, и покинет их. Но у Леночки нет других интересов, кроме их семьи. Худенькая, проворная, она бесшумно хлопочет. Войдя в кабинет, поднимает на Бородина большие грустные глаза, как бы спрашивая себя: что можно ещё сделать для этого удивительного человека?
Самовар долго не убирается со стола. Двери открыты настежь. Шум, хохот: приближаются «разные народы» — учащаяся молодёжь.
Они не спрашивают, дома ли он. Могут и не поздороваться, а только сказать: «Вот и мы!» Весёлая, смешливая стая. Не найдя хозяина в гостиной и в других комнатах, где, кстати, помещаются заночевавшие гости, новые посетители заходят прямо в кабинет. «Мы не помешали? Извините, мы только на минуточку». Все они приходят «только на минуточку». Но делом уже невозможно заниматься: гости рассказывают интересное. Особенно девушки-курсистки.
Женские медицинские курсы, детище Бородина, помещаются в том же здании академии, и девушки перед началом занятий считают своим долгом навестить любимого преподавателя и наперебой выкладывают все свежие новости. А так как их жизнь заполнена не только наукой, но и многим другим (только о личном говорить не полагается: недостойно, мелко!), то разговор касается самых разнообразных тем: последняя художественная выставка, новая статуя Антокольского, гастроли итальянской примадонны Патти, новый роман Тургенева. И, конечно, концерты Бесплатной музыкальной школы, дела которой известны этой молодёжи и не безразличны ей. Там исполнялась Вторая симфония Бородина, та самая, которую Стасов назвал богатырской; которой восхищался Лист. Это, конечно, лестно, но ученицы Бородина и сами уверены, что симфония великолепна: в ней не только богатырский дух старины, но и нечто глубоко современное… Что же именно, позвольте спросить. Доказать трудно, тем более что они не музыканты, а только любители… Впрочем, одна из девиц выступает вперёд и говорит:
— Мы хотим видеть наш народ сильным, а не только обездоленным. Вот почему нам нравится эта симфония. Она полна силы и света.
Славные девушки! Взять хотя бы их отношение к науке. Их только недавно допустили в это святилище; разумеется, они благоговеют, но как по-деловому, по-хозяйски распоряжаются здесь! И добросовестны, аккуратны до педантизма.
Только бы не было поворота к прежнему. Бородину известно, что там, «наверху», курсы собираются закрыть.
Но молодость беспечна. Смеясь, девушки вспоминают изречение мракобеса: «К чему равноправие полов? В мужчине всё сильнее и значительнее, даже пороки».
— Мы это выразили так:
«Вам равноправие, о женщины, не впрок: В мужчине всё сильней и даже сам порок».— А знаете, что ответил на это наш Князев?
— Тс-с-с! Это пока аноним.
— Ничего, здесь все свои. Вот его экспромт:
«В мужчине всё сильней, чем в женщине, не скрою. И коль мужчина глуп, то он глупее втрое».Общий смех.
— Ну, это уж слишком!
Автора экспромта здесь нет; у него неприятности в академии.
Наговорившись, курсистки переходят к менее важным делам: скоро ли начнутся студенческие маскарады (это не мелко, потому что касается всех).
Костюмированные балы — Катина затея. Они устраиваются в химической аудитории, рядом с квартирой Бородиных. Это удобно — в самой квартире как бы филиал маскарада: там можно переодеться и поужинать.
На этих балах всегда весело. Бородин придумывает разнообразные костюмы и развлечения.
Но теперь он рассеянно кивает, и всем становится ясно, что пора уходить, тем более что занятия скоро начнутся.
Но какая чудесная зарядка! Посетители удаляются один за другим через гостиную, а кот Васька, главный среди других домашних котов, важный, похожий на генерала в отставке, без эполет, — наблюдение Бородина — провожает их скучающим взглядом.
День
Экзамены по химии прошли хорошо: только один студент, недурно подготовленный, но конфузливый и нервный, не сумел самостоятельно выпутаться из затруднительного положения и получил обидный для него удовлетворительный балл вместо отличного. Пришлось успокаивать его и объяснять, что комиссия не виновата. В следующий раз всё уладится, если он возьмёт себя в руки.
Лекции и практические занятия тоже прошли хорошо, и Бородин лишний раз убедился в деловитости женщин, посвятивших себя науке.
Если бы не мысль о комиссии по аптечным тратам, об этой толчее в ступе, которая предстояла в конце дня, он был бы вполне доволен.
Правда, ещё предстоял весьма неприятный разговор с одним влиятельным лицом по поводу студента, которому грозило исключение. Это был тот самый Владимир Князев, который написал экспромт, прочитанный утром курсистками… Вряд ли это могло быть причиной.
Надев мундир со всеми регалиями, Бородин поехал объясняться.
Влиятельное лицо слушало, не меняя брезгливого выражения. Оно не понимало этой симпатии либеральных профессоров к бедным студентам, которые всё равно не кончат курса.
— Этот Князев, кажется, из крестьян? — спросил Влиятельный, чуть смягчившись от собственного каламбура.
— Нет, ваше превосходительство: из дворянского рода, но сильно обедневшего.
— Так-с… — Влиятельный нахмурился. — Может статься, что юноша не совсем испорчен, хотя мне стало известно кое-что о распространяемой литературе. Но пусть всё это преувеличено. Всё же, как человек бедный и, стало быть, недовольный существующими порядками, он непременно начнёт бунтовать и, рано или поздно, будет исключён за более тяжкие проступки.
— О нет, ваше превосходительство, наука настолько поглотит его досуг, что не останется времени для других… мыслей…
— На сей раз, из уважения к вам… — решает его превосходительство.
Но одна трудность уже позади. Всё обойдётся!
…Куда деваются дни? Только что было воскресенье, и вот уже четверг. Неделя пошла под уклон, наступает вечер недели. Но и то хорошо, что близко воскресенье, — день музыки. Он так и сказал Листу, когда был у него в Веймаре два года назад: «Я воскресный композитор: сочиняю только по воскресеньям. Да ещё когда бываю болен». — «А часто это случается?» — «Довольно редко». — «Я так и знал: достаточно взглянуть на вас! — Лист был весел. — Ну что ж: воскресенье — это всё-таки праздник!»
…А вот Стасов ненавидит слово «праздник» — оно напоминает ему праздность. Он не представляет себе жизнь без труда.
Лист смотрел во все глаза. Он знал Стасова как деятельного человека, но чтобы такая крайность!.. «Как же он представляет себе отдых?» — «Как перемену формы труда». — «Ну, а просто лежать в траве и смотреть в небо — это он допускает?» — «Да, но лишь обдумывая очередную статью». Оба засмеялись, и Лист переменил разговор. «Нет, праздник — это для вас хорошо: вы всё-таки торжествуете, побеждаете».
Лист тормошил его, засыпал вопросами, заставлял играть, Он и сам сыграл прямо по партитуре х-молльную[35] симфонию, и как сыграл! Потом спросил: «Откуда у вас такая громадная техника?» Ему, любителю, который занимается только урывками; ему, лишённому возможности ежедневно тренироваться, Лист говорит эти слова! Не о таланте, не о любви к сочинению, а о технике. И спрашивает, откуда она, так как знает, что Бородин в основном учёный, химик.
В самом деле, откуда? Впрочем, Стасов, который всегда трогателен в своей заботливости, сказал ему однажды: «Это вздор, будто вы далеки от музыки и отдаёте ей лишь малую дань своего времени. Вы пронизаны музыкой, вот что! Нет ни одного дня, когда вы не жили бы ею. С самого детства вы ею полны, и не напрасно ваш Зинин[36] всё время беспокоился, как бы она целиком не завладела вами. Да это уже случилось. Вы творите музыку постоянно, это внутреннее, от вас не зависящее. Когда вы идёте в лабораторию проверить, всё ли в порядке, вы незаметно для себя громко поёте и, возвращаясь оттуда, также. Я знаю, что в это время вы сочиняете — да-да! Но я знаю также, что это не будет ни записано, ни даже сыграно на фортепьяно, с ужасом думаю я о том, что самое лучшее ваше произведение так и останется никому не известным… Но я не дам вам уклониться, буду толкать». А что может Стасов? Предлагать темы, собирать материалы, рисунки, песни? Напоминать о долге, будить совесть? О, это очень много, но это и мало. Он не может замедлить течение времени или расширить сутки, прибавив им по нескольку часов. Виновник всех этих стасовских огорчений недолго сокрушается. Сознание трагического, отсутствие надежды не в его натуре. Что-нибудь да произойдёт. И в самом деле происходит.
Когда удаётся записать импровизации, оказывается, это уже готовая музыка. Он пишет прямо набело. Когда Корсаков торопит, напоминая о близком концерте, исписанные карандашом листы покрываются желатином и вывешиваются для просушки. И в концерте всё исполняется.
…Аптечные траты, слава богу, не обсуждались, и заседание комиссии отложено. Так что можно зайти к Сергею Петровичу Боткину[37] — посоветоваться насчёт Кати.
Боткин знал Катину болезнь и сказал то же, что и в прежние разы: если не бросит курить, лекарства не помогут. Катя принадлежала к тем больным, которых он не любил за их упрямство и несобранность.
Боткин был не в духе. Его жена, Анастасия Алексеевна, осторожно убирала со стола бумаги, которые он в раздражении отодвигал.
— Чёрт знает что! — заговорил Боткин, скомкав в руке какую-то записку. — Заставляют меня быть… факиром. Или чёрт знает чем.
— Как это? — спросил Бородин.
— Да вот. Приходят ко мне на днях студенты. У них затевается любительский спектакль в пользу землячества. Ну и отлично, а я при чём? Оказывается, должен сыграть на виолончели. Я им: «Господа, виолончель моё личное дело». А они: «Профессор, ведь вы не из тех, кто ограничивается своей узкой специальностью». Они думают, что у врача узкая специальность!
— Он очень утомлён сегодня, — сказала Анастасия Алексеевна.
— …И ведь меня уговорят! И я вылезу на эстраду со своей виолончелью и проскриплю какой-нибудь ноктюрн.
— Подобную разносторонность как раз и одобряет Лист, — сказал Бородин, улыбаясь, — он называет нас, русских, ренессансными людьми.
— Это в чём же ренессанс проявляется? В том, что медики неважно играют на виолончели, а музыканты состоят казначеями каких-то обществ?
— Значит, по-твоему, — не выдержала Анастасия Алексеевна, — современный человек должен сидеть в своей бочке?
— Вот и заговорила общественная деятельница! Да мне, чтобы стать сносным врачом, пришлось чёрт знает сколько читать, наблюдать, думать, вспоминать! И знать, что всему этому не будет конца. И ведь чем дальше, тем труднее. А сколько надо знать ему, — он указал на Бородина, — как химику? Как музыканту? Нет, други, ренессансные люди — это те, кто развивает всё заложенное в них природой. И развивает мудро, целеустремлённо. А вы разбрасываетесь, словно вам тысячу лет жить. Да ещё горды, что растекаетесь вширь. Глубина, мол, это неважно.
— Вот так и бывает с ним. Удержу нет!
Женщина не то укоряла, не то любовалась им.
— Постойте! — воскликнул Боткин. — Где-то я читал чуднýю сказку про чудных человечков, которые перед самым Новым годом решили зажечь в лесу большой костёр и бросить туда всё, что мешает им быть счастливыми: все условности, заблуждения — сжечь, чтобы в наступающем году действительно обрести новое счастье.
— Никакой такой сказки ты не читал, — сказала жена, как и раньше и укоряя, и любуясь, — ты её только что придумал.
— Ну, и что с того?
— Тогда не говори, что читал.
— Верно: не надо стыдиться собственных мыслей. Тем более, что Новый год не за горами.
…Вот так бы сидеть и разговаривать о необычном: и Боткин повеселел, и Бородину стало легче. Но их каторжная жизнь — так называл её Боткин — не позволяла им заниматься перекабыльством[38]. Надо было спешить.
— Значит, так, — говорит Боткин, провожая Бородина, — пусть Екатерина Сергеевна запомнит: курение в сторону, кислород — в умеренных количествах и лучше всего жить где-нибудь в одном месте.
Бородин вздохнул.
Вечер
1
Было уже совсем темно, но тепло по-прежнему. Дома он застал одну Леночку и вдвоём с ней пообедал. Чуднó: то человек пятнадцать сидят за столом, а то двое. И так непривычно обедать в седьмом часу, непривычно рано. И коты бродят как одичалые.
Лизутки нет дома: она ушла с женихом в театр.
— И мне предлагали, — говорит Леночка, — но я не пошла.
— Да я бы уж как-нибудь пообедал.
— Нет-нет, мне не хотелось. К тому же, — она округлила глаза, — кажется, Мамай заболел.
Это прозвище дальнего родственника, который прибыл накануне.
— Где же он? Я сейчас пойду…
— Да он ушёл.
— Куда? С чего ты взяла, что он болен?
— Он мычал очень страшно. Перед зеркалом. И причесаться не хотел. Сказал, что пойдёт бродить.
— Вот так история! Экономка тоже ушла, ещё с утра.
— Да! А про письмо-то я и забыла!
Письмо — это приглашение от Корсаковых на сегодняшний вечер. Вернее, напоминание. Бородин обещал показать новые отрывки из «Князя Игоря».
— Разумеется, пойду. Только опомнюсь.
Это значит: отдохну. Ложиться до ночи не в его привычках, но посидеть немного в кресле и помечтать — это можно позволить себе сегодня, поскольку день был удачный, а время ещё не позднее. Он сидит у себя в кабинете, закинув голову и закрыв глаза. Лампа затемнена и слабо освещает предметы.
У иных людей бывает свой особый сон, который повторяется несколько раз. У пушкинского Самозванца был такой вещий сон: он возносился на громадную высоту и падал оттуда стремглав. У Мусоргского тоже был повторяющийся сон: шапка Мономаха. И удивительно, что впервые это привиделось ему не в годы «Бориса», а гораздо раньше, в отрочестве. Крестьянские ребятишки будто бы выбрали его своим вожаком, облачили в рогожу, а на голову надели шапку Мономаха. Потом за что-то рассердились и сорвали шапку. Но от этого голове стало не легче, а тяжелее. Может быть, с этим сном связаны сильные головные боли, которые время от времени мучат Мусоргского…
И у Бородина есть свой сон — главный сон его жизни, последних десяти лет. Это его «языческая» опера «Князь Игорь».
Правда, мысль о ней преследует его и наяву, но снится она часто. Это недолгий сон, иногда вольный, счастливый, в другие разы тревожный, но всегда прекрасный.
Это сон звуковой. Его начисто забываешь при пробуждении, но затем, неизвестно каким образом, он оживает в памяти — сразу или по частям. И остаётся только сыграть или записать его.
В этом сне Бородину представляется вся Россия, — стало быть, не только русские, но и другие народы, населяющие страну, главным образом восточные. Россию он видит могучей, вольной; может быть, оттого ему и нравится былинная старина.
Звуки, которые он слышит во сне, необычны. Вряд ли есть инструменты, способные их воспроизвести. Оркестр, голосá только приблизительно воссоздают их.
Самое радостное в этом сне — ощущение свободы, беспредельного простора и силы. Времени — сколько угодно! Пространство — его не окинешь глазом. И всё, что хочешь, сбывается.
«Улетай на крыльях ветра…» То падающая тяжёлой массой, то истаивающая в одиноком голосе, порой унылая и пронзительная, порой праздничная и звонкая, музыка этого сна неисчерпаемо разнообразна. Стоит дать себе чуточку воли — и мелодии начнут сменять одна другую и сплетаться вместе в один узор… И легко-легко, закрыв глаза, представить себе цветы, животных, лица людей. Ещё легче слышать проплывающие звуки…
«Князь Игорь» — главный сон, но разве не снились Бородину и другие его замыслы? Да и сном нельзя назвать эту приятную полудремоту, в которой рождается бесконечная смена звуков. Как на лицах, которые он видит в этом полусне, меняются черты, глаза, выражение, так в пределах одной тональности меняются гармонии, напевы, ритмы. И тональности зыбки. Но всё рождается и движется так легко и закономерно, что нельзя вмешаться, ничего нельзя менять. Так было и с финалом Первой симфонии, и с романсами. «Песня тёмного леса», его мрачная дума возникала вот так же неотвратимо и влекла его за собой, как и дремучие, редкие, гулкие аккорды в «Спящей княжне»[39]. Они, как мрачные колдуны, стерегли сон княжны, а сама мелодия была тоже медлительной, дремучей и прерывалась вздохами: «Спит… Спит…» Словно кто-то нашёптывал ему эти прерывистые звуки.
А похоронные басы, точно могильные плиты в другом его романсе? Эти смертные ступени — восходящие звуки в фортепьяно, продолжающие мелодию затихшего голоса…
Но там, увы, где неба своды Сияют в блеске голубом, Где под скалами дремлют воды, Заснула ты последним сном.Но всё это уже завершено, а теперь надо думать о будущем. И он видит перед собой стены Путивля, и дикую степь, и половецкий стан.
Сюжет «Игоря» отыскал Стасов: он знал, что нужно. Как только заговорил о старинном походе Игоря с дружиной, Бородин воскликнул:
— Вот это мне по душе!
Либретто Бородин писал сам. И начал с арии Ярославны, тоскующей подруги Игоря. Катя увидала здесь свой портрет, конечно идеализированный, без её недостатков. Но сюжета она не одобрила:
— Отчего это вы все — и Мусоргский, и Корсаков, и ты сам — уходите в исторические дебри? «Псковитянка», «Борис Годунов», «Царская невеста»![40] А теперь ещё «Игорь» — вот старина! Неужели вокруг нет ничего интересного?
Это он слыхал и от других.
— Как вы отстали от писателей! — не унималась Катя. — Хорош был бы Тургенев, если бы отвернулся от современности!
— Что же прикажешь взять? — защищался Бородин. — «Накануне»? Или, может быть, «Что делать?»? Сочинять дуэт Лопухова с матерью Веры Павловны? Или ариозо Рахметова… когда он на голых досках лежит?
— Напрасно ты иронизируешь. Тебе это должно быть особенно близко.
Катя не раз сравнивала Бородина с героями Чернышевского: «Доктор Кирсанов ну прямо с тебя писан!»
— Совсем это мне не близко. То есть в музыке.
— Но почему же? Почему?
— Этого я не могу объяснить. Не влечёт, и всё.
— Не понимаю. Не могу понять.
Она понимала, но это противоречило всему её воспитанию.
— Если с тобой согласиться, Катюша, то Глинка должен был непременно написать оперу о декабристах: «Княгиню Волконскую», например.
Катя молчала. Глинку нельзя осуждать. Глинке позволено.
— Однако он этого не сделал, как тебе известно. Выбрал историю, потом сказку… А в обеих операх — ты не станешь отрицать, — героика.
— И в наше время героики достаточно, — сказала Катя.
Но больше не спорила.
Другой разговор был с молодым историком. Бородин показал ему либретто «Князя Игоря».
— Отличная канва для музыки, — сказал историк, прочитав либретто. — И текст превосходный. Могу предсказать успех. Но… драматизма подлинного нет. Слишком уж всё примиряюще. И — неправдоподобно.
— То есть?
— Да вот пример — отдалённый — Тарас Бульба у Гоголя убивает родного сына за то, что тот полюбил польскую панну во время войны с поляками…
— Не за то, а за измену товариществу, родине.
— Такая любовь во время войны уже есть измена родине. Во всяком случае, может привести к измене. И — привела. Вот и драма. А у вас сын русского князя, воин, участвующий в походе, заводит роман с дочерью половецкого хана. И остаётся прав. «О моя ла-а-да!» И сам хан у вас такой благородный, милостивый к своему врагу. А ведь жестокость и коварство этих завоевателей были беспримерны.
— Опера не хроника и не учебник истории.
— Вы правы. Поэты и живописцы часто с историей не в ладу. Вспомните Шиллера… Что же с композиторов требовать? Может, так и надо.
— Мы историю изучаем…
— И Владимир у вас Галицкий — личность сама по себе омерзительная — даже в сценарии не лишён некоторого изящества… А в музыке — воображаю, что будет!
— Я его приукрашивать не стану. Он циник, и поэтому…
— Уж вы сочините! Нет, музыка с историей не в ладу.
На это можно было возразить, что и сама история не такая уж непогрешимая наука. Недаром одна школа сменяет другую… Но замечания задели Бородина. В самом деле, в либретто мало действия, конфликтов нет. Он охладел к «Игорю», и работа остановилась.
А жизнь мчалась и требовала своего. Целых четыре года прошло, прежде чем он снова вернулся к своей опере. Но за эти годы во многом изменились его собственные воззрения. Он теперь знал, что опера будет эпическая, а в эпосе музыкальном другие характеры и отношения, чем в лирике или в драме. Так шесть лет назад, в семьдесят третьем, опять началась его жизнь в музыке. Это захватило его сильнее, чем наука и преподавание, хотя внешне было почти незаметно, и друзья упрекали его, что опера не двигается вперёд.
Он побывал в старинных русских городах: во Владимире, в Суздале; слушал в церквах пение и колокольный звон, изучал Ипатьевскую летопись. Просил Стасова свести его со знатоками восточных обычаев. Стасов знал всех и вся и вскоре разыскал венгерского этнографа Хунвальфи. Тот, оказывается, обнаружил в Венгрии целую деревню, населённую потомками древних половцев. Сохранившиеся в тех местах тюркские напевы он прислал Стасову, а тот показал их Бородину.
Пригодились также сборники русских песен и мелодии, услышанные в народе, вроде песенки горничной Дуняши, которую она привезла из деревни, и запевов давыдовского крестьянина Вахрамеича.
И опера двигалась, несмотря ни на что. Бородин лепил её крупно, рельефно, с большими ариями и ансамблями.
Его идеалом были оперы Глинки, в особенности «Руслан». Напротив, «Каменный гость», где музыка гибко следовала за каждым словом, нравился ему, но не увлекал. Он не мог бы писать оперу сплошным речитативом[41], даже самым выразительным и красивым, как у Даргомыжского, хотя и сам владел речитативом и, где нужно, умело применял его.
Покойный Даргомыжский знал эту особенность Бородина. Он любил его, как сына, и уважал его стремления и наклонности, несмотря на то, что они расходились с его собственными.
«Игорь» был логическим продолжением симфоний Бородина и его романсов: Стасов называл их эпическими картинами; и так же понимала их Сашенька Пургольд, их первая чуткая исполнительница. Та самая Анна-Лаура[42], которая в «Каменном госте» оттеняла каждое слово в раздробленной мелодии, пела совсем по-другому романсы Бородина: сразу схватывала основное и широко обобщала.
Прошедшим летом в «роскошном кабинете под голубыми сводами» он успел написать почти всё первое действие оперы. Да ещё был задуман квартет.
Всё это или хотя бы часть он должен показать сегодня у Корсаковых.
2
…Леночка обещала разбудить, так что можно не беспокоиться. Да он и не спит. Или, пожалуй, спит. Потому что ему видится квартира Боткина; только это не квартира Боткина, а опушка тёмного леса. Какие-то чудные человечки в остроконечных колпаках сидят вокруг зажжённого костра и колдуют. Среди них сам Боткин в каком-то странном одеянии: на нём белый халат, вроде медицинского, но из плотной блестящей материи, и сам он вроде мага.
Ага! Это продолжение сегодняшнего разговора.
«Скоро Новый год, — сказал Боткин, — вот и новогодний костёр. Сейчас разгорится… А вы, — обращается он к человечкам, — изыдите! Своё дело сделали, и ладно. Как нужно будет, позову».
Человечки скрылись. Боткин крикнул куда-то вдаль:
«Потуши, Настенька, лампу! Вот так. Уютнее и фантастичнее».
Вокруг стало ещё темней, а костёр запылал ярче.
«Нет, ты всё-таки ренессансный человек», — сказал Бородин.
В этом сне Боткин — его интимный друг.
«Это я сейчас докажу. Костёр зажжён, пора дать ему пищу. Ну, Александр Порфирьевич, бросай!»
«Да нет у меня ничего такого, что я хотел бы…»
«Есть. Уверен, что, избавившись от своего хлама, ты почувствуешь громадное облегчение… Да что-то горит плохо. Эй, вы, сюда!»
В темноте опять замелькали остроконечные колпачки. Бородин отшатнулся.
«Не беспокойся: вот их уж и нет. Попробуй, и увидишь, как славно будет».
«Делай как знаешь», — говорит Бородин неожиданно для самого себя.
«Отлично! Прежде всего швырнём туда твоих котов…»
«Постой!»
«Зачем тебе столько котов? Огромные, жирные, вечно разгуливают по дому, садятся на стол, на шею к тебе, рвут бумагу, царапают гостей. У меня вот шрам — видишь?»
Странно: то он выглядит волшебником, а то становится похож на того Боткина, которого все знают. И говорит тоже по-обычному:
«Коты — это негигиенично: от них могут быть разные болезни. Итак — в огонь!»
«Что ты! Живых тварей!»
«Да ведь это так… Ты их и не увидишь».
«Ну, если не увижу…»
«А ведь тебе легче стало? Признавайся!»
«Чуточку легче».
Боткин хлопнул в ладоши:
«Теперь настала очередь всяких твоих родственников, приживалов, трутней, этих твоих Мамаев и прочих. Многих ты даже не знаешь. А они, пользуясь твоей добротой, отнимают бездну времени… Что говорить: живёшь ты безалаберно, дико, вредно, и при твоей комплекции, если не возьмёшь себя в руки, долго не протянешь. Это я тебе как врач говорю».
Подул ветер, деревья застонали, но костёр всё так же ярко горел.
«Ну как? — продолжал Боткин. — Долой надоедливых посетителей, дураков, салопниц, дармоедов, всё лишнее, мешающее, весь этот… ренессанс… Воздуху!»
В самом деле, становилось легко.
«А теперь долой ко всем чертям все твои так называемые общественные обязанности».
Бородин пытался протестовать, но голос ему не повиновался, и он только замахал руками.
А Боткин между тем приговаривал над огнём:
Гори, гори ясно, Чтобы не погасло.Он и ещё шептал что-то; Бородин разбирал слова, уже относящиеся к нему самому:
«…И секретарь, и дежурный член чего-то, и казначей. Ну зачем? Неужели другой не справится? А он близорукий, рассеянный. Попадётся когда-нибудь с недостачей и угодит в тюрьму».
«Авось бог милостив…»
«Бедлам какой-то в доме, — продолжал Боткин. — Двери никогда не запираются. Со стола не убрано. Все говорят в голос. И за каждой мелочью — к хозяину. Соломон Мудрый…»
«Но я должен кипеть в этой гуще! — вскричал Бородин. Слово „кипеть“ напомнило ему другое слово, очень убедительное. — Не забывай, что я прежде всего химик!»
«Прежде всего? — Боткин обернулся. — Вот эту химию твою… — И он закричал громовым голосом: — Туда! В огонь! — Он снова хлопнул в ладоши. — Ты музыкант прежде всего — вот ты кто!»
И он стал говорить страстно, горячо; убеждать Бородина в его музыкальном гении. Да, он выдающийся химик, но музыкант — великий! Боткин называл его Суворовым, который не знает поражений; доказывал, что он завоевывает сразу, без усилий, то, чего другие достигают годами нечеловеческого труда. А «Князь Игорь», дело всей жизни, не закончен. И не будет закончен, не будет! А время бежит, бежит, даже в ушах свистит от этого бега.
И Бородин слышал этот свист и ужасался.
«И проживи мы ещё хоть пятьдесят лет — здоровыми, крепкими, — и то ничего не успеем».
«Ну, пятьдесят лет — это много».
И Бородину стало опять легко, словно ему уже подарили эти добавочные пятьдесят лет.
Но вот уже не лес, а квартира Боткина, его кабинет, который он уже видел сегодня. Сегодня? Хозяйка дома Анастасия Алексеевна сидит в стороне с печальным видом.
«Вот в чём твоя беда, — говорит Боткин, — ты не сознаёшь своего несчастия».
А лёгкости уже нет, напротив: тоска, тревога.
«Я очень уважаю твои научные заслуги, но господи, — потомки станут спорить, чтó было важнее у тебя: химия или музыка. И будут уверять, что одна другую питала…»
«Пусть спорят… Я ведь не услышу… А наука — это большая часть моей жизни… Это вся жизнь…»
«Да нет, — заговорил Боткин. — Я знаю, что в глубине души ты думаешь то же, что и я. Разве ты не хотел бы жить только для музыки? Разве это не самое дорогое, самое радостное в твоей жизни?»
«Пусть так. Но я не могу жить иначе…»
«Ты не живёшь, ты только вертишься!»
«Я не могу гнать людей, обижать их, говорить: вас много, а я избранный. На каких весах это измеряется?»
«На самых точных».
«Ну, пусть, — говорит Бородин, — ты прав: я страдаю, оттого что нет времени сочинять. По ночам не сплю, боюсь. Боюсь, что вдруг прервётся нить, иссякнет вдохновение. Это уже и теперь происходит, если хочешь знать».
«Тогда спаси себя, пока не поздно! — гремело в ответ. — Пока не поздно, Бородин!»
«А может быть, уже поздно, почём ты знаешь?»
«Ну нет, я верю в тебя».
— …Роднуша, ты спишь?
Это Леночка. Но он чувствует потребность довести свою мысль до конца:
— Есть такие симфонии: отдельные партии неинтересны, а начнут исполнять всем оркестром — выйдет и красиво, и стройно, и осмысленно.
— Ты это мне? — спрашивает Леночка.
— Да. Это и тебе полезно. Так вот, я говорил о симфонии. Без второстепенных голосов её не будет.
— Понимаю, — сказала Леночка.
— Так и моя жизнь. Много в ней нелепого, непонятного, как будто лишнего, безусловно вредного. Но это жизнь, и другой быть не может. Всё необходимо для меня.
— Ничего у тебя лишнего нет, — говорит Леночка.
— А… Ну хорошо. Сейчас пройдёт одурь. А этот Мамай — он вернулся?
— И снова ушёл. Взял чемодан и отбыл.
— Господи!.. Куда?
— В Нижний… А ты не забыл, что тебя ждут? Я тебе всё приготовила.
Нет, он не забыл.
— А сколько же времени я… просидел тут?
— Целый час…
— Всего только? А я думал, что спал гораздо дольше.
— Да ты и не спал вовсе. Я заходила. Ты разговаривал сам с собой.
Как только он попадает к Корсаковым, вся суета и заботы мгновенно забываются. Лица, к которым он так привык, что не замечает в них перемены, рояль в середине комнаты, портреты с автографами, небогатое убранство… У Бородиных никогда не бывает так уютно, словно они с Катей и девочками живут в своей квартире временно, как на биваке. Здесь же всё твёрдо, прочно. Наверное, нет такого кресла, о котором надо предупреждать: «Осторожно, у него ножка не в порядке». Катя даже к некоторым стульям и этикетки такие приклеила.
Сам Корсинька удивительно мил и радушен. Потирает руки, не знает, куда посадить. Его глаза за очками сияют от предвосхищения музыки, которую он уже отчасти знает. Но его радость неполна, пока её не разделили другие.
Хозяйка, Надежда Николаевна, в светло-сером платье, стройная, с неизменной гладкой причёской, которая так идёт к её строгим чертам, встаёт из-за рояля — это её место, — чтобы приветствовать гостя. А Сашенька, полная противоположность сестре — с неправильным круглым личиком и пышными взбитыми у лба и распущенными по плечам кудрями, вся порыв, огонь, Госпожа Неожиданность, — говорит о чём-то в углу с Дмитрием Стасовым и громко смеётся. Её зрелая красота выступает сегодня особенно ярко. Ах, Сашенька, прелестная Анна-Лаура, отчего вы так легко отступились от Мусоргского? Ваш муж славный, симпатичный, умница, но он не нашего клана и оценить ваш талант не может, как мы. Верен ли слух, что он запрещает вам петь на сцене? И что вы, затмевающая знаменитых певиц, соглашаетесь остаться только любительницей?
…Она кивает Бородину.
— Мне сегодня достанется, — говорит она со смехом.
О да, ей предстоит петь и Ярославну, и Кончаковну, и даже изобразить женский хорик. Впрочем, здесь Алина Хвостова[43] со своими ученицами; значит, женский хорик, может быть, и прозвучит. Мусоргского нет, а то он спел бы все мужские партии. Нет, вряд ли: в последнее время он сильно спал с голоса.
— Где он пропадает? — осведомляется о Мусоргском один из гостей.
— Вы это верно сказали: именно пропадает. — Владимир Стасов качает своей живописной головой, и общее настроение омрачается.
Люди вокруг разные, у них даже противоположные вкусы. Но музыка «Игоря» нравится решительно всем. Михаил Фёдорович, тот самый историк, который не признавал драматизма в сценарии оперы, слушает арию Галицкого с нескрываемым удовольствием. При словах:
«Пожил бы я всласть:
Ведь на то и власть…» — он даже подмигивает Бородину, и тот понимает, что значит это подмигивание: да, князь Галицкий отталкивающая личность, но музыка, его рисующая, совсем не отталкивающа — не может быть такой музыки. И в то же время она совсем не смягчает облика Галицкого, нисколько не оправдывает его: мы знаем, что он плох, музыка говорит об этом, а слушать нам приятно. Таково свойство музыки.
Плач Ярославны, её сцена с обиженными девушками, которые просят заступиться за их подругу (как удачно выбран здесь народный пятидольный[44] размер), потом разговор Ярославны с обидчиком — её беспутным братом князем Галицким, его издевательские ответы, её благородный гнев — всем этим можно было насладиться сполна. И ещё — глубоким вниманием, с каким гости Корсакова всё выслушали. Когда же начался хор бояр: «Мужайся, княгиня, недобрые вести», и потом — пусть на рояле, но по-оркестровому грозно — запылал пожар и загудел набат, (Надежда Николаевна была мастером таких оркестровых звучаний на фортепьяно), Стасов даже встал с места и победоносно оглядел всех. И до конца сцены простоял так, скрестив руки на груди. А после широкими шагами приблизился к Бородину.
— Вот уж подлинно, — загудел он не хуже тех фортепьянных басов: — «Еду-еду не свищу, а наеду — не спущу!» Низкий поклон вам за это.
И он действительно низко поклонился и даже отступил на шаг, потеснив других, что при его росте было особенно заметно. Будь это кто-нибудь другой, не Стасов, этот эффектный поклон и торжественные слова показались бы напыщенными, отозвались бы театральностью и фальшью. Но у Владимира Васильевича все его порывы были так искренни, а сам он был такой крупный и колоритный, что его размашистые жесты и восторженные восклицания казались совершенно естественными. Напротив, простота и тихость в этом представительном человеке, созданном для борьбы, казались бы неуместными. Даже Корсаков, для которого малейшая фальшь непереносима, и того нисколько не покоробила громозвучность Стасова. Он сам начал аплодировать, протянув вперёд руки.
— Грандиозно! Феноменально! — восклицал Стасов. — Дорогой мой человечище, сколько в вас силы!
Потом он прибавил всё так же торжественно:
— Вот мы и узнали новые богатства. Но ведь и прежние не менее великолепны!
Сёстры — Надежда Николаевна и Сашенька — переглянулись. Александра Николаевна подошла к роялю. И все увидали перед собой пылкую, своевольную дочь хана. Окончив арию и грациозно поклонившись, она отошла, оставив сестру у рояля.
И тогда-то Надежда Николаевна сыграла Половецкие пляски, своё переложение для фортепьяно — со всеми подробностями гармонизации. Оттого нетрудно было вообразить себе и оркестр, и большой хор, и всю нарастающую стихию плясок с их жаром, звоном, раздольем.
Бородин слушал пианистку и вспоминал, как она молоденькой девушкой появилась в Балакиревском кружке, поразив всех талантливостью, и как её единодушно назвали: «Наш милый оркестр».
— Посмотрите на Бородина, — сказал Дмитрий Стасов, наклонившись к Людмиле Ивановне Шестаковой. — Какое у него сейчас прекрасное и счастливое лицо. Вот была бы находка для Репина!
— Да, — сказала Людмила Ивановна, посмотрев на Бородина всегдашним материнским взглядом. — Но в лице что-то грустное. Всё-таки его жаль.
Это уж было её особенностью — жалеть тех, кто моложе.
Была глубокая ночь, когда Бородин вернулся домой. Ему казалось, он долго не уснёт, но сон пришёл почти мгновенно, как бывало в молодости, когда спалось сколько угодно и в любом положении и двух часов было достаточно, чтобы проснуться свежим и бодрым.
Ему ничего не снилось на этот раз: его сон сбывался наяву.
Он хорошо выспался, а на следующее утро получил телеграмму от Кати… В ушах ещё звенели звуки, звоны, отголоски вчерашнего, но утренние шумы и предчувствия дневных забот уже заглушали музыку. Она бледнела, таяла, снова возвращалась, как набегающая волна, но с каждым разом всё слабее и прощальнее…
В передней кто-то крикнул:
— А вода на Неве прибывает!
Без стука открылась дверь: в комнате показался сначала край большой дамской шляпы, потом фигура женщины с чемоданами — Лины Столяревской, близкой знакомой, которая подолгу жила в доме, уезжала рассерженная и снова как ни в чём не бывало возвращалась.
Лизутка убежала на курсы. Леночка стала готовить завтрак.
Список дел на сегодня оказался огромным, да ещё затесалось туда непредвиденное объяснение с коллегой по поводу пустующей соседней аудитории, где проходили студенческие балы. Коллега собирался оттягать её для своих занятий.
Вчерашняя музыка совсем смолкла, но уже появилась новая и громко зазвучала. Это могла быть увертюра к «Игорю», которую он ещё не начинал. Или другое. Она пришла, как пришло утро. Обычный день начинался как всегда.
Часть вторая. Невыдуманный рассказ
«…И тем, кто не слушал, тем также привет».
(А. К. Толстой. «Слепой»)Одиннадцатого февраля тысяча восемьсот восемьдесят седьмого года Александр Павлович Дианин, молодой химик и любимый ученик Бородина, занимался в своей лаборатории. С тех пор как он женился на воспитаннице Бородина Лизочке Баланевой, как-то само собой получилось, что он поселился в той же квартире, вошёл в дом, как сын, да он и был дорог Бородину и его жене, как свой, родной.
Екатерина Сергеевна жила в те дни в Москве. Год назад её здоровье настолько ухудшилось, что врачи уже не подавали надежды. Но её организм справился с этим испытанием. Зато на Бородина страх и тревога и всё напряжение ужасных дней сильно подействовали; он долго не мог прийти в себя. К тому же за год до того он и сам перенёс тяжёлую болезнь, от которой не совсем оправился.
Живя в одном доме с Бородиным и видя его постоянно, Дианин не замечал перемен в своём старшем друге. Но несколько дней назад, застав Бородина в комнате, которая называлась «каминной», Дианин остановился, поражённый странным видом Александра Порфирьевича. Не то чтобы постарение — Бородин давно уже выглядел старше своих лет из-за полноты, — но какое-то отсутствие жизни, если можно так сказать, какое-то выражение обречённости было и в позе Бородина, и в лице его, и в потухших глазах за полуопущенными веками. Он сидел у самого камина и бросал в огонь порванные письма, безразлично следя, как они исчезали в пламени.
Увидев Дианина, он выпрямился, машинально бросил в огонь ещё один конверт с письмом и неловко потёр руки.
— Привожу в порядок своё хозяйство, — сказал он.
Заметив, должно быть, испуг в глазах Дианина, Бородин изменил тон, заговорил мягко и серьёзно:
— Я, дружок мой, отлично знаю своё состояние… Стало быть, надо не спеша и, по возможности, без особенной тревоги распорядиться всем необходимым. Лучше сделать это в отсутствие Кати. — И он сгрёб оставшиеся письма и спрятал их в конторку, которая стояла в «каминной».
Бородин любил эту комнату: в кабинет часто заходили посторонние и беспокоили его, а «каминная» была отдалённее да и теплее, чем другие комнаты.
Теперь Дианину казалось, что он замечал и раньше признаки болезни и угасание бодрости в Бородине. Александр Порфирьевич нередко засыпал при разговоре, а иногда это случалось с ним и во время лекции. Его рассеянность усилилась, он задыхался при ходьбе. Появилась и небывалая раздражительность; особенно действовали на него несогласия между близкими, их ссоры, а они, к сожалению, случались. Он выговаривал даже Екатерине Сергеевне, и это были уже не прежние добродушные замечания, полные юмора и прощения, а сухие, часто негодующие упрёки. Разумеется, всё это чередовалось со светлыми периодами. После возвращения из Бельгии[45], где его музыка имела большой успех, он вернулся бодрым и весёлым, но потом снова помрачнел и в письмах всё чаще выставлял знак уныния[46].
Но как раз в последние дни, особенно после того как он сжигал письма, Александр Порфирьевич повеселел и стал напоминать того Бородина, который всех заражал своей энергией. Ясными, мажорными были эти три дня, и снова казалось, что здоровья хватит ему надолго. И то сказать, ведь он был ещё не стар[47].
Дианин работал в лаборатории и вдруг услыхал звуки фортепьяно за стеной. Это играл Бородин. Должно быть, в перерыве решил заняться немного музыкой, как бывало раньше. Дианин невольно прислушался. То была импровизация и, судя по многоголосью и компактности звучания, задумано было произведение симфоническое. Обладая хорошим слухом, Дианин мог уловить какую-то связь с анданте[48] Третьей симфонии Бородина, с вариациями, которые он недавно слышал. Неужели это финал?
Поначалу он прислушивался к отдельным фразам, но затем совершенно отложил свою работу. Там, за стеной, играл бог. Свободно и широко, словно несколько оргáнов соединили свою мощь, разрастались звуки. Дианин мог бы сказать себе, что такой музыки он ещё не слыхал — ни у Бородина, ни у кого другого. Разве в детстве, слушая ораторию Генделя, испытывал такое же волнение.
Он не помнил, сколько длилась музыка. Но только понял по своему испугу и растерянности, что она кончилась. Ему показалось странно и страшно вернуться к тому, что было вокруг и в чём он совсем недавно так хорошо ориентировался.
В лабораторию вошёл Бородин.
— Ну, Сашенька, — сказал он прерывистым голосом, — поздравь меня: я только что кончил симфонию! — Он прикрыл глаза рукой, другой потрясал в воздухе: — Я знаю, что у меня есть недурные вещи… Но это такой финал! Такой финалище!
Дианин вскочил с места. Что следовало делать? Просить Бородина сейчас же записать финал? Не медля ни минуты. Сказать: «Если ты сжигал письма, заботясь о будущем, то пойми, насколько важнее сохранить твою музыку!» А может, следует побежать за Глазуновым, привести его, заставить Бородина в его присутствии повторить импровизацию? Глазунов записал бы и, уж во всяком случае, запомнил бы её во всех подробностях.
Но это значило — напомнить о конце. Так намекают на необходимость завещания. Дианин медлил. Но тут заговорил Бородин:
— Что ты так смотришь на меня, Саша? Видишь теперь, что я на многое способен? Жизнь ещё не кончается, о нет!
После этих слов уже стало совсем невозможно напомнить, хотя бы отдалённо, о необходимости спешить. И самому Дианину вдруг показалось, что и тревожиться не надо. Человек, способный на такую импровизацию, живуч. И не так уж близка опасность. Бородин был теперь полон жизни. Вся его фигура, лицо, взгляд, всё дышало торжеством, праздником — в листовском смысле, победой духа над болезнями и невзгодами.
Прозвенел звонок — сигнал к продолжению лекций. В последние месяцы, заслышав звонок, Бородин говорил, кряхтя: «Ох-хо-хо, надо бежать», и шёл, едва волоча ноги. Но теперь он повернулся и почти выбежал из лаборатории. Дианину запомнились его сияющие глаза.
Через четыре дня состоялся традиционный костюмированный бал для студентов, на этот раз без Екатерины Сергеевны, которая задержалась в Москве дольше обычного. Но гости веселились, потому что Бородин, как всегда, был душой праздника и развлекал всех.
В тот же вечер он умер, внезапно, среди молодых пирующих друзей. Единственная мысль могла быть утешительной для них, потрясённых бедой: всё произошло быстро и он, может быть, не успел осознать, что умирает.
Все последующие дни и недели Римский-Корсаков и Глазунов тщательно собирали, подбирали всё написанное Бородиным. Каждый клочок говорил о многом, возбуждал надежду: зная музыку композитора, можно оживить, восполнить. И даже то, что не было записано, только услышано от самого Бородина, теперь восстанавливал по памяти феноменальный Глазунов, например, всю увертюру к «Князю Игорю».
Но финал Третьей симфонии не был найден: Бородин не успел ни записать его, ни даже набросать тему. И чудо, открывшееся одному-единственному человеку, навсегда померкло.
ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС
1
Портрет Мусоргского был почти закончен. Оставались ещё кое-какие штрихи, которые пока не удались художнику. Пожалуй, понадобится ещё сеанс, а то и больше. Со всем тем Мусоргский даже теперь был на полотне как живой. Не в том смысле, что верно удалось передать эти бессильно опущенные руки, лицо в красных прожилках, резко выделяющееся над белой рубахой, редкие взлохмаченные волосы — таким мог быть любой в его положении; Мусоргский был на портрете живой — великий человек. Это угадывалось в самой позе, и в посадке головы, и в линиях прекрасного выпуклого лба; а глаза… Вот глаза были совсем не такие, как у живого Мусоргского. Не было у них взгляда подвижника и провидца.
В чём же тайна? Как сделать глаза — глядящими? Нет, тут что-то не так: здесь нужно нечто большее, чем мастерство.
Мусоргский был один в большой светлой палате. Доктор Бертенсон поместил его в больницу как своего денщика, потому что у Мусоргского не было никакого официального положения. Женщина, в доме у которой случился с ним припадок, певица Дарья Михайловна Леонова, совсем растерялась. Она дорожила своим аккомпаниатором и уважала композитора, чьи арии и романсы доставляли ей успех, но что она стала бы делать с этим безжизненно распростёртым телом?
Стараниями друзей больничная палата была превращена в жилую комнату: туда принесли цветы, новую лампу. Мусоргский был доволен своим помещением, особенно тем, что солнце заглядывало в окна.
Ему трудно было говорить из-за одышки: многие слова он произносил невнятно; его до конца понимал лишь ходивший за ним слуга. Художник не стал беспокоить больного, сказал только, что, если тот захочет уснуть, пусть не стесняется. Работа всё равно пойдёт.
2
Художник хорошо знал Мусоргского, часто думал о нём и во время работы вспоминал многое. Остановившись перед трудной задачей — передать выражение глаз на портрете, — он задумался. Как связать отдельные, известные ему эпизоды из жизни Мусоргского в единое целое? В тишине ему казалось — он слышит чужие признания, словно этот больной музыкант, всегда такой скрытный, мог теперь говорить с ним…
«…Вы позволите мне сначала только вспоминать… Это ещё не исповедь, но, вспоминая, многое видишь по-иному, и оттого всякое воспоминание близко к исповеди…»
«Это оправдание мне, — думал художник, — раскачка… прежде чем доберусь до источника. Но доберусь ли?»
«…С чего же начать? Вы знаете, что я родился в глуши, в деревне. С этим связаны отрадные, но больше тягостные впечатления. Жизнь крестьянской бедноты не была скрыта от меня, как от других помещичьих детей. Я так создан, что чужое горе сразу бросается мне в глаза и надолго остаётся в памяти. И, если бы не любовь матери, я не знал бы в те годы счастья.
…Я заметил, что сильную любовь внушают нам женщины двух родов: либо похожие на наших матерей, либо во всём противоположные. Не берусь искать причину, это только наблюдение. Единственная женщина, которую я любил[49], — не Сашенька Пургольд, нет, другая, её уже нет на свете, — очень походила на мою мать. Не лицом даже, а характером, кротостью. И душевной силой.
Я догадывался, что моя мать несчастлива, и оттого ещё сильнее привязывался к ней. Ранние горести забываются, но не навсегда. В зрелые годы, под влиянием неудач или разочарований, они всплывают и уже остаются с нами».
3
«…Мне было суждено стать военным, как и многим дворянским отпрыскам. Я и стал им. Бородин с большим юмором рассказывал мне впоследствии, каким я был в мои семнадцать лет, когда мы встретились с ним на какой-то светской вечеринке: припомаженный, вертлявый, упоённый, должно быть, успехом у дурочек, я играл на фортепьяно вариации из „Трубадура“ и рукам своим придавал манерный какой-то изгиб… Я смеялся рассказу Бородина, ибо в пору тех разоблачений был уже совсем другой. Службу оставил; отрастил бороду, вместо мундира носил блузу и не только не щеголял грассированием французским, но говорил отрывисто и не совсем понятно.
Жил я тогда в коммуне со студентами, много и односторонне читал, увлекался Дарвином, отрицал чистое искусство.
Это был большой шаг вперёд по сравнению с моим офицерским положением — шаг к тому, чтобы сделаться человеком. Всё переворотилось на Руси, пласты человеческие поднимались вверх, как же не расти, не умнеть? Но из свойственной русским людям жажды жертвенности я стремился обеднить и ограничить себя: „Красота доставляет радость, а имеешь ли ты право на это?“
Впрочем, самое ложное чувство всегда может найти поддержку в рассудке. Он, словно недремлющий адвокат, тотчас же состряпает теорию… Протест против устарелой эстетики…
Новизна молодую голову кружит. А я был молод: и откровения, и болезни века были мне в равной степени близки. А красоту я любил и искал её все годы…»
…«Это начало исповеди», — думал художник.
«И верю, что нашёл. Она неотделима от правды.
„Бедному сыну пустыни снился сон“[50].
Нет, то был не сон, а счастливейшее время моей жизни. Кончилось моё одиночество, я обрёл друзей.
Вообще-то я был фатально одинок — не из-за обстоятельств, а из-за своей натуры, душевно одинок. Таковы, если вы заметили, бывают люди, страстно жаждущие общения с другими. А эта страстная жажда — она скорее помеха: дружба должна возникать естественно, даваться легко. Вот Бородин, тот никогда не был и не может быть одинок. Попади он на необитаемый остров, и очень скоро с других островов, обитаемых, почуяв присутствие Бородина, начнут стекаться к нему приветливые туземцы. Корсинька — он и в старости будет окружён молодёжью, Балакирев… ну, он хотя бы умел спасаться от одиночества и лишь потом добровольно заключил себя в этот адов круг.
Но в ту молодую пору я был счастлив. Балакиревский кружок! Люди одного со мной возраста, одинакового воспитания, талантливые и, главное, все музыканты стали моими ближайшими товарищами. И тайные мечты о музыке, сочинения, на которые я отважился, даже боясь признаться себе, что они и есть главное в моей жизни, — можно было отныне не только не стыдиться этого, но и получить на это благословение.
Да, я был счастлив, но даже и тогда не обходилось без горьких часов. И от Балакирева я много натерпелся.
Я убеждён, что Балакирев имел необыкновенный композиторский дар: недаром его заметил Глинка. Мы упивались его „Тамарой“ и романсами, а „Исламей“ разучивали все пианисты, хотя и здорово ломали себе пальцы из-за трудностей этой пьесы. Но я уверен также, что он мало занимался композиторством, потому что более всего дорожил своим призванием вожака.
Я любил Балакирева, обожал его, как и все мы, его ученики и товарищи. А между тем он был деспот, и при этом самый опасный из деспотов: пылкий, себя не щадящий фанатик. Он отдавал нам всё своё время, все силы, но зато и требовал подчинения полного. Мы и подчинялись — вначале. Его феноменальная память, знания, талант, и воля, и энергия — всё это буквально гипнотизировало. Что мы могли против него? Он был тогда сильнее нас всех, вместе взятых, — ведь мы только начинали жить. Но каждый из нас в своих возможностях был сильнее его, и, когда это обнаружилось благодаря его же усилиям, влияние Балакирева стало ослабевать, и мы покинули, как это принято называть, гнездо».
4
«…Я только вспоминаю, пока ещё вспоминаю, — продолжалась воображаемая речь, — но вижу яснее, шире…
Нет, Балакирев не подавлял свойственное нам; этого никогда не было. Он угадал наши врождённые способности, видел наши границы, а вот стремления-то наши не всегда понимал.
Не вдруг осознали мы заблуждения Милия, но помнится, что и в самое первое время, когда мы на всё смотрели его глазами, кое-что казалось нам странным и даже огорчительным.
Помню, как однажды играл Балакирев фугу[51] Баха, а играл он прекрасно, и оттого фуга произвела сильное впечатление. И сам Милий — я готов поклясться в этом! — получил от фуги живейшее удовольствие. Это угадывалось и по горящим глазам его, и по тому, с каким жаром и вдохновением играл он. Но только замер последний звук, как Милий, не дав нам и слова вымолвить, стал разбирать фугу, доказывая её мертвенность, окаменелость. Мы с недоумением переглянулись. А он продолжал разносить фугу. „Её красота — он всё-таки признал красоту! — застывшая, неживая!“ Он умел говорить, и мы согласились с ним. Но музыка Баха всё звучала в ушах и резко противоречила словам. В лице Корсакова я заметил выражение замкнутости, а Кюи как-то скептически усмехнулся… Впрочем, он всегда был скептиком.
В другой раз, при разборе Седьмой симфонии Бетховена, Милий всякий раз начинал: „Эта тема…“ Боже упаси кого-либо из нас сказать: „Мелодия“. Отлично зная, что тема — это технический термин, что мелодия может стать темой, а может и не стать, Балакирев вообще изгнал слово „мелодия“ из нашего обихода. Мелодия, видите ли, это слащаво, это мендельсоновское понятие, сентиментальщина, а всякой не только сентиментальности, но и просто обнаружения чувства Балакирев, а за ним и все мы боялись, как огня. Мы напускали на себя грубоватую ироническую бесцеремонность — не только друг к другу, но и к почитаемым классикам. „Старик что-то ударился в слэзы!“ (Через „э“ — это о Бетховене.) „Ну, тут пошла гнильца!“ (О Листе). Никаких авторитетов, долой нежности! А души у всех, по крайней мере у трёх… нет, у четырёх, были нежнейшие.
Мелодическое, мелодичное — это гнильца, сироп, благодушие или ещё что-нибудь похуже. Так, обнаружив в анданте симфонии Бородина плавную, свежую, очень красивую фразу, Балакирев с неподражаемой язвительностью воскликнул: „А что это у вас, несравненная Солоха?“ Я думал, Бородин оскорбится, — нет, он согласился изменить свою фразу… Перед Милием все мы… оставались немы. А Кюи подчеркивал: „Не мы!“
…А эта метода Балакирева, поддержанная нами, разбирать музыкальную пьесу по кускам! Вот эти четыре такта хороши, а следующие — не годятся. Но как только Балакирев или я сам исполняли столь пёстро разобранное сочинение, всё казалось цельным, органичным: ведь целое-то не сумма частей!
Я был самолюбив и вначале ревновал Балакирева к Бородину и в особенности к его любимцу Корсакову. Иногда и обижался. Но — молчал: обижаться у нас не полагалось. А Бородина и Корсакова я очень любил… Нет, время было хорошее, и жаловаться мне не на что… Но всё меняется, должно меняться…»
5
«…Вы Стасова любите, я знаю. И для меня он самый дорогой человек. Дай бог ему долгие годы быть таким, каков он есть, со всеми его противоречиями. Спорить с ним бесполезно. Разве можно спорить со стихией?
Не любить его нельзя. Я не знаю человека добрее: он готов снять с себя последнюю рубашку, чтобы помочь не только другу, но и недругу. Сколько раз я убеждался: ещё вчера Стасов ругмя ругал противника в печати, изничтожал его, а сегодня, узнав, что противнику приходится плохо, спешит его утешить, или денег для него собрать, или похлопотать где надо. И навестит, если тот заболеет, и ухаживать станет. Но мнения своего не переменит и по-прежнему будет наступать на него, как на врага, носителя пагубных заблуждений.
И этот генерал, статский советник, аристократ, удивительно, органично как-то демократичен: идея равенства у него в крови. А что до эрудиции, то, кажется, никто в России не знает столько, сколько успел узнать и запомнить этот человек. У него поразительный дар угадывать таланты. Впрочем, я не раз убеждался, что и очень маленькие дарования возбуждают в Стасове неумеренную радость: так сильно хочется ему поверить в новый талант.
Жизнь моя без Стасова неполна. Он и добрый гений мой, и невольный мучитель, хотя в этом я никогда и самому себе не признавался. Всё это от противоречий стасовской натуры, а они столь же велики, как и сама эта натура. Этот душевно тонкий человек бывает и ограничен, а порой и бестактен. Одно придуманное им название: „Могучая кучка“ — ах, как оно нам, „Кучке“, не нравилось! Но это что! Стасов может убить нелепостью своих выводов. Я и сам измучен им, хотя он всегда помышлял о моём благополучии.
И я знаю, что он станет оплакивать меня „чистосердечней, чем иной“, и скорбь его по мне будет продолжительна.
Я называл его толкателем — думаю, это удачно. Он умел толкать, побуждать к действию, вдохновлять. Находил редкие источники, рылся в архивах — и всё для нас, композиторов, живописцев. Если бы он только этим и ограничился: толканием, побуждением, советами! Но он брал на себя миссию судьи, а где судья, там и подсудимые, а где подсудимые, там, ясно, вина.
А где вина, там и кара.
Как это ни странно, ни парадоксально, но именно эта миссия судьи побуждала Стасова к несправедливости. Одно дело — судья в делах гражданских и уголовных, другое дело — в искусстве. Судья — слуга закона, он карает беззаконие. Но художник — он почти всегда нарушает законы, установленные эстетикой. И создаются-то они, законы эти, после того, как художник сказал своё слово.
Отвергая старые установления, Стасов закреплял новые и только ими руководствовался. Покуда он принимал нас как человек и художник — ибо художественное в нём жило, — он рассуждал правильно и был нам и искусству очень нужен. Но вот мы узнавали его догмы и принимали их. Я тоже принимал. Но что-то заставляло меня страдать, не подчиняться, даже при полном согласии, больше: при обоготворении этих скрижалей.
Вы помните его рассуждения о том, что идеальное произведение искусства может быть создано только группой людей, так как один талант — хорошо, а много — лучше: фильтр совместного творчества задержит, мол, всё несовершенное. Он мирился с тем, что каждый из нас сочиняет отдельно и по-своему, допускал это как временную слабость, но надеялся, что в будущем дилетантизм уступит место сознательному единению.
А его уверения, что напрасно мы в операх пишем дуэты, трио и квартеты, ибо это грешит против реальности? „В жизни так не бывает, — доказывал он, — чтобы двое или трое, если они не безумные и не пьяные, говорили разом, не подождав, что скажет собеседник“. Но хоры он признавал — может быть, потому, что толпа стихийнее, неразумнее, чем отдельные люди?
Он также называл мелодию темой, но шёл ещё дальше Балакирева: ведь в жизни люди не поют, а разговаривают, стало быть, речитатив ближе к жизни, чем мелодия. Но он умел восхищаться и мелодиями вопреки облюбованным схемам.
Преклоняясь перед Глинкой и боготворя „Руслана“, Стасов возмущался первой оперой Глинки, называя её „верноподданнической“. „Никто, — говорил он, — не нанёс большего бесчестья народу нашему, как Глинка своей холопской оперой! Жизнь за царя! За мальчишку, которому и на свет-то не стоило родиться!“ И всё же Стасов приходил в восторг от трио из „Жизни за царя“ и от хора „Славься“. Но — жалел, что в хоре этом, в середине, есть минор. …Ах, Стасов!
Я любил и люблю его широту душевную, его деятельную, сильную натуру, но не могу любить эту шумную помпезность, категоричность, поспешность и упрямство суждений. В те годы мы все любили шуметь, провозглашать, похваляться, драться. И с теми, кто враждебен нам, и с теми, кто делает одно дело с нами, и с теми, кто ровно ни в чём не виноват.
Стасов ненавидел итальянскую оперу. Ненавидел? Или считал долгом ненавидеть? Ох, тут слишком перемешано и то и другое. Я, разумеется, был бóльшим католиком, чем сам папа.
Напрасно молодым художникам приписывают дерзость, бунтарство против учителей: как раз в молодости больше всего веришь, создаёшь себе кумиров. Это потом на них восстаёшь. А в молодые годы, бог ты мой, как я за Балакиревым следовал! И за Стасовым — также. Из-за этого я был странен. Чувствуя на себе некоторую печать избранничества, я в ту пору так ломался, что свежий человек при знакомстве со мной либо удивлялся до испуга, либо спешил это знакомство прекратить… Я обиделся на Тургенева, что он иронически, хотя и не называя меня, отозвался обо мне в одной беседе, а теперь, вспоминая, от души хохочу. Метко, очень метко схвачено это вымученное важничанье и невразумительные сентенции, которые я время от времени произносил. Ну прямо Иван Яковлевич Корейша![52]
…Зачем я это говорю вам теперь, когда и времени у меня осталось мало, и всё отошло и не мешает мне больше? Потому что, прощаясь мысленно с теми, кто был мне дорог, я вижу их лучше, вернее. Раньше они были слишком близко, я замечал одни их достоинства, потом — одни недостатки и страдал от этого. Теперь эти люди встают передо мной во весь их большой рост, но в отдалении; я различаю все пропорции, и мне всё видно.
Нет у меня больше кумиров. Мои друзья, умные, талантливые и добрые, сами по себе дороги мне. Они лучше, больше, чем кумиры…»
6
Мусоргский полулежал в своём широком кресле. Хриплые стоны порой вырывались из его груди. Художник позвонил, сиделка вошла в палату. Коснувшись ладонью лба Мусоргского и всмотревшись в его лицо, она тихо сказала, что лучше ему оставаться в прежнем положении, и только поправила подушку. Мусоргский тяжело вздохнул и стал дышать ровнее.
Художник вышел на балкон. День был ещё светел, но уже клонился к вечеру. Стало холоднее, больше людей прибавилось на улице.
Художник только теперь почувствовал, как он устал. До конца было ещё далеко. Глаза Мусоргского по-прежнему не получались. Только бы не придать им выражения этакой примирённости и всепрощения. Но с другой стороны — не упрямый бунт, не самоупоение страданием. И не отрешение от всего земного. Но Мусоргский был теперь если не далёк от забот, терзавших его, то высоко над ними.
Что выражал взгляд этих выпуклых светлых глаз? Что хотел он сказать миру?
«Нет, это не исповедь, — думал художник, — это напластования всего, что я знаю… Здесь нет озарения, неожиданной горячей струи, выбившейся на поверхность. Лишь иногда взметнётся, словно язычок пламени, мысль или чувство… вот он сказал, что кумиров больше нет. Но в чём главное? В чём протест? Что хотел бы он завещать мне? О чём просить? В чём признаться?»
…И даже отдохнуть нельзя. Нет времени. Кто знает, что будет завтра? Бертенсон сказал: сердце может остановиться в любую минуту.
Где истина? …Художник словно буравил неподатливую почву. Она была неровной. В некоторых местах непробиваема, а в иных бурав сразу уходил глубоко: что-то кипело и горело внутри, стучалось и под самой поверхностью. Но не выходило наружу. Ох, как трудно! И как мало помогают собственные воспоминания — так же, как и свидетельства других.
Художник постоял некоторое время на балконе. Люди ходят внизу и не подозревают, что он здесь, наедине с умирающим, подслушивает его последние думы. А если бы подозревали? У всякого — своё, и, если заглянуть в душу каждого, как умел Мусоргский, сколько пластов откроется, сколько сюжетов!
Может быть, надо вспоминать музыку? То, что сильнее всего? И только её слушать, тогда за нею откроется тайна. Искать и снова искать, пока сама собою не хлынет струя. Это всегда так бывает — само собою. Но до этого — сколько мучений.
Художник, вздохнув, вернулся в палату.
7
«…Я хочу рассказать вам, милый Илья, как это со мной произошло, как я вдруг понял самого себя.
Стасов, неумеренный в похвалах, сравнивал мою „Женитьбу“ с „Каменным гостем“ Даргомыжского и весьма превозносил мой „Раёк“. Но я скоро понял, что „Женитьба“ — это эксперимент, не более. А „Раёк“ — да, это было свежо, зло, доставляло друзьям много удовольствия, но пройдут годы, и уже придётся объяснять, кто такой Фиф, а кто муза Евтерпа, и почему надо смеяться над великолепной Патти[53]. Я не отрекаюсь ни от „Женитьбы“, ни от „Райка“, но ведь это были всё присказки, а сказка-то… была рядом… Нас учили: чем ближе к жизни, тем прекраснее. Что я слышу, то и должен запечатлеть. Но ведь каждый слышит по-своему. А если все одинаково, зачем же искусство? Что может оно открыть?
Я подслушал плач сироты, меня преследовал детский надорванный голос: тогда лишь стало мне легче, когда я его записал. Но мне хотелось большего: сотворить из этого мелодию. Копировать жизнь — значит в какой-то мере искажать её. Копируешь то, что лежит на поверхности, а ведь это лишь приметы жизни.
О, я никогда не пренебрегал формой. Жаль, что не могу показать вам свои варианты. У меня их множество, и каждый дорог мне. Но, стремясь к идеалу, а он всегда носился передо мной, я хотел добраться до глубины, показать невидимые миру слёзы…
И пока слушал Балакирева, вспоминал уроки Даргомыжского и новизну его, я сам всё время ждал какого-то откровения, озарения. И — дождался. Только боюсь, не сумею об этом рассказать.
Действительно, я подсмотрел сцену юродивого с молодой бабёнкой. Несчастный объяснялся в любви. На поверхностный взгляд это было смешно. Ничего нелепее я не видывал: парень неуклюже топтался на месте, бессмысленно усмехался и протягивал вперёд длинные руки, как бы загребая ими воздух. Казалось, он не по-серьёзному объясняется, а ломает дурака, чтобы рассмешить женщину — авось подаст ему грош. Но его голос был выразительнее лица и рук, выразительнее слов. Жалобы, обращённые к женщине, накатывали одна на другую, как волны. Диапазон был невелик, а интонации болезненно однообразны. Юродивый шептал одни и те же слова, вроде: „Светик Саввишна, пожалей меня“. Но, в сущности, он рассказывал свою жизнь, и в этой исповеди было всё лучшее, что таилось в душе обездоленного человека. То был единственный миг озарения, когда он почувствовал себя человеком. И вся безнадёжность и обречённость».
«…Дальше, дальше! — нетерпеливо вслушивался художник. — Теперь-то повеяло воздухом…»
«Наконец молодуха, испугавшись, вскрикнула и, оттолкнув юродивого, бросилась прочь. Он опустил руки и потупился. Я медленно побрёл домой.
Долго ходил я по комнате, вспоминая увиденную сцену. Мой слух обострился сильнее, чем давеча… В эти минуты я не отделял себя от того несчастного и, должно быть, именно потому нашёл осмысленную и оправданную мелодию, то, чего не было в словах юродивого, но было в его душе. Открыл мелодию! Записать же этот полубезумный, сочинённый мною монолог уже не стоило труда: он врезался мне в душу своим минорным ладом, частыми модуляциями, народным пятидольным размером. Потом, совершенно обессиленный, я бросился на свою оттоманку. „Как труп в пустыне я лежал“. О, как понятны мне эти слова! Я был как труп после пережитого: без мысли, без дыханья. И „божий глас“ раздался. Потому что вскоре после этого я замахнулся на „Бориса Годунова“».
8
«…Сам не знаю, как мог я решиться на это. Ведь силы-то нужны были непомерные. Не один юродивый или крестьянский сын, а целый народ, нечто совершенно небывалое, — и не в отдельных сценах, а в драме. Но ведь мы — как лунатики: ходим над кручей и не падаем, пока не пробудимся. Я и сам дивлюсь, как долог и животворен был этот сон — работа над „Борисом“.
Один из критиков моих, очень умный историк, пробовал мне доказывать, что мой „Борис“ вовсе не народная драма. „Оттого что, — говорил он, — в народных драмах сам народ — положительный герой, действующая, самостоятельная разумная сила, А у Мусоргского он дик, неустойчив: то холуйствует бесцельно, то упивается мучительством и мученичеством“. Но таким он и был, русский народ, в те смутные времена: непокорство — и стихийный бунт; благородство — и жестокость; и наряду с этим — жаление. Скромность — и разнузданная похвальба; свободолюбие — и извечная любовь к царю. Годунова не полюбили: он помазанный, да не наследственный, а худородный. Но Отрепьева под личиной Дмитрия-царевича примут, как бы ни безмолвствовали, узнав о его приближении, — примут с поклонами, с покорностью. Потом скинут с престола, разорвут на части, из пушки останками выстрелят, чтобы перед новым, пускай мнимым, а всё же царём, склонить покорные выи. Пока терпение не истощится. И уже тогда…
Я писал Стасову: „Мы все там же, несмотря на цивилизацию… „Ты и убогая, ты и обильная, ты и могучая, ты и бессильная…““ Противоречий этих, рождённых татарским игом, крепостным правом, царями-безумцами, царями-палачами, всех этих неожиданностей, сквозящих в смиренной наготе, сколько угодно. И в этих противоречиях, в них-то — народная драма.
А что до мучительства и мученичества… „Почитайте-ка Достоевского“, — сказал я моему собеседнику. Тот поморщился: „Я, мол, Достоевского не люблю“. — „Ваше дело: можете не любить и не читать, но книгу нашей русской жизни не закроете. Там есть такие страницы, что только Достоевский прочитать сумел. Но они, милостивый государь, существуют. Как и обломовские, Гончаровым найденные“.
Теперь уже десятки разных Митюх, Кирюх, баб, дьячков, монахов — каждый со своим голосом, ужимками, нутром, — в одной интонации обнаруженные, но через мой слух и чувство прошедшие, — вот сколько появилось подопечных! А там и покрупнее: медлительный в своей правоте летописец; порывистый молодой чернец, всё более смелеющий в мыслях своих; противоположные друг другу Мисаил с Варлаамом, и кроткие дети царя, и увёртливый Шуйский… В каждого я превращался и боль ощущал при каждом превращении. Но шёл вперёд. Безошибочно вело меня чувство. И все ходы, и самый конец предвидел я — некий бог нашептал мне…
…И угль, пылающий огнём, Во грудь отверстую водвинул……И всё-таки, как ни пленял меня народ и его судьба, царь Борис был главным центром, куда стремились мои помыслы. Царь и народ дополняли друг друга; но, перевоплощаясь в каждого из столь многих и различных детей моих, я всё время оставался царём Борисом, не забывая про его беду и вину. Не покидала меня память о содеянном мною, Борисом, и о моём самозванстве. Ибо царь Борис — самозванец, не менее преступный, чем Гришка.
Все начинания Бориса кончаются поражением, иначе и быть не могло — он человек обречённый. Он, может быть, и не раскаивался. Будучи государственным деятелем и зная, сколь необходим народу такой царь, как Борис Годунов, он, повторись его жизнь сначала, повторил бы также и своё преступление. И всё же оно должно было пригнуть его, втоптать в землю. И близких ему, горячо любимых, — а любить он умел — погубить вместе с ним. Он не сдавался, боролся, сам себя проклинал, и народ его проклял.
Все три сцены Бориса — эти три восхождения на Голгофу — были и для меня тяжкими ступенями; шапка Мономаха давила и мою голову. И я не смел снимать её, так же как и сам Годунов.
Цари-преступники уже бывали в наших операх, но мой царь от всех отличался, и я понимал, что другой будет и музыка. Я нарушал установленные правила не для того, чтобы прослыть оригинальным. Я совсем не чуждался красивых ходов и был счастлив, когда они удавались мне. Но идти дорогой проторённой я не мог. Не понимаю логики, заложенной в самой форме, не вижу, как само по себе разворачивается музыкальное произведение. Это кажется мне мистикой. Развивается в музыке мысль и чувство, а как — это они сами подсказывают.
Я сочинял мелодии, в сущности, простые, но в тех сочетаниях, которые зависели от смысла, от задуманного характера, от противоречий, порой от нелогичности явления и события, — одним словом, от правды. Они были странны, звучали порой грубо, но я знал, что, если смягчу, придам иное движение, нарушу их связи, я солгу. Половинная ложь хуже полной. Не правдоподобие нужно мне, а правда, та, которую узнать нелегко, горькая, порой страшная. Как же я её по привычным законам изображать стану? Для неё свой закон — мой собственный.
Я знаю: в искусстве много путей. Для иных оно — упоительная сказка, иллюзия. Я это понимаю, готов даже восхищаться. Но у меня была своя дорога, и я не свернул с неё».
9
Мусоргский пошевелился в своём кресле и открыл глаза.
— Никак не могу проснуться, — сказал он слабым, хриплым голосом, трудно дыша. — Скажите, вы мне тоже снитесь или это уже наяву?
Художник замер, но Мусоргский снова уронил голову на грудь и закрыл глаза. Лицо его сделалось спокойным, должно быть, он теперь по-настоящему уснул. Художник подождал немного. Мусоргский дышал ровно,
А исповедь продолжалась.
«…Арсений[54] спросил меня: „Неужели вы никого не любили?“ И так легко спросил, без стеснения. Но я не рассердился: он юноша скромный — просто хотел узнать, кого из женщин изобразил я в музыке.
Женщина, которую я любил, походила на мою мать, я уже говорил это. Я благоговел перед ней, но в круг моего ада она не входила. Может быть, я просто жалел её?
Сашеньку Пургольд я тоже очень любил, но по-другому. Её нельзя не любить, слишком уж артистична, — она и в жизни была Анной-Лаурой: много самобытности, таланта, женственности, породы.
…Сашенька одно время что-то вообразила… Мы часто встречались. Хорошо, что я не до конца поверил в её чувство ко мне. Теперь она мать семейства, счастлива…
Нет, я не создан для семейной жизни. Что было бы со мной при моём характере, если бы я потерял жену или ребёнка?
…А та, кого я могу назвать своей музой… вы думаете, это Марина Мнишек? Нет, Марину мне навязали, я таких терпеть не могу. Но без любовной сцены, говорили мне, какой же спектакль. И принять даже отказывались. Я покорился, ведь и у Пушкина она есть. Но я никогда надменной полячкой не увлекался. Пробовал только запечатлеть эту холодность, хитрость, честолюбие, лишённое благородства…
Нет, не Марина Мнишек любима мною, а другая — раскольница Марфа[55].
Я включил эту женщину в свой круг, потому что она в огне рождена, в огненной купели семь раз крещена, к страданиям причастилась и через страдания узнала всю правду земли[56]. Нет ей счастья на этом свете, да она и не взяла бы счастья в обычном житейском смысле.
Я люблю её за то, что в ней, в её гаданье, особенно со слов „Тебе угрожает опала“, опять, как и в „Светике Саввишне“, я нашёл единственную осмысленно оправданную мелодию — сгусток моей сердечной муки.
Вы знаете судьбу моего „Бориса“ — и счастливую, и горькую. Не видать мне его, даже если бы остался я жив. Но знаю: из содеянного мною всё может сгибнуть, а „Борис“ да вот это гаданье Марфы — останутся. Потому и смотрю вперёд светло».
10
«…Теперь, через Марфино гаданье, могу рассказать о том, чтó Стасов назовёт и уже теперь называет моим „третьим“ периодом.
Умный человек, а не избег рутины. Обо всех нас говорится и пишется, что в жизни нашей бывает три периода: первый — незрелость мысли, смелые пробы и удачный дебют; второй — зрелость, создание самого главного, зенит; ну, а третий — начало упадка и самый упадок. Если периодов пять или десять, их всё равно сводят к трём. После „Бориса“ вступил я в этот мрачный, третий период… Впрочем, мои „Песни и пляски смерти“[57] Стасов высоко ценит… А я всё тот же. И „Пляски смерти“ — это не крик отчаяния, не упадок воли и веры в жизнь. Совсем наоборот. Средневековый сюжет пленил меня не потому, что я пал духом, а потому, что всё та же правда земли не отпускает меня и требует её выразить.
Хотите, объясню вам, зачем я обратился к этому? Затем, что это предопределение моё: всегда смотреть в лицо тому, что страшно. Хоть и отворачивайся, а глядеть надо. Изобразить смерть — это вовсе не значит любить её. Я, например, яростно ненавижу войну и всей душой надеюсь, что всякий почувствует это, услыхав моего „Полководца“ или „Забытого“[58]. Но я не мoгy пройти мимо страшных картин, которые показывает мне жизнь. Если в „Трепаке“[59] моём услышится трагедия не только крестьянской доли, но всего русского бездорожья и заблудившейся в нём души, будь то мужичок убогий или бедный музыкант, значит, не напрасны мои труды и неустанные поиски.
Я лик смерти не раз видел, много раз воображал её себе в звуках: как серенаду под окном поёт, как в поле с оборванным мужичком замерзающим пляшет; как едет на коне полководцем — обозревать поле битвы, дело рук своих, — этот марш я и теперь слышу. Всё это на себя принял, а жизнь люблю…»
11
«…И под конец вспоминаю пройденное с благодарностью. Знал я и дружбу, и любовь, и великое счастье созидания, и благо чистой совести; увидал хоть клочок истины, рассказал об этом как мог — чего же ещё желать? То, что „Бориса“ моего с людьми разлучили, могло убить меня самого, но не убило веры в его долгую жизнь. Когда-нибудь воскреснет. И всё же порой страшно бывает: а вдруг и меня сочтут самозванцем? Вдруг скажут: „Не царь ты в своём рубище — такими цари не бывают“. „Не царь“, то есть не мастер — вот что.
Враги не станут возиться с моими сочинениями: они и так называют меня „мусором“ (и оглядываются, не пропустил ли кто мимо ушей каламбур ихний). А вот друзья, лучшие друзья, не скажут ли: „Сбрось ты с себя вериги, надень разукрашенный золотом кафтан да парчовую мантию да возьми скипетр в руки. Умерь вопли и вой, или нет: пусть раздаются, но не столь раздирающе, мягче, музыкальнее, что ли. Поступись немногим, чтобы сохранить всё“.
„Немногим“! Кто знает, сколько весит это немногое и что перевешивает на весах искусства»?
…Теперь художник едва поспевал за словами. Сильно била горячая струя, и даже сильнее, чем он мог надеяться…
«Но нет: этого я не отдам. Хоть и не будет меня на свете, то музыка защитит меня. Каждый звук, каждый вопль, из сердца рвущийся! И кто будет любить меня — заступятся.
Ну, а раз так, чего мне бояться? И зачем это я себя царём называю? Не любо мне это сословие. Перед концом Дон-Кихот называл себя просто „Алонзо Добрый“. Я не сравниваю себя с Дон-Кихотом, никогда на него не походил, я только говорю: зачем оглушающие названия? Я просто честный русский композитор.
Таким и изобразите меня, милый Илья: без страха глядящим вперёд… Пусть вспоминается вам „Рассвет на Москве-реке“… Я и сам слышу сейчас эти звуки и жду часа своего, как непокорный стрелец. Умереть на рассвете… Тяжко или благостно? Прощаться мне с вами незачем, прощание омрачает, а я хочу света… Примите только благодарность мою…»
…Портрет был выставлен и произвёл столь сильное впечатление, что, несмотря на другие прекрасные картины, взоры посетителей то и дело обращались к портрету Мусоргского. Может быть, и недавняя смерть композитора подействовала на умы, но не только это. «Глаза, глаза!» — раздавался шёпот.
Сам художник был доволен своей работой, хотя и теперь не считал её вполне законченной. Какие-то мелочи следовало отделать. Но глаза Мусоргского, но взгляд был именно таким, какого добивался художник.
СЧАСТЛИВАЯ КАРТА
I. В поисках начала
1
На вечере у певицы Марии Александровны Славиной шёл разговор о последних музыкальных новостях. Самой интересной из них была новая опера Чайковского «Пиковая дама», написанная во Флоренции в самый короткий срок.
— В сорок четыре дня! — возбуждённо сообщил один из гостей. — Модест Ильич[60] рассказывал: он не успевал писать либретто. Только пошлёт законченную сцену, как брат уже торопит: «Дальше, дальше!» Телеграммы так и летели.
— Неистощимое вдохновение! — воскликнул другой гость.
— Вы говорите так определённо, — сказал критик Ларош, которого все побаивались. — Но что мы знаем о сроках? Конец ещё можно установить, а начало…
Многим эти слова показались странными. Но никто не стал возражать.
Заговорили о сюжете оперы.
— Согласитесь, — сказал баритон Яковлев, — что при всём уважении к автору нельзя одобрить выбор сюжета. Суеверие игроков, как бы фантастично ни было, не может вдохновить композитора, особенно современного.
— Это почему же? — спросила хозяйка дома.
— Во-первых, потому, что узко и может интересовать одних лишь игроков. Во-вторых, устарело. Нынче это племя уже переводится. Арбенины не в моде. Конец века всё-таки.
— Загляните на Лиговку, в дом купца Сатеева, — холодно сказал Ларош, — только сами не сядьте за карточный стол.
— Знаю. Знаю, что и теперь играют, и крупно. Но всё-таки масштабы не те.
— Э, голубчики! — заговорил известный адвокат П. — Карты картами, а главное — поприще другое. Не игорный дом, а биржа — вот арена для нынешних игроков. Спекуляции, подряды — вот стихия, где кипят страсти. С размахом истинно гигантским, с самоубийствами и помешательством, с разорением и падением целых предприятий и семейств.
— Не всё ли равно, где кипят страсти? — заметила Славина. — Для музыки совсем неважно, кто изображён — игрок или подрядчик. И спекуляции совсем не интересны для тех, кто будет слушать оперу. А насчёт современности, то поспешу вас разочаровать: в опере Чайковского действие переносится назад, в восемнадцатый век.
— Как! Для чего?
— Директор предложил. Он знает, что государь охотник до всяких блестящих зрелищ. Дворцы, фижмы, менуэты. Чайковский не возражал.
— Странно. Уж не будет ли это второй «Дон-Жуан»?
— Нет, — сказал Ларош, — второго «Дон-Жуана» не будет. Да и сам Чайковский ничего второго не создаёт. Даже неудачи у него первые. Насколько я могу судить, его опера философская, и смешение эпох в ней возможно: колорит, костюмы и прочее вполне выдержаны в духе восемнадцатого века, зато чувства и музыкальный язык — современные.
— Вы, стало быть, знаете оперу?
— Только вступление. Оно очень короткое, но в нём многое умещается: вся идея оперы. И могу вас уверить, что эту игру он выиграет. Ведь он также игрок — не хуже других. И у него есть заветные три карты.
— Три карты?
— Вернейшие: воля, выдержка и труд.
Жёлтое, с потухшими глазами лицо Лароша давно примелькалось в артистических гостиных. Он выглядел вялым и равнодушным и лишь в разговоре оживлялся.
— Я назвал бы его так, — продолжал Ларош, — «Человек, победивший время». Ибо для Чайковского нет в жизни пустых, напрасных часов. Он давно догадался, что никакие удачи, никакое расположение созвездий не доставит ему того, чего он добьётся собственными усилиями. В этом смысле он прямая противоположность своему герою — Герману.
Показалось ли Ларошу, что его высказывания слишком серьёзны для гостиной, но он внезапно оборвал их и уже не принимал участия в разговоре. Посидев ещё немного для приличия, он простился и ушёл.
Домой он возвращался пешком. День уже кончился. Завтрашний не обещал ничего нового.
Чайковский звал его к себе, в деревню, не без задней мысли — заставить поработать. Так было не раз: доходило до того, что Чайковский сам садился писать под диктовку Лароша — и получалась отличная статья. Ларош с годами охладел к своей работе — говорить ему было уже легче, чем писать. И сейчас ему не хотелось контроля над собой и чужих забот.
Чайковский был теперь на вершине славы, и Ларош не без иронии сравнивал их многолетнее знакомство с парными качелями, которыми славились народные гулянья. Два конца, на качелях двое: один взлетел, другой стремительно опустился.
Но это было не так стремительно, а постепенно. Они познакомились двадцать восемь лет назад в Петербургской консерватории, куда поступили оба. Семнадцатилетний Ларош был хилый, тщедушный; мальчики подшучивали над ним и называли «Маней», обидно исказив его красивое имя Герман. Но он скоро заставил их уважать себя. Остроумный, феноменально начитанный, Ларош хорошо разбирался и в музыке, и в литературе, и в истории. Профессора отличали его. А Чайковский, который был старше на пять лет (и уже успел окончить Училище правоведения, поступить на службу, оставить её и даже побывать за границей), прислушивался к словам Лароша и безусловно признавал его превосходство. По мнению же Лароша, его новый приятель был только талантливым любителем и славным малым. Правда, Ларош заметил в нём независимость и твёрдость характера. Чайковский ничего и никого не принимал на веру, даже Антона Рубинштейна[61], который был всеобщим кумиром и его собственным. Мягкость и деликатность Чайковского — следствие его характера и воспитания. Но Ларош угадывал за этим сильную, организованную волю. Уже одно то, что молодой правовед бросил службу, решив сделаться музыкантом — а профессия эта не сулила ни выгод, ни почёта, — говорило о многом. Состояния у Чайковского не было. В семье никто, кроме юной сестры, не разделял его стремлений. Но он не отступил. Ему приходилось туго; может быть, он и не всякий день обедал. Но при этом был бодрый, весёлый, и только нарочитая небрежность в одежде как бы подчёркивала, что он зарабатывает на хлеб своим трудом.
У Лароша тоже был композиторский талант, но композитора из него не вышло. Он стал музыкальным критиком и скоро добился известности.
Но у него никогда не хватало времени, а Чайковский всегда всё успевал: отвечать на письма, читать уйму книг, бывать в гостях. И при этом не имел утомлённого вида. Ларош не завидовал, он просто удивлялся. Нет, всё-таки завидовал — этому умению работать и отдыхать.
Он был уверен, что хорошо знает Чайковского: его привычки, взгляды, вкусы, которые на протяжении лет менялись, как и всё другое. Но во многом Чайковский оставался для него загадкой, несмотря на их длительное знакомство и общие интересы.
Странно, что даже наружность Чайковского, его лицо интеллигентного славянина с голубыми, как у большинства блондинов, глазами вспоминалось Ларошу не таким, к какому он привык, а более серьёзным, печальным, значительным, как будто в отсутствие Чайковского проступала его вторая душа — великого музыканта.
Ларош был наблюдателен. Он давно понял: ни разговоры, ни письма, ни само поведение человека не открывает до конца его душу… Друзья, сестра, братья тоже думали, что знают Чайковского, а он, всегда откровенный с ними, был в то же время далёк от них: он высказывался полностью лишь в музыке; вот почему Ларош был, пожалуй, счастливее других.
О новой опере он слыхал от самого Чайковского. Но лишь перед отъездом в Италию тот сыграл ему три мотива. По ним можно было догадаться, какая борьба чувств, мыслей, стремлений будет развиваться в опере.
— Это вступление? — спросил Ларош.
— Не знаю, — ответил Чайковский.
В самом деле, разве вступление пишется до оперы? Вступление — это скорее вывод.
Ларош подумал про себя, что «Пиковая дама», вероятно, будет итогом всего прошедшего пути композитора. А вслух сказал:
— Дорого бы я дал, чтобы докопаться до самого начала.
— Что ты хочешь сказать? Какого начала?
— Да вот этой самой «Пиковой дамы».
Но Чайковский, поняв смысл вопроса, не ответил тогда на него.
2
…Невозмутимый строй во всём, Созвучье полное в природе, Лишь в нашей призрачной свободе Разлад мы с нею сознаём. Ф. ТютчевБыла середина мая, но этот северный, а не флорентийский май был по-своему великолепен. Чайковский, остро чувствовавший особенности времён года и даже каждого месяца, ощущал теперь необычность мая у себя в Клину. Это был праздничный, весёлый май, оттого что весна наступила рано, дружно и была полна ликования.
На солнце было даже жарко.
До обеда оставалось более часа. Чайковский вышел в поле и отправился в сторону деревни.
Он любил гулять один. Близкие знали это, а чужих он предупреждал, что будет рассеян и невежлив, и его оставляли в покое.
В сущности, то были часы его работы: во время прогулок возникало и обдумывалось то, что он потом отделывал у себя дома.
Он хорошо помнил, где и когда рождались его замыслы: берег Арно, балкон на вилле Бончиани в Венеции, долину в окрестностях Кларана. Лучше всего сочинялось дома, в среднерусской или украинской деревне. Но родиной «Пиковой дамы» была Флоренция.
Значит, свершилось. Свершилось! И теперь он бог. Знают ли об этом овраги, деревья, небо? Конечно, знают. Они узнали об этом раньше, чем люди, они были свидетелями его дум. И оттого так шумна, так радостна природа. Там, во Флоренции, он вспоминал эти места: ведь он писал не об Италии, а о России.
Куда деваться ему со своим счастьем? Окончена небывалая, гениальная опера, началась в музыке новая эпоха, и это начало — «Пиковая дама». Она переживёт его, переживёт многие поколения. Всё может отнять судьба — этого не отнимет.
И, пока не прошло блаженное состояние, он ощущал необыкновенную полноту жизни. Скоро он начнёт сомневаться, точно ли «Пиковая дама» великое творение и стоит ли ещё тянуть песенку, которая давно пропета. Сколько раз так бывало прежде. Сначала — гордость, и счастье, и уверенность в победе, потом — сомнения и отчаяние.
Он уже боялся этого спада, чувствовал его близость и оттого медлил возвращаться домой. Природа помогала ему отдалить наступление тревоги, которая — он знал это, — начавшись, не оставит его, пока не истерзает, как болезнь. Ещё оставаться на воле, дышать всей грудью — и верить.
И он шёл домой кружным путём.
3
Дома его ждало письмо от инспектора Мариинского театра: оперу можно будет поставить ещё в этом году.
Теперь следует налечь на инструментовку и «уписывать» партитуру, как любил говорить Глинка.
Это приятная работа. Но ещё предстоят разговоры с дирекцией, встречи с артистами и неизбежно связанные с этим терзания, потому что исполнение никогда не соответствует задуманному.
Но чтó значило это всё по сравнению с будущим, с ужасом премьеры, когда наступит встреча с неизвестными людьми… Чайковский уже предчувствовал это.
Он не думал об успехе, да и не всё ли равно, успех или неуспех, если он сам может произнести свой суд? Он уже произнёс его, но сможет ли он остаться твёрдым в самые решающие часы?
Его радость померкла, стены давили. Если даже признать совершенство оперы, то как велика разница между нею и человеком, создавшим её! Потому что он не любил себя в те часы, когда не работал. Он казался себе тогда таким слабым, несвободным. В том, что уже сделано, он находил оправдание прошедшему, но не будущему. Спасти его от ничтожества, от небытия может только следующая симфония, или опера, или что бог пошлёт.
Он был чужд самодовольства: ощущение неисполненного долга сопровождало всю его жизнь, но это не было тягостное чувство, в нём заключался смысл жизни. Не только самоуспокоенности, он не знал и просто покоя в своей постоянной жажде творчества; сбросив с плеч одну громадную тяжесть, он уже тосковал по новой…
Вечером он вышел в сад. Было совсем тепло, но душно. На небе ни одной звезды.
Он силился вспомнить что-то полузабытое, о чём недавно думал. Да, слова Лароша: «Хотел бы я знать, где начало этой „Пиковой дамы“?»
В самом деле, когда это началось? Когда он впервые остро постиг нераздельность тьмы и света, скорби и утешения? Не чередование их, а именно неразделимость? Когда он почувствовал, что есть в жизни трагическое, проникся этим и тут же уверовал, что мрак не побеждает, не может победить.
Когда же это было? В юности? Или ещё раньше — в детстве, которое он называл своим золотым веком? Такой ли уж золотой? Нет, это началось раньше, гораздо раньше.
4
…Откуда, как разлад возник?
Ф. ТютчевЕсли бы можно было описать то время, которое не помнишь! Душевное состояние очень маленького ребёнка, может быть даже грудного. Душевное! Взрослые (кроме матери) уверены, что у такого ещё нет души, а есть только барахтающееся тельце, которое нуждается в тепле, хорошем уходе, правильном кормлении. Но матери знают, угадывают другое и как только могут утешают. Потому что утешение необходимо.
Ночь. Стихийный ужас темноты. Неподвижность среди безмолвия, стало быть беспомощность и одиночество.
Ему казалось, он помнит. И колыхание занавески, и затаённую тишину комнаты, и тени на стене, и что-то притаившееся в углу. И какие-то низкие звуки (теперь он знал, что — фагота), поднимающиеся из земли и в землю уходящие. И чьи-то шаги за стеной.
Но более всего он помнил свой страх.
Сначала он ждал, не утихнут ли эти звуки. Но они становились всё более угрожающими. Что-то огромное и неведомое близилось к нему… Но вот раздавались шаги — не те, которых он боялся, а лёгкие, торопливые, живые… Самое спасение шло к нему, и, когда она подходила и касалась его нежнейшими на свете руками, он кричал и захлёбывался ещё сильнее, но это был уже крик радости и в то же время гнева: «Где ты была? Как ты могла меня оставить?»
И когда она брала его на руки, он ещё косился на оконную занавеску, которая постепенно переставала колыхаться. А низкие звуки фагота уже уходили в землю, тишина посветлела и ожила. Тогда между ним и ею начинался разговор. Его сердитый, укоряющий голос переходил в жалобу, всхлипывания и наконец умиротворённо стихал, а её голос, сначала тревожный, становился всё ласковее и спокойнее, так что измученный человечек умолкал совершенно утешенный.
О чём они говорили? Обо всём. Но содержание разговора сводилось к одному: «Ты не уйдёшь больше?..» А потом приходил покой.
Да, великий покой, блаженный. Она отгоняла все призраки, они исчезали, а она бодрствовала.
И тогда вступали скрипки (теперь он знал, что именно они). Недолго раздавалось их пение, потому что у радости такой скорый конец, но целый мир, певучий мир добра, умещался в этом коротком сроке.
Утомлённый всем пережитым, он не слыхал, как она опять укладывала его, спускала с рук, стало быть, отдалялась. Он только помнил, как стихала песня, и оттого он засыпал.
Утром, открыв глаза, он вновь видел её перед собой и уже ничего не помнил и смеялся. Но через какое-то время властительный страх брал в плен его тело и душу, и он отбивался от теней и зловещих звуков, звал на помощь, изнемогал, пока спасение не являлось снова.
Он вовсе не был болен в те ночи, но слишком чувствителен, слишком человек.
…Где же ты, где же ты теперь? Я один в этой тёмной казарме, призраки обступают меня со всех сторон. Я слышу шаги, но это не твои, а те, которых я боюсь. А тебя нет, что же мне делать?
…Запечатлеть всё это. Выразить как умеешь — музыкой. Если удастся, ты спасён.
Но — удалось ли?
5
Ему было четыре года, когда гувернантка Фанни Дюрбах пришла к ним в дом.
Она окончила один из лучших пансионов, имела хорошие рекомендации. Ей уже приходилось жить в России, но одно дело Петербург, другое — даль, глушь… Она была очень молода и собиралась в путь со страхом. Что ждёт её в далёком Воткинске? Тоска, вечный снег, безлюдье, зависимость… И, чтобы не заметили её страха, решила на первых порах быть холодной, даже официальной. Но хозяйка дома угадала, что происходит в душе у молодой девушки, и приласкала её.
Госпожа Чайковская тоже была французского происхождения, урождённая мадемуазель Ассиер. У неё был грудной голос, тёмные задумчивые глаза и руки удивительной красоты.
Она сама привезла Фанни в Воткинск и в дороге успела внушить ей доверие.
Хозяин дома, представительный, грузный, в прошлом военный, был лет на двадцать старше жены. Его дочь от первого брака Зина и племянница Лида, жившая в доме на правах дочери, были старшими детьми. Остальные четверо — совсем малы: старшему мальчику исполнилось шесть лет.
Начальник большого завода, всегда занятой, Илья Петрович Чайковский не вмешивался в домашние дела, во всём полагаясь на жену, перед которой явно благоговел.
Шутливо, но тоже по-доброму он приветствовал Фанни, и она скоро почувствовала себя в доме, как в родной семье. Об этом она и писала своей сестре: «Как несправедливы слухи о русских! Эти люди так добры. А природа! Какие здесь закаты! Что же касается моих питомцев, то я ими довольна: старшие девицы рассудительны и прилежны, с мальчиками несколько труднее».
Это не относилось к Nicolas. Он был прелестный ребёнок, очень развитой для своих лет, послушный, внимательный ко всем и такой красивый. Трудности доставлял младший, Пьер, хотя и в нём было обаяние. Он не сразу поддавался внушению; то задумчивый и рассеянный, то подвижный и весёлый, он был доверчив, но вспыльчив и упрям. Много усилий нужно было затратить, чтобы внести покой в эту смятенную душу.
Такими видела их Фанни. Шестилетний Коля действительно был аккуратный, вежливый, но она не подозревала, что он уже по-своему приспособился к жизни. Слишком рано он понял, каким надо казаться, чтобы всем нравиться и никого не огорчать. А в душе уже кое-что скрывал.
При своём счастливом характере он умел отгонять то, что его тяготило. И впоследствии Коля тоже выходил победителем из любого затруднения. Он, например, принадлежал к тем ученикам, которые умеют отвечать на уроке или на экзамене независимо от того, как они знают предмет. Конечно, Коля всё знал, но отвечал он всегда лучше, чем готовился. А другие отвечали хуже, чем знали.
Петя ещё не учился. Его образ жизни был такой же, как у трёхлетней сестры и двухлетнего брата. Но разница в один и в два года — это немало. Он умолял, чтобы его также учили или хотя бы позволили присутствовать на уроках Коли. Гувернантка разрешила — не без сопротивления: у неё была своя метода, которую она горячо отстаивала.
Она знала, что надо быть в меру строгой, в меру ласковой; что, раз отказав, нельзя менять решение, и корила себя, что вняла уговорам Александры Андреевны — допустить Пьера до занятий. Усвоила она также, что к каждому воспитаннику должен быть свой подход: что годится для Nicolas, то не может быть применимо к Пьеру. Nicolas суховат немного; стало быть, не худо и повлиять на его воображение: пусть и поволнуется иногда. Но для нервного, впечатлительного Пьера всякое возбуждение, волнение — сущий яд: он и так до невозможности чувствителен — стеклянный ребёнок. Конечно, и с ним нужно быть ласковой, но очень, очень твёрдой.
И Фанни задалась целью оградить Пьера от пагубного увлечения, которое, как она заметила, уже захватило его целиком. Всё его волновало, но более всего — музыка. Он был просто одержим этой любовью и готов просиживать целые часы у фортепьяно — в ущерб собственному здоровью. Его глаза расширялись, уши горели, — стало быть, он находился в ажитации.
Илья Петрович был убеждён, что детей следует как можно раньше приобщить к прекрасному. В доме было фортепьяно и, кроме того, механический инструмент, новинка — оркестрина. Не слишком ли много для впечатлительного ребёнка? Пьер всё слушал музыку, потом импровизировал за фортепьяно. Вначале он доверительно кивал Фанни, как бы приглашая её разделить с ним его радость. Потом, заметив, что она недовольно сжимает губы, только смотрел умоляюще, а под конец, едва завидя её, сам захлопывал крышку и уходил. Но она знала, что если он и не станет плакать, то будет весь день слоняться по комнатам и вздыхать с таким видом, словно у него отняли самое дорогое.
Если бы она уловила в нём хотя бы искру таланта, то была бы снисходительнее. Но в импровизациях мальчика не было, по её мнению, ничего, чтобы возбудить надежды. То были в основном аккорды, даже не связанные с мелодией; нечто подобное загадочному бесконечному лепету маленьких детей. Но там развивается речь, а здесь? Фанни знала, что слух у неё неважный, но в играх ребёнка ведь можно угадать его призвание.
Она была близка к тому, чтобы потерять терпение, и однажды после домашнего праздника, когда всё время гремела эта оркестрина, Фанни приняла решение. Пьер долго не засыпал, жаловался на головную боль. Когда он наконец успокоился, Фанни вернулась в гостиную, чтобы задержать родителей Пьера и объясниться с ними. Необходимо запретить или, по крайней мере, сильно ограничить его импровизации на фортепьяно. В противном случае он может заболеть, и кто знает, как это обернётся.
Родители встревожились, но не так сильно, как хотела бы Фанни. Мать прошептала: «Спаси его, боже, от зла». А отец только сдвинул свои густые брови.
— А что, если это искра божья? — сказал он, подняв на Фанни добрые светло-голубые глаза. — Не будем ли мы виноваты, если не дадим ей разгореться?
Её лицо пылало, но она не сдавалась.
— Если это так, — ответила она Илье Петровичу, — то регулярные и неутомительные уроки музыки, которые он впоследствии получит, обнаружат всё скрытое. Но во всём нужна мера, особенно там, где есть пылкий характер и… неукротимое воображение.
С этим родители согласились. Илья Петрович поблагодарил Фанни. Но только не было определено, где эта мера — граница между недозволенным и допускаемым. Александра Андреевна сама охотно пела и играла — ещё одно радостное и вредное для Пьера впечатление.
6
Он помнил приготовления к рождеству, когда старшие сёстры приезжали на каникулы. В доме натирали полы, меняли на окнах шторы, в комнатах пахло хвоей. Двери парадного зала накануне сочельника заперли: там стояла разубранная ёлка, там были подарки.
Занятия на время прекратились. Мадемуазель Фанни была вовлечена во все предпраздничные игры и хлопоты: кроила, шила, каталась с детьми в санях, выслушивала секреты старших девочек.
Когда же наступали сумерки, она спешила их сократить и сама зажигала свечи, чтобы у детей не портились глаза и не было пустого времени. И — чтобы ни у кого не замирало сердце. Она собирала своих воспитанников вокруг стола и рассказывала разные истории.
Одну из них он отчётливо запомнил.
— В Париже проживал молодой человек, un jeune homme{1}, вместе со своей матерью. Состояния у них не было, и наш молодой человек всё думал, как бы разбогатеть. К сожалению, многие его знакомые играли в карты, и наш бедный мосье Поль приходил на эти сборища. Но он не принимал участия в игре — это разбило бы сердце его матери, — а только следил за игрой горящими глазами.
Игроки чаще всего проигрывали, но были счастливцы, которым везло. К ним принадлежал приятель мосье Поля, служивший с ним в одном полку. Ему стало жаль нашего героя. «Умеешь ли ты хранить тайну?» — спросил он однажды у Поля. «О, будь уверен!» — «В таком случае…» И счастливый игрок открыл Полю, что на окраине города живёт женщина, которая знает верную карту: кто ни поставит, непременно выиграет. Наш бедный Поль отправился туда.
Он ожидал увидеть старую, злую колдунью с крючковатым носом и бородавкой на щеке. Но к нему вышла простая, славная старушка, даже несколько похожая на его мать. Она не стала спрашивать, зачем он пришёл, а сразу сказала: «Mon cher ami{2}, у каждого игрока есть своя карта, и у вас также. Но не надейтесь отыскать её в колоде. Ваша карта — бережливость и умение пользоваться своей скромной долей. То, что вас ожидает, далеко от вашей мечты, но это гораздо лучше, чем богатство».
И что же? Вернувшись домой, мосье Поль узнал, что его мать получила наследство. Совсем небольшое, но достаточное, чтобы скромно жить и не стремиться к несбыточному.
— Как благоразумно! — тихо и с уважением сказал Коля.
Но в детской — уже по-русски — он высказал другое мнение:
— Какой дурацкий конец! Держу пари, что она его сама придумала.
К праздникам приехало много приглашённых — и взрослых и детей. Каждый день катались на санях с горок, а вечером танцевали. Для гостей завели оркестрину, потом приехал специально приглашённый тапер, и начался долгий вальс.
И, пока в зале кружились пары, в соседних комнатах и во всём доме шла своя, нетанцевальная жизнь. Но и она каким-то непостижимым образом была втянута в стихию вальса. Всё, что делалось вокруг, как бы подчинялось вальсовому трёхдольному размеру. Дети что-то оживлённо обсуждали в углу; в кабинете отца играли в карты. Среди отрывочных восклицаний игроков раздавался призыв: «Сашенька, не подсядешь ли к нам? Ты приносишь мне счастье!» Ещё бы не приносила! Она приближалась — Воздушной походкой, Как будто танцуя. Но няня шептала ей что-то. И счастье опять — Покидало отца — И других игроков.
У окна отдыхающие от танцев девушки, в том же ритме вальса, обмахивались веерами, Легко щебетали, Смеялись шуткам Володи Брушко — Гимназиста из Вятки.
И вальс объединял всех своей длящейся магией.
Ничто в доме не ускользнуло от него: все движения, разговоры и, вероятно, мысли подчинялись вальсу и укладывались в него без остатка.
Открытие! Значит, совсем не обязательно участвовать в танце: можно жить своей жизнью, а он всё равно не отпустит. Разговоры, споры, размышления отдельных лиц, уединение каждого — всё это возможно и среди не танцующих, но в ритме и мелодии вальса.
Когда через много лет Петя услыхал впервые оперу «Фауст» и вальс из второго действия, он как-то пронзительно отчётливо вспомнил детство и зимний воткинский бал.
Вальс — это радость. Трёхдольный размер свободный, раскованный, и оттого так нравится всем. А что, если попробовать сочинить свой вальс внутри этого большого? Нарушит ли это общую гармонию?
Петя стал кружиться один, мысленно напевая свой трёхдольный танец, отдельную, только что сочинённую, на ходу рождающуюся мелодию.
— Смотрите, Петя вальсирует! — вскричал кто-то из гостей.
Фанни, танцевавшая с офицером, тревожно оглянулась, но тут же, успокоившись, с улыбкой сказала партнёру:
— Этот мальчик так пластичен, прелесть!
Офицер мельком взглянул на Петю и ещё сильнее закружил свою даму.
Она была очень мила в тот вечер. Её губы казались чуть припухшими, из аккуратной причёски выбился локон. Губы — самая выразительная черта в лице Фанни: когда она довольна и весела, они как бы припухают, и это очень идёт к ней, особенно когда она улыбается. А в иные разы, когда она сердится, губы совсем пропадают, как у старушки.
— Славная девушка! — сказала тётушка Елизавета Андреевна другой даме. — Может быть, она в России найдёт своё счастье!
Та кивнула: «Дай-то бог!» И в музыке в это время промелькнуло лёгкое глиссандо[62], словно символ Фанниной надежды.
Но всё хорошее быстро приходит к концу. Фанни оставила своего кавалера, подошла к детям и напомнила, что пора спать. Походка у неё оставалась танцующей и лицо — оживлённым, но она уже не улыбалась, и губы стали тоньше.
Было ещё рано, на что жалобно ссылалась маленькая Саня, но режим есть режим. Не помогло и Коле, что он весь вечер вёл себя, как большой, и всем нравился; его также отправили в детскую.
Петя безропотно дал себя увести. Он только хотел, чтобы Фанни поскорее вернулась в зал к танцующим, — не потому, что она мешала ему, а для того, чтобы она опять стала миловидной и счастливой.
Но она не спешила. С серьёзным лицом проследила, чтобы все четверо (среди них и маленький Ипполит) хорошенько помолились богу, и, уложив их, ещё постояла немного в детской, прислушиваясь, как они. И неторопливо вышла. А вальс был слышен. Должно быть, оркестрину снова завели.
7
Ночью ему снился бал, только не в гостиной у родителей, а где-то в чужом доме. Фанни танцевала с офицером, который почему-то оказался мосье Полем, незадачливым игроком из её рассказа. Сам же Петя в стороне, кружась, напевал свой вчерашний вальс. Но если накануне и наяву этот вальс легко укладывался в общий, то теперь он выделялся и всем мешал. Фанни и её партнёр всё время оглядывались на Петю и не могли попасть в такт, остальные гости — также. Тогда он вышел на улицу и среди метели и стужи продолжал кружиться и напевать. Нет, он не хочет довольствоваться скромной долей, метель не пугает его. Напротив, среди ветра и снега мелодии рождаются привольнее и живее. Одна тает, другая как бы вздымается из сугробов, их уже несколько, но это всё тот же, его собственный свободный вальс…
Утром он просыпается счастливый. И когда приходит Фанни, подтянутая, бодрая, аккуратно причёсанная, ему становится жаль её. И он прижимается щекой к её прохладной руке.
Он знает, что Фанни любит его, но почему-то заставляет его страдать, разлучая с музыкой.
Значит, можно и любя причинять зло — это он запоминает.
Но ему жаль не себя, а её.
В её взгляде беспокойство. Она соображает, как быть: поддаться ли на эту ласку или не обратить внимания, не «фиксировать» проявление детской нервозности.
Но прежде чем наставница начинает свои утренние распоряжения, он говорит с мольбой:
— Простите меня, Фанни, голубушка, если я когда-нибудь огорчил вас.
Он всегда забывает сказать «мадемуазель», и Фанни освободила его от этой условности.
Но она убеждается, что чувствительность ещё гнездится в нём: с этим мальчиком будет ещё немало хлопот. И она снова берётся за своё трудное дело:
— Чем же вы огорчили меня, Пьер? Вы хорошо учитесь, послушны…
Но внутренний разлад остаётся.
8
С его первой учительницей музыки, Марией Марковной Пальчиковой, отношения были куда проще. И он любил её, хотя она была самая заурядная провинциальная музыкантша, из самоучек. Когда через много лет она написала ему, что терпит нужду, он с того же дня стал аккуратно высылать ей пенсию. И с удовольствием вспоминал доморощенные уроки, от которых другой ученик сильно заскучал бы.
Фанни пробыла в воткинском доме четыре года. Когда семья перебиралась в Петербург — ломка всей жизни, — с Фанни пришлось расстаться, её ждали в другой семье. Тяжело было прощание. Петя плакал навзрыд и долго помнил её последний взгляд. Но чем дальше, тем яснее становилось ему, что из-за неё он не мог быть вполне счастлив в ту пору.
Разная бывает любовь у людей, он это рано понял. И большая и маленькая, и долгая и кратковременная. Одна скудеет без взаимности, другая длится и длится. Его любили по-разному, и он также не мог одинаково любить всех.
Но у всякой любви есть своя тень: разлука. Он уже узнал много разлук, и все они были горькие: отъезд старших сестёр после каникул, болезнь маленькой Сани, к которой не пускали целых шесть недель; расставание с Фанни… Но не было ничего горше отлучек матери, как не было ничего сильнее его любви к ней. Часто он разыскивал её по всему дому, чтобы убедиться, что она тут, поблизости. И принимался петь и прыгать от радости, что обрёл её в какой-нибудь дальней комнате.
Но страшно было так любить, потому что призрак разлуки стоял рядом. Разлуки, а стало быть, и потери. Один раз матери случилось уехать на целый месяц в Петербург к родным. Первые дни он только тосковал, потом его стала преследовать мысль, что она может не вернуться. Откуда приходили эти мысли? Ни у отца, ни у Коли их не было. Но от них нельзя было отделаться, и в последние дни того месяца он совершенно изныл. Письмо матери его не утешило. Истомлённый страхом, он то обессилевал и ему казалось, он уже ничего не чувствует, то бежал к двери и даже на улицу, хотя знал, что срок ещё не пришёл.
Александра Андреевна вернулась раньше, чем предполагала. Няня докладывала: «Уж так-то он томился, голубчик!» Но теперь ему казалось, что ни тоски, ни тревоги не было. На этот раз, слава богу, разлука не обернулась катастрофой. И начался пир: рассказы, подарки, возбуждённое слушание; вся семья за столом, все смеются, расспрашивают… Было уже поздно, у него слипались глаза, но он боролся со сном, чтобы как можно дольше пировать и радоваться.
О, эти вечера с матерью, особенно зимние, когда за окном бушует вьюга, а в комнате и светло, и тепло, и весело, и великолепно! Мать рассказывает об одиноких путниках, и он, даже не надев шубейки, не обращая внимания на крик няни, срывается с места на улицу, полный сострадания и стремления привести одинокого путника в свой домашний рай. Но путники торопятся к себе. Он и разочарован, и ужасно рад, что им есть куда спешить.
И радость побеждает, радость вообще, от жизни. Он вбегал в залу, падал в мягкое кресло, подпрыгивал и жмурился, а то, что няня выговаривала ему, только усиливало его счастье: беспокоятся, упрекают, любят!
Но чтó значил отъезд матери по сравнению с той разлукой, которая наступила осенью пятидесятого года! Это была ещё не та вечная, которая притаилась и ждала, но и тут был ужас. Мать привезла его в Петербург, в Училище правоведения, и собиралась уезжать домой к младшим детям, а он должен был остаться в Петербурге.
В училище ему с первых же дней стало противно и гадко, а тут предстояла разлука с матерью. Когда это стало реальностью — мать села в коляску без него и коляска тронулась, — он устремился за ней.
Не помня себя, он вырвался из чьих-то рук и вновь побежал за коляской. Стоит только догнать — и мать не даст в обиду: остановит коляску, возьмёт с собой. Только догнать. Это ему удалось: рыдая, ухватился он за подножку, за всё, за что можно было уцепиться. Мать вскрикнула, его оттащили.
Он не мог обвинять её. Бледное, с дрожащими губами лицо, которое мелькнуло перед ним, открыло ему истину: она не могла взять его с собой, не имела власти. Не люди по злобе разлучили их, а беспощадная, неотвратимая сила необходимости. Мальчики растут, становятся мужчинами — это она говорила и раньше, — должны учиться, покидать родные места. Но не это было главное, о главном она умолчала: отныне должно измениться его отношение к людям, и в первую очередь к ней самой; уже теперь, с десяти лет, он должен отвыкать от матери, если не хочет сильно страдать. Его привязанность к ней должна ослабеть или, по крайней мере, измениться: больше почтительности, меньше обожания и нежности. Отныне фигура матери, её облик станет удаляться, уменьшаться, бледнеть. И не коляска с лошадьми уносит её, а сама жизнь.
Впервые он понял, что родители не всесильны, как он думал, а могут быть так же слабы и зависимы, как их дети.
Ночью, лёжа в слабоосвещённом дортуаре училища, где спали другие мальчики, он долго не мог уснуть. Что же будет дальше? Что ждёт его, какие новые испытания?
Рядом, на своей койке, лежал мальчик, тоже новенький. Он тихо окликнул Петю. Его также любили и ласкали в родительском доме, и перемена в его жизни тоже произошла быстро.
— Это правильно, так и должно быть, — сказал он. — Нельзя всё время находиться под тёплым крылышком. Надо наконец вырваться на волю.
Голос мальчика противоречил его словам.
На волю! Как будто есть где-нибудь на свете большая воля, чем та, какой они пользовались в родительском доме! И разве огромное казённое училище не напоминает тюрьму?
II. Родословная героя
«Три карты, три карты, три карты»
Из баллады Томского1
В Летнем саду, где много гуляющих, где степенные кормилицы тихо убаюкивают младенцев, а старшие дети играют в военную игру, мы впервые встречаем молодого офицера, Германа. Это не тот, кого описал в своей повести Пушкин, это Герман Чайковского. Он не немец, а русский: Герман его имя, а не фамилия! И характер у него другой. Но судьба во многом схожа с судьбой пушкинского героя.
Он самолюбив, беден и одинок. И к тому же влюблён в девушку из знатного семейства. И даже не знаком с ней.
Он стоит в Летнем саду в стороне от толпы, недовольный и мрачный. Хорошая погода его не радует, люди раздражают. С самого утра его гнетут тяжёлые предчувствия.
Кто эта сгорбленная разодетая старуха с трясущейся головой, опирающаяся на руку молодой стройной девушки? Это известная графиня Z, «Московская Венера». Шестьдесят лет назад её так прозвали в Париже за необыкновенную красоту. Теперь ей восемьдесят семь. И у неё есть другое прозвище, особенно интригующее игроков: «Пиковая Дама».
С этим связана таинственная легенда.
Шестьдесят лет назад в Париже некто граф Сен-Жермен, человек с тёмной репутацией, открыл Московской Венере тайну трёх карт: то были карты, которые всегда выигрывают.
Но тайна недолго оставалась тайной. Два человека узнали её. И однажды, говорит легенда, в ночной час графине явился призрак и предсказал ей, как она умрёт. Её убийцей станет Третий, кто осмелится выведать у неё тайну трёх карт.
Обычный игрецкий анекдот. Но с тех пор игроки суеверно и бережно передавали его из поколения в поколение, прибавляя новые подробности, так что за шестьдесят лет он превратился в драматическую балладу.
Герман (о котором идёт речь в опере и с которым мы будем и дальше встречаться) рос сиротой. Он никого не любил и с детства не знал дружбы. Только с одним офицером своего полка он сошёлся, да и то не мог назвать легкомысленного, беспечного Томского своим другом.
Герман служил в гусарском полку, но скромный достаток не позволял ему жить так широко, как другие офицеры. Между тем независимость была его давнишней мечтой. Он не мог не сознавать своего превосходства над сверстниками: считал себя умнее, одарённее, мог быть и добрее, если бы сама судьба оказалась милостивее к нему.
Все вечера он проводил в игорном доме, ревниво следя за игрой, но сам в неё не вступая. Не из расчётливости: он не боялся «жертвовать необходимым в надежде приобрести излишнее». Он мог пожертвовать и в конце концов пожертвовал любовью, покоем, своей и чужой жизнью. Но до поры до времени он выжидал.
Давно уже зародилась в нём обманчивая идея.
Герман страдал от своего положения, в котором очутился не по своей вине. Другие были богаты: ни о чём не заботясь, они имели всё. Но в их неумелых руках это гибло зря: они только растрачивали то, что он мог бы приумножить. Не деньги, нет, он стал бы путешествовать, изучал бы науки и искусства, поощрял бы таланты. И женщину, которую полюбил, сделал бы счастливой. Но лучшие дары доставались не ему, а другим. И он постоянно размышлял о том, что могло бы уравнять его с этими праздными счастливцами.
Труд? Но он знал, что честный труд не доставит ему богатства да и, по правде сказать, ничему путному не был научен. Для мелких и недостойных дел он был слишком брезглив. Да и зачем он должен унизить себя?
Преступление, убийство — эта мысль не раз приходила ему в голову: какой-нибудь жадный богач вампир или старуха ростовщица, — уничтожить их было бы благодеянием для многих людей… Но Герман не был убийцей, и опять-таки запятнать себя преступлением и потом всю жизнь мучиться им, — а он бы непременно мучился, даже если бы оно осталось нераскрытым, — в то время как Томский и ему подобные, ничем не омрачив свою совесть, продолжали бы благоденствовать… Проклятье!
Нет, только сверхъестественное, от него не зависящее обстоятельство могло бы ему помочь. Воображение Германа, не в меру пылкое, всегда было склонно к таинственному, мрачному. Он верил в предчувствия; был в одно и то же время и фаталистом, и страстно верующим: он верил в чудодейственный случай.
Встреча с Лизой, богатой, а следовательно, недоступной для него девушкой, сообщила этим стремлениям страшную определённость: появилась ближайшая цель, заслонившая все другие. Вот почему рассказ о трёх картах так поразил ум Германа.
Эту легенду он услыхал в Летнем саду, в один из своих тяжёлых дней. Всё соединилось, как в фокусе: он увидал впервые Пиковую Даму, графиню*** Z (один её вид показался ему зловещим, словно она имела отношение к его судьбе); он узнал, что незнакомка, которую он любит, — внучка зловещей старухи… И тут же услыхал он, что девушка просватана за надменного светского щёголя…
Герман был сражён отчаянием. Вдруг до него донёсся голос Томского, который, вначале рисуясь и фанфаронствуя, а затем всё серьёзнее и убеждённее, со всеми страшными подробностями рассказывал приятелям легенду о Пиковой Даме и трёх картах.
Вот он, выход! Герман ощутил в себе громадную силу, был готов вызвать на поединок весь свет.
И постепенно мысль о трёх картах, которые существуют и могут стать известны, окончательно заслонила для него весь мир. Ни о чём другом он не мог думать. Конечная цель: любовь, счастье — всё это отступило. То, в чём он видел лишь средство, отныне стало единственной целью его жизни. Три карты. Всё остальное померкло в его глазах.
Дальнейшее известно. Путь Германа сливается с путём пушкинского игрока. Герман сделался невольным убийцей старухи, узнал от призрака название трёх карт, дерзко поставил их одну за другой и всё потерял. Не только выигрыш. Его вера потерпела крах. Пиковая Дама обманула его: чуда не произошло.
И здесь его дорога снова расходится с дорогой пушкинского безумца. Перед своим концом прозревший Герман понял, что три карты — губительный и жалкий бред, а то, чем он пренебрёг и поставил на карту, и есть подлинное богатство.
Об этом, как в финале древнегреческой трагедии, повествует хор.
2
Наконец Ларош приехал в Клин. Обеспокоенный его видом, Чайковский уже не заставлял его работать. Он понимал, что Ларош переживает кризис. Они не мешали друг другу; когда хотелось, разговаривали, играли в четыре руки. С утра каждый делал что хотел.
Ждали чету Фигнеров. Исполнители главных ролей в «Пиковой даме» Николай Фигнер и его жена Медея собирались к Чайковскому, чтобы он прошёл с ними их партии Германа и Лизы.
Но Фигнер не смог приехать: работая в саду, он повредил себе ключицу. Чайковский решил сам съездить к нему в имение.
— Вот и прекрасно, — сказал Ларош, — поезжай, а я останусь здесь. Уединение мне полезно. Буду трудиться: писать твою биографию.
— А не преждевременно ли это?
— Нет, в самый раз.
Пока Чайковский укладывался, Ларош сидел на диване и представлял себе, как он начнёт задуманную книгу. Сначала описание Воткинска — со слов композитора; потом, уже по собственным впечатлениям, — их студенческой жизни. Московский музыкальный быт, молодёжь…
Ларошу приходилось много писать о Чайковском, но подробной биографии ещё не было; он полагал, что это будет нетрудно: ведь Чайковский его друг.
…Описать его молодость в Москве, Консерваторию, учеников, дружбу с Николаем Рубинштейном, весёлую артистическую безалаберную жизнь. Медленно, но неуклонно возрастающую славу… Романсы, первые симфонии… Дезире Арто[63], как буря ворвавшуюся в эту жизнь, и как следствие — «Ромео и Джульетту»[64]. Это была вершина того периода, гениальная музыка, а Чайковскому не было ещё и тридцати…
— А ты уверен, что у меня есть биография?
Этот шутливый вопрос поразил Лароша: такая мысль приходила ему самому.
Есть художники, у которых всё творчество автобиографично. Каждый поворот, многие эпизоды их жизни угадываются по тому, что они создали.
Сама их жизнь — легенда, то есть сюжет для легенды. И сюжетно драматично, даже драматургично[65] проходит перед нами их жизнь, пусть полная случайностей… Таким был Вагнер.
Другое дело Чайковский. Его жизнь несомненно любопытна. И в ней были острые повороты и события, хотя бы появление Надежды Филаретовны[66], которая все годы заботилась о нём — заочно. И многие другие встречи и впечатления. И всё же если описать эту жизнь со всеми её невзгодами и триумфами, то получится жизнь какого-то другого Чайковского, не композитора, написавшего «Онегина» и знаменитые симфонии, а доброго малого, со странностями, симпатичного, обаятельного, но не более. И обнаружатся какие-то поверхностные связи, неорганическое соединение двух жизней, опирающееся только на хронологию, а это не всегда надёжно.
Можно ли узнать жизнь Чайковского по его музыке? Он сам не раз говорил, что его жизнь неинтересна, то есть кажется неинтересной ему. Что же его захватывает? Чему отдаёт он свои душевные силы? И если вдуматься хорошенько, если поразмыслить над этой молодёжью (преимущественно молодёжью), которая живёт в его музыке, то приходишь к выводу, что жизнеописания этих людей и составляют его главный интерес; что он любит их гораздо больше, чем себя. Не в этом ли секрет его феноменального успеха?
Вагнер видел себя в Тристане, в Лоэнгрине, в Гансе Саксе[67]. Чайковский, создавая своих героев, уходит от себя. И остаётся в тени. Любимцы либреттистов, все эти фараоны, герцоги, средневековые монахи, ему чужды. Он не понимает громогласных героев и героинь Вагнера, они пугают его своей ненатуральной величиной. Избранные им люди реальны, полны жизни, и чем менее они похожи на него самого, тем они любопытнее для него, тем дороже.
Прошлое и настоящее сливаются так же, как литература и жизнь. Он плакал, читая историю Жанны д'Арк, этой девочки с геройской душой. Он не только любил Таню Ларину, Ленского, Джульетту, — он знал их, как своих близких.
3
— …Во всяком случае, я не люблю исповедоваться, — сказал Чайковский.
— Между тем ты только это и делаешь.
— В чём же?
— А твои симфонии? Разве это не исповедь?
— Скорее исповедь века.
— С этим я согласен.
Ларош оживился. Ему пришли в голову новые сопоставления, которые он выскажет в своей будущей книге. Он принялся наигрывать первую арию Германа и внезапно заметил, что начальная фраза: «Я имени её не знаю» и есть тема трёх карт[68], но только видоизменённая. В другом ритме.
Поразительное мастерство! Соединить столь несходное, сразу показать одержимость человека двумя противоположными страстями! Даже о своей возвышенной, светлой любви Герман невольно изъясняется языком трёх карт.
«Вот оно, симфоническое мышление, — думал Ларош. — И „Онегин“ симфоничен, и „Лебединое озеро“. А эта „Пиковая дама“ — симфония из симфоний!»
— …Так ты полагаешь, что любовь — лучшее в жизни человека? — спросил Ларош полузадумчиво, полуиронически. Он много раз увлекался и разочаровывался и никогда не был счастлив.
— Да, — сказал Чайковский, — только подлинная.
— А что это, собственно, значит?
— То, что любящий человек талантлив и героичен.
Он доказывал это всей своей музыкой. Но не любил об этом говорить.
— А можно спросить, где ты взял своего Германа? Это не пушкинский, а нынешний. Ты много встречал таких?
— Приходилось.
Это были молодые люди, родившиеся в бедности, честолюбивые, с сильной волей. Изобретательные и смелые, они в то же время не верили ни в труд, ни в борьбу, а только в сумасшедшую, внезапную удачу. В душе все они были игроки, даже если не брали в руки карт. Вся жизнь представлялась им обширным игорным домом. Но, как бы им ни везло, в конце игры их всё-таки ждала Пиковая Дама… Правда, он знал одного из таких, кто пошёл по другому пути…
— Кто же это счастливое исключение?
— Тот, кто более других приблизил меня к Герману: Николай Фигнер.
Этого Ларош не ожидал.
— Фигнер? Этот расчётливый, преуспевающий актёр — и мятущийся, обречённый Герман? Да они скорее антиподы!
— Возможно, — сказал Чайковский. — Но контрасты между людьми не исключают их сходства.
— Вот так парадокс!
— Вовсе нет. Представь себе, что человек с характером Германа добровольно отказывается от трёх карт…
— Это невозможно.
— Представь себе, что возможно.
— Против характера не пойдёшь.
— Ты так говоришь потому, что не знаешь историю Фигнера. Она очень современна и во многом поучительна.
История Фигнера
Лет десять назад юноша Николай Фигнер, учившийся пению в Петербургской консерватории, был исключён за «полное отсутствие голоса и таланта». Таков был приговор двух знаменитых профессоров, которые один за другим отказались от безнадёжного ученика. Его редкое прилежание ввело их в обман. Но одно прилежание не делает артиста.
Фигнер уехал в Италию. Несколько лет о нём не было слышно. Вдруг в Петербурге узнают, что он прославился в Европе. Всюду его приглашают, везде он имеет успех. Зовут его и в Петербург. Он едет, и в тысяча восемьсот восемьдесят седьмом году появляется в Мариинском театре.
С первого появления на сцене он покоряет не только публику, но и разборчивых знатоков. Правда, они отмечают не совсем приятный, горловой тембр голоса и какую-то надрывность в исполнении певца — то, что молодёжь насмешливо называет: «Карррамба!». Но в пении Фигнера, в его игре столько артистической культуры, ума, блеска, изящества, что даже студенты, в разговорах порицавшие «душку тенора», отбивают себе ладони, вызывая Фигнера со своей галёрки, куда с трудом удалось попасть.
Что же случилось там, в Италии? Какой колдун совершил превращение? Как появился голос, которого не было? Как родилась музыкальность, темперамент, чутьё?
Конечно, в Италии замечательные педагоги, но и петербургский Эверарди (один из тех двоих, что отказались от Фигнера) был итальянец и отличный педагог. Покорить всю Европу — это, знаете ли, не просто, особенно если природа обидела. А ведь сам Джузеппе Верди подарил Николо Россо[69] партитуру «Отелло» с выразительной надписью: «Глубоко понявшему мои мысли».
Чем же объяснить это, как не колдовством? Ну, не колдовством, так магнетизмом. В Петербурге (и не только там) верили в магнетизм — это было модой. Есть такие доктора, которые могут усыпить и затем внушить усыплённому: «Проснувшись, станешь тем-то и тем-то». Магнетизёр мог завести испытуемого, как часы, — надолго. Потом, когда завод кончится, Фигнер опять уедет в Италию, будто бы в отпуск, а магнетизёр восстановит изношенный механизм.
Любопытство было сильно возбуждено. Актрисы выпытывали у жены Фигнера, Медеи, в чём тайна. Не мог же почтенный Эверарди так жестоко ошибиться. Но Медея уверяла, что Фигнер всегда был таким, как теперь.
В конце концов любое напряжение ослабевает. Улеглось и любопытство к карьере Фигнера. А между тем своими успехами он был обязан исключительно самому себе.
В Италии ему на первых порах пришлось очень плохо. Ему хотелось как можно скорее, одним рывком взять реванш. Он обратился к тем шарлатанам, которых было много в Италии и которые сулили начинающим скорые победы. Ничего путного и не вышло: один из этих авантюристов даже обобрал Фигнера. Теперь молодой неудачник всерьёз задумался над своими бедствиями.
Действительно ли он бездарен? Придирчиво проверив свои недостатки и достоинства, Фигнер пришёл к мысли, что талант у него есть. Не развитый, не сильный, но оригинальный и разнородный: своеобразный сплав различных способностей. С ними можно было сделаться артистом драмы, но не этого хотелось Фигнеру. Скрытая музыкальность влекла его к опере. Он понимал, что каждая из его способностей сама по себе не выведет его на большую дорогу; только в музыкальном театре он добьётся успеха. Наблюдая прославленных певцов, он с удивлением обнаружил, что многие из них пренебрегают доброй половиной своих богатств. Они опирались только на могущество голоса. Одна какая-нибудь выигрышная ария и даже её заключительная нота — сигнал к аплодисментам — вот что было главной заботой этих артистов. Какое варварское истощение природы!
Фигнер принял решение: то, чем пренебрегают эти счастливцы, отныне станет его достоянием. Ни одна мысль композитора не ускользнёт от него; он будет изучать не только свою партию, но всю оперу, вплоть до хоров. Пусть для других певцов речитативы только неизбежные мостки между ариями, его речитативы станут кровеносными сосудами оперы, её нервами.
Это не значило, что он пренебрёг искусством кантилены[70]. Напротив, он и здесь собирался дать бой. Изучив свой голос, он узнал и его пределы. Но и в пределах можно было достигнуть многого. Да и сами пределы не так уж неподвижны.
Теперь, вспоминая запальчивого юношу, каким он был недавно, он не понимал, как можно было мечтать о неожиданной удаче, о богатом покровителе и других, внешних, пришедших со стороны, свалившихся с неба, милостях. Это даже унизительно — ждать благодати. Насколько радостнее, прочнее призвать на помощь разум и быть во всём обязанным самому себе! В этой мысли есть даже что-то опьяняющее.
Встретив наконец добросовестного педагога в Италии, Фигнер чистосердечно рассказал ему о своих злоключениях. Педагог был тронут. Молодой певец вновь стал учиться — с прежним рвением, но без той слепой веры, которая подвела его в Петербурге. В сущности, он обучал себя сам, но держался так умно и деликатно, что преподаватель не замечал самоволия ученика и только убедился, что имеет дело с человеком умным и даровитым.
Наконец настал день дебюта. Он прошёл блистательно, а после подарка Верди слава певца окончательно упрочилась.
Но он покинул Италию ради России в самый разгар своей славы — и не только для реванша. Ещё в восемьдесят четвёртом году он узнал о судьбе своих героических сестёр-народниц: Лидия Фигнер была сослана, Вера — приговорена к смертной казни, заменённой бессрочной каторой. Она отбывала одиночное заключение в Шлиссельбургской крепости.
Мать писала: третья дочь, Евгения, избрала тот же путь, что и старшие сёстры. Мать звала его. Он принял приглашение Петербургской оперы, отказавшись от выгодных гастролей. Медея последовала за ним.
Чайковского тронула история певца. В этой гигантской работе над собой, в этом самопознании и самовоспитании было что-то родственное ему самому.
— Я к нему присматриваюсь уже три года, — сказал Чайковский Ларошу. — Он пел у меня Андрея[71], Ленского. И я могу сказать, что это типичный сын века. Нервность, горячее воображение, азарт. Характер довольно тяжёлый. Одним словом, тот же Герман, но без фатализма… Разумно направленная воля спасла его — редкий для такого характера, зато и счастливый случай.
— Но после того, что я от тебя услышал, — заметил Ларош, — я могу думать, что твой Герман должен быть неприятен Фигнеру.
— Да что ты! — сказал Чайковский. — Он в восхищении от этой роли.
4
Первый человек, которого он увидал, сойдя с платформы, была Медея. Она спешила к станции в таратайке, которой сама правила.
Резким движением она остановила лошадь.
— Я отпустила кучера, — сказала Медея, отодвигаясь и давая Чайковскому место рядом с собой. — Но вы увидите, как я справляюсь.
— Не сомневаюсь, что отлично.
Медея нравилась ему. Её жизнь тоже была не из лёгких. Четырнадцати лет она ушла из родительского дома, чтобы учиться пению и потом поступить на сцену. В восемнадцать уже пела в опере. Родные простили её: победителей не судят. Тем более, что — по словам очевидцев — в Мадриде почитатели Медеи расстилали перед ней прямо на улице свои плащи и кричали хором: «Да будет — благословенна — мать, — родившая — тебя!»
Но, несмотря на успехи, а может быть, из-за привычки к ним, Медея держалась скромно и просто. Гладко причёсанная, в длинной юбке и в простой блузке с галстучком, она скорее походила на курсистку, чем на примадонну столичной оперы.
Чайковский спросил о здоровье Фигнера.
— Ему лучше, — сказала Медея, сдерживая бег лошади, — но он нервничает из-за роли. Боится, что не справится.
— Кто же другой справится?
— И я так думаю. Но он и меня заразил своей нервозностью.
«Должно быть, он в болезни нетерпелив, — думал Чайковский, — и ей в такие дни достаётся».
— Вы ему внушите, — сказала Медея, — и он вас послушается.
Она тщательно выговаривала слова. Итальянка по рождению, она задалась целью сделаться русской женщиной и русской артисткой. И приложила к этому немало стараний: говорила по-русски правильно, но с акцентом.
В пении этот недостаток был заметнее. Всё же она имела успех в роли Татьяны. Да и кто не пленился бы её голосом? Но она была слишком ярка для Татьяны, слишком энергична и порывиста.
Партию Лизы дирекция поручила другой певице, более подходящей для этой роли. Но Фигнер не пожелал приспособляться к другой партнёрше. Никто лучше Медеи не умел оттенять талант и пение Фигнера. Она знала, какой нужно быть на сцене, чтобы все его достоинства были особенно заметны. В дуэте с ним она помнила, когда нужно приглушить голос, когда усилить, чтобы это было выгодно для Фигнера. Их дуэты были лучше отдельных выступлений. Голос Медеи, более красивый, более звучный и тёплый, дополнял голос Фигнера, осенял его каким-то лучистым ореолом. То был гармоничный, совершенный ансамбль.
— Вы ему только внушите, — повторила Медея, — и он успокоится.
5
В благоустроенном имении Фигнера везде была видна рука рачительного хозяина. Но сам Николай Николаевич был не в духе: давала себя знать повреждённая ключица. Да и новая роль, за которую он вначале ухватился, теперь казалась ему неисполнимой. Он уже говорил Медее, что всё бросит. Всякий раз, выучив роль, он начинал испытывать сомнения и мучил себя и Медею до самой премьеры.
«Я имени её не знаю…» Фигнер начал эту арию вполголоса, но чётко. Он всегда придавал большое значение декламации и теперь, в первую очередь, выразительно произносил слова.
…Нет, этого не следовало делать: слова не только не растворялись в музыке, как им полагается, они убивали её. Чайковский обычно не замечал неудачных слов в опере; он слушал только музыку — то, что она выражает. Но сейчас, в арии Германа, слова как-то оскорбительно выделялись.
Как он не замечал? «Ты стал другой какой-то», — говорит Томский, словно он так чуток и так хорошо знает Германа, что замечает в нём малейшую перемену. Но это ещё не самое плохое. Герман признаётся Томскому, что любит незнакомку. Если он потеряет надежду (а выражено это гораздо грубее), тогда остаётся одно… «Что?» — бессмысленно спрашивает «чуткий» Томский. «Умереть!» — глухо, как из бочки, ответствует Герман. Весь диалог груб, прозаичен, монолог напыщен. А между тем, построенная на мотиве трёх карт, ария Германа в музыкальном отношении безусловно интересна. Герман ещё не знает Пиковую Даму, но музыка открывает нам его мрачное будущее: три карты.
Может быть, просто разгулялись нервы? Завтра всё покажется сносным. Но ариозо[72] второй картины, которым Чайковский гордился, заставило его поморщиться, как от боли. Что за нелепый, случайный набор слов. «Красавица! Богиня! Ангел!» Почему «ангел» после «богини»? «Ты плачешь… Откуда эти слёзы?» Дурацкий вопрос. Ради бога, Николай Николаевич, не произносите это с таким чувством. Каждое слово глупо.
Надо поговорить с Модестом. Так это не может оставаться. А ведь либретто отлично скроено. Модест знает законы театра, недаром он драматург. Действие у него насыщенно, контрасты ярки. И он чуток: достаточно высказать ему основную мысль, и он правильно развивает её; оттого и не замечаешь иногда, как плохи отдельные фразы. Но, может быть, он думает, что на сцене не следует быть естественным?
И вот уже кажется, что и сама мелодия под влиянием неподходящих слов принимает какой-то неблаговидный оттенок. И самому певцу передаётся сентиментальность, слащавость. «Сле-е-зой своей со-о-грей». Как это можно согреть слезой?
Но наваждение длится недолго, потому что Фигнер искренне увлечён ариозо. Забыв про больную ключицу, он поёт полным голосом, и слова уже не так оглушают. Можно о них забыть… Опять слушаешь с участием, понимаешь, что происходит: остановка, рубеж. Преклонение перед чистотой, забвение трёх карт. Теперь Герман снова любит, искренне, пылко. Может быть, это его спасёт?
— Ну как? — спрашивает Фигнер, переводя глаза с Медеи на Чайковского. — Хорошо?
Слова либретто не застревают у него в горле. Может быть, не так уж страшно? Чайковский доигрывает аккомпанемент и глубоко вздыхает. Слава богу, эта мелодия («Прости, небесное созданье»), повторенная на фортепьяно, смывает слова. Она совсем не слащава, она благородна. В оркестре она поручена виолончели и будет ещё выразительнее. Разгорячённое лицо Фигнера и счастливые глаза Медеи ждут…
— Да, — говорит Чайковский, для верности повторив отыгрыш, — теперь хорошо.
6
Для своих романсов он не выбирал непременно гениальные стихи. Только один романс написал на слова Пушкина: «Соловей», и только один — на слова Лермонтова: «Любовь мертвеца». И это не лучшие из его романсов. Совершенство стихов применительно к музыке даже тяготило его: нельзя раскрашивать античные статуи. Слова, в которых так много сказано, не годятся для музыки, потому что музыка не иллюстрирует слова, а открывает новое. Но что можно открыть после Пушкина?
Разумеется, стихи следует выбирать осторожно: стих должен быть лёгким, гибким, хорошо ложиться на музыку и оставлять простор для неё. Он должен быть и таким, чтобы не совестно было сокращать его, менять. Чтобы тебя, если что-нибудь изменишь, не обвинили в кощунстве (как это сделал Тургенев по поводу либретто «Онегина»[73]).
Очень хороши для романсов стихи Алексея Толстого, Полонского, Фета, Апухтина; пожалуй, более всего Апухтина: тут композитору есть над чем поработать… «Ночи безумные» — почти на грани банальности, но чувства в этом стихотворении искренни. Поэт недосказал, а музыка проникнет дальше слов, она снимет всё, «что было в них ложного».
«Ну что? — спрашивал Апухтин со свойственной ему язвительностью. — Достаточно плохо для тебя?»
Апухтин, друг детства, видел его насквозь. «В моих стихах, — говорил он, — есть одно достоинство: они годятся для романсов Чайковского… Ты просишь меня потесниться, изволь: сделаем чуть хуже».
Один раз он спросил:
— А как же Глинка, Шуман? Ведь они не боятся выбирать для своих романсов стихи великих — Пушкина, Гейне. И совершенство стиха не мешает им.
— Не сравнивай меня с другими, — сказал Чайковский, помрачнев. — Я могу лишь то, что я могу.
— Знаю, — сказал Апухтин, — и спасибо тебе за это.
…Фигнер вытер платком лоб… Теперь наступила очередь Медеи. С ней было и легче, и труднее, чем с Фигнером. Легче оттого, что она быстро учила роли, голос у неё всегда звучал хорошо и её не терзали сомнения. Но именно это, казалось бы, удобное свойство затрудняло работу с ней. Её Лиза была старше и решительнее той девушки, которую задумал Чайковский. Но такой уж приходилось её принимать, потому что Медея всегда держалась первоначальной трактовки.
А Фигнер — он ещё много раз будет лепить нового Германа. Унылый, возбуждённый, порывистый, оцепенелый, любящий, равнодушный, отчаявшийся, полный надежд — и так до самого спектакля он будет пробовать и пробовать и приводить в отчаяние дирижёра и постановщика…
Пожалуй, можно и не беспокоить его больше, пока он нездоров.
Но Фигнер уже отдохнул и готов был петь дальше.
III. Злой день
1
Уезжая из Лобынского[74], Чайковский снялся на прощание с Медеей и Фигнером, а через неделю получил фотографии. Медея писала, что вышла плохо. Э, что там: молодые лица всегда хорошо получаются. «Неужели я так стар? — думал он, рассматривая себя на фотографии. — Как будто между мною и ими не двадцать лет разницы, а гораздо больше».
Он долго выглядел юным, а потом сразу постарел.
Ему вспомнилось, как два года назад в Лейпциге он познакомился с Эдвардом Григом и его женой — и тоже снимался вместе с ними. Они были чуть моложе его. И всё-таки кто-то из толпы сказал:
— Это Чайковский, видите? А с ним его дети.
…Прелестная это была чета, особенно Григ. Светлая, чистая душа.
Вернувшись к себе в деревню, Чайковский, к своему удовольствию, ещё застал Лароша. Но тот был мрачен, к работе ещё не приступил.
— Это как раз самое трудное, — сказал Чайковский.
Для него теперь наступило время относительного покоя. Он стал вести прежний образ жизни: с утра работал над оркестровкой оперы, гулял, писал письма, изредка принимал гостей.
Правильный ритм жизни, который он сам установил для себя, редко нарушался по его вине. Но однажды, в конце июля, выдался бездейственный день. Ночью он плохо спал — разболелись зубы, а наутро чувствовал себя настолько слабым, что не вышел на прогулку. Это было необычно для него, и он понял: день будет пустой и в то же время страшно тяжёлый; он канет в бездну, не оставив после себя никаких следов, кроме тоски и физической разбитости.
Это будет день-мститель. За что? За гордыню. За то, что музыкант вообразил, будто может замедлить ход времени. За то, что в конце каждого дня он удовлетворённо говорил себе, что может в один из своих воображаемых сундуков «горсть золота накопленного всыпать».
Горсть золота — то есть несколько исписанных листов. А за шесть недель — целую оперу. Не слишком ли? Да, это уж прямо по-колдовскому получилось, не мудрено, что гордыня его обуяла.
Всё, конечно, можно объяснить. Многолетняя ежедневная тренировка, навыки. Он умел быстро работать. Всё делал быстро, энергично, разумно экономя силы. Быстро читал — и запоминал самое главное; быстро писал письма — и они не были холодны, быстро двигался. Сочинял, правда, не спеша и, может быть, оттого — быстро.
Вдохновение было с ним в ладу. Нет, оно нередко заставляло себя ждать, особенно, как ни странно, в молодые годы. Приходилось залучать его насильственно: работать, работать и рвать написанное. Приходилось подолгу ждать: может быть, настигнет внезапно. С годами оно стало чаще откликаться на его призыв — настойчивость побеждала. Но оно терзало его и в те часы, когда являлось. Как в болезненном припадке, он изнемогал под наплывом мыслей, ужасаясь, что нельзя их все записать и сразу окончить задуманное. Ларош говорил ему: «Ты не знаешь мук творчества, а только его восторги. Вот и секрет твоей трудоспособности». Ох, дружище, я знал эти муки. Но никогда не отказался бы от них.
Да, приучил свою музу к послушанию. И вот — «Пиковая дама» — за шесть недель. Вся предыдущая жизнь была подготовкой к этому последнему труду: он успевал только записывать.
И этот сегодняшний злой день абсолютного молчания тоже понятен. Переутомление. Ведь ещё не окончив оперу, он видел галлюцинации. Это ещё не такая дорогая расплата — один злой день. Надо его пережить, и всё.
Один ли день? А не последуют ли за ним другие, такие же? И не бывает ли так, что целые дни, заполненные трудом и вдохновением, тоже оказываются напрасными и целая опера, за исключением отдельных отрывков, неудачна? В «Орлеанской деве», может быть, только ария Иоанны, её прощание с родным селением, высока, подлинна. А все другие оперы, до «Онегина» и после него, — разве он доволен ими до конца? Всё же он не считает напрасными потраченные месяцы и годы. Не всё непременно и всегда должно удаваться, и совсем не обязательно, чтобы каждое новое произведение было лучше предыдущего. Да это и невозможно. Но ты сам не имеешь права сомневаться. Ты отдаёшь всего себя ради нескольких страниц. Да что страниц — ради одной фразы. И говоришь себе: «Я верю, это будет лучшее изо всего!»
Бывает, что поражение потом приводит к победе. Может быть, неудача «Орлеанской девы» (а с какой любовью он трудился тогда!) привела к удаче «Пиковой дамы»? Именно потому, что с любовью трудился. Нет, неудачи не страшны, страшно молчание. Страшно, что оно будет длительным. Нет, этих мыслей и допускать нельзя.
2
Собиралась гроза. В комнате было темно, только выделялись портреты на стенах: Рубинштейны, Балакирев, Стасов… Зажигать свет не хотелось. И книгу он оставил: не привык читать по утрам.
Если нельзя ни работать, ни гулять, если нельзя уснуть, можно вспоминать. Но — не всё. Есть воспоминания болезненные — их лучше избегать. Да и приятные — не всегда приятны: хорошо, что было, и жаль, что прошло. Но есть поучительные воспоминания — с ними связано неприятное, но это было преодолено. И тебя утешает сознание, что ты сумел избавиться от препятствий, помех, собственных заблуждений. Богачу не страшно вспоминать о прошлой своей бедности, напротив. Так же легко вспоминать и о собственной безвестности, о робких шагах, о друзьях, которые поддерживали, о врагах, которым не удалось тебя уничтожить.
Давно прошло то время, когда он предлагал свои сочинения издателям и театрам. Теперь от него ждут новой музыки. Но слава пришла к нему не сразу: любители да и просто публика признали его раньше, чем сами музыканты и критики, — плохой, по их мнению, знак! Мелодии «Зимней дороги»[75] уже напевали на улицах Москвы, а критика встретила её более чем сурово. «Консерваторский композитор г. Чайковский совсем слаб», — это писал едкий Цезарь Кюи, убеждённый противник всего консерваторского. Но жестокий отзыв всегда причиняет боль, даже если сознаёшь его предвзятость.
А потом всё изменилось, и он уже уставал от своей популярности.
«В чём ваша особенность? — спрашивали его и за рубежом, и в России. — Что вы хотите сказать вашей музыкой? Какие идеи руководят вами?» — «Да я сочиняю без всяких предвзятых идей». — «Но у вас есть же какое-то направление? Как вы пришли к нему?»
Он уклонялся от ответа либо отвечал равнодушно и обстоятельно. Порой ему хотелось сказать: «Оставьте меня! Вы всё найдёте в самой музыке». Но так отвечать не принято.
Какая была пестрота вкусов, мнений, теорий! В каждой группе — свои авторитеты, свои боги. И у него были свои кумиры, но они не повели его за собой. Пока он учился в консерватории в Петербурге, этим кумиром был Антон Рубинштейн. Когда же началась самостоятельная московская жизнь Чайковского, его первые шаги направлял Николай Рубинштейн, директор консерватории, замечательный музыкант, педагог, организатор. Направлял? Скорее пытался направлять. Чайковский во всём сохранял самостоятельность. Николай Григорьевич заботился о нём. Но как неудобна была эта московская жизнь рядом с Рубинштейном и как иногда тяжёл он сам с его широтой, чисто московским шумным хлебосольством, своеволием, честолюбием, как подавлял своей деспотической дружбой и начальническим авторитетом.
Иногда в добрые минуты Николай Григорьевич сам просил критиковать его, да пожёстче. Но доводов Чайковского не принимал:
— Странные вы люди, господа! Если вы мне целиком доверяете, значит, не справляетесь сами. Стало быть, должны повиноваться тому, кто знает дело лучше вас. У меня целое государство — оркестр, преподаватели, ученики, — я должен быть здесь царём по крайней мере!
— Вот как, царём!
— Да о чём мы говорим, не понимаю!
— О том, что без доброты, доверия, терпения нельзя управлять людьми.
В глазах Рубинштейна сверкнула молния. Он оставил за собой последнее слово:
— О доброте мы уже слыхали. Это палка о двух концах.
Он внезапно изменился, словно постарел. Линии его крутого лба обозначились резче. Чайковский подумал, как ему, должно быть, трудно приходится. И вспомнилось всё лучшее в Рубинштейне.
Таким он видел его и сейчас.
Вот они, портреты: Стасов, Балакирев…
Ларош и теперь ещё поминает недобром «Могучую кучку».
— Что у тебя общего с этой компанией?
Много общего. Но Ларош этого не понимал.
— Все хотели завербовать тебя в свой лагерь.
Может быть, и хотели; в деспотизме Балакирев не уступал Рубинштейнам, только сфера влияния у него была ýже. Он настойчиво предлагал свои сюжеты, свои любимые тональности. Но он был проницателен. Как он угадал, что «Ромео и Джульетта» — самый подходящий сюжет для Чайковского в ту пору его молодости и пылкой несчастливой любви! Балакирев заботился о чужом произведении, как о своём собственном, — нет, больше, потому что о собственных не заботился, — даже свои чудные импровизации не записывал. Он разбирал музыку «Ромео», подробно писал об этом в письмах. Никто из друзей Чайковского не был так внимателен. А что касается тональностей, то Балакирев был прав: сумрачный си минор и лучезарный ре-бемоль мажор — самый подходящий поединок настроений для музыкальной повести о Ромео и Джульетте[76].
А Стасов — нетерпимый, запальчивый — сумел также полюбить музыку Чайковского.
Он ревностно искал для него сюжеты — совсем как для своих. И, найдя для симфонической картины «Бурю» Шекспира, торжествовал:
— Балакирев прав: Шекспир — ваша стихия.
Как он радовался успеху «Бури» и посвящению. В радости этого великана было что-то детское.
Что их потом разлучило? Стасов поучал: «Вы должны сочинять симфоническую музыку… Опера не ваше дело». И опять — «вы должны»…
О, я очень хорошо знаю, что я должен, сам это сознаю! Но прежде всего я должен остаться самим собой.
А что это значит? Можно ли избежать влияний, не прислушиваться к чужим мнениям, всегда верить в свою правоту? В чём источник этой уверенности?
Оставаться самим собой — это не значит избегать и стыдиться влияний. Это значит — не бояться ни авторитетов, ни собственных ошибок, ни даже одиночества. Ведь он-то, в сущности, одинок.
Стасов ищет непременно идею в музыке, идею народническую. Ларош, напротив, всякую идею отрицает: музыка ничего не выражает, кроме приятных для слуха звуковых сочетаний. Но оба непоследовательны; по крайней мере, Ларош в своих статьях пишет о чувствах, которые выражает музыка.
Оставаться самим собой — это вовсе не значит быть непогрешимым. Это даже не значит быть правым. Это только трудные поиски правды.
Среди всех воспоминаний были и забавные. Например, Николай Кленовский, товарищ по консерватории, талантливый малый. Он был соперником Чайковского и даже имел бóльший успех благодаря одному примечательному свойству. Кленовский был мастер звукоподражания — он умел изображать музыкой видимые предметы, даже чернильную кляксу.
Набившись гурьбой в консерваторский зал, товарищи заказывали Кленовскому:
— Слона! Цыганку! Дерево! Паровоз!
Кленовский всё исполнял: дерево шелестело листьями, паровоз гудел, чернильная клякса расплывалась… Особенно удавались изображения цыганки и слона. Танец фанданго или хота[77] — вот вам и цыганка. Слона изобразить труднее. Но выдумщик брал громоздкие аккорды, среди которых тяжело извивалась неповоротливая гамма — хобот. И все узнавали: «Слон! Слон!» К чести Кленовского надо сказать: это его забавляло, не больше.
Но его, по-видимому, считали достойным соперником Чайковского до самых последних лет. По крайней мере в оперном театре, потому что именно ему заказали «Пиковую даму». Но Кленовский был умён и знал границы своего таланта. И как ни было заманчиво предложение, он отказался.
3
Ларош безвыходно сидит в своей комнате и пишет. Он продолжает биографию Чайковского. Дошёл уже до первой встречи композитора с Львом Толстым в Малом зале Консерватории. Благодарное для биографа событие! Слушая Первый квартет Чайковского, Толстой в одном месте заплакал. Ларош сумеет описать это живо, без сентиментальности.
Да, так оно и было. Когда на фоне щипков виолончели в Анданте кантабиле[78] появилась вторая пронзительная мелодия… Дело в том, что на два такта раньше, предваряя эту мелодию, подготовляя к ней слух и нервы, начался этот щипковый аккомпанемент сам по себе — вот что, вероятно, подействовало на чуткого к музыке Толстого. В Пятой симфонии Бетховена, и тоже в медленной части, есть сходный эпизод, и он также вызывает слёзы. Тут, может быть, один из законов искусства.
Ларош записал: «Это был, вероятно, счастливейший день в жизни нашего композитора». Но потом произошла новая встреча и мучительный своей нелепостью разговор, похожий на дурной сон. Толстой сразу и даже с какой-то жадностью набросился на эту тему — о значении музыки.
Он начал с того, что музыка и вообще всё искусство не нужно, вредно, ибо существует для немногих. То, что непонятно простому человеку, не имеет ценности, лишено души, правды. Шопена он назвал изнеженным и манерным; потом, выждав паузу, объявил, что Бетховен — бездарен. И в глазах у него было вызывающее выражение, почти нестерпимое своей остротой.
Надо было что-то ответить, возражать. На душе было тоскливо от двойственного чувства. Это была правда, что сытые и, в сущности, равнодушные люди смотрят картины художников, слушают музыку, притворяются восхищёнными, повторяют чужие фразы. А там, во глубине России, там вековая тишина. И лишения, голод, звериная жизнь. Но что же делать художнику? Душить в себе талант, отречься от самого себя?
И пока Чайковский в тоске думал об этом, Толстой неожиданно переменил разговор — инициатива, конечно, во всём принадлежала ему — и попросил сыграть что-нибудь на фортепьяно.
— Лучше что-нибудь своё.
Чайковский сказал, что плохо играет, но всё же сыграл романс, некогда посвящённый Дезире Арто. Он всегда играл сухо, оттого что боялся сентиментальности. Но Лев Николаевич слушал внимательно, и в глазах у него не было злой остроты, а задумчивость, почти нежность.
«Может быть, он просто испытывает меня? — думал Чайковский. — Он отлично понимает и чувствует музыку. И любит её. Неужели он не страдает от своего отречения?»
В тот вечер Толстой больше не спорил об искусстве. Но через неделю прислал Чайковскому несколько песен, которые назвал народными и велел их обработать. «Только в моцартовско-гайдновском, а не в бетховенско-шумановско-берлиозо-искусственном и неожиданном роде».
Почему этот второй род, по его мнению, хуже? И, главное, присланные песня были совсем не народные и незачем было обрабатывать их.
С тех пор прошло четырнадцать лет. Чайковский не видал Толстого и не искал, скорее избегал встреч. Но ему было доступно другое, незаменимое общение: вот и сейчас он может достать книгу, где с великой силой описан подвиг народа; и другую, где женщина чувствует, как блестят в темноте её глаза и где безвестный, но подлинный художник смеётся от радости, что нарисованная им фигура из мёртвой и надуманной становится живой. Где столько горестного, радостного, великого в самом обычном и возвышенного — в самом простом.
И не будет больше двойственности, не будет сомнений.
4
Долог был этот день. Преодолевая слабость, Чайковский собрался было на прогулку, но тут явилась соседка — помещица с дочерью, которых нельзя было не принять. Соседка была неглупая и любезная женщина, но утомительная тем, что в присутствии знаменитых людей не решалась говорить просто и о простом. Она с трудом подбирала «изящные» фразы, а её дочь беспокойно следила, как бы та не уронила себя в таком великолепном обществе.
Напряжение передалось и Чайковскому.
Жестокий закон гостеприимства. …А Ларош, который тут же присутствовал, не только не помогал, но, по своему коварству, запутывал разговор, напустив на себя учёность.
После обеда он ушёл с дамами погулять, а Чайковский, всё ещё испытывая странное беспокойство, словно что-то со стороны угрожало ему, принялся разбирать последнюю почту.
«Скажите правду, — писал ему молодой композитор из Харькова, — есть у меня талант? Я всё снесу. Только одну правду».
Легко сказать! Талант развивается не сразу. Одно можно сказать: что юноша не бездарен. Но это неполная правда. Если верить биографическим преданиям, то сам Вебер, послушав подростка Вагнера, сказал: «Будет кем угодно, только не композитором». А уж он-то, Вебер, мог разобраться.
Что же ответить мальчику? Есть очень много слов, затемняющих правду, и очень мало, которые прямо обозначают её. Оттого он в письмах так часто противоречил себе; кое-кто даже упрекал его в неискренности.
Как часто за видимой правдой скрывается другая, может быть и отрицающая её, за ней третья. То есть правда всегда одна, но где она? Как её найти?
То одной, то другой стороной поворачивались факты, и он не мог ручаться за их достоверность. Так, сестра Саша, сильная духом, хранительница материнских заветов в своей семье, казалась ему порой глубоко несчастной…
То думалось, что её встреча много лет назад с молодым Лёвой Давыдовым, сыном известного декабриста, — необыкновенная удача, а пребывание в Каменке в кругу семьи — верх благополучия. Но, нередко видя сестру неспокойной или грустной, Чайковский начинал ненавидеть Каменку, которая теперь была уже не той, что в 20-х годах, не местом собраний патриотов, а обыкновенным захолустьем. Ему казалось тогда, что и Лев Васильевич не злой, но бесхарактерный человек, плохой хозяин, плохой муж, не оценивший свою жену по достоинству. А дети — физически красивые, одарённые, но избалованные, нечуткие, эгоисты…
Но нет, несмотря на усталость и заботы, несмотря на убожество пыльной Каменки, Саша до поры до времени всё-таки была довольна — прелестью детей, славой брата, успехами младших братьев-близнецов. И всей своей трудной жизнью, которая до срока убила её молодость, но не убила способности любить и быть счастливой. И только последние годы почти сломили её.
Жизнь сестры слишком близка ему. Но и о других людях, об их судьбах и характерах, он не мог судить категорично. Всегда ли мы справедливы? Скольких людей обижаем вольно или невольно! Чаще всего — невольно. Как часто, любя, причиняешь зло — когда забываешь о тех, кого любишь, и что-то постороннее, меньшее — возвеличиваешь и ставишь на место этой любви. И потом наступает позднее раскаяние.
Удалось ли ему выразить эти противоречия в «Пиковой даме»? Как он завидовал мастерам, которые даже хаос, путаницу, смятение умели воплощать стройно, легко! Но путь выбран, почти пройден, о чём жалеть?
Когда-то давно брат Николай, не одобрявший его выбор и новую профессию, сказал:
— Зачем так ломать свою жизнь? Ведь Глинкой ты не станешь.
Он ответил без запальчивости, оттого что верил:
— Зато я буду Чайковским.
Что ни говори, это сбылось. И сам Николай Ильич уже после «Ромео» смотрел на него так, словно увидал впервые.
А он был всё тот же, с его впечатлительностью, нервностью, любовью к жизни, с его обострённым чувством трагического и отвращением ко всему ложному, показному.
Как и прежде, он не хотел, чтобы его считали лучше, умнее, чем он есть. Он хотел быть беспощадным к себе и оттого вёл дневники, где всё открывал, как ему казалось — выворачивал себя наизнанку. Бросал их и снова к ним возвращался.
Он не узнавал себя в этих строках. Мелкое самолюбие, жалобы на флюсы, раздражительность, нетерпимость. И об этом подробно-подробно. И только одно-единственное сухое сообщение каждый день: занимался, то есть сочинял. Брошено мимоходом, словно это постороннее, неважное.
Да, это было: и флюсы, и преферанс, и брюзгливость, и всё прочее. Но тут не было ни души его, ни ума, а только быт. А жизнь — она вся заключалась в единственном упоминании о работе, о музыке. Слава богу, он отмечает это ежедневно, за редкими ужасными исключениями.
Он и раньше — какая нелепость! — представлял себе будущих биографов, которые разыщут его архив. Это в том случае, если бы продолжалась и упрочилась его слава…
Любые личные высказывания — обдуманные или случайные и поспешные могут стать достоянием чужих людей… В любой биографии есть противоречия. Чуткий исследователь сумеет отделить главное от второстепенного. А другие — как они отнесутся к его письмам и этим дневникам? Не представят ли его так, что читатели будут говорить друг другу:
«Я обожаю его как композитора и ненавижу как человека»?
Эти мысли редко приходили ему в голову. Но вот наступил злой день, и он вообразил себе то, чего, по его мнению, никак не могло быть.
Когда-то в минуту отчаяния Бетховен написал завещание. Оно начиналось словами: «О вы, которые считаете меня злым, угрюмым, знайте: я совсем не такой». И он сообщил о своём несчастье, о глухоте. Русский композитор, оклеветавший сам себя бессмысленными записями, — если бы он мог составить такое завещание и сказать в нём: «О вы, которые судите меня по этим дневникам, изучайте их, если вам хочется, жалейте или презирайте, но не думайте, что это я. Слушайте мою музыку, вслушивайтесь в неё — это единственный верный источник, — и я заговорю с вами из глубины души, как говорил с моими современниками: не только о себе, но и о вас самих!»
IV. Ещё одна проверка
О, как убийственно мы любим,
Как в буйной слепоте страстей
Мы то всего вернее губим,
Что сердцу нашему милей.
Ф. Тютчев1
На следующий день он проснулся здоровым и бодрым. Всё утро проверял оркестровку оперы. Ещё одна проверка…
Вот третья картина. Бал во дворце императрицы; чопорные гости, старинные танцы. Лиза со своей тревогой в душе, и рядом с ней — Елецкий, за которого она просватана. Он чувствует что-то неладное, уверяет, что всегда будет для неё опорой. Но она едва слушает.
Светские повесы дразнят Германа напоминанием о трёх картах. Сам он — резкий контраст всему окружающему; ещё более одинокий, чем прежде, оттого что сам жаждет одиночества…
Медлительная торжественность и пышность восемнадцатого века. Но интермедия[79] «Искренность пастушки», затеянная, чтобы повеселить гостей, полна живости и простоты.
Когда директор театра Всеволожский предложил перенести действие оперы в восемнадцатый век, Чайковский сначала воспротивился. Но потом подумал, что это сулит ему необыкновенную удачу: он может приобщиться к Моцарту.
Впервые он услыхал «Дон-Жуана» в семнадцать лет. С той поры Моцарт сделался для него не только любимым композитором, но и близким другом. Он полюбил Моцарта даже сильнее, чем Бетховена. Бетховен был грозой, а Моцарт — солнечным светом. В Моцарте находил он идеал человечности, который мирил его с жизнью. И в своей «Моцартиане»[80], и в «Вариациях на тему рококо»[81], и здесь, в этой интермедии, он приближался к Моцарту, и видел его, и мог беспрепятственно говорить с ним.
…Зачем явился Герман на этот дворцовый бал? Ради Лизы? Нет, он думал не о ней, а о тайне, которую должен выпытать, вырвать, узнать. Он смотрел туда, где старая графиня сидела на возвышении, как разряженный идол.
Тут началась интермедия «Искренность пастушки», бесхитростная история Прилепы и Миловзора. Они пасторально объяснялись в любви, а потом, после того как богатый Златогор был отвергнут Прилепой вместе с его ненужными дарами, влюблённые пели о своём счастье:
Мой миленький дружок, Любезный пастушок!Герман слушал с досадой. Искренние чувства, бескорыстная любовь, простота речей уже не могли тронуть его отравленную душу. Мелодичная пастораль казалась ему пародией на его собственное положение. «С милым рай и в шалаше, — озлобленно думал он, пробираясь к выходу, — избавьте меня только от этого рая!»
Жаль, что безумец не прислушался к музыке интермедии и к мелодии дуэта пастушков. Если бы до его слуха дошли эти звуки, полные моцартовской чистоты и свежести, весь его дурной сон мигом рассеялся бы. При виде милой Лизы, стремительно приближающейся к нему, он забыл бы о трёх картах, и ему стало бы легко, как самому композитору, только что повторившему свою интермедию.
…— Знаешь, что я тебе скажу? Эти страницы великолепны. Это шедевр!
Таково было мнение Лароша.
— Ты так думаешь?
— Уверен. И разные стили тут уместны. И твой неврастеник — также. Но он мёртвый человек. Давно мёртвый.
— Кто? Герман?
— Да. Три карты убили его задолго до того, как он проиграл игру. И ты это хорошо показал.
— Да я не хотел это показать!
Ларош посмотрел пристально.
— У художника иногда получается против воли. Но, во всяком случае, интермедия — шедевр.
Ларош и сам оживился. Сонливости его как не бывало. Он сказал шутливо и растроганно:
— Пусть над тобой и впредь витает дух Моцарта!
2
Осенью в театре начались репетиции. Всё шло гладко. Но всякий раз, вернувшись домой, он чувствовал, надо ещё что-то сделать: прибавить, вычеркнуть — одним словом, изменить.
Если, по мнению Лароша, трудно определить начало, то когда же наступает эта счастливая минута, когда можно сказать себе: это конец!
Как несовершенно знание человека, его умение! Добыча оказывается не настоящей породой. Новый опыт, опыт сегодняшнего дня, подобно дневному свету, обнаруживает скрытый порок.
Так было после репетиций и особенно — четвёртой картины: «В спальне графини».
Что происходит в душе Германа именно теперь? Верит ли он в удачу? Может быть, Ларош был прав: три карты убили Германа задолго до последней ставки и он бродит среди людей как призрак?
И под влиянием этих мыслей вопреки первоначальному замыслу Чайковский поддался искушению придать этой сцене, её началу какой-то призрачный, мертвенный характер. Четыре месяца назад он возражал Ларошу, теперь готов согласиться с ним. Да, Герман уже не надеется на удачу: он просто не может противиться злой судьбе.
…Нет, это следует отбросить. Спальня графини — склеп? Нет, здесь живут воспоминания. На их страже — портрет молодой Московской Венеры… Герман — призрак? Он подчиняется? Да он само бунтарство, сама энергия! Именно здесь, у самой цели, все его чувства, вся воля напряжены до предела, собраны в единую силу. Живой, нервной пульсацией пронизана вся сцена… Да будет так.
Но рука опять помедлила над партитурой. Неужели Герман не вспомнит здесь о Лизе? Не захочет проститься с ней — ведь в таких случаях прощаются. Ведь он не разлюбил её, а только забыл на время, захваченный другой страстью.
Здесь было бы уместно небольшое ариозо, искреннее, скорбное. А там — пускай снова терзают его фурии…
…Послушай, остановись. Неужели тебе нечего вспомнить? Не о чем пожалеть?
Но Герман отталкивает чужую руку. Какая остановка? Разве можно остановить поток? А прощание — его мотив уже заключён в самой музыке, как она ни стремительна. Обречённый рвётся вперёд. Он прощается, жалеет, но не станет об этом петь. Это внутри, это один из голосов симфонии.
…Теперь стало легко. Потому что нельзя идти против собственного создания. Оно рождено и ведёт за собой.
И вот Герман в спальне графини. Тишина ночи совсем не безмолвна: звуки, шорохи за стеной, в углу. Шаги… Эти звуки не совпадают с биением сердца: они ровные, мерные…
Бежать?
Но портрет Московской Венеры не отпустит. Её пронзительный взгляд следит за ним повсюду.
…А если тайны нет? Просто красивая женщина в старинном наряде. Хитроумный художник придал глазам особенное выражение. Он владел секретом: глаза портрета словно следят за тобой…
Нет, нельзя допустить и мысли, что всё здесь объяснимо. Столько мук, терзаний — и всё напрасно?
Ах! Шорохи и шептание усилились. Тайна близится. Но что это? Какое странное шествие! Тени окружают и поддерживают тень; привидения ведут привидение. Рой древних старух ведёт хозяйку дома к широкой кровати с балдахином. Они вкрадчиво шепчут ей что-то, увещевают, перебивают друг друга, не умолкают. И вновь голоса их сходятся. Уж не отпевают ли они её? «Благодетельница наша, свет наш матушка…» — в плачущем миноре. Эта фантастическая отходная сливается с другими ночными звуками. Тот же ритм. Другой размер. Перебои сердца укладываются в этот ритм, но не сливаются с ним.
Суеверная старуха страшится своего ложа, похожего на катафалк. Шёпот приживалок не успокаивает, а гнетёт. Они ведут графиню к широкому, глубокому креслу, и она в своём шлафроке и высоком чепце с лентами так и падает на сиденье.
…А если тайны нет? Обыкновенная зажившаяся на этом свете старушонка. И приживалки, состарившиеся вместе с ней. А легенда о трёх картах — всего лишь анекдот, рассказанный картёжниками, которые сами не верят ни единому слову.
О, только не это! Пусть будет ещё страшнее, но тайна должна быть.
Зловещее шептание ровесниц пугает и Пиковую Даму, она прогоняет их. Они удаляются медленно, тихо, но не переставая шептать свои заклинания, они-то всё знают. Есть тайна, есть!
3
«Я как теперь всё вижу…»
«Пиковая дама», ария графиниНо сцена в спальне графини — это не только Герман. Это ещё и сама Пиковая Дама, её душа.
Партия старой графини была поручена Марии Александровне Славиной[82]. И она была сильно озабочена своей ролью.
Ей, молодой и красивой, перешедшей в театр из балета, привыкшей чаровать на сцене и в жизни, — и вдруг играть древнюю старуху! Сколько ей? Девяносто? Право, это даже нелюбезно со стороны композитора!
Славиной приходилось изображать на сцене пожилых женщин — например цыганку Азучену, мать трубадура Манрико. Но Азучена не так стара — ей позволяется быть гибкой и восхищать своим густым, низким голосом.
Но как сыграть Пиковую Даму? Совсем скрюченной, неподвижной, с трясущейся головой? Как петь, если голова трясётся? И каким голосом петь — полным или приглушённым? Охота была композитору сочинить вокальную партию для полутрупа!
Но певицу беспокоил и другой важный вопрос: кто она, в сущности, эта Пиковая Дама? Колдунья или обыкновенная женщина? Встречала ли она этого Сен-Жермена? Действительно ли знает тайну трёх карт? Герман может принимать её за кого угодно, но эту партию петь не ему, а певице. Должна же она знать, кого изображает. Если колдунью, то, может быть, она сбросит с себя несколько десятков лет? Для колдуньи всё возможно. А голос жалко ломать — роль довольно большая.
— Голос не надо ломать, — сказал ей Чайковский. — Это выйдет грубо. Достаточно нескольких внешних резких черт.
— Но она колдунья?
— Вовсе нет. Но и обыкновенной женщиной её не назовёшь.
— А этот Сен-Жермен? Он существовал?
— Разумеется. Он был изысканный шулер. Графы не пренебрегали этим ремеслом. И графини также.
— А откуда же легенда?
— Люди охотно изобретают легенды. Особенно игроки.
— Хорошо, что действие переносится в прошлый век, — задумчиво сказала певица. — В наше время уже не найдёшь таких легковерных людей.
— Их и теперь сколько угодно.
— Но чем она живёт, такая дряхлая женщина? Что её занимает?
— Разумеется, её прошлое. Для неё это единственная реальность.
Он рассказал Славиной о каменской жительнице, матери его шурина, Александре Ивановне Давыдовой. Эта была последняя из жён декабристов, вернувшаяся из сибирской ссылки.
Она дожила до глубокой старости. В последние месяцы её сознание угасало, но очень ясно помнила она юность, старую Каменку и гостившего там Пушкина. Конечно, было бы кощунством сравнивать благородную женщину со старой картёжницей — графиней. Но Чайковский хотел рассказать артистке о свойствах старческой памяти.
«Я как теперь всё вижу…» — так начинала Александра Ивановна свои рассказы о прошлом, и Модест воспользовался этим в своём либретто в песенке старой графини.
Герман наблюдал. Роковое мгновение близилось…
Одна лишь слабая свеча, стоявшая на столике близ кресла, освещала старую графиню, которая, казалось, погрузилась в сон. Но она не спала, она вспоминала. Видения давно минувшего, яркие и живые, чередовались со смутными и досадными впечатлениями недавнего бала. Она сравнивала прошедшее и настоящее. Как бесцветны и ничтожны казались ей нынешние царицы балов перед величественными и смелыми красавицами прежних десятилетий! О, её ровесницы были пылки и решительны и в любви и в игре. Отважно защищали они завоёванное счастье, отважно лгали и во всём властвовали.
И под звуки ожившего в её памяти старинного менуэта вставали перед графиней образы её блестящих, знатных подруг, прекрасных женщин, а рядом — смелых мужчин, с иными, чем теперь, понятиями о доблести и чести. В их жилах текла горячая кровь; жизнь и смерть стояли рядом. И любовь к жизни была так же сильна, как и презрение к смерти.
Говорят, длинна жизнь… Но что такое девять десятков лет? Ах, как бы ни была длинна, её уже не осталось, и как ни скучен и пуст нынешний свет, покидать его страшно. Вот и последний бал становится воспоминанием. Жизнь кончается, убывает; давно уже нет в ней никаких неожиданностей. Ночь будет долга, а утро туманно и призрачно. Одни только воспоминания поддерживают скудеющую жизнь.
И графиня запела про себя песенку былых времён. Чайковский выбрал для этого арию из оперы Гретри[83] «Ричард Львиное сердце». Композитор сильно изменил её: тональность мрачнее, напев медлительнее. Середину графиня совсем забыла. Здесь была слышна не французская ария, а исповедь старого сердца. Всё слабее звучала она, всё прерывистее; казалось, мелодия теряется, иссякает, как маленький ручеёк. Сама жизнь прерывалась, иссякала, истаивала в последнем признании.
Бедная старуха! Она боялась умереть в постели, жалела, что не будет в её жизни ничего больше неожиданного. Но её песенка не иссякла, а резко оборвалась.
V. История Лизы
«Жизнь мне лишь радость сулила…»
«Пиковая дама», ария Лизы1
Да, так светло началась жизнь внучки (или правнучки) старой графини. Лиза была примечательная девушка; неудивительно, что она пленила нашего героя.
С трогательной сироткой пушкинской повести у неё не было ничего сходного, кроме имени и возраста. Её положение в свете было совсем другое: не бедная воспитанница, взятая в дом из милости, а богатая наследница. Она была куда благополучнее скромной Лизаветы Ивановны, которую описал Пушкин. Но в дальнейшем судьба, довольно милостивая к бедной воспитаннице, повела юную графиню иным путём. Лизавета Ивановна, после кончины её благодетельницы, вышла замуж за очень любезного и порядочного молодого человека и, как видно, избавилась от нужды: взяла даже к себе в дом бедную родственницу. Что же касается Лизы, о которой рассказано в музыке… Но не станем забегать вперёд.
В свете молодая графиня отличалась от своих подруг: была молчаливее, сдержаннее, прекраснее… Говорили, что она очень похожа на свою бабку, какою та была в молодости…
Родители Лизы давно умерли. Братьев и сестёр у неё не было; из подруг одна лишь княжна Полина была ей ближе других.
Пришло время, и молодой князь Елецкий попросил руки Лизы. Она дала согласие. В то же время она не могла всем сердцем полюбить своего жениха, хотя и уверяла себя, что он достоин лучшей невесты. Она не могла полюбить его, потому что князь Елецкий, как она думала, не нуждается в любви: слишком легко и привольно текла его жизнь. Для него, баловня судьбы, любовь могла стать только ещё одной радостью — в дополнение ко всем прочим.
Совсем не таким воображала она своего избранника. Он должен быть рождён для великих дел. Судьба его преследует, он несчастлив. Как много может сделать для него любящая подруга! Пробудить новые силы, ободрить, даже спасти — от опасности и внутреннего разлада. Это под силу женщине решительной, храброй.
Лиза верила, что способна на такую деятельную любовь. В этом было её единственное честолюбие.
Подобные рассуждения часто встречались в романах и могли бы показаться пошлыми. Но в том-то и дело, что чувства Лизы и её душевная сила были подлинные. Она и впрямь могла бы стать опорой для Германа. Ни мысль о неравенстве их положения, ни слово, данное другому, не остановило её. Даже узнав о катастрофе, Лиза и тут не оставила Германа, готовая до конца разделить его участь. Но хаос и мрак, в котором пребывала душа её возлюбленного, — в этом страшном мире не было места для женщины, даже любящей и отважной. И жизнь потеряла для неё всякий смысл.
2
«…В вашем творчестве вы всегда были певцом Женщины, её рыцарем и другом. И женщины всегда были благодарны вам» — так было написано в адресе, преподнесённом Чайковскому в одном небольшом городе.
Его чуть покоробило от громкости этих слов, но в них была правда. Женщины любили его и доверяли ему, как брату.
«…Мы не станем говорить о прообразах — это нескромно, — говорил сочинитель адреса, он же участник квартета, — но нет сомнения, что они живут в ваших творениях.
…Голос женщины слышится не только в ваших операх, — не менее царственно раздаётся он и в симфониях, во всех темах любви, радостной и печальной.
…И среди этих звучаний раздаются чистые голоса девушек, только начавших жить…».
Ещё говорилось о песне жаворонка, о подснежниках и фиалках в ранней траве.
Не было только сказано, что композитор жалеет этих девушек, как бы предчувствуя их преждевременные горести.
Аврора, Одетта[84], Миранда[85] — даже их, сказочных и далёких, он наделял чертами своих современниц. Что же сказать о русской девушке Лизе, которую он так хорошо знал?
…Лет восемь назад он написал скромную фортепьянную пьесу. Она вряд ли годилась для концертного исполнения, но в ней было что-то простодушное, какое-то ощущение мимолётной юности.
В Каменке был бал по случаю именин старшей дочери Давыдовых, Тани. Съехалось много гостей. И младшие, и старшие дети были очень милы; гости танцевали, играли: кто постарше — в преферанс, кто помоложе — в фанты.
Бал удался главным образом благодаря стараниям друга семьи, Натальи Андреевны Плёсской, которая подолгу живала у Давыдовых.
Всегда оживлённая, бодрая, хотя и не молодая, с ключами у пояса, она была добрым хранителем каменского дома. Её можно было принять за одну из «домашних сестриц», незаменимых в многочисленных русских семействах. Полуродственницы-полуэкономки, они не только ведут всё хозяйство, они буквально живут интересами каждого члена семьи и как барометр отражают любую перемену в их настроении.
Такова была роль Натальи Андреевны или Наты, как звали её у Давыдовых. Она не была бесприютной. Владелица хоть и крошечного, но аккуратного именьица, где жили её мать и брат, она прилепилась к Давыдовым из одной любви к хозяйке дома, подруге, и добровольно взвалила на себя груз обязанностей, которые в этой семье были тягостнее и сложнее, чем у других. Все в доме привыкли к присутствию Наты и не могли без неё обойтись…
Во время деревенского бала Чайковский сидел в углу на диване и с удовольствием наблюдал за сестрой, которая, против обыкновения, чувствовала себя хорошо и даже покружилась в танце с гостем-полковником. В разгар веселья в гостиную вошла Ната. Она устала от хлопот. Чайковскому были видны её руки с припухшими пальцами. Но она была довольна: ужин удался, туалеты старших девочек (над этим она потрудилась) не уступали городским модным платьям, и было похоже, что молодой князь Т., который ездил в дом ради Тани, не сегодня-завтра сделает предложение.
Наталья Андреевна стояла у окна и смотрела вдаль. Потом обернулась, оглядела всех и с улыбкой покойной радости кивнула Чайковскому. Улыбка очень красила её, и в эту минуту было легко вообразить, какой Ната была в юности. В ней была какая-то трогательная одухотворённая прелесть, какой он не замечал даже в своих юных племянницах. Ни её полнота, ни седина в волосах не мешали этому впечатлению.
Поздно ночью, когда все в доме заснули, он сидел у себя и думал о прошедшем вечере. Воспоминания о танцах и о мелькнувшем образе девушки проплывали, становились музыкой. Пьеса-вальс, которая легко складывалась в эти минуты, посвящалась девушке, стоящей на пороге жизни с открытым сердцем. Это был обобщённый образ, запечатление короткого срока, который прекрасен, пока длится.
Он назвал эту пьесу «Ната-вальс».
Наталью Андреевну тронуло посвящение, да и сама пьеса ей понравилась. Она не удивилась: почему бы и не посвятить вальс давнишнему другу семьи?
Она спрятала ноты в шкатулку, где хранились особенно приятные сувениры. Потом этот вальс выпустил Юргенсон[86], и непосвящённые любительницы предположили, что Ната — одно из юношеских увлечений композитора, молоденькая девушка, репетирующая вальс перед своим первым балом.
Но почему этот вальс родился при виде немолодой, неуклюжей, с непоэтической наружностью женщины? Увидал ли композитор под влиянием внезапного озарения душу, чуждую корысти? Подсмотрел ли никем не замечаемую прелесть человеческой доброты? Может быть, эта женщина и сама не знала себя так, как он узнал её в тот каменский вечер.
И почему перед его глазами носился юный облик? Этого он и сам не сумел бы объяснить. Но это была она, его любимая русская девушка (Лиза, или Татьяна, или иная), в один из её счастливых дней — до бедствия, до грозного перелома.
Конечно, короткая фортепьянная пьеса не сравнится с оперной партией… Но почему бы не появиться и скромной миниатюре в его галерее законченных женских портретов? Стоит только приглядеться (прислушаться!) — и «Ната-вальс» не затеряется среди них.
3
В конце ноября он ненадолго приехал в Каменку.
Не для того, чтобы отдохнуть у близких. Давно уже там не было покоя. Он знал, что вид сестры, всего год назад потерявшей вторую дочь, Веру, будет раздирать ему сердце, но он знал также, что сестре необходимо время от времени хоть ненадолго видеть его у себя.
Да, рок не пожалел их и обрушился на семью Саши, отняв двух старших дочерей, молодых и прекрасных женщин. Но даже смерть Веры, оставившей двоих детей, не так сразила мать, как потеря старшей, Тани, хотя это случилось раньше. Веру унесла внезапная болезнь; гибель Тани подготовлялась издавна.
В семье детей баловали, любовались ими, а Таня была любимицей родителей. И Чайковскому она казалась если не прообразом его героинь, то во многом сходной с ними. И наружностью, и способностями она выделялась среди сестёр и ровесниц. Правда, он мог заметить в ней некоторое высокомерие; в семье поддерживалась традиция, хотя и благородная с виду, но опасная: все чрезвычайно гордились близким родством с декабристами. С малых лет наслышались дети о подвиге деда и его жены и со временем стали невольно и себя считать людьми незаурядными. Александре Ивановне, вернувшейся из Сибири в Каменку, очень не понравилась такая кичливость. Со свойственной ей прямотой она напомнила старшей внучке о крыловских гусях, которые чванились, что их предки Рим спасли. Сама она была из небогатой и неродовитой семьи, к богатству не успела привыкнуть. В Сибири она трудилась, как простая крестьянка; праздность внучки удивляла и огорчала её.
— Что же ты, голубушка, не найдёшь себе дела по сердцу? — выговаривала она Тане. — Всё принцессой по земле шествуешь.
Но Таня была уверена, что для неё нет подходящего дела. Круг смелых, развитых женщин, которые учились, добивались самостоятельности, не привлекал её: Таню воспитывали барышней, все таланты которой должны помочь ей лишь в одном — сделать отличную партию. Её угнетало это воспитание, но не хватило сил выбрать другой путь. Изучать медицину, стать повивальной бабкой или даже врачом — какая будничная судьба! Для того ли бог дал ей красоту, острый ум, обаяние? Торная дорога — замужество, хозяйство? Прожить жизнь, как её мать, в вечных хлопотах и увянуть раньше времени — да ни за что на свете! Стать актрисой? Но для этого нужно призвание, а средние актрисы несчастны и жалки.
Чайковский часто слыхал от Тани такие признания.
Ей становилось тесно в родной семье — и всегда скучно. Скучно в убогой Каменке и в Петербурге, куда она изредка приезжала, скучно и за границей.
В последние годы она хворала и всё больше отдалялась от родных. Та отдельная жизнь, которую она вела, была им неизвестна и внушала тревогу.
Умерла она внезапно, на балу. Художник нарисовал мёртвую Таню — в бальном платье, с красной лентой в волосах, на её лице ещё остался след улыбки…[87]
Что же было общего у этой девушки, не знающей, куда себя девать, с волевой, решительной героиней Чайковского? Отчего, создавая свою Лизу, он так часто думал о Тане? Что сближало обеих? Одинаковая ли судьба: безмятежная юность и потом — ранняя гибель?
Да, конечно, и это. Но было и другое.
Перебирая в памяти прежние каменские годы, он приходил к мысли, что Таня действительно была незаурядной натурой. Природа задумала её широко, щедро. И когда во Флоренции Чайковский вспоминал юную Таню, её прекрасные свойства, надежды, которые она возбуждала и которые не осуществились, он видел перед собой своё будущее создание — Лизу.
И другие современницы, близкие, похожие, вспоминались ему тогда.
…Он едва узнал сестру, хотя и привык в последнее время к её болезненному виду. Седина в её белокурых волосах сообщала им какую-то мертвенную тусклость. Она с трудом двигалась, не из-за болезни только: стремление к унылому покою, к неподвижности, постепенно всё больше захватывало её. Она словно застывала в кресле за рабочим столиком.
Но она сделала над собой усилие, сама собрала на стол к ужину, позвала всех домашних. И в глазах у неё появилось знакомое выражение, с каким она встречала любимого брата, — они светлели и улыбались невольно. Какой это был контраст с её печальным, неподвижным лицом.
После ужина, который прошёл с механической оживлённостью, брат и сестра остались одни.
— Странная осень, — сказала Саша, — скорее похожа на весну.
…Они поговорили о её внуках, о Петербурге, о новой пьесе Модеста, но это был внешний разговор, он не мог заглушить внутренний, напряжённый диалог, в котором повторялись мучительные вопросы, а ответы были уклончивы. Есть вещи, о которых невозможно говорить вслух.
— …Помнишь воткинскую осень? — продолжала Саша тот внешний, не совсем безличный, но не самый необходимый разговор. — Как было весело, уютно. — И словно без всякой связи со сказанным, прибавила: — Наши родители были люди с чистой совестью.
— Ты в точности повторила нашу мать.
— Ах, что ты!
— Никто не может полностью отвечать за судьбу детей, — сказал он. — И наши родители кое в чём оказались бессильны.
Саша покачала головой.
Что он мог сказать ей? Чем успокоить? Только одним. Несмотря на поздний час, он подошёл к фортепьяно и стал тихо наигрывать конец своей оперы.
Саша утирала слёзы.
— Какой ты у нас счастливый! — проговорила она. — Может быть, так надо, чтобы ты единственный из всех нас достиг такой высоты. И все наши муки оправданы.
4
Ночью ему неожиданно вспомнилась Евлалия Кадмина.
Эта молодая актриса, умершая десять лет назад, была описана Тургеневым в повести «Клара Милич».
Кадмина была и певицей, и драматической актрисой. За это её прозвали «Рашель-Виардо»[88].
Казалось, ничто не мешает ей быть счастливой. Но она была неспокойна, сумрачна; часто жаловалась, что нет для неё подходящей роли. Всё не по ней. И публика раздражает.
— Для кого я играю? Для купчих? Всё, что я делаю на сцене, — пошлость, ложь, и больше ничего.
— Вы поверхностно судите, Евлалия. — Чайковский говорил с ней строго. — Купчихи бывают разные. Вас слушает и молодёжь — студенты.
Но она повторяла:
— Нет, я так не могу. Когда-нибудь сорвусь.
И однажды во время гастролей, играя Василису Мелентьеву, Кадмина в антракте приняла яд и умерла на сцене. Говорили — несчастная любовь, но никто не знал в точности… Была немногим старше Тани.
Ещё одна жертва. Но такова была участь и его героинь. И он не был бы Чайковским, если бы не замечал прежде всего трагические судьбы.
Евлалия Кадмина была резка и прямолинейна в суждениях. И даже о романсе Чайковского «Страшная минута», который он посвятил ей, отозвалась довольно сурово:
— Этот крик в конце — зачем он? Слишком надрывно. А я и сама такая, мне нужно другое… Простите меня.
И внезапно — доверчиво, со слезами на глазах (именно такой описал её Тургенев в одной из глав своей повести), — сказала:
— Знаете что? Напишите для меня что-нибудь простое-простое. Очень правдивое, чтобы я поверила. Только не романс и не арию, а песню.
Во Флоренции, когда он уже подходил к «Канавке»[89], Чайковскому вспомнился этот разговор… «Ах, истомилась, устала я…» Вот песня, о которой мечтала Кадмина. Её уж не было на свете, да и партия Лизы не годилась для неё, у певицы был слишком низкий голос, глубокое контральто. Но характер песни, протяжный, заунывный, пришёлся бы ей по душе. Здесь надо было не петь, а причитать — он слыхал такой плач в деревне.
Нужды нет, что Лиза у него графиня. Евлалия говорила ему, да он и сам знал, что в музыке нет каких-то особых «графских» страданий. Истинное горе — оно одинаково, что у графини, что у крестьянки.
Через несколько дней он уезжал из Каменки с облегчённым сердцем. В глазах сестры уже не было прежнего пугающего выражения. Она даже ступала твёрже.
Все эти дни в Каменке только и было разговоров, что о «Пиковой даме». И Чайковский, вопреки своей натуре, не прерывал похвал, оставался в роли кумира. Так нужно было для Саши. Это было самое удобное положение для её души, единственное, которое не причиняло боли.
VI. Три памятных дня
1
На генеральной репетиции были остановки, недоразумения. Значит, есть все основания думать, что премьера сойдёт благополучно. Чайковский тоже поддался немного этому актёрскому суеверию.
Беспокойства были немалые. Царь пришёл на репетицию, а Фигнер опоздал на целый час. Все волновались. Голос у Фигнера заметно дрожал вначале. Потом он стал петь очень хорошо, но со злым лицом. Ему необходимо было разозлиться, чтобы собрать себя в кулак и показать, на что он способен. Несмотря на громкую славу Фигнера, царь был недоброжелателен к нему из-за его сестёр-революционерок.
Чайковский страдал. Потому что сбылись его предчувствия! Самые убийственные недостатки оперы обнаружились во время генеральной репетиции. Что бы ты ни думал о своём создании, но только на сцене оно впервые начинает жить. Только там оно обнаруживает себя — это единственная реальность.
А она ужасна. Ужасны пошлые слова первых картин, слова, которые он не успел изменить; ужасен Елецкий, никому не нужный, появившийся слишком поздно со своей деревянной арией. После первого действия, где он произносит всего несколько слов, его успели уже основательно забыть… Ужасны приживалки — целых тридцать, чтобы было страшнее, а это только смешно.
А Лиза — Медея, радостно вбежавшая в спальню только что умершей графини! Её пронзительные крики и невозможный выговор: «Он жертва слютшая, и прэступлэнья не можечь, не можечь совершичь!» Как резали слух эти вопли! В довершение всего Герман после исчезновения призрака разразился безумным хохотом и ударил себя рукой по лбу, чтобы не было сомнений, что пора везти его в Обуховскую больницу.
А в самом конце Герман, созерцающий свою пагубную карту! «Кто это? Лиза!» Разве публика и так не догадается, о ком речь? Ведь эти «Красавица! Богиня! Ангел!» опять произносятся, хотя и в другой последовательности. И завершаются восклицанием: «Ах!»
Пастораль «Искренность пастушки» была хорошо исполнена, да ещё графиня — Славина, причудливая и очень жизненная, понравилась ему. Но остальное…
Чайковский досадовал ещё и потому, что его впечатления были зыбки. Ужасная раздвоенность! Он, всегда и во всём опиравшийся только на себя, оглядывался на публику, на знакомых: как они принимают. И в антрактах ждал, чтó скажут. Он был в равной степени готов и к провалу, и к триумфу. Да, и к триумфу, несмотря ни на что!
На лицах ничего нельзя было прочитать. Публика Мариинского театра! Она не выдаёт своих чувств — боится попасть впросак. Холодность, чопорность. Царь довольно благодушен, но вряд ли что-нибудь понимает. Дома он играет на ярко начищенной трубе мотив «Я неспособна к грусти томной» — это ему нравится. И если даже он сейчас и доволен, что из этого?
Критики непроницаемы. Да и смотреть на них неудобно.
В антракте они собирались кучками и толковали. Как охотно они разъясняют, учат! Художник, пока создаёт, — сомневается, мучается, колеблется, но сомневается ли когда-нибудь критик? Нет, никогда! Кто поучает, тот не смеет колебаться. От них ждут решающего, последнего слова; им следует быть над музыкой, а не проникаться ею. Пусть проникаются невежды, которых они потом поставят на место, устыдив их или ободрив.
Посмотрите-ка на этих ярых противников — Стасова и Лароша! Даже в антракте у них одинаковые лица — строгие, со сжатыми губами. Оба в равной мере принципиальны. Каждый твёрдо намерен не поддаваться доводам противоположной стороны.
А Цезарь Кюи на всякий случай насмешлив. Он всегда слушает музыку с саркастическим выражением: «Хоть ты и талантлив, но не хватает мастерства», «Хоть ты и овладел ремеслом, а таланта мало», «Хоть ты, голубушка, превосходная артистка, да молодости уже нет. И красотой удивить не можешь!» Именно так, только в третьем лице он написал о Кларе Шуман![90]
И поза у него одна и та же: руки скрещены высоко на груди, ладонями касается плеч.
«…Ну и пусть. Это я потому его так изучаю, что антракт нестерпимо долог. Отвлекаю себя посторонними впечатлениями…»
Репетиция пришла к концу. В зале аплодировали, вызывали артистов и его самого, но ведь это принято. Он совсем не обрадовался вызовам, так был измучен. Едва волоча ноги, добрался он до сцены. И после репетиции поспешил уйти.
2
Один только день отделял репетицию от премьеры. И в этот день, 6 декабря[91], он столько выстрадал, что не чувствовал в себе сил прийти на завтрашний спектакль.
Весь день, запершись, он думал о себе, о своей опере и о её несовершенстве. Но если даже и допустить, что она хороша, — теперь она в чужих руках, и с ней могут сделать всё, что угодно.
Исполнители. Да, он всецело зависит от них: и ныне, и присно, и во веки веков. Они могут погубить его, не теперь, так в будущем. Они создадут целую традицию искажений, традицию приблизительной передачи чувств; утвердят то гибельное почти, которое им всем так удаётся. Но ведь это смерть для искусства. О боже! По неуловимому уговору со средней публикой, с теми, кто чуть выше обывателя, они, эти способные и преуспевающие музыканты, совместно выработают единый стиль исполнения и сотворят некоего чувствительного, нескромного и неумного композитора. И постепенно — один и тот же слащавый Ленский (о, как надоест его предсмертная ария!); вечный твёрдо-накрахмаленный Онегин; неизменная, плохо воспитанная Татьяна, мечущаяся на сцене в своей ночной сорочке и царапающая сухим пером по бумаге, сделаются привычными, обязательными в любом театре. И Герман — о господи! Герман… «Прости небЕ-сное созданье — что я на-рУ-шил твой покой…» И все другие, такие же несносные, утвердятся в памяти надолго и сотрут всё первоначальное, первозданное, чистое… Пропадут хорошие мысли, опошлятся целомудренные чувства, всё будет заиграно, запето, заимствовано у плохих образцов. Он станет любимцем чувствительных дам, которых боялась Кадмина. И через какие-нибудь пятьдесят — семьдесят лет, а может, и раньше настоящие знатоки и умные любители станут говорить, что не могут слушать музыку Чайковского, этого приторного пошляка. Даже смерть не спасёт его от позора.
Скупой рыцарь Пушкина мечтал явиться грозной тенью с того света и сторожить свои богатства, оберегая их от наглых наследников-расточителей. Но если бы даже он, поруганный, обокраденный композитор, мог после своей кончины приходить сюда, в эти театры, чтобы зажать рот невеждам и пошлякам, какой в этом был бы прок! Он никогда не учил других исполнять его музыку.
Если бы его забыли поскорее! Кто знает, что лучше: полное ли забвение или вот такое предательство. Подменить чувство сентиментальностью, искренность — нескромностью, любовь — чувственностью, мысли — умничанием!.. Лучше полное уничтожение всего, всего, что сделано!
А пение романсов? Произвол певцов, которые рисуют каждое словечко и придают голосу «выражение» именно там, где это не нужно! Из-за этого ему самому стали уже ненавистны его «Страшная минута», «Забыть так скоро», «Не верь, мой друг»[92].
Пусть немногие певцы, обладающие вкусом, станут бороться против этого медленного убийства его музыки… Их так же сомнут, заглушат, как и её.
А может быть, в ней самой, в его музыке, есть что-то такое, что открывает простор для посредственностей, развязывает им руки?
Почему её так легко испортить? Отчего эти почти и чуть-чуть так пристают к ней, изменяя порой до неузнаваемости?
Ведь Глинку, Бетховена нельзя опошлить? («Можно, можно! — говорит ему тайный голос. — Всё можно изувечить. И даже совсем погубить».)
Он застонал. Модест, у которого он остановился, знал, что подобные припадки (иначе не назовёшь) случаются с его братом перед премьерой. Но никогда они не достигали такой силы. Модест осторожно постучался.
— Твой вид мне что-то не нравится, — сказал он, войдя. — Ты заболел?
Он знал, какой будет ответ:
— Никогда не был так здоров, как теперь. Просто трезво рассуждаю.
3
«А! Бог с ними! — так думал он на другой день, седьмого, сидя в театре. — Поздно уже исправлять. Надо испить чашу до дна!»
Полный зал, никуда не скроешься.
Во время вступления, которое оркестр сыграл с благородной сдержанностью, мысли Чайковского прояснились.
«Чего мне бояться? Я должен верить, и я верю, что меня поймут. А если так, значит, первое исполнение не есть окончательный приговор. Реальность лишь в том, чтó я написал. И лишь это явится на суд настоящего и будущего».
Но скоро он перестал размышлять и только слушал.
Его собственный суд над собой строже и справедливее, чем любой другой — над ним. Другие могли не заметить того, что ему причиняло досаду; могли простить то, чего он не прощал себе. Могли по-детски обрадоваться или опечалиться тому, в чём не было ни печали, ни радости, а только привычные подобия этих чувств. Он же знал им цену, знал, как эти чувства рождаются.
И критики не могли судить, как он. Они также во власти подобий: «У Вагнера так-то, у Бизе вот так». Критикам всё время приходят в голову разные сравнения и мешают напластования стилей — мешает то, чем они всю жизнь занимались. И более всего мешает сознание их непогрешимости, неуязвимости. Но его оперу, как в своё время «Тристана» или «Кармен», нельзя проверять ни сравнениями, ни обычными критическими мерками.
Первая картина подходила к концу.
И вновь повторилось то, что было на «Онегине», но ещё сильнее, глубже.
Успех несомненный. Чайковский был рад, что соседи по ложе не замечают его, поглощённые зрелищем. Он не вынимал платка из кармана, слёзы текли по лицу.
Нет, хорошо, хорошо! Он слушал не отвлекаясь, но не мог не чувствовать, как музыке покоряется весь зал. Он угадывал это по необычайной тишине, не нарушаемой даже шелестом вееров: женщины о них забыли, хотя в зале было жарко натоплено.
Антракт, как всегда, длился долго. Но лучше не слушать, что говорят. Теперь это уже не имеет значения. Только слова Стасова донеслись до него:
«…Не опера, а скорее симфония».
Это осуждение: Стасов оберегает границы жанров. Как незаметно поборник новизны начинает повторять общепринятое!
4
Во второй картине хорошо удались контрасты: безмятежный дуэт девушек и рядом — почти похоронный романс одной из них, Полины; весёлая пляска расшалившихся княжён — и назойливые поучения гувернантки; празднование помолвки — и ощущение скрытого горя. Неблагополучно в этом доме! Дальше ещё сильнее: молодость, любовь — и внезапное напоминание о могиле: появление Пиковой Дамы.
Жизнь и смерть — рядом.
Как всегда, как везде. Как во всех симфониях.
…Когда-то он написал стихи о любимых цветах — ландышах.
Там были слова:
«Нам счастье бытия так близко, так знакомо,
Зияющая ночь могилы так темна».
Конечно, стихи не его дело. Но в музыке…
…«Так, значит, приговор ты произносишь…» Молодец, Фигнер! Усиление звука, ускоренный ритм. Восходящий напев любви, возникший ещё во вступлении.
…Ему удалось скрыться на время следующего антракта и просидеть в запертой ложе со спущенными занавесками. Всё ли точно, всё ли совпадает? Конечно, нет, да это и невозможно. Но даже и это приближение всё-таки не было приблизительностью! Оно не уносило в сторону, а шло по тому же направлению, что и его собственное чувство.
Он решил не покидать ложу. Модест устроит так, чтобы никто не зашёл.
Но когда после пасторальной интермедии, повторенной дважды, стали настойчиво вызывать автора, ему пришлось покинуть своё убежище. Все видели: рядом с артистами в середине сцены стоял седой человек и отвечал на вызовы отрывистыми кивками.
Среди молодых, рослых мужчин и женщин, среди пудреных париков, гусарских ментиков, робронов и фижм он в своей обычной современной одежде выглядел странно. И себя самого ощущал менее реальным, чем Лизу, Германа, даже графиню…
Аплодисменты и вызовы не умолкали. Он должен был проделать несколько обязательных церемоний: поцеловать руку у Медеи (аплодисменты усиливаются), у Долиной[93], у Славиной; поцеловаться с Фигнером и Яковлевым—Елецким, обнять дирижёра; пожать руку первой скрипке. Благословляющим жестом коснуться большой корзины цветов, поставленной перед ним, и снова кланяться.
Он проделывал это как во сне.
Директор театра был на сцене и сиял гордостью. Он был уверен — и не без основания, — что значительная часть восторгов предназначалась пасторали («Искренность пастушки»). Разнообразные группы фигурок — как будто из тончайшего севрского фарфора. И каждая фигурка участвует в пасторали: фарфоровая Прилепа, фарфоровый Миловзор. И даже свирепый Златогор, пытающийся разлучить влюблённых, тоже выглядит фарфоровым. Блестящие каёмочки, цветочки на костюмах, рюши — само изящество! Движения фигурок — сама грация! Всё розово-золотистое, хрупкое, кружевное…
Интермедия была триумфом декоратора и костюмеров. Директор, приписывающий себе львиную долю успеха, пожимал руку Чайковскому с таким видом, будто хотел сказать:
«И музыка тоже очень мила. Очень!»
5
При появлении Славиной в четвёртой картине кто-то закричал: «Браво!» Лучшую Пиковую Даму было трудно вообразить. Её голос, уподобляясь фаготу, был хриплым и угрожающим, когда она прогоняла приживалок, но становился глубоким, хотя и не лишённым резкости, когда она вспоминала прошлое и в особенности когда пела свою песенку на французском языке.
И Фигнер — мастер декламации — был превосходен.
Как хорошо, что Модест оставил здесь почти нетронутой прозу Пушкина, лишь слегка придав её течению трёхдольность. Рифмы были бы здесь неуместны…
…Всю эту картину и следующую, в казарме, Чайковский слушал, совершенно забыв о театре, о зрителях, даже о сцене, хотя и смотрел пристально. Он видел другое. Себя во Флоренции, когда он в полубезумном состоянии писал эту музыку.
В те дни он настолько перевоплотился в своего Германа, что мог бы, вспомнив Флобера[94], сказать: «Герман — это я». Конечно, хорошо снова стать молодым. Но тот груз, который нёс на себе юный неудачник, был слишком тяжёл. Хватит и собственного. Но как отделить себя от своего создания, когда с каждым днём всё сильнее проникаешься его жизнью?
Он вернулся после прогулки, но, вместо того чтобы, как всегда, спокойно провести вечер за чтением и игрой на фортепьяно — он давно уже не работал по вечерам, — тотчас вернулся к своей партитуре — что-то гнало его. Он забыл о сияющей Флоренции, которая расстилалась за широким окном, и видел перед собой осенний Петербург. Холод пронизал его до костей. Он был Герман, Герман, только что вернувшийся с похорон.
Для Германа это был один из тех неприкаянных вечеров, когда все муки одиночества, сиротства, раскаяния набрасываются на человека и толкают к пропасти. А за окном свист ветра, вой, плач…
И звук трубы, зовущий к вечерней перекличке, врывается, как напоминание рока.
В это мгновение кто-то заглянул в окно. Теперь Герман и сам вскочил с места, прижался к стене, как бы желая исчезнуть в ней. И, когда напряжение дошло до предела, он увидал призрак. Женщина в белом заговорила: в полной тишине произнесла и повторила названия трёх карт. Все посторонние звуки ушли в землю. На монотонном дрожании инструментов призрак с перерывами повторял:
«Тройка… Семёрка… Туз…»
Ровное, холодное, а потому и обманчивое предсказание.
…«Вы кричали, синьор? — спросила привратница, войдя к нему. — Я стучалась, но вы не отвечали».
— Возможно, что я пел. Это случается со мной во время работы.
Модест потом очень бранил его, за то что он довёл себя до такого состояния. Доработался до галлюцинаций. Но сам он после того чувствовал себя отлично и в тот же вечер, совсем поздно, не пропуская ни одной подробности, записал пятую картину оперы — сцену в казарме.
В следующем перерыве, избегая встреч, Чайковский вышел из театра. Улица была пуста, и только вереница карет у входа напоминала, что он ещё не свободен: в громадном здании, которое он ненадолго покинул, всё ещё решается его судьба.
Как странно всё, что происходит! И ведь не в первый раз. Но теперь, более чем когда-либо, он чувствовал, что его подлинная жизнь, в которой поднимаются огромные пласты, совершаются перевороты, ставятся гигантские проблемы, — его героическая, отважная жизнь в музыке ничего не оставляет ему для другой реальной жизни — вне музыки. Там, за пределами, остаётся обыкновенная личность, со всеми присущими ей слабостями, порой ненавистная ему. И одна мысль, что он скоро-скоро очутится лицом к лицу с этой второй жизнью, внушает ему страх. Нет, он не сможет так жить, просто жить! Нет у него сил ни для общения с людьми, ни для объяснения своих поступков. Если прервётся или ослабеет его способность сочинять, он перестанет жить, вот и всё.
Но ведь нет никаких оснований для паники. Это ещё не последнее, на что он способен. Ещё не раз… об этом нельзя теперь думать…
Он немного опоздал и застал на сцене Томского, с ленивой затяжкой запевающего свою песенку о «девóчках».
Пожалуй, Мельников не совсем подходил для роли пылкого гусара. Он, скорее, напоминал пожилого, но изящного вельможу, прожигателя жизни, завсегдатая пирушек, любящего молодёжь и любимого ею.
Началась пляска гуляк, которые с удалью подхватывали припев. Распалённые песенкой, эти светские повесы сбросили парики и принялись выкидывать коленца, выкрикивая: «Часто! Часто! Часто!»[95]
В эту минуту появился Герман.
Как всегда, Фигнер удивил неожиданностью. Если на генеральной он спел первый куплет своей застольной мрачно, а второй — победоносно (всё к чертям, даже страх смерти!), то теперь — совсем по-другому. Очень вызывающе — первый куплет, а второй, хоть Герман и уверен, что выиграет, — надрывно, с каким-то убеждённым отчаянием: «Да, я выиграю, но счастлив не буду, я продал душу чёрту и погибну!» Это соответствовало музыке.
И всё дальнейшее промелькнуло слишком быстро, кроме просветлённой концовки. Безумец, игрок опять становился человеком, бедным юношей, который верит в искреннее чувство. И этим он выигрывает у судьбы свою карту.
6
— Мы ещё не в таком возрасте, когда радость убивает, — сказал ему Ларош после спектакля. — Успех колоссальный — тем лучше. Проведёшь в крайнем случае бессонную ночь, а потом выспишься и станешь принимать поздравления.
Но даже и бессонной ночи не было: он слишком устал и спал как убитый. На другой день с утра квартиру Модеста осаждали друзья и вовсе незнакомые люди.
Чайковский должен был ехать в Киев на премьеру «Пиковой дамы». Да ещё предстоял банкет с артистами, то, чего он не выносил. Но артисты и, разумеется, Фигнер не были равнодушны к этому.
После банкета, шумного, угарного, похожего на все другие и очень далёкого от всех пережитых накануне сомнений и радостей, Чайковский простился с утомлёнными участниками и вышел на берег Мойки. Было темно, хотя день уже начался, и редкие прохожие торопились по своим делам. Отрадно было вдыхать морозный воздух.
«Благодарю тебя, господи!» — по привычке прошептал он слова, отмечающие и окончание работы, и удачный спектакль. И вдруг остановился: опять, как молния, ударила его мысль, что теперь-то он стоит над пропастью: кончено — и ничего впереди. Такие минуты были самыми страшными в его жизни, и тоска, вернее, предчувствие тоски уже коснулось его. Что теперь будет? И — будет ли?
Но и этот возобновившийся приступ миновал. Ещё можно дышать: ему с избытком хватит замыслов, мастерства, мелодий. И он может радоваться тому, что было вчера.
Теперь он не сомневался в своей опере и в её долгой жизни. И заранее наслаждался будущим, которое предвидел.
Это была последняя дань созданному, признание своей победы. Лихорадочные месяцы — от окончания оперы до её первой постановки задержали перелом, и вот ещё продолжается радостное возбуждение.
Ну, и хватит гордиться собой. Найдено — сброшено, закончено — забыто… И снова жизнь представляется сложной, с нерешёнными вопросами, а человек — песчинкой в мироздании.
Следовало бы отдохнуть, тем более что он спокоен, не надо спасаться от тревоги. Но что такое отдых? Всё то же брожение пытливых дум, тот же ропот мыслящего тростника[96]. И не приведёт ли отдых к новому перелому? И опять надо будет добиваться равновесия.
Когда он вернётся из Киева, то снова примется за работу. Настанет спокойный вечер. Алексей бесшумно приготовит ужин, дрова будут потрескивать в камине. Надо будет перечитать письма, накопившиеся за столько дней.
А наутро, следуя неизменной привычке, он начнёт новый труд. Собственно, он уже начал его: давно теснятся воспоминания о Флоренции и пульсируют услышанные там ритмы. Сочинение для шести инструментов… Форма, в которой он ещё не пробовал свои силы.
Это будет произведение народное, пронизанное светом. Секстет. Не легче симфонии, а всё-таки получится, выйдет. Только бы взяться за него поскорее!
Но и то, что предстоит в ближайшее время: новый театр, новые люди, — то, что ждёт его на Украине, всё предстоящее против обыкновения, совсем не пугает его. И даже будет приятно сравнивать ту «Пиковую даму» и эту, петербургскую…
…Никто не знает своего конца, но счастлив тот, кто чувствует своё продолжение.
Примечания
1
Стасов Владимир Васильевич (1824—1906) — русский художественный и музыкальный критик, историк искусств.
(обратно)2
«Аскольдова могила» — опера А. Н. Верстовского.
(обратно)3
«Чёрная шаль» — популярный роман Верстовского на слова Пушкина.
(обратно)4
Серов А. Н. (1820—1871) — композитор и музыкальный критик, автор опер «Рогнеда», «Юдифь», «Вражья сила».
(обратно)5
Джон Фильд (1782—1837) — знаменитый ирландский пианист, композитор и педагог. С 1802 года жил в России. Его игра, как и игра его учеников, отличалась мягкостью звука.
(обратно)6
Одоевский Владимир Фёдорович (1803—1869) — известный писатель, музыкальный критик, один из зачинателей русского классического музыковедения.
(обратно)7
Речь идёт о романсах Глинки «Не искушай», «Мери», «Я здесь, Инезилья».
(обратно)8
В опере — Вторая песня Баяна.
(обратно)9
Воробьёва-Петрова А. Я., талантливая певица, лучшая в ту пору исполнительница партии Ратмира.
(обратно)10
Виельгорский (Вьельгорский) Матвей Юрьевич (1794—1866) — русский виолончелист и музыкальный деятель. Один из руководителей Симфонического и Концертного обществ в Петербурге, а также учредителей и первых директоров Русского музыкального общества.
(обратно)11
«Оберон» — опера Вебера.
(обратно)12
«Волшебная флейта» — опера Моцарта.
(обратно)13
Впоследствии и до наших дней Вторая песня Баяна неизменно исполняется в опере Глинки.
(обратно)14
Ширков В. Ф. был главным либреттистом «Руслана». Впоследствии, когда оперу Глинки стали по цензурным и иным соображениям «поправлять», за её текст уже взялись другие люди.
(обратно)15
«Фрейщюц» — опера Вебера. («Вольный стрелок», или неточный перевод «Волшебный стрелок» — Прим. lenok555.)
(обратно)16
Директор Петербургской певческой капеллы князь Львов А. Ф., недоброжелательно относившийся к Глинке, и сам сочинял музыку: он автор гимна «Боже, царя храни!».
(обратно)17
Каватина — род арии.
(обратно)18
Так называемый Благородный пансион, где учились Глинка и младший брат Пушкина — Лёвушка.
(обратно)19
Вариации — изменённые повторения музыкальной темы.
(обратно)20
Рондо Фарлафа — ария в форме рондо (круговой песни), где периодически повторяется один и тот же музыкальный эпизод вроде припева.
(обратно)21
Буффонная — комическая. От итальянского opera buffa — комическая опера.
(обратно)22
Увертюры для оркестра на испанские народные темы.
(обратно)23
Стасов Дмитрий Васильевич (1828—1918) — брат В. В. Стасова, русский общественный деятель. Один из учредителей Русского музыкального общества.
(обратно)24
Мелодика — общие характерные свойства мелодий определённой эпохи или произведений композитора.
(обратно)25
Балакирев М. А. сделался главой русской школы композиторов 60—70-х годов.
(обратно)26
В «Сикстинской мадонне».
(обратно)27
«Летопись моей музыкальной жизни» — автобиография Римского-Корсакова.
(обратно)28
Кружок Балакирева, впоследствии «Могучая кучка».
(обратно)29
Римские-Корсаковы — династия моряков.
(обратно)30
Опера «Псковитянка».
(обратно)31
Московская частная опера С. И. Мамонтова.
(обратно)32
Хачатурян учился у Н. Я. Мясковского, который был учеником Римского-Корсакова.
(обратно)33
Баркарола — песня венецианских гондольеров, мягкое качающееся движение мелодии как бы воспроизводит плеск волн.
(обратно)34
Шестакова Л. И. — младшая, любимая сестра Глинки.
(обратно)35
Вторую («Богатырскую»).
(обратно)36
Н. Н. 3инин — учёный-химик, профессор, руководитель Бородина.
(обратно)37
Боткин Сергей Петрович (1832—1889) — выдающийся врач-терапевт, основатель крупнейшей школы русских клиницистов.
(обратно)38
Так Салтыков-Щедрин М. Е. определял разговоры без цели.
(обратно)39
Романсы Бородина.
(обратно)40
Речь идёт не о «Царской невесте» Римского-Корсакова, написанной значительно позднее (в 1898 году), а о замысле Бородина написать оперу на этот сюжет.
(обратно)41
Речитатив — напев, близкий к декламации.
(обратно)42
Пургольд А. Н. исполняла в «Каменном госте» обе женские партии: донны Анны и Лауры. Оттого друзья и прозвали её донной Анной-Лаурой.
(обратно)43
Хвостова А. — певица и педагог.
(обратно)44
Сложный размер из пяти однородных метрических групп. (Счёт на пять.) Частый в русских народных напевах.
(обратно)45
Бородин ездил в Бельгию как представитель новой русской музыки.
(обратно)46
Выражение Бородина.
(обратно)47
Бородин умер 54-х лет.
(обратно)48
Анданте — здесь: медленная часть симфонии.
(обратно)49
Сестра друга Мусоргского, Надежда Петровна Опочинина.
(обратно)50
Н. В. Гоголь, «Арабески» (примечание из 1-го издания).
(обратно)51
Фуга (от лат. fuga — бег) — музыкальное произведение, основанное на многократном проведении одной и той же темы во всех голосах.
(обратно)52
Корейша И. Я. — юродивый, «ясновидец», популярный в Москве, особенно среди купечества. Описан Островским А. Н. и Лесковым Н. С.
(обратно)53
Аделина Патти (1843—1919) — знаменитая итальянская оперная певица, гастролировавшая в России. В знак протеста против засилья итальянских певцов в России, Патти в «Райке» Мусоргского обрисована иронически.
(обратно)54
Поэт Голенищев-Кутузов А., друг Мусоргского.
(обратно)55
Марфа — героиня оперы «Хованщина».
(обратно)56
Слова из гаданья Марфы.
(обратно)57
Цикл романсов на слова Голенищева-Кутузова А.
(обратно)58
«Забытый» — романс Мусоргского, написанный под впечатлением известной картины Верещагина.
(обратно)59
«Полководец», «Трепак» — романсы Мусоргского из цикла «Песни и пляски смерти».
(обратно)60
Чайковский М. И. — брат композитора, писавший либретто «Пиковой дамы».
(обратно)61
Рубинштейн Антон Григорьевич (1829—1894) — выдающийся пианист, композитор, дирижёр, автор оперы «Демон», основатель Петербургской консерватории.
(обратно)62
Глиссандо — скользящая гамма.
(обратно)63
Дезире Арто (1835—1907) — выдающаяся французская певица, гастролировавшая в 1868 году в Москве. П. И. Чайковский посвятил ей несколько романсов.
(обратно)64
«Ромео и Джульетта» — программная увертюра-фантазия для оркестра (1869 год).
(обратно)65
По законам драмы.
(обратно)66
Мекк Надежда Филаретовна (1831—1894) — меценатка, покровительствовала П. И. Чайковскому.
(обратно)67
Герои опер Вагнера.
(обратно)68
Она же — во вступлении. Это одна из главных тем оперы.
(обратно)69
Так называли Фигнера в итальянском театре.
(обратно)70
Кантилена — плавная, певучая мелодия.
(обратно)71
В опере «Опричник».
(обратно)72
Ариозо — разновидность арии; меньше по размеру, свободнее по построению, проще, камернее, лишена виртуозности, концертности.
(обратно)73
Тургенева возмутило бесцеремонное обращение либреттиста (Шиловского) с пушкинскими стихами.
(обратно)74
Лобынское — имение Фигнера.
(обратно)75
«Грёзы зимней дорогой» — вторая часть Первой симфонии Чайковского. Он так называет мысленно всю симфонию.
(обратно)76
«Ромео и Джульетта» посвящена М. А. Балакиреву, а «Буря» — В. В. Стасову.
(обратно)77
Фанданго, хота — испанские танцы.
(обратно)78
Анданте кантабиле — медленно, певуче; в данном случае: вторая (медленная, певучая) часть 1-го квартета Чайковского.
(обратно)79
Интермедия — вставная сцена. (Пастораль.)
(обратно)80
«Моцартиана» — оркестровая сюита в духе музыки Моцарта.
(обратно)81
Вариации для виолончели с оркестром.
(обратно)82
Славина Мария Александровна (1858—1951) — выдающаяся русская певица, пела на сцене Мариинского театра.
(обратно)83
Гретри (1741—1813) — французский композитор.
(обратно)84
Аврора и Одетта — героини балетов Чайковского.
(обратно)85
Миранда — главное действующее лицо в «Буре».
(обратно)86
Юргенсон П. И. — московский издатель, друг Чайковского.
(обратно)87
Этот портрет находится в музее П. И. Чайковского в Клину.
(обратно)88
Рашель (1821—1858) — французская драматическая актриса, ценимая так же высоко, как и певица Полина Виардо.
(обратно)89
Сцена у Канавки, VI картина оперы. Там ария Лизы «Ах, истомилась».
(обратно)90
Рецензия Ц. Кюи по поводу гастролей Клары Шуман в России в 1864 году.
(обратно)91
1890 года.
(обратно)92
Романсы Чайковского.
(обратно)93
Долина М. Н. — исполнительница роли Полины.
(обратно)94
Флобер сказал о героине своего романа «Мадам Бовари»: «Эмма — это я».
(обратно)95
Припев из песенки гуляк: «А в ненастные дни собирались они часто!»
(обратно)96
Ср. Тютчев: «И ропщет мыслящий тростник».
(обратно)Комментарии
1
Молодой человек (фр.). — Прим. lenok555.
(обратно)2
Мой дорогой друг (фр.). — Прим. lenok555.
(обратно)
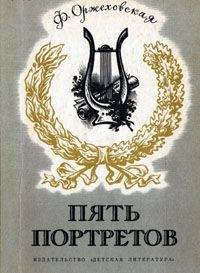



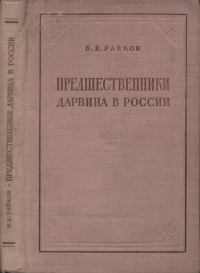
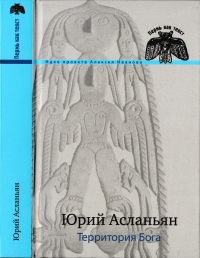

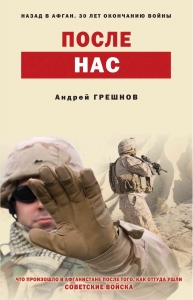
Комментарии к книге «Пять портретов (Повести о русских композиторах)», Фаина Марковна Оржеховская
Всего 0 комментариев