Б.Л.Брайнин
ВОСПОМИНАНИЯ ВРИДОЛА
Австрийский поэт, переводчик поэзии на немецкий язык, полиглот (переводил с 26 языков). Писал под пятью псевдонимами, наиболее известный из них — Зепп Эстеррайхер (Sepp Цsterreicher). Происходил из венской семьи Brainin, к которой принадлежат многие известные деятели искусства и науки. Родился на Украине в Николаеве, откуда была родом его мать. Когда Б.Л.Брайнину было несколько месяцев, семья окончательно переехала в Вену, где уже давно жили их родственники. Факт рождения на территории Российской империи способствовал впоследствии получению Б.Л.Брайниным советского гражданства. Это спасло ему жизнь, в отличие от его брата Вильгельма (Вилли), рождённого в Вене и также эмигрировавшего в СССР, откуда он был возвращён после присоединения Австрии к Германии и погиб в Майданеке. Б.Л.Брайнин окончил Венский университет, получил степень доктора филологии (германистика). Имел также математическое и географическое образование. Изучал психоанализ непосредственно у З.Фрейда. Член Коммунистической партии Австрии (c 1927), руководитель молодёжных агитбригад. Награждён знаком Почетного члена Коммунистической партии Австрии и медалью им. Копленига за заслуги в борьбе против фашизма. В 1934 г. вынужден был бежать из Вены после поражения Венского восстания, в котором он принимал участие на стороне Шутцбунда. Попав в СССР, преподавал в Педагогическом институте АССР немцев Поволжья (г. Энгельс). Среди его студентов были родители композитора А. Шнитке, с родными которого Брайнин затем поддерживал дружеские отношения в течение всей своей жизни. Был арестован НКВД 5 октября 1936 г. и приговорён к шести годам исправительно-трудовых лагерей. Находился в лагерях Северного Урала, а после лагерей также в трудармии в целом в течение десяти лет. Затем (с 1946 г.) отбывал ссылку в Нижнем Тагиле и в Томске с поражением в правах, преподавал в школах и ВУЗах. Реабилитирован в 1957 г. Переехал из Томска в Москву при содействии С.Я.Маршака и переводчика Льва Гинзбурга, которым он послал свои переводы русской поэзии и сатирическую поэму «Германия. Летняя сказка» как аллюзию на известную поэму Гейне. Работал литконсультантом в «Нойес лебен» («Neues Leben»), газете советских немцев при «Правде». Много сделал для становления, сохранения и развития литературы советских немцев. По свидетельству В.Мангольда, у Брайнина было следующее представление об обстоятельствах, в которых существовала эта литература: «…я вспоминаю ставшие легендарными слова знаменитого российско-немецкого поэта Бориса Брайнина, писавшего под псевдонимом Зепп Эстеррайхер: Um die russlanddeutsche Literatur zu sehen, muss man auf die Knie gehen». Член Союза писателей СССР (с 1959 г.). Репатриировался в Австрию в 1992 г. За пять лет до репатриации написал по-русски мемуары о пребывании в лагере и в трудармии («Воспоминания вридола», «вр.и.до.л.» — «временно исполняющий должность лошади»). В Вене перевёл свои мемуары на немецкий. В своё время к написанию мемуаров Брайнина подвигал А.Т.Твардовский, на что Брайнин, согласно воспоминаниям В.Я.Курбатова, отвечал Твардовскому «я ещё не устал ходить без конвоя».
24.5.1987
Это было в апреле 1938 года в лагпункте Верх-Шольчино. Мы почему-то не вышли на работу в лес. Возможно, был выходной день. Ко мне во дворе подошел нарядчик и сказал, чтобы я готовился с вещами в этап. Меня отправляют куда-то на другой лагпункт. Мне стало страшно, ведь со мною был мой брат Вилля с больным сердцем. С ним расстаться я не хотел, ведь, может быть, никогда больше не увидимся. Я спрятался в бараке уркачей.
А нарядчик стал искать меня по всему лагерю. У него был список отправляемых, он должен был их вывести всех за зону.
А ребята дали мне совет:
— Разденься голым и спрячь одежду. На дворе холод и снег. Они не имеют права отправлять тебя голым.
Ребята опытные. А Мишка-Ручка говорит:
— Отдай мне одежду. Я ее заховаю.
Я так и сделал. Все снял и отдал Мишке-Ручке. Сижу на верхних нарах среди урок, как мать родила. Вбегает нарядчик весь взмыленный.
— Где этот Брайнин Борис Львович?
— Тут я!
— А что голый сидишь? Весь этап уже за зоной стоит, конвой ждет!
— Не пойду без брата!
Нарядчик ушел. Через несколько минут заходит начальник лагеря Конюхов. Он смотрит на меня неодобрительно.
— Зачем так делаете? Нехорошо. Меня подводите…
— А я без брата никуда не пойду. Или вдвоем, или без меня.
— Вот что, этап идет в сангородок. Вы очень слабый. Мы туда отправляем больных и слабосильных на поправку. Там будет легкая работа, усиленное питание. Через месяц-два вернетесь и будете опять с братом.
— Рассказывайте сказки, гражданин начальник. Я Вам не верю.
— Зря Конюхову не верите. Так вот, при всех слушайте. Я, Конюхов, даю Вам честное слово, что Вас заберу обратно.
Здесь я у Мишки-Ручки забрал свою одежду, надел свое венское пальто и поплелся через вахту. Там стояли человек тридцать и ждали меня. Конвоир выматерился, и колонна двинулась в Савиново, село Шабурово, на Лозьве-реке.
А ведь самое удивительное то, что Конюхов cдержал свое cлово!
* * *
Савиново назывался лагпункт в селе Шабурово, недавно организованный, где собирали доходяг из всех отделений Севураллага. Начальником был Кривоногов, о котором говорили, что он воспиты-вался у Макаренко под Харьковом. Это был, скорее всего, педагог, который находил подход даже к самым отпетым бандитам. Обслуживающий персонал состоял из БОМЖ (без определенного места жительства), БОЗ (без определенного занятия) и некоторых СВЭл (социально вредный элемент, например, Лопарев, который, вскоре освободившись, стал зав. клубом в Шабурово).
Наш этап распределили по баракам. Я попал в барак уркачей, некоторые знали меня еще из тюрьмы, что мне обеспечило спокойную жизнь. «Воспитателем» был Каширин, нарядчиком — Федя Плющёв, молодые ребята. Я не помню, каким образом я стад их помощником, составлял какие-то списки. Возможно, что с первого дня нашлась мандолина, под которую так виртуозно плясал Дягилев и пела частушки БОМЖ Нона Сталенионис.
В женском бараке я встретил энгельсскую учительницу Таню Андреянову, получившую за анекдот 10 лет. Она была медсестрой в лагере (а фельдшером был какой-то рецидивист, крупный, мордастый, по фамилии Деев), у нее был чудный, звонкий голосишко, когда она пела «Однозвучно звенит колокольчик», то казалось, что действительно звенит колокольчик. Она умерла в марте 1942 года от воспаления легких, 23-х лет. В бараке была певица из Тбилиси, Орлова. Узнав, что я иностранец, она крикнула: «Валя! Слезь! Тут пришел иностранец!» Рядом со мною слезла с верхних нар девушка лет 16-ти. Очень милая блондинка с ямочками на пол-ных щечках. Слезая она зацепила рубашкой за доску, до груди об-наженная, прыгнула на пол, поправляя затем рубаху (трусов у жен-щин не было) с самым невинным видом.
— Я тоже иностранка, — сказала она, улыбаясь. — Может быть, Вы когда-нибудь попадете опять за границу и найдете мою мать.
Здесь я узнал ее удивительную историю.
Она родилась в 1922 году в Польше, Тарнопольское воеводство, почта Богдановка, село Клебановка. Ее мать зовут Доницелла Флейтута, урожденная Штанек. Сама она вовсе не Валя, а Мэрион Флейтута. Ее отец уехал с мамой и с ней в Канаду, в Монреаль, где работал инженером. В 1931 году летом мать захотела повидаться с бабушкой и поехала с Мэрион в Польшу, где в селе Клебановка ее бабушка имела небольшое имение.
Однажды летом ее мать послала няню в соседнюю деревню и дала ей 500 злотых, чтобы кому-то отдать долг. Мэрион просила раз решения поехать с няней. Мать разрешила, и они с няней сели в карету и поехали. По дороге их остановили знакомые и попросили зайти на свадьбу. Няня боялась, что у нее украдут деньги, приш-пилила 9-и летней Мэрион эти 500 злотых внутри платья английской булавкой и велела подождать ее, она, мол, скоро придет. Мэрион окружили дети и позвали поиграть в прятки. Они все выбежали в поле и прятались за кустарниками. А Мэрион убежала далеко и стала собирать цветы в большой букет. Она заблудилась меж кустов, и вдруг ее окружили люди, говорящие на непонятном языке. Оказалось, что она перешла советскую границу. Ее забрали пограничники, нашли у нее 500 злотых и хотели знать, кому она должна была передать эти деньги. Ее увезли в Ямполь и посадили в подвал.
— Я никогда не забуду, как я утром проснулась с букетом цветов, вся замерзшая и замученная, — рассказала она мне.
Дальше я подробно не помню ее рассказ. Помню, что она была в колонии малолетних преступников. Ей было 12 лет, когда ее отправили в Нарын или Норильск (не помню, ехали по реке), по дороге многие умерли от тифа. Где-то выбросили трупы на берег для захоронения, в том числе и Мэрион. Придя в сознание, она выпол-зла из-под трупов. Какая-то сердобольная женщина ее подобрала, вымыла, накормила. Девочка у нее выздоровела, но соседи заявили об этом. Женщину арестовали, а Мэрион отправили в лагерь. Она очень голодала, чтобы поесть ей пришлось уже в 13 лет продавать свое тело за кусок хлеба. Она об этом говорила так просто, как будто так и надо. Но в беседе (мы с ней говорили часто) она пов-торяла всегда, что ей это противно (а что делать?). Может быть, я был единственный, кто ее не трогал. Я ее знал почти до самой смерти. Она ко мне относилась е большой привязанностью и искренностью.
Через 24 года я разыскал ее мать, послал ей подробное пись-мо о судьбе дочери, но мать это письмо не получила.
Когда ей исполнилось 16 лет, т.е. совсем недавно, в 1938 году, ее отправили в какой-то большой город. Ее вызвали в кабинет какого-то офицера. Он ей сказал: «Запомни, что с сего дня ты будешь Валентиной Ивановной Ивановой. Никогда никому не говори, кто ты на самом деле, а то тебе плохо будет». Затем она попала в Севураллаг, лагпункт Савиново. Так она и числилась здесь. Статья УБЭл (уголовно-бандитский элемент).
В 1940 году, после того, как Тарнопольское воеводство ста-ло Тернопольской областью УССР, «Валю» отправили в Верх-Шольчино. Я ее встретил летом на л/п Верх-Лозьва. Она меня узнала, но го-ворить не могла, а только издавала крики: «А-а-а-а-а! С ней была заключенная женщина, ее опекающая. Она мне рассказала: зимой в феврале, Валя отказалась от работы из-за менструации. Ее заперли в неотопленный карцер. У нее хватило сил разобрать дымоход и вы-лезть на крышу. Что с ней сделали, женщина не знает, но с тех пор «Валя» потеряла дар речи.
В ноябре 1940 года меня отправили под конвоем в Ликино. В поселке мне навстречу шла Валя тоже под конвоем. Она меня обня-ла, значит узнала, но говорить не могла. Все те же крики «А-аа…»
Летом 1942 года, находясь на Усть-Еве, я узнал, что Валя умерла от «чахотки». Неправда это. Не было у нее чахотки, никог-да не кашляла. Убрали ее.
Через 20 дет, поскольку меня все время мучила совесть (ведь я же Вале обещал, что разыщу ее мать), т.е. в 1962 году, я из Томска, где я тогда жил, послал письмо на имя председателя сель-совета села Клебановка, почта Богдановка, Тернопольской области, в котором просил сообщить мне, живет ли в Клебановке гражданка Доницелла Флейтута, урожденная Штанек, поскольку я хочу ей сооб-щить, что мне известно о судьбе ее пропавшей дочери. К моему ве-личайшему удивлению оказалось, что действительно есть такая дерев-ня, Клебановка, и что там жила учительница Флейтута с двумя сы-новьями, но они переехали в соседнюю деревню. Я написал матери «Вали» в ту деревню: «… если Вы хотите знать, что случилось с Вашей дочерью Мэрион, сообщите мне, была ли у Вас такая дочь».
Дрожащим почерком она мне немедленно ответила авиаписьмом: «Ра-ди Бога, сообщите мне, что Вы знаете о моей дочери Меланье. Не-ужели она еще жива? Вы ее муж?»
Я ей написал на нескольких листах подробную историю мучени-цы Мэрион и отослал заказным письмом. Прошло больше месяца. Полу-чаю опять авиаписьмо; «Что же Вы молчите? Вы же обещали мне со-общить, куда делась моя дочка».
Короче говоря, мое письмо пропало. Или его задержала в пограничной полосе местная цензура, или сыновья скрыли его от матери.
* * *
В женском бараке жили две сестры Бочкаревы: Зина и Шура. Зине было 20, Шуре, наверное, 22. Зина была худощавой, бледной, а Шура полнее, крепче, обе среднего роста. Совершенно непонятно было, за что эти простые, скромные колхозницы схватили статью УБЭл. Зина работала, кажется, в столовой. Однажды у нее на спине образовался фурункул. Аферист Деев, который неизвестно почему работал «Лекпомом», т.е. фельдшером, выдавил ей этот гнойный нарыв, после чего Зина еще в июне 1938 года умерла от заражения крови. Деева отправили на лесоповал, но покойнице от этого не стало легче. Начальник отделения Мечеслав Петрович Буян пожалел сестру Шуру и взял ее к себе домой нянькой. Я помню Шуру, как она носи-ла на руках двухлетнюю дочь Буяка Ирину… Сорок лет спустя (в 1978 году) Ирина приедет ко мне в Москву, чтобы я ей помог проконсультироваться у невропатолога…
Никогда не забуду я Серафиму Романовну Зражевскую. Это была украинская красавица лет 30-и, с черными, как смоль, волосами и глазами, широкобедрая, полногрудая, стройная. Она была заведую-щей столовой на Тбилисском военном аэродроме. Какому-то садисту захотелось над ней поиздеваться. Она сидела по 53 статье. Однаж-ды, когда я зашел в женский барак, она спросила: «Хочешь на ме-ня посмотреть?» — И, повернувшись ко мне спиной, задрала платье.
— На, посмотри!» Я ужаснулся. Зад и спина были исполосованы, мес-тами вздуты: ее в следственной тюрьме раздевали догола и били палкой, пока она не подписала все, что от нее требовалось. У нее были повреждены почки. Она мочилась кровью. В 1946 году я ее встретил в Верхотурском ОЛПе. Ее освободили. Но она тогда в не-полные 40 лет была седой старухой со сморщенным лицом. Я ее с трудом узнал.
Про тбилисскую следственную тюрьму я слышал в Верх-Шольчино. Грузины рассказывали ужасы о методах инквизиции. У бухгалтера Бочоришвили были раздавлены пальцы левой руки. Ее зажимали в дверь, чтобы он правой рукой подписал протокол. Но были и такие кого не пытали, например, молодую красавицу, бывшего секретаря Тбилисского горкома комсомола, Лидию Варламовну Забахтарашвили или врача Мишу Лилуашвили.
* * *
В Савиново я снова встретился с Колей Черновым. В нем было что-то от Остапа Бендера. Это был ловкий мошенник и аферист, который сидел не в первый раз. Я помню туманно, за что он сел на этот раз, он мне это рассказал еще где-то в сентябре 1937 года в энгельсской тюрьме. Ему тогда было 32. Он был стройный, крепкий, с живыми глазами, умел командовать преступным миром, у которого пользовался авторитетом. Короче говоря, он в Саратове вечером познакомился с капитаном сухогруза, пригласил его в привокзаль-ный ресторан и напоил до белых риз. На путях стоял грузовой состав. Чернов затащил капитана в пустой товарняк, снял с него мундир и одел его, забрал у него документы и запер в вагон на засов. Затем разыскал его судно, которое возило арбузы куда-то по Волге, созвал всю команду и объявил, что капитана сняли с работы за порчу арбузов, а ему, Чернову, поручено продать их не месте, пока они не сгнили. Рано утром началась распродажа арбузов прямо у пристани. Выручку Чернов поделил с экипажем баш на баш, т.е. половину Чернову, половину всем остальным, так как ему, якобы, надо было «отчитаться перед наркоматом». Арбузы продавали по дешевке, толпа хватала их. К вечеру Чернов дал команду к отплытию, считая, что настоящий капитан не скоро вернется из запертого вагона. Так и случилось. Поезд доехал, а когда капитан проснулся, он уже был где-то далеко от Саратова на каком-то разъезде. Его отчаянный стук услышали, и его освободили.
Не успел Чернов распродать все арбузы на следующей пристани, как его арестовали. (В тюрьме он был в мундире капитана.)
Еще в Энгельсской тюрьме я с ним подружился. Он, как многие уркачи, был любознателен, и, узнав, что я собираю материал для словаря блатного языка, он очень усердно мне помогал и даже других мобилизовал.
Чернов был в Савинове расконвоирован и работал за зоной конюхом. Напрасно ему оказали такое доверие. Он ухитрялся совершать мелкие кражи, и краденые супони, чересседельники, даже фураж сбывал местному населению села Шабурово (где половина были Шабуровы, а другая — Митины). У него всегда были деньги, которые реализовывал в лагерном ларьке. Помню, однажды он меня угостил гороховой кашей с колбасой, хлебали мы из одной миски.
А в один прекрасный день Чернов сбежал при обстоятельствах, сильно напоминающих историю с саратовским капитаном.
Ночуя в конюшне, он устроил пьянку с одним из Стрелков. Напоив его до бессознательного состояния, он его раздел, надел его форму, вывел лучшего коня, оседлал его и умчался. Побег он тща-тельно подготовил. При нем была справка с круглой печатью Севураллага, что ему, стрелку ВОХР’ы, поручено собирать о населения средства дли борьбы с беглецами из лагеря, которые грабят и уби-вают во всей округе. Он разъезжал по Надеждинскому (Серовскому) району, появлялся то здесь, то там, приходил в сельсоветы и тре-бовал, чтобы собрали все взрослое население. На собраниях он выс-тупал, собирал деньги и даже давал за них расписки. Люди охотно жертвовали для благородной цели. Если я не ошибаюсь, он так три недели путешествовал. Не пропивал бы он вырученные деньги, его бы не могли поймать так легко; он бы уехал куда-нибудь подальше. Но через недели три его схватили и привели обратно в лагерь. Я помню, как мы на сенокосе с удивлением увидели Колю Чернова с опущенной головой на краденом коне в сопровождении двух конных конвоиров. Если он сбежал галопом, так он вернулся медленным ша-гом. Больше я Колю не видел. Сперва он сидел под следствием, за-тем получил за побег два года к пяти годам, которые уже имел. А осенью я узнал, что он еще раз бежал и был убит из винтовки преследующего его охранника.
Итак, где-то в конце июня меня с бригадой отправили на се-нокос. Луга находились на правом берегу реки Лозьва. Мы нарубили жерди и построили шалаши, а внутри постелили траву. Хорошо спалось после работы в этих шалашах. Я научился косить и грести, только стоговать не научился. Это была самая тяжелая работа.
Однажды рано утром, около пяти часов утра (завтрак был в шесть часов) я вышел из шалаша. Смотрю, наш охранник сидит поо-даль и закуривает, заворачивает самосад в лист, который вырвал из книги. У нас не было книг, всякая литература была строго зап-рещена. А у меня для курева была старая местная газета. Я очень соскучился по чтению и крикнул охраннику:
— Стрелок! Что за книга у тебя?
Он внимательно посмотрел и ответил:
— Какой-то Евгений!
— Слушай, — говорю я,— ведь бумага плохая, лощеная. Давай поменяемся. У меня газета есть! Махнем?
— Махнем, — сказал стрелок, прошел несколько шагов в мою сторону, положил книгу в траву и вернулся на место. Я сделал то же самое с газетой и забрал книгу, а он потом пошел за газетой.
Эта церемония была принята, чтобы заключенный не мог схва-тить у стрелка оружие.
Так я впервые получил «Евгения Онегина» на русском языке. До этого я его читал в тяжеловесном немецком переводе. А в детстве, когда мать мне давала переводить сказки Пушкина на немецкий язык, я ведь не дорос до «Онегина».
Я стал жадно читать. С первых строк меня захватил этот ше-девр. Я не вышел на работу, меня лихорадило. Я не помню, кто у нас был лекпомом, но меня по болезни освободили от работы. Ведь надо же, чтобы человеку так повезло: в 33 года впервые прочитать «Евгения Онегина» в оригинале! Я тогда дал себе клятву, если я когда-нибудь выйду на свободу, то обязательно переведу «Онегина» на немецкий язык.
Через 20 лет я перевел первую главу. Честь перевода была опубликована. Но потом мне кто-то (кажется, Элленберг) подарил перевод Коммихау, и я понял, что этот перевод так удачен, что не стоит мне продолжать работу.
* * *
Охранник, который мне дал «Евгения», влип однажды не без моей вины. У него была ночная смена, а он заснул крепким сном. Этим воспользовались трое, чтобы бежать из лагеря. Я помню их фамилии: Балбеков (бандит, 20 лет), Веденеев (тоже головорез, лет 24) и Кузовов (ленинградец, окончил десятилетку, гравер по профессии, интеллигентный, начитанный парень лет 20, но полнос-тью попавший под влияние преступников). я спал в шалаше, когда меня разбудил Веденеев. Он мне шепнул, чтобы я выполз. Мой ша-лаш (на 8 человек) стоял у крутого берега Лозьвы. Мы скатились с берега, там лежал Балбенов и Кузавов. Недалеко была привязана лодка. Они мне предложили плыть с ними на другой берег, там они уйдут в лес, а я лодку потом привяжу на старом месте, так что никто не догадается, что их надо искать в лесу на противополож-ном берегу. Мне ничего другого не оставалось, как выполнить требование, иначе они меня могли зарезать. Я так и сделал, они исчезли в темноте, и греб обратно, потащил лодку на старое место, привязал ее и лег спать. Утром на проверке поднялся большой шум, когда оказалось, что троих нет. Приехал командир дивизиона, охрану усилили, сенокос быстро закруглили, и мы вернулись в лагерь.
А беглецам не повезло. Не зная местности, они попали в трясину, бились трое суток, не в состоянии выбраться из болота, и добровольно вернулись в лагерь.
Мой авторитет среди уркачей с тех пор вырос на небывалую высоту.
30.5.1987
В Савиново появился некий Солоха, бывший адъютант Фрунзе, высо-кого роста, лицо отекшее; он с трудом передвигался, говорил, что на следствии его зверски избивали. Однажды за ним прилетел его брат, говорили, что он добился у Сталина освобождения брата. Солоху вызвали на вахту, сказали ему, что он свободен. Увидев брата, он здесь же умер от инфаркта. «Только голова ушла за вахту», — сказал мне потом вахтер-вохровец, т.е. он упал так, что голова оказалась за порогом проходной.
Однажды прибыл этап доходяг из Лупты (или Пелыма?). Часть из них поместили в моем бараке, где я находился среди сплошных воров и других преступников. Это были бывшие беспризорные дети из времен раскулачивания, сейчас им, как Балбекову, Мишке-Ручке и др. от 19 до 24 лет. Среди прибывших был некий Вильгельм Блок, учитель немецкого языка. На нем был еще более-менее приличный костюм. Его в бараке урки раздели, все вещи у него отобрали и одели его в какое-то тряпье.
У меня с этими ребятами были хорошие отношения, так как не-которые меня знали еще из энгельсской тюрьмы, где я, рассказывая о своих странствиях по разным странам, создал себе нимб междуна-родного афериста, в чем меня поддерживал мой брат Вилля. Меня блатной народ звал «Рыжий клык». Эту кличку я получил за золо-тую коронку на левом глазном зубе.
Когда Блока заставили раздеться, я крикнул «раздевателям»: — А боты ему оставьте, они вам ни к чему, больно маленькие!
Ему оставили ботинки, но зачем-то сняли очки. Я забрал себе очки и сказал, что они для меня в самый раз, хотя они мне совсем не подходили. У Блока создалось впечатление, что я у уркачей что-то вроде атамана.
Все это происходило при свете коптилок, т.е. поздно ночью, ведь в мае в тех краях солнце заходило в полночь. На другой день, когда я собирался на работу, я увидел Блока во дворе и отдал ему очки. Он был поражен и сказал мне при этом:
— Если бы я не знал, что вы из воров, я бы поклялся, что вы тот ученый, у которого я слышал лекцию в институте им. Бубнова в Москве.
— Летом 1935 года? О немецких заимствованиях из вульгарного латинского языка? — спросил я по-немецки. Блок остолбенел.
— Это вы? Не может быть! Как вы попали в эту компанию? — спросил он дрожащим голосом.
— Если хотите остаться живым, советую вам не портить с ними отношений.
Блок заплакал и отвернулся.
Вскоре его с каким-то этапом отправили куда-то. Я потом узнал, что он умер от истощения в 1941 году.
* * *
В Савиново был среди зеков азербайджанец Векилов. Через 40 лет я увидел его портрет в Литературной энциклопедии и сразу его узнал: это был знаменитый поэт Самед Вургун. Он был мастер выдумы-вать уморительные юмористические рассказы. Бывало, вечером соберет вокруг себя массу народа и так начнет рассказывать, что люди до слез хохотали. Я помню его рассказ от первого лица, как он в авто-бусе или трамвае был прижат к одной даме, а та, разволнованная его мужскими принадлежностями, пригласила его домой. Говорила, что муж военный и уехал в командировку. Ночью вдруг муж вернулся, к счастью, дверь была на цепочке. Пока муж кричал и стучал, Векилов успел кое-как одеться, выпрыгнул со второго этажа, упал на спящую внизу собаку и убил ее. А муж побежал за ним, догнал его и требовал, чтобы ему заплатили за собаку. Я не помню подробности, но все это было очень смешно.
Векилова очень скоро освободили. В Литературной энциклопедии ни слова нет о том, что он в 1938 году был репрессирован. Он был моим ровесником и умер молодым в 1956 году.
* * *
После возвращения с сенокоса мне дали новую работу. Я был приставлен к Рябову (СВЭл, 5 лет), который изготовлял кирпичи. Он их лепил из глины (кажется, мы работали за зоной и без конвоя) в деревянные формы, складывая в печь, которая находилась в яме, затем куда-то уходил в поисках водки. Все остальное делал я. Нам привозили дрова, т.е. целые стволы с сучьями. Я их распиливал и рубил, потом разжигал огонь. Рябов возвращался с водкой и закуской. Мы лежали перед печкой и поддерживали огонь. Когда кирпичи «созрели» и огонь потух, Рябов их вытаскивал, я грузил их на тачку и возил по доскам на склад, который находился в зоне за каким-то бараком.
Вот однажды так везу на тачке свой кирпич — в лагерном костюме, в лаптях (из них висят портянки, которые я никогда не научился заворачивать), со слишком маленькой синей кепкой на голове. Хожу с тачкой и пою во весь голос какой-то тирольский йодлер.
Когда я в 1935 году приехал в Энгельс, у меня не клеилось с русским языком. Я думал, что «зря» — это ругань. Ведь говорили: Чего ты зря сюда пришел, чего зря болтаешь.— А я отвечал: Сам ты зря! Откуда только такие зри берутся! Не встречался никогда с такими зрями.
— Однажды видел, как завуч Гармс подписал документ «врид директора». Я спросил, что за врид, сокращенный ли это «вридитель», а Гармс сказал, что, во-первых, не ври-, а вредитель, а, во-вторых, врид — это «временно исполняющий должность», это я хорошо запомнил.
Так вот, когда я толкаю свою тачку и пою свою звонкую немецкую песню, в это время пришло в лагпункт большое начальство во главе с начальником отделения Мечеславом Петровичем Буяком. Там был начальник КВЧ (культурно-воспитательная часть), УРЧ (Волков, учетно-распределительная часть), ПТЧ (Бабушкин, производственно-техническая часть), ОперЧ (Поносов), командир дивизиона Сальников. Они пришли для проверки порядка и режима, а с ними было наше местное начальство: Кривоногов и еще кто-то. Они остановились и обратили на меня внимание.
Сальников крикнул:
— Певец! Брось-ка тачку!
Я был рад стараться и бросил тачку.
Старший лейтенант Буяк, толстяк небольшого роста, крикнул:
— Подойдите сюда!
Я подошел и стал перед ними навытяжку.
— Скажите, что это вы поете? Кем вы здесь работаете?
(Через много лет Буяк мне скажет, когда я был учителем в Нижнем Тагиле, что он обратил внимание на мой звонкий голос. Я пел тирольскими переливами).
Меня зло взяло. Кем я работаю! И мне пришла идея.
— Разрешите доложить («Melde gehorsamst», — сказал бы бравый солдат Швейк). Я у вас работаю вридолом.
Последовала пауза. Все молчали и задумались. А я стою, руки по швам, и ем Буяна глазами.
— Это что такое? — спросил он наконец.
— Разрешите доложить, — кричу я,— вридол это временно исполняющий должность лошади.
Успех был неожиданный. Все дружно захохотали. А я стою с ка-менным лицом, как недойная корова.
Буяк наконец успокоился и сказал:
— Идите! Больше вы вридолом работать не будете.
Я пошел опять к своей тачке. У меня пропала охота петь. Нас-троение было мрачное. Наверное, думаю, на лесоповал пошлют или в карцер посадят.
Плохо я спал в эту ночь. А утром после проверки но мне подо-шел нарядчик Федя Плющёв и сказал:
— Тебя включили в список на курсы десятников лесозаготовок. Они начнутся сегодня в 10 часов.
Нас было 22 человека, все бытовики, я один с 58-ой статьей. Нам дали каждому по школьной тетрадке и по карандашу. Курсы прохо-дили в столовой. Я помню Лохматова, который преподавал пороки древесины, некий Гришанин читал лекции по лесному хозяйству, кто-то учил нас, как принимать работу и пользоваться кубатурником. Курсы длились, кажется, две недели без выходных, а потом были экзамены. Большинство выдержало их, но какие-то 2-3 пария не запомнили ГОСТы и провалились, Так я стал десятником.
С этого дня люди стали забывать, как меня зовут. Все меня звали Вридолом. Однажды на совещании десятников, мастеров и прорабов Буяк дал мне слово, говоря: Слово имеет Вридол. — Никто даже не улыбнулся.
«Вридол» пошел по всем лагерям. Два года спустя, попал к нам урок из Алдана, он знал «вридло», это слово у них стало известно.
Много лет спустя я услышал «вридло» в одном кинофильме. Но Вридола я сам придумал летом 1938 года в Савиново.
После окончания курсов у нас съехались начальники всех лаг-пунктов Шабуровского отделения, чтобы получить десятников. Каждый себе отбирал, кто ему понравился. Среди них был и Конюхов, я к не-му подошел и напомнил ему про обещание.
— Конечно, вы пойдете ко мне, — сказал он. Я ведь дал Вам слово.
Так я попал снова в Верх-Шольчино к своему брату.
2.6.1987
Я вспомнил еще один эпизод в Савиново. Когда мы вернулись с сенокоса, меня не сразу назначили помощником Рябова.
Утром меня Федя Плющев послал на вахту, говорил, что меня ждет Пожарский. Кем он работает этот Пожарский, я не знаю. Он был в военном мундире, молодой, очень уверенный, грубый до хамства. На вахте он меня встретил и сказал:
— Как фамилия?
Я сказал.
— Имя отчество?
Я сказал.
— Ты доктор?
— Да, — говорю.— Доктор языковед.
— Нам таких узких специальностей не надо. На язык разбира-ешься, так и на желудок разберешься. Будешь работать фельдшером. На тебе трубку, клизму, термометр, йод, аспирин, бинты и прочее. Распишись в получении.
Я расписался и добавил:
— Я ведь лингвист…
— Пошел к ебене матери, — ответил Пожарский в сердцах.
— Скажи спасибо за такую работенку.
Так я вдруг стал лекпомом лагпункта. Ко мне обращались в основном женщины за освобождением от работы из-за менструации. Медсестрой была Таня Андреянова. Когда я освободил двух женщин, веря на слово, Таня сказала, что надо посмотреть, а то ведь так наврут, что через неделю придется освободить снова. Ведь женщи-ны обманывали, прежде всего бытовички. Когда я отказывал в осво-бождении, некоторые предлагали свои женские услуги. Оказалось, что Деев, который после смерти Зины Бочкаревой отправился на лесоповал, злоупотреблял своим положением, не только принимая «оплату в натуре», но и деньгами, продуктами и т.д. А я за все годы лагерной жизни вообще ни с кем не связывался (кроме Наташи Зиннер, моей лагерной жены, и Клары, о чем я позже расскажу). Из мужчин я освободил двух из-за высокой температуры. Так я работал три дня.
Вдруг меня опять вызвали на вахту. На этот раз меня ждал конвоир. Оказалось, что в Шабурово была построена центральная больница, которой заведовал профессор Гнучев, кремлевский врач, который отбывал 25 лет «за убийство Горького».
Конвоир меня провел до большого бревенчатого дома, велел мне войти, а сам остался на улице. И прошел в приемную, меня встретил пожилой мужчина среднего роста в белом халате.
— Вы доктор Брайнин?
— Я.
— Это правда, что Вы учились в Венском университете?
— Да.
— Я очень рад. Мне нужен заведующий акушерским и гинеколо-гическим отделением.
— Простите, — ответил я, перепугавшись. — Я ведь германист. Я учился на философском факультете…
Гнучев помолчал озадаченный. Затем сказал:
— Очень жаль, идите.
Вот тут-то меня, наконец, сняли с лекпомов и послали в кирпичную печь.
* * *
Через три года я видел поздно вечером, как был арестован Гнучев на лагпункте «Набережная». Я никак не могу вспомнить, кто со мной был, кажется, конвой. Мы были вдвоем, и было это за зоной. Сколько раз я мучил свою память, никак не вспомню, как я оказался за зоной. Помню только, что перед медпунктом сто яла машина. Открылась дверь особняка, Гнучева вывели двое вооруженных, посадили в машину и уехали. За ним вышла медсестра и сто яла на крыльце. Мы стояли поодаль. Мой парень подошел к ней и спросил, что случилось. Я тогда не был глухим, как сейчас, и слы-шал весь разговор на расстоянии 10 метров.
Оказывается, что эта сестра сама Гнучева предала.
— Сам виноват, — сказала она. — А то ведь рассказывает всякую подлость. Вроде Сталин вызвал Левина какого-то и приказал, чтобы тот отравил Горького. А когда в самом деле отравили Горь-кого, так Левина и других расстреляли на всякий случай, чтоб никто не узнал.
Мужчина, который с ней говорил, молча со мной пошел. Я его не помню. Утром в лагере узнали, что сестру тоже посадили.
Позже стало известно, что Гнучева отправили в Москву, и он был расстрелян. Сестра исчезла бесследно.
3.6.1987
В Савиново я познакомился с прокурором из Ульяновска по фа-милии Шерман. Это был интеллигентный еврей, лет 45, маленький, худой, бледный. Его ото всего рвало, он в столовой ничего есть не мог. Через год я узнал, что он умер от прободной язвы. Срок —10 лет по ст.58-ой.
На мой удивленный вопрос, за что мог сюда попасть прокурор, он мне с саркастической улыбкой, которая у него всегда была на губах, ответил, что он сидит по пункту 12-му, т.е. за саботаж. После процесса Зиновьева, Каменева и др., уже к концу 1936 года, он получил «из центра» «совершенно секретное» указание: «В вашем районе находятся (например, цифру не помню) 10.643 контрреволю-ционера. Ваше задание состоит в том, чтобы их всех выявить, аре-стовать и изолировать до 31 декабря 1937 года». Это я передаю приблизительно. Точный текст я забыл.
Тогда мне стало ясно, почему в энгельсскую тюрьму привели в ночь с 31.12.1937 на 1.1.1938 года такую массу мужчин из всей республики. У нас в камере была 21 койка, а в ту ночь нас стало 120 человек. На койках лежали 42, под койками столько же, а око-ло 40 человек стояли и сидели в проходах. Старик Моор из деревни Моор провалился в «парашу», т.е. в бочку с мочой и фекалиями, а пока его вытащили, он был уже мертв. Такая была теснота.
Прокурор Крамер выполнял план… Он умер в 70-е годы в Краснотурьинске персональным пенсионером…
Я бы Шерману не поверил, если бы я не дружил в л/п Лозьва с прокурором Сванетии Джапаридзе Иосифом Платоновичем, который тоже получил 10 лет за невыполнение плана.
7.6.1987
В Савиново я организовал самодеятельность. Дягилев плясал под «барыню» (я играл на мандолине), я пел частушки с миниатюр-ной блондинкой Ноной Сталенионис, которая сидела за проституцию. У нее был звонкий высокий голос. Был 16-ти летний светловолосый худощавый паренек с таким же голосом, как у Ноны. Он знал только одну песню: «Васильки». Его звали Василек из-за этой песни. Он умер от чахотки. Еще перед смертью он пел свои «Васильки». Пел блатные песни 12-тилетний Вася. Он сидел по ст.58 пункт 3 (терроризм!). Он учился в 5 классе, когда его арестовали. Он участвовал в Ворошиловском кружке. В физкультурном зале над мишенью висел портрет наркома Ворошилова. По его рассказу, когда он стре-лял, кто-то его толкнул, и он попал вместо мишени в портрет, за что был осужден. Насколько мне помнится, Кривоногов добился, чтобы Васю отправили в Верхнотурскую колонию малолетних. Не знаю, правда ли. Ведь у него была политическая статья, а в колонии были только бытовики.
* * *
Конюхов за меня расписался и повез меня без конвоя обратно в Верх-Шольчино. Мы прибыли вечером на бричке. Радостная была встреча с братом Вилли. Оказалось, что мне повезло. Ведь Коню-хов на другой день сдал дела новому начальнику Рагозину, привет-ливому человеку низкого роста. Рагозин меня представил технору-ку Ворошилову (из ссыльных раскулаченных), с которым я впервые познакомился и который в ближайшие два года сыграл большую роль в моей лагерной жизни. Он мне сообщил, что он снял с работы де-сятника Вашаломидзе Акакия Константиновича и перевел его в бри-гадиры, а меня с завтрашнего дня переведет в его бригаду десят-ником.
Брата Конюхов назначил бригадиром, т.к. у Вилли был порок сердца. Вообще я убедился, что местное начальство состояло из добрых людей, которые старались облегчить нашу судьбу, насколь-ко это было в их силах.
Вилля повел меня в женский барак. Большой барак, около 30 коек. Он меня познакомил с Серафимой Романовной Зражевской, с которой мы давно были знакомы. Ее еще летом сюда направили зав. столовой. Она почему-то нам симпатизировала и часто нас подкар-мливала «добавками».
В этот вечер мы были свидетелями страшной сцены. В крайнем дальнем левом углу лежала на койке чахоточная проститутка, полька Нелька. В бараке было много блатных парней, которые приходи-ли к своим подружкам. Вдруг раздался жалобный голос Нельки:
— Ребята, я умираю! Пожалейте меня, поебите меня еще один раз!
Вокруг нее собрались уркачи. Один из них лег на нее. Вдруг раздался хохот. Кто-то кричал:
— Она же сдохла! Слезай!
Это было так цинично, так ужасно, что Симе Романовне ста-ло плохо. Вилля заплакал, и мы вышли из барака.
Нельку похоронили в лесу.
* * *
В этот вечер я поздно лег спать. Нарядчик мне показал свободную койку в общем бараке. Она стояла отдельно от двухэтажных («вагонной системы») у окна. Рядом, через один проход, беседовали грузины. Было уже около 10 вечера, а утром надо на проверку встать в 6 часов. Грузины не умели тихо разговаривать, они орали во все горло. В бараке уже все легли спать.
Я подошел к ним и попросил говорить потише. Объяснил, что я очень устал и вообще уже давно отбой.
Они меня выслушали сердито и продолжали орать.
Я терпел минут 10, затем подошел и крикнул что-то вроде:
– Заткнитесь же, е… вашу мать!
Я до этого мало обращался с грузинами. Они очень чувствительны к матерщине. Когда я лег снова, ко мне подошел один из них, высокого роста, красавец лет 35 с усиками, стройный такой и крикнул, что за оскорбление матери он меня задушит. Это был Вано Алексеевич Двали. Он сидел не по 58 статье, а за бандитизм и грабеж. Он и на самом деле схватил меня за горло.
В бараке оказались бытовики, знавшие меня еще из тюрьмы.
Они соскочили со своих коек и оттолкнули Двали:
– Оставь его, это хороший человек. А вы заткнитесь! Спать не даете.
Я здесь же расскажу о Двали. Через какое-то время, зимой 1938 года, меня однажды временно назначили десятником в бригаду Двали. Это была бригада уркачей. Ворошилов построил бригаду перед зоной и сказал:
– С вами пойдет десятник Вридол, – при этом указал на меня, стоящего рядом.
Двали вышел шаг вперед и заявил:
– Не посылай его с нами. Я его убью. Он мою мать обругал.
Ворошилов и конвоир растерялись. А я подошел к Двали, поклонился и крикнул, чтобы все слышали:
– Двали, извини меня, пожалуйста! Я ведь так, по-русски выругался. Не хотел тебя обидеть. Прошу прощения.
Здесь кое-кто из его бригады стал его уговаривать, кто по-грузински, кто по-русски.
– Ладно, – сказал он наконец, – пусть идет с нами, посмотрим на него, не будем пока убивать!
Мы с ним подружились потом. Вообще это был большой примитивный ребенок, отчаянный. Неплохой товарищ.
Я помню, нас однажды послали на катку леса. Возчики привозили на плотбище лес, а бригада Двали должна была накатать бревна в несколько рядов. А работали они не бей лежачего. Возчики привозили, а лес валялся навалом.
Вдруг пришло начальство: Рагозин, начальник КВЧ отделения, командир дивизиона и другие. А начальник КВЧ обращается к Двали и говорит:
– Как вы работаете?! Это вредительство! Если будете так работать, получите второй срок!
А Двали, оборванный весь, в лаптях, стал перед ним, подбоченясь, и сказал с улыбкой:
– Нач-чальник! Жена был? Отобрали. Дом был? Отобрали. Один жоп остался, возьми и выеби!
Начальство на него посмотрело молча. КВЧ махнул рукой, и они ушли. Никаких последствий не было. Только на плотбище послали другую бригаду.
Через полгода Двали был отправлен этапом на Дальний Восток.
До нас дошли слухи, что его в вагоне убили урки.
* * *
9.6.1987
Утром, после проверки и завтрака, бригады строились на развод. Ворошилов представил меня Акакию Константиновичу, который с этого дня был понижен, т.е. разжалован из десятников в бригадиры.
Вашаломидзе был широкоплечий, крепкий мужчина лет 48 (1891 года рождения), бывший штабс-капитан царской армии, участник первой мировой войны, человек молчаливый, лишнего слова от него не услышишь.
Была поздняя осень, в лесу лежал уже снег. Мы были одеты в ватные брюки, бушлаты, на голове шапки.
Мы вышли из зоны, прежде всего подошли к инструменталке, где нам выдали поперечные пилы, топоры, клинья и т.п. С этого момента я проходил настоящую школу у Вашаломидзе. Те курсы, пройденные мною в Савинове, это была чистая теория. Если бы не Акакий, я бы очень скоро оказался на общих работах. У инструменталки он начал уже меня учить, как принимать пилу, какой у нее должен быть развод, какая должна быть точка. Он здесь забраковал несколько пил и топоров. Потом мы построили бригаду и пошли под конвоем на делянку несколько километров.
Бригада состояла из политических, среди которых были люди с высшим образованием, и колхозников, не умеющих расписаться.
Почему сняли Вашаломидзе, я от него узнал по дороге. Дело было в том, что заключенные были не в состоянии выполнять непомерно высокие нормы, которые были вдвое больше, чем для вольнонаемных. Нормы были рассчитаны на 12-ти часовой рабочий день. Только при 100% выполнении нормы мы получали 1 кило черного хлеба и утром и вечером черпак каши.
Ворошилов, желая сохранить рабочую силу и получать премии, требовал от десятников приписки. Если лесоруб не выполнял норму, надо было ему приписать несколько бревен, фактически несуществующих. А Вашаломидзе со своей штаб-офицерской закваской категорически отказался, назвав это мошенничеством. Он меня предупредил, что с сегодняшнего дня я сдаю отчет о дневной выработке и могу делать, как мне заблагорассудится.
Акакий был большой знаток лесного дела. Он безошибочно определял ассортимент и сорт данного бревна. Он стал на пень и точно определял диаметр торца на расстоянии. Мы заготовляли авиа и палубник двух сортов, понтон, шпалу, баланс, крепеж, пиловочник и стройлес трех сортов, подтоварник двух сортов, дрова и другое. Каждый сорт имел свою норму и еще в зависимости от диаметра торца. Вокруг нас гремели падающие деревья, а мы среди них ходили от одного звена к другому под крики «берегись!», когда падала сосна или лиственница. Акакий осматривал упавшие стволы и советовал, как их разделать, сколько откомлить, где отрезать, например, авиа 1 сорт, а дальше 6,5 метра пиловочника, затем 4,5 метра строй, а остальное на дрова. Чем выше сортность, тем меньше норма.
Две недели я ходил с Акакием по бригаде, потом он ходил со мною, наблюдал за моей работой и, где надо, поправлял меня.
Не забыть мне никогда этого благородного человека. Он бы мог пустить меня на самотек, и я бы никогда не справился с работой. Но он и научил меня, как учитывать на фанерке выработку каждого заключенного, заставил меня вызубрить наизусть кубатурник, так что я, еще не вернувшись вечером в контору, уже здесь в лесу точно знал, сколько кому добавить «на горбушку».
Вот так я, благодаря Акакию, стал «лучшим десятником отделения», как Буяк меня однажды отметил на совещании руководителей производства.
* * *
В тюрьме (после суда) мы до 7 ноября 1937 года в камерах только спали, а целый день до отбоя свободно передвигались по всей территории. Так я познакомился со всяким народом, с воришками и разбойниками и преступниками «в законе». Особый интерес у них вызвала моя толстая тетрадь, где я собирал блатной словарь, всякую ругань, блатные песни.
На блатном языке «верха» – это внешний, наружный карман «клифта», т.е. пиджака, а «скула» – внутренний карман, где находится бумажник. Самый примитивный вор был «верхушник», который в трамвае шарил по верхам, самой высокой квалификации считался «скулашник».
Кое-чему я научился у ребят, но до скулашника не дошел. В верхушники я годился.
Итак, Ворошилов был мною очень доволен. Он понял, что со мною ему месячная и квартальная премии обеспечены. Да и я неплохо зарабатывал. Ведь тогда заключенным еще выплачивали денежные награды за выполненные работы. В зоне работал ларек, где можно было купить конфеты, колбасу, махорку и пр.
Однажды вечером стою в конторе у барьера, за которым сидели бухгалтеры, а справа от меня стоит рядом Ворошилов. Кто-то с ним заговорил справа от него, так что он к нему повернулся. А я залез двумя пальцами в «верху» его фуфайки и вытащил – его паспорт.
– Гражданин начальник, – обратился я к нему шепотом. – Возьмите, вы очень неосторожны. С этим в зону нельзя входить.
Ворошилов взял паспорт, побледнев. – Откуда он у тебя?
– А я его вытащил. Так мог любой урка его вытащить и пойти в побег.
Этот эпизод был причиной того, что я стал десятником штрафной зоны.
* * *
14.6.1987
Рядом с общей зоной, где условия были более менее сносными, находилась штрафная зона с одним-единственным бараком, окруженным частоколом и двойной колючей проволокой. На каждом углу – вышки со стрелками, из них две вышки – общие, для штрафной и для нас. Мы были соседями.
В штрафной зоне находились урки, совершившие преступления уже в лагере. Их выводили на работу под усиленным конвоем с собаками. Работали они на рубке леса в квадрате, окруженном четырьмя просеками шириной метров двадцать пять. На каждом углу сидели автоматчики с собаками. В квадрат конвоиры не входили. Там были только штрафники и десятник, который у них работу принимал. А десятником был Языков, который со мной на курсах учился – сам из уркачей, но из «завязавших».
После того, как я Ворошилову в карман залез, он и Рогозин вызвали меня в контору.
Рагозин сказал мне, что Языков отказывается работать с штрафниками, боится, что его «законстролят» как «лягавого». И вообще, они не работали.
«Говорят, что у вас хорошие отношения с преступным миром, – сказал он. – Вы бы не поработали со штрафниками? Получите стахановский паек и денежный начет».
Мне это показалось романтичным делом. Я, не думая, согласился, но просил, чтобы помогли создать мне авторитет.
Начальники удивленно пожали плечами.
– Дайте охране указание, чтобы меня не обыскивали, когда я иду в штрафную зону. А ларечнику скажите, чтобы продавал мне махорку сверх нормы. Я вроде нелегально принесу им махорку.
Рагозин и Ворошилов поняли этот ход и согласились.
Я узнал, что атаманом у них был некий Евдокимов. Сидел он за убийство и в лагере тоже кого-то убил.
Итак, вечером я, еще до отбоя, прошел через нашу вахту и через вахту штрафной зоны, зашел в барак, где меня встретили какие-то старые знакомые из энгельсской тюрьмы:
– Так это ж Рыжий клык!
Здесь был Мишка-Ручка за попытку к побегу (о нем я расскажу отдельно) и Серафимович, стройный, худой парень с женскими чертами миловидного лица. А здесь этот милый парень зашел однажды вечером на лагпункте Лозьва в барак, где на полу сидели трое и при свете коптилки играли в карты, выхватил спрятанный за спиной топор и одному из игроков отрубил голову. Потом спокойно ушел на вахту, бросил окровавленный топор и оказал:
– Я там одному в бараке голову отрубил.
За это ему прибавили отбытые им 2 года, так как больше 10 лет, которые он уже имел, ему не полагалось.
А отрубил он голову уркачу, который кого-то проиграл в карты, но свой карточный долг не выполнил.
Вот он, помню, один из первых мне попался навстречу.
– Мне нужен Евдокимов, – сказал я.
Меня повели к атаману. В бараке было около 50 человек, они спали на двухэтажных нарах. Евдокимов, крупный, широкоплечий, с мясистым лицом, таким же большим носом и маленькими колючими глазами, сидел на отдельной койке.
Я сел к нему на койку, вытащил из-за пазухи кисет с махоркой и бумагу, и мы закрутили козьи ножки. Он кого-то еще пригласил из его приближенных, но не всех. Остаток табака высыпал себе в карман фуфайки, кисет отдал.
Я ему объяснил, зачем пришел.
– Буду у вас десятником, – сказал я, – Знаю, что вы сидите на голодном пайке: 300 грамм хлеба и пустая баланда. Пойми, Евдокимов, я вам горбушку из ничего не могу сделать. Хотя бы 50% вы должны нарубить, тогда я остальное как-нибудь навру. Но, чтобы у меня этот номер прошел, вы должны мне создать авторитет.
– А как?
Об этом мы договорились.
* * *
16.6.1987
Штрафники были изрядно ослаблены голодом. Ведь нормы были высокими, и выполнить их мог только здоровый и сильный человек, а при невыполнении заключенный получал 300 грамм хлеба и два раза в день (т.е. утром и вечером) черпак полупустой баланды. Расчет производился через день. Если сегодня сделал 100%, так только послезавтра получишь килограмм хлеба.
Языков боялся приписок и этим самым обрек своих подопечных на голодную смерть. Они вообще перестали работать.
Так вот, на другое утро я подхожу с конвоем к вахте «штрафной», а там никто не построился, хотя удар по рельсу давно прозвучал. Один из конвоиров сдал оружие товарищам и прошел через вахту в барак. Раздался настоящий вой, и через минуту стрелок оттуда вернулся бегом. Он заявил, что урки объявили забастовку, они говорят, что все равно им подыхать, хоть работай, хоть нет.
Позвали Ворошилова, стали советоваться, что делать. Если вызвать роту и дело передать прокурору, так и местному начальству не поздоровится.
А тут я говорю:
– Давайте, я попробую их вывести.
– Валяй! – говорит Ворошилов.
Я зашел в барак, меня Евдокимов встретил с улыбкой. Мы спокойно сели и закурили моей махорки. Ведь все это было вчера обговорено. Через пять минут мы погасили окурки. Евдокимов дал команду, и все вышли дружно, я – первый, за мной – атаман, за ним – остальные.
– Стройся! – закричал я.
Все построились. Старший стрелок пересчитал их, затем мы двинулись в путь. Слева и справа три вохровца с псами, я – последний, за мной вохровец с собакой.
Когда перед уходом старший объявлял свое «шаг влево, шаг вправо считается побегом и т.д.», Ворошилов сказал:
– Ну и десятник попался! Молодец!
Евдокимов мне «создавал авторитет»…
* * *
В этот день гремел лес в квадрате. Каждый свалил два, а кто даже три дерева. (На норму надо было свалить в два-три раза больше, в зависимости от диаметра и сорта), впервые штрафники стали работать. А я тоже постарался. Я в наряде приврал кубатуру и написал им сжигание сучьев и трелевку на расстояние 100 метров – чистая фантастика, ведь трелевать было некуда, еще не была построена лежневая дорога к квадрату. Вечером я всем «вывел» сто процентов. Так у нас дело пошло. А когда через день все получили «горбушку» и «премблюдо» (премиальное блюдо за перевыполнение: полкило каши из сечки, без масла), тогда мои ребята совсем повеселели.
Я в этот первый день обошел весь квадрат, подсказывал, как лучше разделать хлыст, где сколько откомлевать, затем я принял работу.
В одном захолустном месте сидел худой парень и грелся у костра. Дело было уже поздней осенью, лежал снег, вокруг него стоял лес на корне, нетронутый пилой.
– Ты что не работаешь? – спросил я его.
– А… все равно, «то работаешь, что филонишь. Один х… сдохнуть. Сил нет.
В самом деле, это был до того слабый парень с тонкой шеей, что от него никакой работы ждать нельзя было.
– Как фамилия?
– Шишкин
– За что сидишь?
– За кражу. А в штрафной – за побег.
– Знаешь что, Шишкин. Я тебе дам десять дней отпуска. Буду тебе писать по 110%, будешь получать кило хлеба и премблюдо. Десять дней кантуйся. Но потом надо будет вкалывать, иначе ты меня подведешь. Понял?
– Понял.
– Обещаешь, что на одиннадцатый день начнешь втыкать?
– Обещаю,
– Поклянись.
– Блядь человек буду!
Это была блатная клятва. Я ему поверил.
Итак, мои разбойники ожили. Когда их стали кормить, они не только делали по 50%, но от скуки даже больше.
А Шишкин все отдыхал. Но на одиннадцатый день как стал наворачивать, один, лучком, только щепки летели.
Вскоре его освободили из штрафной. Он куда-то исчез.
Не через три года он меня отблагодарил в самые страшные дни моей лагерной жизни. Об этом позже расскажу.
* * *
Однажды вечером после работы меня разыскал нарядчик и сказал, чтобы я пришел на вахту. Вахтер указал на бревенчатый домик недалеко от зоны:
– Там тебя ждут.
Я пошел к домику. Похоже, что это был дом Ворошилова. Я поднялся на крыльцо, открыл дверь. Из комнаты слева вышел Ворошилов, явно под градусом.
– Войди, – сказал он.
Я вошел в горницу, там сидело еще двое и один в форме лейтенанта, все сильно выпившие. А лейтенант говорит:
– Слушай, Вридол, про тебя говорят, что ты знаешь массу всяких анекдотов. Расскажи что-нибудь.
Я стал ломать себе голову. Что бы мне такое рассказать, чтобы не придрались и не дали бы еще один срок по 58-ой.
Я вспомнил старый еврейский анекдот про мать, которая в синагоге учит дочь, чтобы она себя достойно вела, и при этом ее ругает нехорошими словами. Этот анекдот я перевел на русский язык:
– Мать сидит в церкви и молится, а дочери велела, чтобы она дома сварила кашу. Вдруг бежит дочь в церковь во время богослужения и кричит: «Мама, дама, каша разварилась, как говно!» – «Как тебе не стыдно!» – кричит мать. «Разве можно так выражаться в святом месте? Я тебя, блядь, как ёбну молитвенником по шарам, что мозги тебе на хуй заебутся!»
Мои слушатели хохотали до хрипоты. Долго хохотали, даже водку мне предлагали. Я отказался, никогда в жизни до тех пор не пил.
– Иди! – кричал лейтенант, все еще хохоча. – С тебя хватит!
* * *
Больше месяца я работал со штрафниками. В один прекрасный вечер нарядчик пришел в барак и сказал, что из отделения за мной на санях приехал спецконвой. Меня вызывают в 3-ю часть.
Я немало испугался. Ведь я наврал в квадрате не менее трех тысяч фестметров леса, которые числились заготовленными, а стояли на корню. И сучья не были сожжены, а валялись везде.
Надел я бушлат, сел в сани, и мы поехали в Шабурово. Всю дорогу меня трясло от страха. Ведь 3-я часть – это НКВД в НКВД!
Мы приехали в Шабурово на лагпункт Савиново. Конвоир сдал меня на вахту. Встретил меня тот самый Пожарский, который меня назначил фельдшером. Оказалось, что Кривоногова нет, а Пожарский – начальник лагпункта. Он меня передал нарядчику Пономареву (Плющев уже куда-то был отправлен на Дальний Восток), а этот повел меня к пристройке к бараку, где мне была предоставлена отдельная комната с печкой.
– Все, – думал я, – я арестован.
В комнате была отдельная койка с постелью. Нарядчик прихлопнул дверь и ушел.
Я сидел некоторое время. Было уже после отбоя. Все спали. Я подошел к двери и открыл ее. Я не был на замке, мог спокойно выйти. Была светлая, звездная ночь. Я вернулся и лег спать. Ничего не понимал, что это за почести такие?
Утром после проверки я в столовой получил завтрак и кило (!) хлеба. На развод меня не вызвали. Только к 10-ти часам нарядчик меня позвал: за мной пришел конвой. Он меня повел по деревне в отделение, постучал в один из кабинетов и доложил о моем приезде. Я вошел. Смотрю – за столом сидит тот лейтенант, который тогда выпивал с Ворошиловым. Оказалось, он был начальником 3-ей части, Поносов.
– Слушай, – сказал он, – знаешь, зачем я тебя вызвал?
– Нет, – говорю я в страхе.
– Помнишь, ты нам рассказал очень смешной анекдот, а я его напрочь забыл. Расскажи-ка еще раз.
У меня отлегло от сердца. Я повеселел и рассказал ему еще раз эту историю. Поносов хохотал до слез.
– Так, – сказал он, утирая слезу. – А что я теперь с тобой делать буду? Знаешь, что? У нас цензор заболел. Поработаешь пока цензором.
Он меня повел в отдельную комнату. На столе лежала гора входящих писем. Поносов объяснил, что нельзя пропускать никаких документов, фотографий, вырезок из газет и книг, денег, марок и т.д. Я уже не помню всю инструкцию. Ничего антиправительственного и пр.
Затем он ушел, и я начал работать.
Все это мне казалось ужасно дико. Неужели Поносов не знал, что я сидел по 58-ой статье?
Сколько я помню, я там проработал две недели. И почти каждый день я должен был Поносову рассказывать какой-нибудь анекдот, причем не менее трех раз – тот самый про мать и дочь в церкви.
Я ничего не мог понять. Я ничем не заслужил такое доверие со стороны 3-ей части. Неужели там работали такие примитивные люди?
Однажды мне попало в руки письмо Ганне Райзер, учительнице из Люксембурга на Кавказе. Я ее лично не знал, но слышал о ней. В письме была фотография ее младшей сестры, которая чем-то напоминала мою жену Геди. Я решил не уничтожать снимок, а сохранить его и каким-то образом переслать Ганне Райзер, которая находилась в л/п «Набережная». Вечером, когда конвоир пришел за мной, я сунул снимок за пазуху, но на улице он скользнул из блузы в штаны и оттуда в снег. Конвоир, который ходил за мной, заметил это, поднял фотографию и передал ее Поносову.
Так кончилась моя цензорская эпопея.
На другой день нарядчик мне сообщил, что в 11 часов отправляется этап в Верх-Шольчино. Я должен готовиться и пойти с ним.
Я не помню, где я был в 11 часов. Нарядчик, увидя меня в зоне, очень растерялся – этап ушел без меня. Пономарев повел меня на вахту. Там стоял Пожарский, злой, взбешенный.
– Что я буду теперь с тобой делать? – кричал он. И вдруг открыл дверь от вахты и заорал: – Пошел вон отсюда. Сам найдешь дорогу!
Чудеса! Я стоял на улице. Хоть в Москву езжай!
Я поплелся через деревню без конвоя, вышел за поселок. Вдруг меня догнал на санях начальник КВЧ (забыл фамилию) и спрашивает, куда я иду. Я объясняю, что иду в свой родной лагерь Верх-Шольчино.
– Ладно, – говорит он, – садись, подвезу до Лозьвы.
Это было больше половины дороги, оставалось только 4 километра пешком идти.
Итак, я поехал на санях. Мы перегнали этап с конвоем, с которым я должен был идти; никто не обратил на меня внимания. Ведь я не числился в списках, никто за меня не расписался. Подъезжая к Лозьве, я поблагодарил начальника КВЧ и пошел по лесу в «родные края». А на моем лагпункте новый вахтер не хотел меня пропускать. У меня не было на руках никаких документов. Долго я его упрашивал, наконец вызвали Ворошилова, и он велел пустить меня в лагерь.
Вот какая странная история со мной произошла зимою 1938/39 года.
* * *
20.6.1987
Я не помню, куда делись штрафники. Когда я вернулся из цензуры, в штрафной зоне было пусто, а в «квадрате» валили лес обычные бригады, по просеке шла лежневая дорога, и лес возили на вагонетках.
Одно время меня Ворошилов назначил еще зимой приемщиком леса на вывозке. Я сидел у костра на перекрестке лежневой и санной дороги, со мною сидел стрелок по фамилии Лабзов, простой парень лет двадцати. Мимо проезжали вагонетки с нагруженным лесом, по 4–5 фестметров на каждой. Лес лежал комлями вперед, торцами назад, так что я за минуту мог на фанере «отточковать» содержание вагонетки. А указание Ворошилова было на каждую Вагонетку добавить по фестметру («что на рубке натуфтили, надо на вывозке добавить!)
Однажды сидим так с Лабзовым, толкуем о том, о сем, и вдруг Лабзов говорит:
– Ужас, как выпить хочется, а водки нет. Надо бы в село поскакать, в ларьке водки полно.
– Скачи, – говорю. – Все равно делать нечего.
А его конь рядом привязан.
– Ладно, – говорит Лабзов, – я только винтовку положу под сучья, через полчаса прискачу.
Рядом была куча сучьев, оставшихся от сваленной сосны. Лабзов положил туда винтовку.
– Смотри, не подведи, – сказал он, сел на коня и был таков.
Он оставил винтовку, чтобы без оружия появиться в ларьке. Без винтовки, значит, не на службе. А то могли ему водку не продать. Ускакал он не по дороге, а по лесным тропам.
Сегодня мне эта история кажется совершенно невероятной, а именно, что стрелок мог оставить винтовку – за это полагался расстрел. Может быть, меня подводит память, но я помню именно так.
Не прошло и пяти минут, как вдруг на санях прикатил командир дивизиона Сальников. Он остановился у костра и спросил, где охранник.
Я ему объяснил, что для бригады возчиков мало одного охранника нужны двое. Ведь бригада растянулась на 6 километров, а бедный Лабзов все время скачет на коне и считает возчиков.
Сальников уехал. Повезло Лабзову. Они разминулись. Через 20 минут прискакал Лабзов с водкой в сумке, схватил винтовку («Молодец, Вридол!»), привязал коня. Я ему рассказал о появлении Сальникова, который до сих пор никогда здесь не бывал. Лабзов перепугался, (Я ему рассказал, как я объяснил его отсутствие).
На другое утро мы опять встретились. Лабзов был очень веселым. Оказывается, что вечером собрали всех стрелков. Сальников назвал Лабзова примерным охранником:
– Вы сидите у костров и греетесь. Один только Лабзов целый день на коне и считает заключенных!
Лабзову была объявлена благодарность.
* * *
22.6.1987
К нам прибыли несколько женщин из Иркутска. Я помню четырех:
1) Аня Яковлевна Знаменская, 24 года, среднего роста, миловидная, с ямочками на щеках, инженер, только окончившая институт. Рассказывала, что ее голую бросали в ледяную воду, чтобы призналась в «контрреволюции».
2) Полина Антоновна Сивицкая, лет 33–35, маленького роста, инженер-дорогостроитель. Это она построила лежневку.
3) Потоцкая, крупная молодая полька, наверное, сидела за свою польскую фамилию. Я ее вскоре потерял из вида, не помню, куда она делась.
4) Валя Немцова, девчонка 16 лет. Она как-то рассказала, что ей в следственной тюрьме устроили бастонаду: били палкой по ступням. Она должна была дать показания на родного брата – летчика о его «шпионской деятельности». Валя выдержала все пытки, но получила 10 лет. С ногами у нее было плохо, она много ходить не могла.
Однажды к ней приехал брат. Им разрешили свидание за зоной.
Про Валю шли слухи, будто она бежала из лагеря и была застрелена в побеге.
Аня Яковлевна была деморализована, приходила ночью в мужской барак. Был у нее молодой азербайджанец, бригадир Диев, крупный, черноглазый, довольно примитивный парень. У него Аня спала.
Летом 1940 года я был в Ликино на совещании мастеров и десятников. Когда прошел через вахту, увидел во дворе толпу, слышал женский крик. Я протиснулся сквозь толпу и вижу, как Серафимович избивает лежащую на земле Аню Знаменскую. Никто за нее не заступился, все боялись убийцы. Я к нему подошел, взял его за руку и сказал:
– Ты мужчина или кто такой? Чего ты с бабой связался?
Он на меня посмотрел спокойно, так спокойно, как он тогда в бараке голову отрубил, и сквозь зубы выразился нелестно в адрес Ани.
– Да плюнь ты на нее. Ведь стыдно, – сказал я.
Серафимович повернулся и пошел.
Еще одна встреча была у меня с Аней Знаменской. В 1944 году я был завхозом дома матери и ребенка на Большой Косолманке. Там были заключенные роженицы со своими детьми. Когда дети достигали годовалого возраста, их отбирали в детские дома, а часто освобождали матерей. Там я встретил Аню. Она родила сына от нарядчика Пономарева. Это был жалкий недоносок, которого Аня без ума любила. Она работала прачкой, чтобы заработать стакан молока для ребенка. Я ее с трудом узнал. Это была худющая старуха, кожа да кости. Помню, как она на чердаке под крышей худыми, жилистыми руками стирала вонючие пеленки и женское белье.
Я, может быть, успею рассказать, как мы в 1944 году с возчиком и бухгалтером обманули пекаря на целый воз хлеба. Когда у меня каждый день оказалась лишняя буханка хлеба, я ее несколько раз отдавал Ане. Так мне жаль было эту образованную женщину, которая здесь погибала физически и морально.
Аня до того отупела, что не могла понять, что меня побуждало носить ей самое ценное – хлеб! Она меня однажды спросила: – «Почему ты это делаешь? Для какой цели? – И когда я ответил: – «Мне жаль тебя», – она только покачала головой, на которой волосы стали редкими, как у старухи.
Я Аню потерял из вида, не знаю, что с ней дальше было.
Вообще женщины в заключении гораздо тяжелее мужчин переносили отсутствие половой жизни. Уже в энгельсской тюрьме узнали, что в женских камерах изготовляли из тряпочек искусственные члены и наполняли их горячей кашей, вместо того, чтобы ее есть. Этими инструментами женщины занимались онанизмом. А в лагере женщины висли на мужчинах, особенно интеллигенция теряла всякий моральный облик. Вырванные из обычной среды, где люди друг друга контролируют, они не признавали никаких моральных устоев. Исключением были грузинки, так как у нас был большой грузинский контингент, и мужчины считали позором для всей нации, если бы какая-нибудь женщина себе позволила вольное поведение.
* * *
23.6.1987
У нас была некая Эджибия. Ее муж был наркомом какой-то кавказской республики. Она говорила, что Сталин велел его расстрелять. Она не могла понять, почему. Ведь Сталин неоднократно жил в их доме, был их другом. Ей было невдомек, что это и была причина, почему ее мужа расстреляли. Сталин всех уничтожил, кто его знал когда-то в личной жизни.
Эджибия, женщина лет сорока, была, как говорили, «слаба на передок». Она считалась доступной для любого. Ее на следствии нещадно били, возможно, из-за этого она была совершенно деморализована.
Я помню, как в 1940 году на Верхней Лозьве ее где-то поймали во время полового сношения с каким-то из урок. Стрелок его стащил, при этом сперма попала на ее платье. В этом виде ее поставили у вахты на всеобщее обозрение. Командир охраны думал ее этим опозорить, но вызвал только всеобщее возмущение. Толпа женщин и мужчин стала стыдить охранника, приставленного к ней, так что тот ее отпустил.
* * *
По сравнению с другими лагерями (Москва-Волга-канал, Беломорканал, Колыма), судя по рассказам бывших узников, к нам со стороны начальства было довольно гуманное отношение. Некоторые охранники вели себя сочувственно. Я помню стрелка Катаева, который угощал охраняемую бригаду своим самосадом. И никогда в жизни я не забуду стрелка Арзамаскина, о котором я написал балладу «Иван и Иоганн», в которой я, конечно, не рассказываю, что Иваном, спасшим Иоганна, был стрелок-охранник Арзамаскин.
Это было весной, когда на плотбище катали лес в разбушевавшуюся речку (кажется, Шольчину), и по реке плыл молевой сплав, заполнив всю реку. Я шел с бригадой сплавщиков вдоль реки с длинными баграми, чтобы на поворотах реки раззаторить лес. Бревна местами вздыбились, перекрывая реку и задерживая всю массу бревен. Раздвинуть затор было сложно и опасно. Через остановившийся поток перепрыгнуть вперед было не так страшно, но когда перед был освобожден, вся масса тронулась, и нужно было по стремительно плывущим бревнам вернуться на берег, нужна была ловкость и смекалка, к одному из этих заторов побежал по заторам немец по фамилии Гунгер. На обратном пути он в двух шагах от берега поскользнулся и упал в реку. Он держался за одно бревно, а другие его придавливали. На глазах у всех он стал тонуть.
И тут случилось неожиданное: наш охранник Арзамаскин дал мне винтовку, обмотался канатом, который мы, не помню для чего, таскали с собой, крикнул, указывая на канат:»Держите!» и побежал по бревнам спасать Гунгера. Он схватил его за руку, при этом сам упал в реку, и мы их обоих вытащили канатом.
Потом мы разожгли костер. Гунгер и Арзамаскин разделись, посушили свои шмотки, а я стоял рядом с винтовкой в руках.
«Никому не рассказывайте об этом, а то я срок получу», – сказал Арзамаскин.
Ему было не более 25 лет. Сам он был из колхозников, и этот благородный порыв был для него естественным.
Так никто из бригады никому и не рассказывал, что стрелок спас заключенного. В бригаде не было бытовиков, одни «политические» по 58-ой статье, немцы из Поволжья.
У уголовников считалось законом: в побег идти только от ненавистного стрелка, не подводить хорошего. И только с разрешения атамана.
Год спустя, когда я уже был на Верх-Лозьве, Арзамаскин охранял бригаду уголовников. Я тогда был уже мастером лесозаготовок. Придя на делянку, я узнал от бригадира, что только что четыре казаха ушли в побег. То, что они давно к нему готовились, было известно, но им нельзя было бежать от Арзамаскина. Бригадиром был головорез Гарцев, атаман уркачей.
Мы сообщили об этом побеге Арзамаскину и предложили ему распустить всю бригаду, чтобы поймать беглецов.
«Тебе все равно срока не миновать, – сказал Гарцев, – что четверо сбежали, что все тридцать. Я знаю какой тропой они пошли, через болото ведет только одна. Мы их поймаем и приведем».
Это было утром. А после полудня двух привели, а двух принесли. Они были сильно избиты, лица в крови. А в лагере, когда мы вернулись, пустили слух, что они попали под упавшее дерево.
Но были охранники и другого сорта.
В Савиново, когда мы были на сенокосе, охранник Гусельников, самодур из местных жителей, выгонял из бараков на работу отказчика Макарова. Макаров был из беспризорников, ему было 18 лет. Он, как мне потом рассказали, ругал стрелка матом и швырял в него, что попало. Гусельников выхватил револьвер и застрелил Макарова: за это его судили, и он получил пять лет, потому что в зоне оружие применять нельзя было.
Стрелок Силаев из Верх-Шольчино зимой в тридцатиградусный мороз поставил молодого заключенного у дерева (не помню за что) и держал его там несколько часов. Домой этот парень не мог идти, его привезли с отмороженными ногами. Одну ногу ему потом ампутировали.
Летом Силаев сидел у костра, когда вдруг большое дерево стало на него падать. Никого у этого дерева не было. Его подпилили так, что оно должно было упасть при малейшем дуновении ветра именно на то место, где Силаев разжигал костер. Он успел отбежать, иначе его бы убило.
После этого Силаев исчез, больше с заключенными в лес не ходил.
* * *
2.7.1987
Летом 1939 года мне и моему брату Вилли дали заполнить анкеты-ходатайства, в которых мы просим выслать нас на родину, т.е. в Австрию. Мы газеты не получали, радио у нас не было, и мы не знали, что Австрия оккупирована гитлеровской Германией.
Несмотря на мои просьбы и уговоры, Вилля заполнил и сдал анкету. Ведь он все еще был австрийским подданным.
Когда меня арестовали 5 октября 1936 года в 2 часа утра и, после тщательного обыска, отправили в подвал энгельсского НКВД, я встретил наркома земледелия АССРНП Зуппеса. Он мне сказал, чтобы я ни на что не надеялся: – «Мы все пропали. Такая пошла компания».
В углу сидел колхозник и жаловался: – «Они говорят, что я троцкист, а я им говорю, что это неправда, я не троцкист; а баптист. Но они все свое, угрожают, не верят!».
В 6 часов утра меня ввели во двор. На балконе стоял следователь Руш, брат моей студентки-двоечницы Флоры Фандрай. Тупой хам. Это он меня арестовал, приставив к груди револьвер: «Руки вверх!» – С балкона он сделал жест рукой: убрать его!
На переправе меня повезли через Волгу в Саратов.
В следственной тюрьме открыли камеру № 98 на 4-м этаже. Навстречу мне шагнул с распростертыми руками чужой человек и, весь сияя от радости, крикнул:
– Да это же Брайнин! Здравствуй, дорогой!
Это был Эрвин Лянг, бывший австрийский военнопленный, который оказался камерным провокатором.
На койке лежал немецкий коммунист – политэмигрант по фамилии Беккер. Он позавчера повесился, его сняли еще живого, на шее был виден след.
Беккер сразу сказал мне, что его арестовали, потому что его жена понравилась кому-то из НКВД.
Мы были очень наивны. Мы не знали, что мы арестованы, потому что мы иностранные коммунисты.
После первых допросов мне стало ясно, что возврата на свободу нет. Если не расстреляют, так буду томиться в тюрьмах и лагерях много лет. Но самое страшное для меня было, что меня могут выслать за границу, где меня ждала гибель в фашистском концлагере.
Поэтому я уже в ноябре подал заявление с просьбой дать мне советское подданство.
Когда следствие уже было закончено, мне сообщили, что я «принят в советское гражданство 20 февраля 1937 года». Этой чести я удостоился, находясь в следственной тюрьме как контрреволюционер и враг народа!
Для меня этот день был праздником. Появилась надежда, что я останусь живым.
Мой брат Вилля оказался менее дальновидным. Он вообще, кроме математики ничем не занимался и был совершенно аполитичным человеком. Его сын Курт родился в июле 1936 года, ему было 3 месяца, когда Виллю посадили. И когда его жена Елена на последнем свидании с ним попрощалась и с сыном вернулась в Вену, он твердо решил любым путем тоже вернуться в Австрию и советское гражданство не принял.
Так мы попали вместе в Севураллаг – я советским подданным, а мой брат – австрийским.
И вот однажды осенью нас вечером позвал в контору начальник лагпункта Рагозин. Он сказал:
– Завтра утром вам придется расстаться навсегда. Вам, Вильгельм Львович, пришло освобождение: вас отправляют в Австрию.
Видя, что мой брат обрадовался, Рагозин добавил:
– А вы знаете, что Австрия уже оккупирована Гитлером?
Меня как громом ударило. Всю ночь я умолял Виллю не соглашаться на высылку и принять советское подданство. Но он стоял прямо на своем:
– Меня никто не тронет.
Не знали мы, что наши родители, жена Вилли Елена и трехлетний сын Курт в «Кристальную ночь» попали в тюрьму и чудом спаслись от отправки в Дахау. Их спас наш сосед Комарек. Затем они томились в южной Франции, а осенью 1939 года они уже находились в Буэнос-Айресе, где жила сестра отца тетя Меря.
После бессонной ночи я провожал брата на вахту. Рагозин освободил меня от работы, чтобы я мог попрощаться с братом. За ним приехал спецконвой на бричке. До последней минуты я умолял Виллю отказаться от выезда. Мы обнялись, и он уехал с конвоем. Здесь со мною случился приступ отчаянья. Я стал кричать и плакать. Услышав мой крик, конвоир повернул бричку и вернулся. Вилля подошел и стал меня успокаивать:
– Я ведь еду на свободу! Успокойся!
Наивный Вилля! 30 ноября 1941 года он погиб в Майданеке. Наш НКВД передал его фашистам. Сколько наши родители, с которыми ему удалось связаться, ни хлопотали, фашисты его не выпустили, и он умер страшной смертью.
* * *
4.7.1987
Я попытаюсь вспомнить, как проходил обычный рабочий день.
Утром в 5 часов раздался во дворе удар по рельсу, висящему на столбе, Дневальный (обычно обессиленный старик, по инвалидности освобожденный от обычных работ) закричал:
– Подъем!
Все наскоро поднялись, быстро обмотали портянки и надели лапти. (В каждом лагпункте был свой лаптеплет, которому завидовали люди с высшим образованием – профессора, инженеры, занятые на лесоповале). Затем умывались: зимой умывальники были в бараках, в теплое время – во дворе. Женщины умывались всегда в своем бараке. Потом (минут через 15) раздался крик:
– На проверку становись!
Все заключенные строились в два ряда во дворе. Охранники пошли сначала по баракам и считали больных, освобожденных от работы. С ними ходил «лекпом» (врач или фельдшер), чтобы под видом больных не остались «отказчики». Считали не построенных повара с помощником в столовой, а также женщин в женском бараке. Потом пошли охранники считать построенных во дворе. Если количество зеков сошлось, тогда нас распускали. А бывало, что у них не сходилось, тогда мы иногда в холод и ненастье стояли на ногах полчаса и больше. А как правило, в мороз или дождь нас считали не во дворе, а в бараках. Бывало в выходной день охрана давала нам выспаться и считала нас спящими.
После проверки отправлялись побригадно в столовую. Бригадир подходит к раздаче и следит, чтобы не затесался посторонний. У повара на раздаче был список: количество едоков по бригадам. Каждому давалось количество хлеба в зависимости от того, сколько он позавчера заработал, хлеб раздавал (не в столовой) хлеборез по списку, составленному в бухгалтерии. За 100% – I килограмм,
за 80% – 600 грамм, а до 50% – 300 грамм. В столовую мы уже приходили с «пайкой» и получали черпачок каши (без масла) в миску. Были счастливчики – владельцы котелка. Туда помещалось больше, чем в миску. Каждый имел свою деревянную ложку. Потерять ложку значило остаться голодным.
У меня уже на Верх-Шольчино оказался котелок, который меня провожал несколько лет. Он остался на койке умершего старика, и я его присвоил. Это была жалкая, черная, железная посудина, спасшая меня не один раз от голодной смерти…
После завтрака, обычно в 7 часов утра – развод. Бригады строились у вахты. Их пропускали по счету. Сплавщики, возчики, трелевщики сразу уходили на работу после предупреждения: «Шаг влево, шаг вправо считается побегом, и применяется оружие…» А лесорубы сначала за зоной подходят к инструменталке, где получают пилы (лучковки, поперечные, краскоты), топоры, клинья и т.д., а потом строятся и уходят под конвоем на свои делянки. Иногда приходилось идти по 10 километров до места работы.
У инструменталки стоял я и проверял инструмент, чтобы лесорубам не подсунули негодные пилы (изогнутые, с неправильным разводом зубьев), тупые топоры, лопнутые топорища и т.д. Этому меня тоже научил Вашаломидзе.
В лесу я ходил от звена к звену, советовал, как лучше разделать хлыст, чтобы из него получилось больше процентов. Но обычно рабочие уже сами разбирались, и я целый день сидел у костра, иногда со стрелками и курил самосад или махорку, купленные в ларьке. Работу кончали не раньше 7 вечера. Уже в 6 часов я ходил с линейкой и фанеркой, карандашом, клеймом и углем по звеньям.
Уголек я давал рабочему, он писал на торце бревна сорт и диаметр, например 26/П III – диаметр 26 сантиметров, пиловочник III сорта или – авиа I сорт. Линейка нужна была для измерения диаметра, но обычно я научился определять его на глазок. Стою на пне и оттуда диктую, что записать на торце. А на фанерке отмечаю у каждого рабочего, что он сделал, точками, и это по всем ассортиментам и диаметрам.
Придя «домой», помоем быстро руки, запачканные смолой, затем бежим быстро в столовую, где нам выдадут литр баланды, а стахановцам «премблюдо», т.е. немного каши. Иногда получали какую-нибудь треску или другую рыбку, очень редко плавал в супе кусочек мяса.
После ужина – опять проверка, особенно мучительная после тяжелого труда с голодным желудком.
Была в Верх-Шольчино гитара. Я собирал народ во дворе и пел блатные песни, например «Гоп со смыком», «На Исаевских горах, тумба-тумба, жил задроченный монах, тумба-тумба», «Когда в Астрахань приплыли, Умпарара, баржу лаптей загрузили, Умпарара…». «Из далекого Колымского края», «Не плачь, подруженька, ты девица гулящая, не мучь ты душеньку, объятую тоской! Ведь все равно наша жизнь с тобой пропащая, и тело женское проклятое судьбой!», «Не для меня цветут цветы…», «Мурка, моя Мурка…» и много других песен, которым меня научили блатари еще в тюрьме.
Никогда в австрийских агитбригадах у меня не было такой благодарной публики, как в лагерях в 1938-1946 г.г.
В 10 часов вечера был отбой. Люди спали, как убитые. Иногда приходили тайком женщины к самым сильным за удовлетворением своих потребностей, но большинству мужчин не до этого было.
Но прежде я сидел в конторе и составлял наряд на всю бригаду и на каждого в отдельности. Брал данные с фанеры. Уже по дороге из леса в лагерь подсчитывал все, ведь я знал кубатурник и все нормы наизусть. И надо было ухитриться так вывести итог, чтобы всем обеспечить «горбушку», т.е. кило хлеба. Немало я наврал несуществующего леса, что очень даже устраивало Ворошилова и Рагозина, которые за «перевыполнение плана» получали деньги. И я себя тоже не обижал. Однажды я в 1939 году получил 500 рублей премию! В то время большая сумма денег!
После составления наряда надо было взять острое стеклышко и очистить фанеру, чтобы завтра на ней продолжать работу.
Благодаря тому, что я очень быстро считаю, я быстро справлялся с работой. А были десятники, как Языков или Джапаридзе, которые сидели до полуночи, и у них концы с концами не сходились.
* * *
5.7.1987
Я не помню, сколько времени прошло после прощания с братом, когда меня однажды вечером Рагозин вызвал и сообщил, что завтра утром 120 человек во главе со мною как старшим десятником будут отправлены во вновь организуемый лагпункт Ивелья.
Утром всех (причем только мужчин) построили перед лагерем со всеми вещами, и мы пошли длинной колонной по таежной дороге. Сначала мы подошли к лагпункту Лозьва. Проходя мимо лагеря, я в последний раз в жизни увидел Виллю, моего дорогого младшего брата. Он с какими-то инвалидами копошился, кажется, с метлой или лопатой. Увидя меня, он бросился к нашей колонне, но конвой не разрешил ему подойти, а мне выйти. Так мне остались в памяти только его бушлат и шапка третьего срока и его печальная улыбка. Несколько шагов он шел рядом, а потом его прогнали.
Дорогу я не помню. У нас был сухой паек (кусок хлеба, оставшийся от завтрака и рыба). Ходили мы не больше 20-и километров, потому что в Ивелью мы пришли еще засветло. Там еще не было ограды и вышек, стояли только бараки, кухня со столовой, ларек, баня, туалет, инструменталка, а над частоколом еще работали строители. При подходе к лагерю нам шли навстречу немногие жители лагеря, строители, одна бригада бытовиков, обслуживающий персонал – и вдруг у меня на шее повисла Валя Иванова (Мэрион Флейтута), счастливая, что встретила родного человека.
Прибывших разместили в бараках, меня в небольшом бараке ИТР. Когда я занял свое место, я вышел к ожидающей меня Вале, чтобы узнать, как она живет. Валя жаловалась, что за каждое облегчение своего положения она должна расплачиваться своим телом, даже за освобождение от работы надо «лечь под гада лекпома» по фамилии, кажется Малышев или Маленьков. А теперь у нее есть постоянный друг, атаман уголовников Сафин, которого все боятся и который ее не даст в обиду.
Я помню удивительную душевную чистоту этой девочки. Никогда я от нее не слышал ни одного нецензурного слова. По-русски она говорила с каким-то акцентом, понимала по-польски и по-английски, так что я в правдивости ее рассказа о ее прошлом не сомневался.
В этот же вечер меня вызвал в контору начальник лагеря Пичугин, брат негодяя Пичугина, которого я два года спустя в тюрьму засадил. Но этот Пичугин был мягкотелый добряк. Он мне предложил должность мастера лесозаготовок. Это было очень заманчиво. Мастер должен был руководить всей лесозаготовкой, включая вывозку и сплав, и имел большие привилегии, был независим от конвоя, ходил по лесу один и выбирал делянки для заготовки определенных ассортиментов.
А я отказался от этой чести. Наконец мне подвернулась возможность отблагодарить Вашаломидзе за его благородную помощь, без которой мне бы никогда не оказаться в таком привилегированном положении. И я сказал начальнику:
– Я бы мог, конечно, работать мастером, но у нас есть один бригадир по фамилии Вашаломидзе, большой специалист по лесному делу, он лучше меня справится, я его вам рекомендую.
Так Акакий Константинович стал мастером лесозаготовок. Я сейчас же пошел к нему в барак и сообщил ему, что Пичугин его вызывает. Вскоре он вернулся и буркнул только одно слово:
– Спасибо.
* * *
На самом деле я был настоящим хозяином на Ивелье, так как Акакий все выполнял, что я хотел.
Одной из моих первых забот было устроить Валю.
Через два-три дня я познакомился с ее любовником Сафином. Этот молодой парень сидел за убийство и грабеж на большой дороге. Он был небольшого роста, казах, красивое монголоидное лицо, крепкого и при этом тонкого телосложения. Я его вызвал из барака уркачей, атаманом которых он считался, мы постояли во дворе и договорились. Я ему сказал:
– Сафин, ты живешь с Валей Ивановой. Она мне все равно, что дочь. Так вот, будь ее защитником, не давай ее в обиду, тогда и тебе будет хорошо. Я тебе буду выписывать не менее 300 процентов. Сам понимаешь, что это много денег по прогрессивке. Одну четвертую мне отдашь, остальное – твое.
В лесу я поставил Сафина отдельно, а Валю к нему приставил как помощницу для сжигания сучьев. Одновременно я поставил целую бригаду инвалидов, человек двадцать, валить лес, а выписывал им наряд на сжигание сучьев. Сучья еще сегодня гниют на Ивелье, а инвалиды всей бригадой выполняли 4 нормы с гаком. Все эти 400-450% я выписывал Сафину. Он получал баснословные деньги, и я тоже не оставался в обиде. Сафин регулярно со мной рассчитывался. И инвалиды получали горбушку. Валя была счастлива, и все были довольны.
На поверке Пичугин велел Сафину выйти из строя и хвалил его перед всем строем как стахановца. Если бы Пичугин не поленился заглянуть в лес, на делянку Сафина, он бы увидел, чем он там с Валей занимался …
* * *
Однажды вечером после работы к нам в ИТРовский барак зашел пожилой мужчина высокого роста, оборванный, истощенный (наверное в молодости красивым был с его черными глазами) и прямо с порога сказал:
– Товарищи, нет ли у вас лишнего куска хлеба? Я очень голоден.
Стахановская работа Сафина дала мне возможность покупать продукты в ларьке, и моя законная пайка хлеба оставалась иногда нетронутой. Я ему дал все свои запасы, и он здесь стал жадно есть.
Я узнал от него, что это был Евгений Степанович Вереш, венгерский коммунист-политэмигрант, в 1919 бежавший из Венгрии. Он жил в Куйбышеве с русской женой, когда его арестовали, даже не судили (в этом отношении мне повезло, меня судила «спецкомедия», т.е. спецколлегия Верховного суда), а через какой-то месяц сообщили ему, что какая-то «тройка» ему дала десять лет.
Поскольку я сам был политэмигрантом, я считал своей обязанностью помочь Верешу.
Мне трудно справиться с тремя бригадами плюс бригада инвалидов, хотя на приемке мне помогал Акакий, я пошел к Пичугину и предложил ему назначить Вереша десятником. У меня тогда был большой авторитет, и Пичугин дал с ходу согласие.
Итак, я Верешу оказал такую же помощь, как мне – Акакий. Я по вечерам объяснял ему пороки древесины и нормы по ГОСТу, ходил с ним принимать работу, и Вереш оказался интеллигентным учеником и вскоре стал работать самостоятельно.
* * *
6.7.1987
У Вереша осталась в Куйбышеве жена в трехкомнатной квартире. Летом 1940 года она ему написала, что прокурор с ней поменялся, и она переезжает в его однокомнатную квартиру. Вскоре Вереш был свободен.
* * *
Пичугин позвал меня и Акакия и сообщил нам, что нужно проложить лежневую дорогу от Ивельи через л/п Нижняя Лозьва и надо для этого прорубить просеку шириной в десять метров до самой Лозьвы реки, где будет находиться главное плотбище. Трассу наметит дорожный мастер из Верх-Лозьвы, откуда нам навстречу тоже будет рубить бригада. Руководство было возложено на меня.
На другое утро меня познакомили с дорожным мастером. Это была моя старая знакомая Сивицкая Полина Антоновна. Она повела меня с бригадой к началу рубки, где она уже воткнула в землю через каждые пять метров жерди, отмечавшие середину просеки.
Началась трудная работа. Деревья спиливались заподлицо с землей, никаких пней нельзя было оставить. Если попадались толстые деревья, которые невозможно было свалить без пня, тогда пришлось пень корчевать. Над такой корчевкой трудились иногда два человека целый день с топорами и рычагами. А поскольку норма была в три раза больше, так согласно моей «рапортичке» вся просека состояла из одних только пней диаметром до одного метра. Людям ведь есть надо было!
В один из этих напряженных дней появился у нас в лесу Ворошилов. Он меня встретил как старого знакомого и сообщил мне, что его назначили начальником лагпункта Верх-Лозьва.
– Хочешь ко мне перейти? – спросил он. – Ты мне нужен, ведь ты сообразительный мужик. Будешь у меня мастером.
Я, конечно, с радостью согласился.
Мы все больше сближались с лозьвийской бригадой. Когда осталось только два дня работы, Ворошилов опять явился.
– Я договорился с Буяком, что ты со своей бригадой перейдешь в Верхнюю Лозьву, как только мы закончим просеку. Только имей в виду, скажи своим людям, чтобы забрали весь инструмент, а Пичугину ни гу-гу! Понял?
Так и случилось, что Ворошилов обокрал Пичугина и оставил его без пил и топоров.
На второй день после нашего перехода к Ворошилову (я, между прочим, взял с собой и Вереша), пришел Пичугин расстроенный в Верхнюю Лозьву. Ворошилов позвал меня, новоиспеченного мастера, во двор, рядом стоял взволнованный Пичугин и спросил меня, где мы в лесу оставили инструмент. Что мы могли инструмент украсть по велению Ворошилова – до этого он не додумался, рядом стоял Ворошилов, как ни в чем не бывало.
– А мы инструмент в лесу не оставили, – врал я нахально. А ведь правда, что мы не оставили его!…
Так Пичугин и ушел ни с чем. Мне его было жаль, но против моего нового хозяина я не мог. Он бы мне этого не простил.
* * *
А теперь о Вашаломидзе. Перед уходом из Ивельи я с ним попрощался, и мы поменялись адресами наших родных. Я ему назвал венский адрес моих родителей, не зная, что они уже находились в Аргентине, а он мне назвал адрес своей жены, который я крепко зазубрил:
Вашаломидзе Евдокия Элисбаровна, Грузинская ССР, город Озургети, ул. Руставели, дом 7.
Начиная с 1946 года, когда я стал учителем в Нижнем Тагиле, я в течение 17 лет писал в Озургети, не получив никакого ответа. Наконец, в 1963 году, уже из Москвы, я написал запрос в горотдел милиции, живы ли Акакий Константинович и его жена Евдокия, так как они на мои письма не отвечают, из милиции получил ответ , что уже Акакия в живых нет, а его жена жива и здорова, и вообще город уже называется не Озургети, а Махарадзе.
Как я потом узнал, мои письма все были получены, но Евдокия (ее звали коротко Дуке) и ее дочь Кето, жена стоматолога-шкуродера и алкоголика Титэ Менабде, испугались моих писем и решили лучше прятать голову под крыло. Еще больше они растерялись, когда к ним пришли из милиции и спросили, почему они 17 лет не отвечали на мои письма.
Наконец, где-то в конце 1963 года я получил письмо от сына Акакия. Шалва Акакиевич 1918 г. р. был зам. министра мясной и молочной промышленности ГССР. Он жил в Тбилиси, ул. Гиго Габашвили, д. 4, кв.18. У него была жена Этери, дочь Русико 1955 г.р. и сын Акакий 1952 г.р.
О сыне и дочери мне рассказывал Акакий у костров в лесу.
Шалве было 18 лет, когда отца посадили. Он прощался с ним на станции Озургети, когда отца отправили из тюрьмы на север. Однажды Акакий получил письмо от дочери Кето. Он его молча читал у костра и утирал слезы.
Шалва в начале 1964 года приехал в Москву и зашел к нам на квартиру. От него я узнал тяжелую участь Акакия.
Однажды освободилась заключенная родом из Грузии, Акакий дал ей письмо для своей жены. Эта женщина появилась с письмом у Дуке и жила у нее две недели. Сосед, заметив чужого человека, заявил в НКВД. Здесь выяснилось, что она привезла письмо, минуя лагерную цензуру. Женщину арестовали, а Акакия сняли с мастеров и послали на общие работы. Когда кончился его срок в 1947 году, ему не разрешили вернуться домой, а сослали его вглубь Тюменской области, где он от голода и тяжелой работы совсем обессилел и ослеп. Он написал Дуке, чтобы ему срочно помогли с продуктами. Дуке продала полдома за 30 000 рублей, дала эти деньги и золотые червонцы родному брату Акакия, чтобы тот отправился в Тюменскую область. Брат уехал, но вскоре вернулся и сказал, что он опоздал: Акакий уже умер.
А деньги и золото этот брательник присвоил себе.
Я видел этого брата на вокзале в Махарадзе, хотел к нему подойти и высказать свое мнение, но Кето и Титэ испугались и удержали меня.
Шалва умер в Москве в 1978 году в Институте экспериментальной хирургии, где главным врачом был академик Перельман, старый знакомый моей жены Норы. Шалва умер от рака легких.
* * *
Верхняя Лозьва была крупным лагпунктом. На прямых работах было занято не менее 400 человек. В столовой работала Сима Романовна Зражевская, в бухгалтерии помню главбуха Бочоришвили и бухгалтера Думбадзе. Десятников было несколько, среди них СВЭл Карташов, прокурор Сванетии Джапаридзе, Вереш. «Воспитателем» был уголовник Шитиков, фельдшером – Рудаков Спиридон Ионович, которого все звали Аспирин Иодович. У него была пожилая медсестра Валентина Климовна, по прозвищу Валериана Клизмовна.
Меня назначили сперва мастером по заготовке спецлеса: авиа, палубника, понтона, судостроя. Я ходил без конвоя по тайге и топором делал затесы на деревьях, из которых можно было получить такую благородную древесину. На затесах я записывал, сколько метров надо срезать с комлевой части и какой ассортимент из этого получится.
Я получал не только кило хлеба и стахановский паек, но и для обеда что-нибудь, например, селедку.
У меня уже был так набит глаз, что я издали по хвое определял ширину заболонной части и годится ли ствол в авиа или палубник. За мною шли потом бригады и валили отобранные мною деревья.
Однажды летом я сел на какой-то бурелом, вытащил оставшийся от завтрака хлеб, развернул селедку и собирался обедать. Вдруг слышу шорох, вроде кто-то ломает сучья. Глянул – и в ужасе остолбенел: не более чем в 15 шагах от меня вышел из кустарника большой черный медведь, повернул голову в мою сторону и, заметив меня, остановился. Я слышал, что надо не шевелиться при встрече с медведем, ни в коем случае не бежать от него. С селедкой в правой руке я замер, как статуя. Если бы у меня было ружье, мне бы не сдобровать, как мне потом объяснили стрелки из местных жителей. Медведь, говорили они, летом не трогает невооруженного человека. Постояв, как мне казалось, целую вечность, а, может быть, полминуты, он что-то буркнул на своем медвежьем языке, повернулся и ушел.
При этом случае я расскажу еще об одной встрече с медведем. Это было в 1945 году в Корелино. Недалеко от села был в лесу большой малинник, все вокруг было красно от спелых ягод. Чтобы набрать ведро малины, не надо было далеко ходить. Итак, я стою и набираю в ведро ягоды. Вдруг слышу, что где-то рядом кто-то вроде сосет и чмокает. Я оглянулся и совсем рядом, шагов пять от меня стоит медведь, меньше того первого, тоже черный, и так увлекся малиной, что меня не заметил. Но когда я повернулся, он шарахнулся от меня, а я – от него. Так мы разбежались в разные стороны.
* * *
9.7.1987
Там, где я отобрал спецлес, работала сперва особая бригада, на которую можно было надеяться, что она не испортит ценную древесину. А затем пошли лесорубы на сплошной лесоповал. Мне этот вид лесозаготовок показался преднамеренным вредительством. Ведь там, где стояли красавицы, ровные, как свечи, высотой 18-22 метра, без сучка и задоринки, только на самом верху – макушка, – там после рубки и вывозки оставалась пустыня, где даже последний кустарник был уничтожен при трелевке леса. Я не мог понять, как это не жалеют русские люди свое богатство и обращаются с ним, как дикари во вражеской стране.
Зимой было легче работать, чем летом. Мороз был далеко не так страшен, как комары и мошкара. Мы иногда из леса возвращались – все лицо в крови. Кроме того, было пилить легче. Летом мешала смола, труднее было пилить. К концу лета 1940 года нам выдавали сетки против комаров, но от мошки они не помогали. Эта гадость лезет в любые щели, в глаза, в рот, в нос. При этом приходится работать, чтобы остаться в живых.
* * *
Зимой Ворошилов доверил мне руководство зимней сплоткой.
Именно доверил. Ведь от сплотки, от сдачи леса Тавдинскому леспромхозу зависела судьба не только Ворошилова, но и технорука Лебедева и даже моя. Что нарубили (т.е. на бумаге), что потом вывезли, сколько потом накатали на штабеля и оказалось на плотбище (все это – на бумаге), должно было быть сдано на сплаве леспромхозу. А без обмана, без мошенничества всю нашу туфту покрыть нельзя было.
Принимал у нас на Лозьве-реке приемщик Макаров с сыном.
Бедный Макаров! Он за эту приемку получил пять лет лишения свободы.
Мы сколачивали на берегу рамы. На основу (квадрат из четырех бревен длиною 6,5 метра) накатывали лес в несколько рядов и закрепляли его. Если в раме была лиственница, которая тяжелее сосны, тогда под нее, в основу, надо было еще подложить «подсов» из сосны. На каждой раме висела табличка сколько бревен какого диаметра лежит в подсове.
Макаров легковерно записывал этот подсунутый ему «подсов», а там ничего не было. И весною, когда лед тронулся и рамы поплыли, часть из них вообще утонула, а те, что доплыли до Тавды, оказались без подсова, т.е. в каждой из них не хватало до 6 фестметров древесины.
Когда Макаров принимал лес на складе, он для повышения качества велел много бревен отторцевать или откомлить. Таким образом, на плотбище валялись сотни отрезков длиной до полуметра.
Однажды в мае Ворошилов пришел на склад взбешенный:
– Ты как сдаешь лес? – кричал он на меня, пнул валяющийся отрезок сапогом и шепнул: – А это что такое? Почему это не сдаешь?
Я понял его сходу.
– Не волнуйтесь, – сказал я. – Будь сделано!
То есть на воде связывались двухрядные плитки. Я дал бригадирам указание, чтобы в плитках верхний ряд состоял из нормальных бревен, а в нижнем ряду, покрытом водой и верхними бревнами, крайние бревна были целыми, а между ними впереди привязывали отторцовки, а сзади откомлевки. Остальное был воздух. Плотка растянулась почти на километр. Пока Макаров шел в один конец, его за спиной обманывали зимой на рамах, а весной на плитках.
Весной все плоты двинулись к Тавде. Ворошилов и Макаров подписали акт. Ворошилов был мной доволен. Сплав покрыл все приписки…
* * *
Однажды летом на лежневке появился начальник отделения (теперь уже не Шабуровского, а Ликинского) старший лейтенант Буяк с техноруком Лебедевым. Лебедев что-то проверял на вывозке, а Буяк пошел со мной: он хотел видеть, как у нас заготавливается авиа 1 и 2 сорта.
На одной делянке мы присели на ветровал. Буяк не курил, но он имел с собой сигареты, чтобы угощать собеседников. Он мне предложил сигарету, даже спички (я имел кремень, сталь и веревку; так научился добывать огонь) и вдруг спросил:
– Слушайте, Вридол, мне известно, что вы даете высокое качество. Где ваше клеймо стоит, там не бывает пересортицы. Мне нравится ваша честная работа.
(Боже, если бы он знал, как мы с Ворошиловым «честно» работаем!).
– А скажите, за что вы здесь находитесь?
Я, покуривая, подумал, а потом осмелился спросить:
– А вы, гражданин начальник, за что здесь находитесь?
Буяк помолчал, потом встал и ушел. Он ведь тоже был своего рода ссыльным.
Я в 1946 году о ним встретился к Нижнем Тагиле, где он работал начальником Тагиллага. Мы с ним подружились, иногда у него дома встречались.
В 1948 году его дочь Ирина (ей тогда было 12 лет) прибежала в 7-ю школу, где я работал учителем, и сказала, что отец лежит в Свердловске в военном госпитале после операции почек и просит, чтобы я его посетил.
Я взял у директора школы командировку в Свердловск за наглядными пособиями и посетил Буяка в больнице. Привез ему передачу от родных. Он был явно тронут и сказал:
– Я думал, что мне пришел конец. Хотел вас еще раз видеть. Ведь я уверен, что вы ни в чем не провинились…
Он как будто извинялся, что держал меня в заключении.
В 1962 году я выступал в Нижнем Тагиле со своими произведениями. После моего выступления на инфаке пединститута, перед залом меня встретила студентка лет 22-х.
– Я Нина Буяк. Вам привет от папы, он просит, чтобы вы сейчас к нам пришли. (Нина родилась в 1940 г.).
Буяк меня встретил в парадной форме майора со всеми наградами на груди. Мы с ним провели очень приятный вечер – и здесь я ему рассказал обо всех проделках Ворошилова.
Мечеслав Петрович был в ужасе. Он ничего об этом не знал.
Его скоро разбил паралич. В 1974 году он умер. Семья мне прислала телеграмму о его смерти.
Вот какие бывали начальники лагерей. Они не были виноваты в нашем несчастье. Виноватые сидели в Кремле.
* * *
10.7.1987
С грузинским этапом прибыл к нам 18-летний русский парень Петя Бедусенко. Его отца расстреляли, мать посадили и заодно и его, только что окончившего десятилетку.
Это был не только умный, начитанный юноша, но не по своим годам взрослый, выдержанный, хорошо воспитанный молодой человек. Физически сильный, он отличался отличной работой, на лесоповале один лучковой пилой выполнял без приписок не менее 150%. С согласия Ворошилова я его назначил бригадиром и предоставил ему право самому, по собственному выбору, сколотить показательную бригаду, чтобы все видели, что можно было при хорошей организации труда выполнять норму.
Петя Бедусенко подобрал себе 10 человек работяг и с ними давал столько же, сколько другие бригады, состоящие из 25-30 лесорубов. Утром я сперва выходил с его бригадой в лес, а потом только отправлялся к другим. Когда мы приходили на делянку, мы с Петей брали краскот и свалили за час до 15 деревьев. Это была самая трудная работа, разделка и обрубка сучьев были гораздо легче и производились членами бригады. Так мы (оба ведь освобожденные от выполнения нормы) обеспечили бригаде успех.
Особенно я запомнил украинца Скрипника и башкира Яшина, двух напарников, вырабатывающих ежедневно по 2-2,5 нормы на каждого.
У Пети была удивительная выдержка. Он никогда не ругался, в лагере пользовался большим авторитетом, в бригаде его любили, как родного.
Осенью 1940 года он получил письмо от матери: ее освободили. Вскоре и Петю освободили. На прощанье он мне сообщил свой адрес: г. Батуми, ул. Карла Маркса, дом. 34.
Через 28 лет, в ноябре 1968 года, я жил в Батуми в гостинице «Интурист». Первым делом я разыскал улицу Карла Маркса и дом 34. Оказалось, что это была школа, А мать Пети жила во дворе в жалкой пристройке. Она была бывшей учительницей, пенсионеркой, очень запущенной рослой старухой лет 70. Жила она в одной единственной комнате, которая ей служила спальней, кухней и гостиной, и где был страшный беспорядок, все лежало навалом, грязь и пыль кругом.
Она 1 ноября послала письмо Пете, который работал физруком в училище Столярых в Одессе. Она ему сообщила обо мне.
Петя ей ответил, писал о том, о сем, но про меня ни слова.
Я к матери Пети приходил через день с подарками, с конфетами. Она была очень одинокой и радовалась каждому моему появлению. Я и сам написал Пете, но ответа не получил до конца ноября.
Потом я ему писал из Москвы. Молчание.
Я могу себе это только так объяснить: Петя вернулся из заключения, был полностью реабилитирован, но когда вступил в партию, скрыл этот эпизод из своей жизни. Поэтому он был ужасно перепуган, когда совершенно неожиданно появился свидетель тех лет.
* * *
Был на Верхней Лозьве доктор ветеринарных наук Вениамин Петрович Подкопаев. Он у нас работал ветфельдшером на конюшне.
Когда еще КВЖД не был передан Китаю, т.е. где-то в 1935 году, Подкопаев ехал из Иркутска во Владивосток через Манчжурию. По дороге он познакомился с «очень симпатичным» соседом по купе, который его пригласил прервать свое путешествие на 2 дня и погостить у него в Харбине.
Наивный Вениамин Петрович принял это приглашение, побывал у этого человека и опоздал на два дня во Владивосток. Его прижали допросами, где он был, у кого, а когда назвал фамилию гостеприимного господина, ему сказали, что это белогвардейский офицер, по которому давно виселица плачет.
Так эти приятные два дня превратились в 10 лет тюрьмы и лагеря.
Подкопаев очаровал меня своей образованностью и своим огромным кругозором. Мы по вечерам часто с ним беседовали. Он как-то смирился со своей судьбой, он знал, что ему в свои 55 лет отсюда живым не выйти, но не жаловался на свою участь.
Однажды я пришел к нему в отчаянии. Неужели, спрашивал я его, я так всю жизнь и буду ходить в лаптях и никогда больше не вернусь к научной работе? Жить не хочется!
– Что вы! – ответил Подкопаев. – Вы еще очень молоды (мне было 35 лет). Ваша 58-я статья еще будет служить Вам партбилетом!
В другой раз он мне говорил:
При вашем актерском даровании, вашем умении жить дружно с ворами и разбойниками, вы найдете место в нашем обществе…
– И еще:
– Надо уметь видеть не только наши невзгоды, но и сколько у нас счастья! Ведь нас не бьют, нас хоть плохо, но все-таки кормят, наше белье проходит через вошебойку, даже клопов в бараках уничтожили. В нашей жизни много положительного.
В один из вечеров я после работы, прежде чем войти в зону, зашел с Подкопаевым в конюшню.
Посреди конюшни на табурете стоял конюх Вагнер, ветврач с высшим образованием, и держал в руках веревку с петлей. Веревка была уже привязана к балке над ним.
Подкопаев удержал меня, готового бросится к самоубийце, остановился и спокойным голосом спросил:
– Вагнер, ты что – повеситься хочешь?
– Да! – ответил Вагнер в отчаянии.
– Так у тебя же ужин пропадет! – сказал Подкопаев тихо.
Вагнер подумал, слез с табуретки и пошел ужинать в столовую.
Этот эпизод характеризует всего Подкопаева. Такой был человек.
Он умер от истощения в 1942 году, как мне рассказали на Усть-Еве.
* * *
11.7.1987
В один весенний день я ходил по кварталу, где шла выборочная рубка (заготавливали только пиловочник 1 сорта и спецассортименты). При этом я забрел в дальний угол, где стоял в основном сухостой. А среди этого больного леса копошился какой-то замухрышка, худенький, оборванный, лет пятидесяти.
Он возился над странным сооружением из отрезков сухостоя разной длины и разложенных по длине на двух косо лежащих бревнах.
Я смотрел на эту заготовку с нескрываемым удивлением и спросил:
– Как фамилия?
– Погжебжинский Феликс Иосифович.
– Ты нормальный или, может быть, рехнулся?
– Нормальный.
– Но ведь это я принять не могу! Ты сколько получаешь хлеба?
– Маловато. Но я ведь музыкой занимаюсь.
Он взял мое клеймо и стал стучать по сухим бревнам, прыгая от одного к другому. Получилось «Чижик, пыжик, где ты был?»
Оказалось, что он здесь смастерил большой ксилофон.
Погжебжинский окончил Варшавскую консерваторию, но работал музыкальным клоуном.
Как он попал в Советский Союз, я не знаю, но его вскоре арестовали за польскую фамилию.
Ты можешь сделать скрипку? – спросил я наугад. Всю жизнь я мечтал научиться играть на скрипке, писать и читать ноты.
– Запросто, – ответил Погжебжинский.
С тех пор он у меня стал стахановцем. Я ему выписывал по 120%, а он делал скрипку. Он сам вытесал фанеру, отрезал хвост у кобылы для смычка. У воспитателя Шитикова были струны для домры, гитары и скрипки. Через месяц скрипка была готова.
Я брал Феликса с собой на должности маркировщика. Когда я принимал лес, он писал на торцах диаметр и сорт. Но это только вечером. А днем мы сидели у костра, и Феликс меня учил нотописи и игре на скрипке. Я у Погжебжинского прошел большую школу. В бухгалтерии я выклянчил бумагу, Феликс по вечерам сидел и графил ее. Уже осенью я писал под диктовку ноты: Феликс играл что-нибудь, а я должен был определить тональность и успеть записать мелодию.
У него был удивительный талант. Он играл на всем, что издавало звуки, например, на поперечной пиле, на комнате, где жили нарядчик и воспитатель. Сперва он обстукивал стены в разных местах, затем все предметы (бутылки, стаканы, ящики и т.д.), а потом играл на этой комнате какой-нибудь фокстрот.
Мы по вечерам давали концерты. Я играл на скрипке, Феликс на гитаре, кто-то на баяне, который тоже находился как «культинвентарь» у Шитикова. Однажды Ворошилов к нам подошел, постоял, послушал, а потом спросил Феликса, не сможет ли он играть на метле дневального. Феликс подумал и сказал:
– Завтра вечером дам концерт на метле дневального.
Это была сенсация. На другой день вечером масса народу после ужина собралась в столовой (она же была клубом), на сцену вышел Феликс с метлой и смычком. Как вошел смычком по палке, так раздался звук, как от трубы. Поиграл Феликс, потом покопался в метле и бросил ее в зал. Все бросились к ней, но ничего в ней не нашли.
А весь секрет состоял в том, что Феликс спрятал в метле микрофон от патефона и от него провел длинную струну по палке. После концерта он так это все ловко снял, что никто на расстоянии до сцены ничего не понял.
Благодаря Феликсу, я в самые тяжелые месяцы своей лагерной жизни не умер от голода. Скрипка меня кормила и спасала.
В конце 1940 года всех поляков освободили, в том числе и Погжебжинского. Больше я его не видел. Наверное, он попал в армию Андерса.
В 1946 году я получил за игру на скрипке 1-ю премию на лагерной олимпиаде в Сосьве: шерстяной отрез на костюм и… «Краткий курс истории ВКП(б)»! Книга еще сейчас у меня хранится как курьез.
В 70-е годы вышли три немецких песенника под моей редакцией.
В течение почти 30 лет я в редакции газеты «Нойес Лебен» был музыкальным редактором. Без моей подписи ни одна пьеса, ни одна песня не печаталась. Я сам сочинил несколько песен.
Многому меня научил Погжебжинский. Спасибо ему за это!
* * *
Был у нас татарин лет 28 по фамилии Мансуров – любовник Симы Романовны Зражевской. Ростом был он с баскетболиста, косая сажень в плечах, черноглазый красавец. Сидел он за бандитизм, за разбой на большой дороге. Хотя уркачи его боялись, он к ним не принадлежал. Это был «завязавший» преступник.
Я иногда встречал вечером у Симы Романовны на кухне Мансурова. Он перед ней заискивал, вел себя как послушный ребенок. А она в нем души не чаяла.
В один из вечеров Сима просила меня, чтобы я рассказал о своих странствиях по странам Западной Европы. Я стал рассказывать, а Мансуров слушал с большим интересом, Он все время спрашивал, где же находится Италия, Испания, Франция? Далеко ли это от Урала? От России? А Сима сказала, что надо знать географию, науку о разных странах.
Несколько раз Мансуров заходил ко мне ночью в барак, стал на корточки перед моей койкой и просил шепотом, чтобы других не разбудить:
– Пожалуйста, расскажи про географию.
Когда началась война, Мансуров попросился на фронт. Вскоре по всем лагпунктам было объявлено, что он за геройство был награжден высоким орденом. В начале 1942 года нам сообщили, что он погиб смертью храбрых.
Мне рассказали, что Сима за два дня стала седой.
* * *
Была солнечная июльская ночь. Я вышел из барака во двор по своей нужде и остановился зачарованный. За бараками, за оградой с охранниками на вышках стоял гордый таежный лес. Воздух был сказочно чистым и пропитан хвойным запахом. В заботах и работе мы и не замечали, какая красота нас окружает. Сюда бы только ездить для отдыха!
И при этом я думал о том, что мы ведь сюда пришли как убийцы и уничтожаем красоту.
В одну такую ночь меня разбудил Ворошилов и позвал во двор. Я выскочил в одних кальсонах, а он говорит шепотом:
– Нам повезло. Лес горит!
Я ничего не понял.
– Надо поднять людей, – сказал я в испуге.
– А я ведь говорю, что повезло! Ведь горит болото, где мы не рубим. Утром на разводе пошли туда (он назвал номер квартала) пока что бригаду инвалидов. Пусть не торопятся, а тушат так, чтобы огонь не перешел на нашу заготовку.
Потом добавил:
– Ведь на пожар мы спишем всю туфту!
Так и случилось. Был составлен акт о том, что сгорело столько-то тысяч фестметров заготовленной деловой древесины и т.д. Лесничий получил ящик водки и подписал.
* * *
12.7.1987
Полина Антоновна была отличным товарищем, но в своих отношениях с мужчинами совершенно беспринципна.
Некоторые мужчины рассказывали о своих кратковременных встречах с ней. Молодой немец Ляутеншлегер даже подробно мне рассказал, какие положения она предпочитает.
Она ходила по лесу без конвоя, ведь она прокладывала трассы для новых дорог и следила за состоянием старых. Я был отпущен без конвоя, когда отбирал спецлес на корню.
Был случай, когда мы вдвоем шли около 8-и километров, каждый по своему делу. Я ее спросил, правда ли, что о ней говорят. Она усмехнулась лукаво и сказала, что правда.
– Зачем мне терпеть муки, как, например, Лида Забахтарашвили? Кто знает, выйдем ли мы отсюда живыми, и я состарюсь, не отведав от сладостей жизни.
Она мне призналась, что не побрезговала отдать себя Ворошилову.
– Зато я хозяйка в лагере и добьюсь всего, чего хочу.
При этом она была надежным человеком. С ней можно было говорить откровенно, не боясь, что она выдаст.
Во время нашего совместного похода по тайге я ей высказал свое мнение, что, несмотря на договор Сталина с Гитлером о дружбе и ненападении, все равно в ближайшем будущем война с Германией неизбежна.
В 1942 году я встретился с ней на Усть-Еве. Она мне многое простила и сказала, что была ошарашена, как я оказался прав… Но об этом позже.
* * *
Прибыл небольшой этап из Лупты. С ним прибыли Наташа, Андрей Роледер и Кушнарева.
О Кушнаревой шли давно слухи. Она на Лупте фактически командовала лагпунктом, была любовницей не то командира охраны, не то начальника лагпункта. Она сидела за проституцию, И вот ее сослали сюда.
Мне ее показали во дворе. Это была девка небольшого роста, «фигуристая», темные волосы ниже плеча, лицо тупое, на мой вкус хамское, но напускала она на себя самоуверенную важность. Одета она была не в лагерном, а в черном сарафане над белой кофтой с кокетливым воротничком.
Непонятно, что в ней было такое, что она привлекала к себе начальство. Видимо, она знала такие половые фокусы, о которых местные таежные жители, которым свои скучные бабы надоели, понятия не имели.
От Полины я вскоре узнал, что Ворошилов клюнул на Кушнареву и Полине дал отставку. Он ставил Кушнареву на какую-то вымышленную работу отдельно в лесу.
– Надо бы их поймать с поличным, – мечтала Полина.
* * *
Среди бригадиров был Серафимович (но не тот убийца) и Лазарь Ефимович Жемчужин. Оба евреи из Москвы, оба окончили красную профессуру и имели 25 лет. Они руководили бригадами интеллигентов, осужденных по 58-й статье.
Ко мне они относились с презрением, ведь в лагере мало кто знал, что у меня высшее образование и что я даже имел степень доктора. Я это тщательно скрывал, чтобы остаться в живых.
Однажды Жемчужина позвали на вахту, чтобы получить очередную богатую посылку из Москвы. Только он успел выйти с большим ящиком во двор, как его обступили уркачи и тихо, без лишнего шума отобрали у него ящик. Это было вечером, начальства в лагере не было, а вахтеры не имели права покидать вахту. Так что жаловаться было некому, тем более, что даже вольнонаемные боялись связываться с уголовниками.
Ночью меня кто-то из бригады Гарцева разбудил и мне что-то сунул. Это были вещи из посылки Жемчужина, которые не нужны были грабителям: тетради, карандаши, какие-то шмотки. Это вроде была «моя доля»!
Утром перед подъемом я это передал Жемчужину и просил, чтобы он никому об этом не рассказал, а то мне не поздоровится.
Через полгода Жемчужин и Серафимович были освобождены. О судьбе последнего мне ничего не известно. А с Жемчужиным мы встретились почти через 40 лет.
В Центральном доме литераторов был назначен мой творческий вечер под названием «Нужна ли рифма?». Когда я пришел, уже кое-кто в 8-ой комнате (над рестораном) собрался. Я поздоровался с Элпериным, Ангаровой и другими переводчиками, а здесь стоял благообразный старик высокого роста, худощавый, и опросил меня: «Вы Борис Львович?» – Я подтвердил. Тогда он обратился к присутствующим:
– Знаете ли вы, что Борис Львович был в молодости грозой уркачей, которые его не только уважали, но и побаивались?
Это был Жемчужин, доктор философских наук, заведующий кафедрой марксизма-ленинизма Академии имени Жуковского, учитель всех наших космонавтов, начиная с Гагарина. Во время войны он был начполитом не то дивизии, не то корпуса.
С тех пор мы поздравляли друг друга со всеми праздниками, но больше не встречались. В Москве это очень сложно. В Вене мы ходили к нашим друзьям и знакомым запросто. Посидели, поговорили и ушли. А в Москве считается обязательным в гостях пожрать и выпить или хотя бы чайку попить с закуской. А поскольку это связано со сложностями, так люди живут довольно обособленно. Я до сих пор не могу привыкнуть к этому, и поэтому я стал непривычно одиноким.
Вскоре после того, как ограбили Жемчужина, я получил из Одессы посылку от тети Серафимы, сестры моей матери. В ней были сухари, всякие мелочи, кусок сала и много махорки. Я унес посылку на хранение в бригаду Мансурова. Она там стояла долго открыто, и никто даже на закрутку не взял махорки.
* * *
13.7.1987
Ранней осенью был ночью ограблен ларек. Сорвали замок и все съедобное унесли.
Для формы охрана произвела обыск. Всем было ясно, что это было дело рук бригады Гарцева. Но даже охрана боялась связываться с этими головорезами. Все они могли в отместку проиграть кого-нибудь в карты и убить, не жалея собственной жизни.
При дележе (ночью все съели) остался кусок колбасы сантиметров тридцать в длину, который на 40 человек разделить нельзя было.
Тогда Гарцев объявил по всем баракам, что завтра вечером во дворе состоится конкурс на самую интересную новую ругань. Кто выиграет конкурс, получит кусок краковской колбасы. Это была идея заместителя Гарцева, долговязого парня лет 25 по кличке «Москва». Если бы он не стал уголовником, из него мог получиться творческий человек – поэт, актер, композитор. Он сам сочинял остроумные частушки и песни, иногда пел с Погжебжинским и со мною, т.е. под наш аккомпанемент.
Я всю ночь не спал, ломал себе голову, что бы такое вычурное придумать, чтобы выиграть колбасу.
На другой день весь лагерь был взбудоражен. Вечером собралась огромная толпа во дворе вместе с Ворошиловым, техноруком Лебедевым и несколькими свободными от дежурства охранниками. В середине двора стоял столб, на котором висел рельс, по которому били подъем и отбой. А рядом с ним висела заветная колбаса. Перед, столбом стояли стол и скамейка, где сидело жюри, состоявшее из Гарцева, Москвы и атаманши проституток Риммы Кириченко, рослой, крепкой девки лет 22, каким-то образом сохранивший девичью свежесть лица и всегда улыбчивой и веселой.
Когда жюри заняло свое место, воцарилась тишина. Москва ударил по рельсу. Конкурс начался.
– Кто просит слова? – крикнул Гарцев.
Один за другим выступали со своими предложениями, но они пожинали только насмешки.
Москва отмахивался презрительно. Наконец я поднял руку:
– Можно мне?
– Фраера не допускаются! – отрезал Ганцев.
Уркачи в первых рядах возмутились:
– Какой такой фрайер? Это же свой человек! – раздавались возгласы. – Пусть говорит!
Жюри удалилось на совещание. Колбаса осталась висеть без надзора, но никто до нее не дотронулся.
Через несколько минут они вернулись и заявили, что Вридол допускается к конкурсу.
– Так что у тебя? – спросил Москва.
Тогда я выпалил:
– Я в твоих мозгах х… полоскал!
Единогласно под бурные аплодисменты мне была присуждена колбаса.
После этого ларек был отменен. И деньги мы больше на руки не получали. Заработанные деньги зачислялись на личный счет заключенного. Когда меня освободили, мне выдали 3000 рублей, но на эти деньги я тогда мог купить только пять буханок черного хлеба.
* * *
С Наталией Ивановной Зиннер я познакомился в Энгельсской тюрьме, когда мы еще свободно передвигались по всей территории, работали в мастерских (я красил масляной красной железные койки) и только вечером заходил в камеры, чтобы поспать. Она попала в тюрьму в октябре 1937 года, за две недели перед тем, как наша условная свобода кончилась, и мы были заперты в камерах.
Наташа бросилась мне в глаза тем, что она ходила в военных галифе, окантованных красным. Она была среднего роста, худенькая, но крепкая, волосы густые, русые, коротко остриженные, губы тонкие, энергичные, тонкий нос, глаза серо-голубые, глядящие пронзительно, не мигая. Ей было 28 лет, т.е. она была 1909 года рождения. В 1931 году она была командиром в ЧОНовских отрядах по борьбе с бандитизмом («Части особого назначения») и в последнее время работала в войсках НКВД. У нее был срок всего три года. Какой-то дядя в Америке завещал ей сто тысяч долларов. Ее вызвало начальство и потребовало, чтобы она отдала эти деньги, а она отказалась. Тогда ее арестовали, судили по 58 статье и конфисковали все имущество.
Это она мне в тюрьме рассказала. Может быть она шутила, я ее никогда больше не спрашивал, и она на эту тему не хотела говорить.
Мы за эти две недели очень привязались друг к другу. В течение пяти месяцев до нашей отправки в Севураллаг мы обменялись записками, которые разносил по тюрьме девятилетний Володя Вазенмюллер, по прозвищу «почтальон». Может быть, я успею рассказать о трагедии этой семьи, но сейчас – о Наташе.
Так вот, с этапом из Лупты прибыла Наташа, и Андрей Роледер, которого сразу назначили комендантом нашего лагпункта, а Наташа прибыла десятником вместе с бригадой уркачей, которой она командовала.
Встреча наша была волнующей. Наташа буквально дрожала от радости. Мы сели на скамейку перед моим бараком и торопились рассказать друг другу, что с нами произошло за эти три года. Наташа должна была освободиться в октябре, т.е. через полгода.
Она мне сразу призналась, что она на Лупте дружила о Андреем Роледером «от скуки», но меня не забыла, и сейчас ему даст «развод». Это случилось здесь же, при мне. Роледер, как новоиспеченный комендант, занял отдельную комнатку. Мы у него втроем посидели, и Наташа при мне ему заявила, что она меня давно любит и между ними все кончено.
Андрюша был очень милый парень, как потом оказалось, добрый честный товарищ. Он сообщение Наташи принял с нескрываемой печалью, но смирился со своей «отставкой».
Если эти записки когда-нибудь кто-то будет читать, так этот эпизод покажется просто диким. Но ведь в лагере отношения были упрощенными, некогда было сентиментальничать.
Мы с Наташей встречались каждый вечер. Она мне стала близким человеком, с которым я мог поделиться всеми своими радостями и огорчениями. Но все это на глазах у всего народа, ведь негде нам было уединиться. Вскоре весь лагерь увидел нашу дружбу, тем более что я до тех пор избегал всякой связи с женщинами, считая, что я не имею права злоупотреблять своим положением руководителя всего лесного производства, где женщины наравне с мужчинами тоже работали в тайге, и их «горбушка» зачастую от меня зависима.
В один летний день я работал с бригадой уголовников вдоль лежневой дороги. Меня позвал охранник Арзамаскин. Он сказал мне, что за полкилометра отсюда, на параллельной лежневке работает Наташа со своими уркачами, и он, Арзамаскин, договорился с ее охранником, что ровно в 12 часов дня они отпустят нас на один час, чтобы мы могли встретиться в лесу наедине.
Случилось невероятное! Эти два парня рисковали попасть в тюрьму. Что ими двигало, я до сих пор понять не могу. Возможно, что они ко мне по-особому относились, потому что я с Феликсом давал часто концерты, где и охрана без оружия присутствовала, и эти молодые люди поэтому ко мне хорошо относились.
Я пошел с делянки в тайгу, еще не тронутую. Был теплый, солнечный день. Я кричал «ау!» и через 10 минут услышал голос Наташи: «Ау!».
Всегда строгая, выдержанная Наташа оказалась страстной, нежной женщиной.
Это была наша свадьба.
Когда я вернулся, в бригаде царила тишина. Никто не работал. Вся бригада была «на вассере», охраняла нас. Если бы показался командир или Ворошилов, раздался бы свист по тайге. Я подошел к Арзамаскину и поблагодарил его.
– Порядок, – оказал он.
* * *
14.7.1987
Еще две встречи мне запомнились.
Мы рано утром шли по просеке на лесоповал: впереди бригада уркачей с Наташей и конвоиром, а позади нее шла моя бригада с таким же контингентом (бригадиром был Гриша Новиков, статья 59, п.3, бандитизм), я – десятник, а конвоир – тот же Арзамаскин. Вдруг передняя бригада остановилась, за ней стали мы, и я вижу с удивлением, что Наташа отделилась от бригады и идет поперек просеки в лес. Арзамаскин мне говорит:
– Я договорился со стрелком … (я забыл его фамилию) – мы вас отпускаем на полчаса. Иди, мы вас подождем.
Итак, я тоже на глазах у всех пошел за Наташей.
Когда мы вернулись, ребята поднялись и пошли дальше. Я удивился тактичности этих суровых, видавших виды воров, бродяг и разбойников. Все молчали, никто не осмелился в наш адрес сделать какое-нибудь замечание или «пошутить». Никто не подвел охранников.
В другой раз я вечером в зоне договорился с заведующим сушилкой, немецким сектантом-баптистом. Перед сушилкой была маленькая камера, где жил этот старый инвалид, и он нас пустил в самое пекло, где стояла вонь от висящих портянок, чуней и валенок. Там на топчане в дальнем углу в духоте и жаре мы встретились с Наташей.
Знали об этой встрече Гарцев и человек 10 из его бригады. Они нас охраняли. При малейшей опасности нас бы предупредили.
* * *
Мы бросались в глаза. Мы вечерами были вместе. Другие встречались один раз только для удовлетворения своих потребностей. А мы были постоянной парой. Хотя доказать нельзя было, что между нами были близкие отношения, но было совершенно очевидно, что мы друг друга любили. К нам в лесу неоднократно нагрянули патрули во главе с командиром охраны и проверяли, находимся ли мы на месте.
Однажды Ворошилов вызвал меня в контору и предупредил, чтобы я прекратил связь с Наташей:
– Чтоб я вас больше не видел вместе! – сказал ей.
– Это невозможно, – ответил я. – Мы любим друг друга, и вообще у нее ведь скоро срок кончится.
В первых числах сентября был развод в проливной дождь. Бригада Наташи работала в болотистом месте. А у Наташи в тот день началась менструация.
Лекпом был уже не Рудаков, а некий Малофеев, врач по профессии. Наташа к нему пошла за освобождением, а он ей отказал. Это было неслыханно. Женщин в этом случае всегда освобождали.
Пришлось Наташе выйти в ненастье, в сырость и холод. Вернулась она вечером с высокой температурой и сильной болью в придатках.
Я вошел к Малофееву и спросил его, почему он не освободил Наташу. Он ответил, что Ворошилов ему приказал ни при каких обстоятельствах Наташу не освобождать.
Наташа слегла и больше не встала. От боли она кричала день и ночь.
Я обратился к Ворошилову с просьбой, чтобы ее отправили в центральную больницу, которая сейчас находилась в Ликино.
– Ничего с ней не будет, – сказал Ворошилов. – Больше притворяется, чем болеет.
Андрей Роледер пошел со мною к Малафееву. Он имел право отправлять тяжело больных в Ликино.
– У нее загноение матки, – сказал Малофеев, – но отправить не могу. Ворошилов мне это не простит и отправит меня на лесозаготовку.
Два месяца лежала Наташа в женском бараке, вся покрытая потом, исхудавшая, измученная, с кровотечением.
Однажды вечером ко мне подошел воспитатель Шитиков и высказал свое возмущение бесчеловечностью Ворошилова:
– По нем давно тюрьма плачет. Государство обманывает приписками, получает незаконные премии, да морально разложенный тип. Ведь мне известно, что он держит в своих любовницах Кушнареву и Сивицкую. Я не очень грамотный, ты бы лучше написал все это Буяку. А я бываю там в отделении в КВЧ и передам твое заявление лично Буяку.
Я поверил Шитикову, написал подробное заявление и на имя начальника отделения Буяка и передал его Шитикову.
На другой день, когда я в конторе вечером составлял наряд, Ворошилов позвал меня в свой кабинет.
Он был очень взволнован, старался со мною говорить ласково.
– Я тебя чем-то обидел? – спросил он.
– Да, – ответил я. – По вашей вине погибает Наташа.
– Неужели из-за какой-то поганой бабы мы с тобой поссоримся? Что же ты такие гадости на меня сочинил?
Оказалось, что негодяй Шитиков меня преднамеренно провоцировал и мое заявление передал Ворошилову.
– Хотите, чтобы я молчал, тогда отправьте Наташу к профессору Гнучеву в больницу.
На другой день после этого разговора, когда я вечером вернулся из леса, Наташи в лагере уже не было. Ее отправили в Ликино. Она ходить не могла. Ее вынесли и посадили в бричку. Кто днем в лагере был, рассказал мне, что она истошным голосом меня звала по имени.
Зайду вперед. Я получил от Наташи два письма. Первое получил, находясь в Ликино. Она писала из Серова, что она освободилась и кое-как добралась до Серова, где ее поместили в больницу и удалили ей матку. Второе письмо я получил в Усть-Еве. Она сообщала, что находится у своей сестры Розы Клейман в Ростове-на-Дону. Весною 1942 года Роза Клейман мне сообщила, что Наташа умерла от рака матки и похоронена где-то в эвакуации.
* * *
Через двадцать лет, когда я жил в Томске, был членом Союза писателей и печатался под псевдонимом Зепп Остеррайхер, мне позвонил из Москвы редактор журнала «Советлитератур» Эмиль Гофмайер («Пауль») и сообщил мне, что поступило письмо Франца Лешнитцера из Берлина, в котором он подвергает мои переводы поэзии уничтожающей критике.
– Хочешь, я тебе пошлю его письмо, чтобы ты мог ему ответить.
– Не надо, – сказал я. – Просто напечатай мои следующие переводы под псевдонимом «Наталия Зиннер!»
– Не пойму, – удивился Пауль. – Какой смысл?
– Увидишь! – отвечал я.
Это было где-то в начале 1960 года. Через два-три месяца опять звонит Пауль:
– Лешнитцер пишет, что мы, наконец, нашли превосходного переводчика. Никакого сравнения с Зеппом Эстеррайхером!
С тех пор прошло 27 лет. Под псевдонимом Наталия Зиннер опубликованы сотни стихотворений, в том числе 120 советских песен.
Так я Наташе поставил скромный памятник.
В 1964 году я был в Берлине. В Доме Дружбы состоялся мой творческий вечер. Среди слушателей находился и Франц Лешнитцер.
Вдруг, когда я прочитал стихотворение Новеллы Матвеевой «Кувшинка», Лешнитцер крикнул из публики:
– Стой! Это ведь не твой перевод! Это работа Наталии Зиннер!
Тогда я всему честному народу рассказал, как Лешнитцер уничтожил Эстеррайхера и хвалил Зиннер. Люди дружно хохотали, а Лешнитцер сидел красный, как рак в кипятке.
* * *
15.7.1987
После отправки Натальи в Ликино в лагере появился некий Тихонов в качестве прораба. Ему подчинялось все, не только лесозаготовки, но и строительства, мастерские и т.д. Я был освобожден от работы мастера и переведен в простые десятники.
Тихонов был человеком дет 50-и, широкоплечий, а лицо мне напоминало бульдога, причем цепную собаку, перед хозяином виляющую не только хвостом, но и глазами, ушами, всем выражением лица, при этом готовую разорвать всех остальных.
Тихонов фактически заменил заместителя Ворошилова по производству – Лебедева, который исчез и с которым я потом встретился на Тальме.
Здесь в моей памяти большая дыра. Я не помню, сколько времени я так оставался в Верх-Лозьве. Я помню только, как я в моем зимнем пальто (его сшили в 1933 году в Вене, оно мне служило матрацем и одеялам, но на работу я его не носил), в зимнюю стужу под конвоем подхожу в Ликино, а мне навстречу, тоже под конвоем, идет Валя Иванова (Мэрион Флейтута). Мы обнялись, она меня узнала, только говорить не могла, кричала: «А-а-а-а-а!…». Я до сих пор не могу себе простить, что я не заглянул ей в рот. Создавалось впечатление, что ей удалили язык. Ведь Валя была безграмотной, она знала только некоторые латинские буквы и умела написать свое имя «Marion». Сна свою страшную историю написать не могла, только рассказать…
Что я делал в Ликино и сколько я там находился, я не помню. Знаю только, что я внезапно туда был отправлен из Верх-Лозьвы. Я помню, как в лагере появился Буяк в окружении подчиненных, и я к нему бросился:
– Гражданин начальник, дайте мне работу по специальности (т.е. лесозаготовителя, а не языковеда!). Я здесь оказался не у дел.
Потом помню, как я стоял в поле и что-то делал у станка. Много народу стояло там на расстоянии 3-4 метра друг от друга и делали то же самое. А что? Не помню. И вдруг появился Буяк с Ворошиловым, и они проходили по рядам. А Ворошилов подошел ко мне и сказал:
– Ну как живешь?
– Неважно.
– Так зачем тебе надо было на меня капать? Пеняй на себя!
Приблизился Буяк, и Ворошилов замолчал и пошел дальше.
Уже весной после ледохода меня вызвали на вахту. За вахтой меня ждал конвоир и с ним – Бочоришвили и Шитиков!
Нас повели к Лозьве-реке и посадили в лодку. Не помню, кто греб, а, может быть, это была моторная лодка.
В лодке я сказал Шитикову:
– Не стыдно тебе? Ты же меня подвел, как настоящий лягавый!
– Давай будем друзьями, – сказал Шитиков. – Я больше не буду. Если мы с тобой будем союзниками, нам никто не страшен.
Я согласился на словах, а в душе остался с ножом за пазухой. Через год Шитиков погиб не без моей помощи.
Ворошилов отправил его из своего лагеря, потому что он, в связи с моим злополучным заявлением узнал слишком много. Главбух Бочоришвили также был для него опасен.
Конвой сообщил нам, что мы отправляемся на Тальму по спецнаряду: Бочоришвили – старшим бухгалтером, Шитиков – комендантом, а я – экономистом.
Это мне Буяк устроил.
До Тальмы было далеко. Мы зашли в лагпункт «Набережная» на ночевку. У Бочоришвили была там знакомая Барико Корселадзе. Мы сидели с ней и с ее подругами Ганной Райзер и Эрной Кромер (обе из немецкого села Люксембург) до позднего вечера в женском бараке или столовой. Так я познакомился с Ганной и рассказал ей историю с фотографией ее сестры.
Эта троица была всегда вместе. Казались неразлучными подругами. Эрна была чахоточной, и Ганна трогательно заботилась о своей односельчанке. 35 лет спустя я нашел Ганну Райзер в Алма-Атинской области, селе Петровка, ул. Алма-Атинская, 161. Она мне прислала в редакцию «Нойес Лебен» взволнованное письмо: Барико освободилась и вернулась в Грузию, но больше никогда не писала Ганне.
Ничего удивительного нет. Если бы она осмелилась писать Ганне в Севураллаг, ее бы вновь посадили за «связь с врагами народа». А, возможно, ее в Грузии заново отправили в тюрьму только за то, что она сидела. Сталинские порядки! А Эрна умерла от чахотки в 1947 году на Верхней Лозьве, непосредственно перед освобождением.
Этого мы не знали, когда весной 1941 года вместе сидели при свете коптилки и пили чай без сахара.
Утром за нами пришел конвой, и мы пошли на Тальму.
* * *
Про Тальму дошли до меня нехорошие слухи. Говорили, кто попадает на Тальму, больше оттуда не вернется.
Нам дали отдохнуть, поместили нас в общем бараке. Не было на Тальме ИТРовского барака.
Утром после развода нас повел в контору начальник лагпункта Пичугин. Это был брат того Пичугина, у которого Ворошилов украл весь инструмент. Но в отличие от того, этот Пичугин произвел сразу плохое впечатление. Он был маленького роста с каким-то треугольным лицом, с бегающими глазками идиота-психопата, всегда со слишком большой военной фуражкой на слишком маленькой голове, Говорил он с нами всегда в повышенном тоне. К «политическим» он относился с нескрываемым презрением, каждого подозревал в намерении совершить какую-нибудь контрреволюцию.
Контора состояла из двух помещений: бухгалтерии и кабинета начальника. Домик стоял отдельно у самой ограды под вышкой со стрелком. В конторе был только нормировщик – молодой, низкого роста бурят по фамилии Булатов – и бухгалтер продстола – киевский архиерей Сухенко Евгений Александрович, высокообразованный человек, знающий латинский, древнегреческий, древнееврейский, немецкий, французский и древнеславянский языки. Бочоришвили занялся организацией бухгалтерского учета, счетовода не было, так что он и за него должен был вести картотеки, расчеты и вещевой стол. Я был экономистом и плановиком в одном лице.
Шитиков сначала старался со мною помириться. Пользуясь своим положением коменданта, он дал указание повару, чтобы тот меня кормил дополнительно. Все-таки совесть его мучила.
Встретил я там старого знакомого – Евдокимова, бывшего атамана штрафников из Верх-Шольчино. Он был бригадиром особой бригады, состоявшей из отпетых уголовников. Знаком мне был и технорук Лебедев, от которого избавился Ворошилов, потому, что Лебедев, отец нескольких детей, не хотел больше быть причастным к мошенническим проделкам Ворошилова. Но он на Тальме попал из огня да в полымя.
Вечером я пошел ужинать в столовую, когда бригада Евдокимова получила ужин, я стоял у раздачи, а рядом стоял заместитель Евдокимова, отсчитывая количество мисок с кашей. Вдруг я почувствовал, что этот парень лезет мне в карман. Зная, что у меня в кармане ничего нет, я залез ему в карман фуфайки и – вытащил красную тридцатку! Все сидящие за столом и стоящие в очереди это заметили и высоко оценили мое профессиональное искусство. Воцарилась тишина.
Я спросил этого парня:
– Ты что у меня надыбал?
– Чего?
– Ведь ничего, а?
– Чего пристал?
– А я у тебя тридцатку нашел. На, возьми и больше ко мне не лезь.
В столовой раздался громкий смех. Больше всех хохотал Евдокимов.
– Вот так Вридол! – кричал он.
Я тогда не знал, что этот номер мне спасет жизнь, когда она окажется на волоске.
* * *
16.7.1987
Каждый вечер я составлял из поступивших нарядов сводную ведомость или «шахматку». На Тальме с выполнением плана дело обстояло плохо, т.е. план не выполнялся. Единственная бригада Медведева зарабатывала «горбушку», остальные сидели на голодном пайке. А мне надо было ежедневно с 9-и вечера передать по телефону в отделение выполнение плана по ассортиментам.
В первые дни я передавал сведения согласно документам. Но Пичугину это не нравилось. Он приходил в контору, стоял над моей душой и диктовал мне цифры, взятые с потолка. Пришлось соответственно переделать и «шахматку». На Верх-Лозьве я врал под руководством Ворошилова в нарядах, потом на вывозке, на скатке, и, в конце концов, все покрывал сплав. А здесь дело было гораздо опаснее, так как мои сведения не совпадали с документацией и при первой ревизии меня бы обвинили в жульничестве, а я ничем не мог доказать, что эти липовые данные мне диктовал Пичугин.
Так я и работал все лето до осени. Пичугин получил при мне две квартальные премии за перевыполнение плана.
* * *
Тальма находилась, как немцы говорят, на заднице вселенной. Это был лагпункт на краю отделения, куда начальство из Ликино никогда не забредало. Этим пользовался Пичугин, садист и самодур.
Он каждое утро стоял на разводе со своим новым любимчиком, комендантом Шитиковым. Этот мой старый знакомый, молодой человек высокого роста с круглым женственным лицом, бывший аферист, умел ловко пользоваться слабостями нужных людей. Он очень быстро раскусил подозрительность Пичугина и науськивал его на определенных заключенных, осужденных по 58-ой статье. Вот они стояли на разводе, Шитиков что-то шепнул Пичугину, и тот указал на одного из построенных зеков и кричит визгливым голосом:
– Этого к Евдокимову!
Это было равносильно смертному приговору. Евдокимов должен был этому обреченному создать такие условия, чтобы он не выполнял нормы, получал по 300 грамм и постепенно так ослабел, что не мог бы идти с бригадой домой. Тогда ему, отстающему от бригады, приписывали «попытку к побегу». Если стрелок в него не стрелял, тогда Евдокимов его пришибал дрыном.
Так случилось со стариком Думбадзе. Однажды на проверке Пичугин крикнул:
– Думбадзе! Два шага вперед!
Думбадзе, который плохо слышал и по-русски с трудом изъяснялся, обратился к соседу и спросил по-грузински, что Пичугин хочет.
Тогда нарядчик, из уголовников, схватил его за грудки и вытащил его из строя, обругав его по национальности.
Этого ему Думбадзе простить не мог. Он развернулся и ударил нарядчика кулаком в лицо.
Пичугин был взбешен. Он велел ему выйти из строя, потому что старик (ему было за 60 лет) не выполнял норму. А теперь он крикнул:
– В бригаду Евдокимова!
С этого дня ему выписывали меньше 50%. Таким образом, Думбадзе получал только 300 грамм хлеба в сутки. Через несколько дней он ходить не мог, а через неделю его притащили окровавленным. Ночью он умер.
Мне запомнилась судьба одного мусульманского священника, который окончил в Париже Сорбоннский университет. Он работал на лесоповале. Он вставал раньше всех, накрывал голову тюбетейкой, вставал на колени лицом к Востоку и громко молился. В бараке к нему относились сочувственно. Но однажды утром зашел Шитиков и увидел эту молитву. Очевидно, он об этом доложил Пичугину, который на разводе этого муллу определил в бригаду Евдокимова.
Потом я узнал, что с ним произошло.
На лесоповале в Тальме было принято, что перед началом работы бригадир (на этот раз Евдокимов) затесами на деревьях определяли границы, за которые лесорубам было запрещено выходить. Это считалось попыткой к бегству. Так он и сделал в этот день. Муллу поставили у самого затеса, так что сваленное дерево должно было упасть за пределы бригады. Мулла старался валить деревья так, чтобы вершины падали внутри делянки, но одно дерево упало все-таки за затес. Мулла подошел к стрелку и попросил разрешения выйти за затес для обрубки сучьев, стрелок разрешил. Но как только мулла с топором вышел к вершине, охранник в него выстрелил и попал ему в живот. Это было еще до полудня. Весь день мулла кричал от боли, истекая кровью. Через несколько часов появился Пичугин, но не посчитал нужным увезти раненого. К вечеру мулла умер. Его труп приволокла лошадь на волокуше.
Все это мне рассказали уркачи – члены бригады Евдокимова.
* * *
17.7.1987
Был на Тальме бывший капитан дальнего плавания Пожарицкий Иосиф Владимирович. Его арестовали еще в октябре 1934 года в одном из черноморских портов после возвращения из дальних стран. Он должен был в октябре 1941 года освободиться. Ему осталось всего три месяца срока, когда Пичугину не понравилась его физиономия.
Пожарицкий был интеллигентным человеком 45-и лет, за семь лет непосильного труда уже изрядно ослабленным и исхудавшим. Мне кажется, что у него даже не было 58-ой статьи. По его рассказу его посадил его заместитель, заявив, что он в каком-то зарубежном порту не ночевал на корабле.
Начиная с июля Пичугин послал его на пару с молодым безграмотным лезгином Баймурзаевым на трелевку лесных остатков. Это была безнадежная работа, где невозможно было выполнить норму. Здоровый мужик мог справиться с нормой на трелевке сплошного леса, но если собирать по вырубкам оставленные бревна, так на ходьбу ушло больше времени, чем на работу. Пожарицкий и Баймурзаев стали настоящими «доходягами» и от постоянного голода еле передвигались.
Баймурзаев, от голода доведенный до безумия, зашел однажды поздно вечером в барак, где помещалась бригада Медведева, украл там у кого-то горбушку хлеба и, выйдя во двор, стал жадно есть. Не успел он его съесть, как из барака выбежал сам Медведев и несколько членов его бригады и стали зверски избивать несчастного Баймурзаева. Была светлая, солнечная июльская ночь. Я видел эту страшную сцену, как Баймурзаев лежал на земле, а несколько человек пинали его ногами, кто в грудь, кто по голове. Истязателей с трудом отогнали другие заключенные, а лезгин долго еще лежал окровавленный и еле дополз до своего барака.
На другой день Баймурзаев сбежал в лесу из бригады. Пошли его искать с собаками, но его след потерялся в болоте.
Шли слухи, что его разорвали волки. Этот слух распространял сам Пичугин. Но, поскольку через некоторое время за Медведевым пришел конвой и, как мне сообщил нарядчик, его судили, неизвестно за что, у меня создалось впечатление, что Баймурзаев дошел до другого лагеря и рассказал, что его заставило сбежать.
А Пожарицкий был сдан Евдокимову. Убил ли его Евдокимов или он умер в лесу от инфаркта, я не могу сказать, знаю только, что приволокли, как того муллу, его труп, привязанный к волокуше. Это случилось за два месяца до того, как он должен был освободиться.
* * *
Пичугин меня два-три раза посылал в лес, чтобы я проверил, не разделывают ли неправильно хлысты, годные для спецассортимента. Я встретился, таким образом, с непривычным контингентом конвоиров – ранеными в ногу или грудь. От них я узнал ранней осенью, что уже в июне месяце началась война с Германией, и фашисты стоят под Москвой. Мы не получали газет, у нас не было радио, и мы ничего об этом не знали.
С этой новостью я пришел в контору и поделился ею с Сухенко.
– Неужели фашисты могут выиграть войну? – спросил я с тревогой.
Удивительно умный человек был архиерей Сухенко. Он сказал:
– Ничего подобного. Вы недооцениваете большевиков. Они очень сильны. Война будет продолжаться не менее четырех лет, и немцы будут разбиты.
Я до сих пор с удивлением вспоминаю его слова. Ведь нельзя подозревать киевского архиерея в страстной любви к большевикам, но он зрело оценил обстановку.
Однажды наедине с ним я сказал:
– Интересно было бы посмотреть на Сталина, что за человек.
– Зачем вам так далеко ходить, чтобы на него посмотреть? – сказал Сухенко. – Посмотрите на Пичугина. Они все на одно лицо.
– Неужели я никогда больше не буду заниматься научной работой? – спросил я его в другой раз.
– Старайтесь отвоевать у жизни каждый день, – ответил он. – Сталин старше вас, он умрет раньше вас.
Еще в Верхней Лозьве у меня оказался фанерный чемодан, который остался от умершего старика. На нем я тогда поставил 780 палочек за оставшиеся дни заключения, которое должно было кончиться 5 октября 1942 года. Значит, это было 15 августа 1940 года. С тех пор я каждый вечер перед тем, как лечь спать, перечеркивал одну палочку, радуясь, что я еще один день остался в живых. Я, по словам Евгения Александровича, отвоевывал каждый день…
* * *
В октябре в Тальму приехал некий Шарашкин. Говорили, что он следователь из управления Севураллага. До сих пор я не знаю, кем он работал, но он не был начальником 3-й части. Этот пост в Ликино занимал Шевченко, провокатор и негодяй, на совести которого было несколько расстрелянных за «саботаж» истощенных заключенных. А Шарашкин производил впечатление интеллигентного человека.
Он обошел весь лагерь, заходил во все углы, в бараки, на склад, ездил верхом по лесу, а вечером сел в кабинет Пичугина и вызывал туда по отдельности всех бригадиров, коменданта, нарядчика и рядовых рабочих. Рано темнеет в октябре в этих краях. Беседы происходили при свете электролампы, так что со двора можно было видеть, с кем разговаривает Шарашкин, какое у допрашиваемого лицо.
Вызывал к нему нарядчик по его указанию.
И меня он вызвал и спросил:
– Что бы вы хотели мне рассказать?
Хорошо зная, что за мною наблюдают со двора, я коротко сообщил шепотом:
– Лагпункт выполняет план на 80%. Я передаю в отделение заведомо ложные сведения, потому что за спиной стоит Пичугин и диктует мне среднепотолочные цифры. Я боюсь не подчиниться, потому что в лагере – полный произвол. Несколько человек убиты, а на них составлены акты, будто они умерли от инфаркта, воспаления легких, несчастных случаев. Как бы меня не пришибли.
Шарашкин сказал:
– Немедленно уходите, чтобы не было подозрения, что вы мне что-то сообщили. Я все тщательно проверю и вашу судьбу буду держать под контролем.
Вся беседа продолжалась не более двух минут.
Утром Шарашкин ускакал на коне.
К концу месяца Шитиков сообщил мне, что Пичугина исключили из партии, объявили ему строгий выговор, но оставили на должности начальника лагпункта. Пичугин в бешенстве, все гадает, кто мог на него накапать.
Очевидно, Пичугин, взвесив все возможности, в конце юнцов все-таки подозревал меня.
5-го ноября нарядчик пришел ко мне рано утром в барак и велел выйти со всеми на развод. Больше я в конторе работать не буду.
Я вышел на развод. Пичугин стоял здесь, будто принимал парад. Указывая на меня, он крикнул:
– К Евдокимову!
Так я вышел за зону с бригадой Евдокимова. Мне дали лучковку и топор, и я пошел с бригадой в лес. Мы долго шли, пока добрели до нашей делянки. Евдокимов развел костер для себя и для конвоира. Ведь был ноябрь – мороз, снег, ветер.
Производилась выборочная рубка деловой древесины. Я был уверен, что справлюсь с нормой, так как я знал, что надо рубить. Пока Евдокимов разводил костры, я уже свалил два дерева.
Ко мне подошел заместитель бригадира, тот самый, у которого я в первый день вытащил тридцатку из кармана. Он меня позвал к костру.
– Зря стараешься, – сказал мне Евдокимов. – Лучше отдыхай, силы тебе пригодятся. Дело в том, что Пичугин строго настрого велел не выводить тебе больше 50%, сколько бы ты ни выработал. Сам понимаешь, что из этого получится. Станешь слабосильным, отстанешь от бригады, и придется тебя законстролить. Я хорошо помню, как ты выручал моих штрафников на Верх-Шольчино и поэтому тебя предупреждаю: не выходи с моей бригадой. Подумай, что делать. Отруби себе руку, откажись от работы или иди в побег. Иначе тебе – хана.
Этот день я сидел с Евдокимовым и его заместителем у костра и не работал. Они меня угостили хлебом и даже колбасой, а Евдокимов поделился со мной самосадом.
Когда мы вернулись, я взволнованный сидел на своей койке и ломал себе голову, что мне делать? Отрубить руку, когда рядом нет хирурга, это, во-первых, кончится гангреной и мучительной смертью, во-вторых, за это давали расстрел по статье 58 п.12 (саботаж); идти в побег – бессмысленно: никто беглеца не укроет, любой местный житель выдаст. Отказ от работы – тоже расстрел. Что же мне предпринять, чтобы попасть в Ликино?
И здесь мне бог послал нежданное решение.
Около полуночи пришел старик дневальный с лейкой, наполненной керосином. Он по всем баракам наливал керосин в коптилки, освещающие все помещения, кроме конторы. Он поставил лейку под нары, завалился на бок и заснул. А когда он захрапел, я вытащил лейку из-под нар и вышел во двор.
Я пошел к конторе, стоявшей в дальнем углу лагеря под вышкой со стрелком. За конторой стояла большая поленница с сухими дровами. Я облил часть поленницы керосином, вытащил из кармана огнище, выбил искры, веревка поймала огонь, с березового полена я сорвал сухую кору, она загорелась, и вмиг часть поленницы горела ярким пламенем. Огонь бушевал в двух шагах от конторы, так что создалось впечатление, что горит бухгалтерия и кабинет Пичугина.
Стрелок с вышки заорал:
– Что ты там делаешь?
– Не видишь? – кричал я. – Я поджигаю контору?
Я рассчитывал так: все равно мне погибать. Стрелок не имел права стрелять в зону. А это была единственная возможность попасть в Ликино подследственным.
Стрелок стал стрелять в воздух. Через десять минут здесь уже было полно народу. Люди стали растаскивать дрова и тушить пожар. Появился Пичугин.
– Кто это поджог?
– Я поджог! – кричал я. – Это я!
– И это перед годовщиной Октября?
Меня немедленно посадили в карцер. Это было около 12 часов ночи. Я не знаю, как я в этом карцере не околел. Его не топили, а мороз не менее 15 градусов.
Утром за мной прискакали два конвоира верхом. Я надел свое венское зимнее пальто, служившее мне до сих пор одеялом, взял свой фанерный чемодан, в котором кроме котелка и ложки ничего не было, и пошел с конвоем в Ликино в лаптях и портянках, счастливый, что ушел из-под власти Пичугина. А дальше я – как-нибудь выкручусь. На чемодане осталось 334 палочки.
* * *
18.7.1987
Трудная была дорога от Тальмы до Ликино. Вышли мы в 6 часов утра, а прибыли затемно. Я подробности не помню. Мне сегодня кажется, что прошли мы 40 километров по таежным тропам, а то и прямо по тайге. На полпути находился лагпункт «Набережная», но мы туда не зашли, а обошли его по лесу. У меня порвались лапти, был мороз, мои ноги окоченели. Лапти набились снегом, я от боли в ногах и от слабости шатался, спотыкался и падал. Наконец один из конвоиров посадил меня на коня, я сам не мог подняться, он мне помог, а затем они, чередуясь, или пешком.
Конвоир, уступивший мне своего коня, сказал, что им строго приказано было доставить меня живым, так как меня считают опасным преступником, который пытался сжечь весь лагпункт Тальма перед праздником 7-го ноября.
Наконец мы прибыли в Ликино, но на лагпункт не зашли. Конвоиры подошли к длинному, узкому бревенчатому дому и сдали меня мужчине среднего роста с огромными густыми усами и в военном мундире. За мною захлопнулась дверь, мужчина с одним из конвоиров велел идти вперед по длинному, слабо освещенному коридору, где слева была сплошная стена, а справа через каждые два шага – двери. У открытой двери он крикнул: – Стой! – Я увидел узкую камеру, скорее всего закуток, шириной в один метр, где передо мною, за полметра от двери, начинались дощатые нары на высоте колена и постепенно поднимались вверх до задней стены, где вместо подушки лежала чурка. За мною закрылась дверь и загремел засов.
Я находился в тюрьме Ликинского отделения. Я снял пальто, подстелил его, залез на нары в лаптях и мокрых портянках. Тюрьма была хорошо отоплена. Совершенно измотанный, я стал засыпать. Я слышал, как начальник тюрьмы что-то говорил со сдавшим меня конвоиром, как он его выпустил и закрыл за ним дверь. Через минут десять он вернулся. Его шаги приближались к моей «камере». Опять загремел засов, дверь открылась, и перед ней стоял усатый начальник тюрьмы.
– А ну-ка, встань, пошел за мной!
– Гражданин начальник, – взмолился я, – пожалуйся, дайте мне полежать. У меня никаких сил нет!
– Потом полежишь! Пошел!
Я с трудом выкарабкался и пошел вдоль коридора до самого его начала. Усатый открыл дверь в какую-то жилую комнату. В меня ударил оглушительный запах жареного. Еще сильнее меня одолел голод, и мне отказали ноги. Усатый меня подхватил и повел к столу, посадил на стул за накрытый стол. На столе в сковороде была яичница из нескольких яиц и полбуханки хлеба. Он сел напротив на койку с постелью.
– Ешь! – велел он.
Я стал жадно глотать, обжигаясь горячей пищей.
– Ешь медленно, а то подавишься.
Он встал и принес кружку с чаем. Когда я сделал первый глоток, у меня закружилась голова. Чай был с сахаром! Никогда я не знал, что от сахара может кружиться голова.
Когда я поел, он вынул кисет с самосадом:
– Закуривай.
Мы оба закурили. Мне показалось, что все это снится. Наконец он меня спросил:
– Ты меня узнаешь?
– Нет, не узнаю.
– Ты что, Шишкина не помнишь?
Оказалось, что это был тот самый доходяга Шишкин, которому я в штрафном квадрате устроил десять дней курортного отдыха; Он досрочно освободился после того, как год проработал в самоохране, и недавно его назначили начальником тюрьмы.
– Тебя, наверное, расстреляют, – сказал он. – Помочь я тебе не могу. Пока ты у меня находишься, я тебя кормить буду.
– Ты можешь мне помочь, – сказал я. – Сообщи завтра же Шарашкину, что Пичугин мне отомстил.
Шишкин обещал передать Шарашкину, что я жду его помощи. Он дал мне теплые чуни и смену белья. Я его поблагодарил и лег спать. У меня появилась надежда, что Шарашкин меня выручит.
* * *
Шишкин не мог сразу найти Шарашкина, ведь следующие дни были праздники 7-е и 8-е ноября. А 9-го за мною пришел конвой и повел меня в 3-ю часть.
За столом сидел Шевченко, начальник 3-ей части. Он сходу заорал на меня отборным матом. Потом он сунул мне приготовленный заранее протокол допроса. Там был записан вопрос: для какой цели я в канун праздника Октября поджег контору начальника лагпункта. В ответе я признавался, что этим пожаром хотел поднять в лагере контрреволюционное восстание.
Я перечеркнул протокол вдоль и поперек и заявил, что я поджег не контору, а поленницу во дворе, и сделал это с целью попасть в Ликино и сообщить в 3-ю часть о преступлениях Пичугина, Евдокимова, Шитикова.
Шевченко стучал по столу и орал, что мне не удастся выкрутиться. Если я признаюсь чистосердечно и назову своих сообщников, тогда я получу самое большее 10 лет, а если буду отпираться и не раскрою заговора, то меня расстреляют.
Я этому хаму сказал, что на такую дешевую удочку я не попадусь и требую свидания с прокурором.
Долго Шевченко меня материл и шантажировал, а затем конвоир отвел меня обратно в тюрьму, где Шишкин сообщил мне, что Шарашкин поставлен в известность.
Когда человек лежит день за днем в закутке, где нельзя сделать ни шагу, он, наедине с собой, начинает вспоминать всякую всячину. Хорошо, что Шишкин снабдил меня целым кисетом самосада, бумагой и даже спичками, а то бы я там вообще рехнулся. Я лежал на своем элегантном зимнем пальто с фирменной нашивкой «Schweizer & Co» и вспоминал, с чего же этот кошмар начался.
* * *
А началось с того, что в августе 1936 года, сразу после процесса Каменева, Зиновьева и др., директор Немпединститута Вегеле, где я преподавал историю и грамматику немецкого языка, вручил мне копию приказа, что я бессрочно уволен. Я пошел к проректору Гармcу домой в крайнем отчаянье. С горькими слезами я просил его уговорить директора Андрея Андреевича Вегеля отменить приказ. Ведь я очень дорожил своей работой и любил ее. В Австрии я был безработным, а в Советском Союзе, где была моя настоящая родина, я впервые в жизни получил настоящую работу. Я горько плакал тогда, и Гармс мне явно сочувствовал, но я тогда не знал, что был до смешного наивным и что мое увольнение было вовсе не дело рук Вегеле, а следственных органов, что процесс Зиновьева и Каменева был только началом сплошного избиения интеллигенции.
Я поехал в Москву, где меня приютили Фельдманы, дальние родственники моей матери, и стал хлопотать по всем инстанциям. В наркомпросе, по приглашению которого я приехал в СССР, меня выслушали сочувственно, но через несколько дней сообщили, что мое дело находится в секретной части и зам. наркома туда доступа не имеет. Я пытался устроиться на работу на каких-то курсах, но ничего не вышло. В Коминтерне меня приняли сердечно, ведь я был членом КП Австрии с 1927 года и с апреля 1931 года работал в агитпропе ЦК, руководил центральной агитбригадой ЦК «Ротэс Тэмпо». Роберт Тойбль и Лаглер пошли в наркомпрос и в конце концов мне сообщили, что все мои хлопоты бессмысленны.
– Когда ты вернешься в Энгельс, ты будешь арестован. – сказал Роберт. – Мы только можем помочь тебе немедленно выехать за границу.
Я категорически отказался. Я ведь бежал из Австрии 15 февраля 1934 года после Шуцбундовского вооруженного восстания. Меня там ждал концлагерь. И вообще я из России никуда не хотел уезжать, считал это позорным признанием в какой-то вине.
Мой двоюродный брат Лев Маркович Брайнин был во время 1-ой Мировой войны военнопленным в Германии, и мой отец его материально поддерживал. Сейчас он был заместителем главного военного прокурора РСФСР. Я его разыскал на его квартире в Сокольниках. Он меня выслушал с явным испугом и посоветовал немедленно вернуться в Энгельс:
– Там вас арестуют, и дело выяснится.
3-го октября я вернулся в Энгельс, где меня ждала моя жена Геди. А 5-го в 2 часа утра меня арестовали.
* * *
В саратовской следственной тюрьме я находился с 5 октября 1936 года по 20 августа 1937 года. Мне было предъявлено обвинение по ст.58, п.6 (шпионаж), п.10 (агитация) и п.11 (групповая контрреволюция).
Сначала меня допрашивал следователь Ширгин, довольно интеллигентный человек, который, как мне казалось, не очень верил в мою вину, но был крайне огорчен моей наивной болтливостью. Я считал, что я как коммунист имею дело с близкими мне друзьями и, не стесняясь, подробнейшим образом рассказывал о своих странствиях по разным странам, о чем мои собеседники не имели никакого представления. Наконец Ширгин махнул на меня рукой, и в дальнейшем меня допрашивал некий Гапнер, ограниченный дурак, который искал доказательства, что я сторонник Гитлера и преподавал в институте расовую теорию. Опиралось обвинение на ложное показание моего студента Курта Кляйна, комсорга факультета.
Много лет спустя (в 1961 году) я узнал, что этот комсорг в 1941 году перешел в фашистскую армию, за какие-то заслуги был отправлен на учебу в Австрию, окончил университет в городе Гарц, получил там степень доктора, а затем работал профессором в «Русском университете» в Чикаго, где готовились шпионы для работы в СССР.
Таков был главный свидетель.
20-го и 21-го августа мое дело рассматривалось в Главсуде АССРНП. Уже через час после начала процесса я отказался от адвоката, заявив, что он мне внушает меньше доверия, чем прокурор. Таким образом, я получил право задавать вопросы свидетелям и самого себя защищать.
Курт Кляйн заявил, что я преподавал расовую теорию (индогерманистику) и давал студентам фашистскую литературу.
На мой вопрос, какую конкретно литературу, он назвал: Дуден «Орфографический словарь» и Клюге «Историю немецкой литературы».
Я требовал вызвать эксперта из академии наук, поскольку Клюге никогда не писал историю немецкой литературы.
Председатель суда Банисевич заявил, что эксперт не нужен. Суд верит комсомольцу Кляйну. Раз он говорит, что получил от меня эту книгу, значит, она существует.
Я потребовал, чтобы студенты предъявили свои конспекты. Оказалось, что после моего ареста все конспекты были свалены в кучу перед институтом и сожжены публично.
Свидетель Фелер и Мюллер, студенты 3-го курса, отказались от своих показаний на предварительном следствии. Но когда председатель им пригрозил, что они получат два года тюрьмы за такой отказ (Где же вы врали? Там или здесь?), они со слезами подтвердили свои первые показания.
Завуч Гармс вел себя как порядочный человек, за что он потом год сидел в саратовской тюрьме.
Парторг Чернушенко повел себя как настоящий идиот. Он заявил, что он присутствовал на моих лекциях и может подтвердить, что я превозносил германскую расу. Я ему задал вопрос:
– Сколько раз вы были на моих лекциях?
– Два раза.
– На каком языке я читал лекции?
– На немецком.
– Вы понимаете по-немецки?
– Нет.
– Так откуда вам известно, что я хвалил немецкую расу?
– Люди говорили.
Я заявил суду, что свидетель, который сам ничего не знает, это пустое место, после чего парторга отпустили.
Мне и моему брату дали по 6 лет лишения свободы и 3 года лишения избирательных прав. Затем нас отправили в энгельсскую тюрьму, где мы находились с 20-го августа 1937 года до 15 (?) марта 1938 года.
* * *
У несчастного Андрея Андреевича Вегеле, директора Немпединститута, был порок сердца. Его арестовали и при допросах избивали и пинали в живот. Он умер, как мне в тюрьме рассказали, еще во время следствия.
* * *
Еще одна деталь.
Председатель суда обратился ко мне:
– Расскажи о своей подпольной работе в Австрии.
Я ответил:
– Не вы мне эту работу поручали, не перед вами мне отчитываться. И вообще у меня нет никакого доверия ко всем присутствующим в этом зале.
А там сидели кроме судьи, весьма подозрительные типы, в том числе «комсорг», будущий фашист Курт Кляйн…
Банисевич сам впоследствии получил 20 лет…
* * *
В большой камере на втором этаже тюрьмы лежал постоянно, не поднимаясь с постели, немецкий поэт Франц Бах. Ему 27 августа исполнялось 52 года, но он уже был беспомощным стариком после инфаркта миокарда. В этой же камере был муж его сестры Рейнгольд Вазенмюллер и его сын Ганс Бах, милый, жизнерадостный мальчик 20 лет. На первом этаже тюрьмы находилась в женской камере сестра Баха Катерина со своим 9-и летним сыном Володей, которого ей разрешили взять с собой, так как ей не куда было его девать.
Франц Бах был первым пролетарским поэтом в АССР Немцев Поволжья, самородок, которым гордилась вся республика.
Я и Вилля быстро подружились с Гансом, который рассказал страшную историю этой семьи.
У Баха был еще один сын, семнадцатилетний Альфред. Его в 1937 году вызвали в горком комсомола. Секретарь горкома спросил его, не помнит ли он, что у него дома велись какие-нибудь разговоры на политические темы, и не помнит ли он, что его отец высказывал свое недовольство действиями советской власти.
– Мы тебя знаем как примерного комсомольца и не сомневаемся, что ты от нас ничего не скроешь, – сказал секретарь.
Тогда Альфред рассказал, что в 1933 году за обеденным столом сидели отец, тетя Катя, дядя Рейнгольд, брат Ганс и он, и отец сказал, что надо было коллективизацию так провести, чтобы люди не умирали с голоду.
На другой день всех, кого назвал Альфред, арестовали вместе с ним и всем дали по 10 лет. Только мать не была посажена, потому что она были на кухне, когда муж вел этот разговор.
В тюрьме Альфред повесился. Отец до сих пор ничего не знал об этом. И хотя всем заключенным самоубийство Альфреда было известно, никто об этом отцу ни слова не сказал.
Маленький Володя был в тюрьме любимцем не только осужденных, но и охраны. До ноября мы только ночевали в камерах, а целый день передвигались свободно по всей территории, так что и Катя приходила к Баху в камеру, и Володя бегал к дяде. Но когда нас заперли, и мы не могли общаться друг с другом, один только Володя бегал по тюрьме и приносил письма от Кати и ответы от дяди и отца.
В дальнейшем, уже через 20 лет, я узнал, что Франк Бах, несмотря на болезнь сердца, был этапом отправлен в Казахстан, там умер и был зарыт где-то в степи.
Его веселый сын Ганс умер через два года в Норильске от истощения.
В 1965 году в газете «Нойес Лебен» я написал статью о Бахе к его 80-и летию. Эту статью случайно прочитал Володя Вазенмюллер, наш бывший почтальон, считавшийся до тех пор пропавшим без вести.
Ведь когда Катю, его мать, отправили этапом в лагерь, у нее отобрали сына и сдали его в детдом. А Володя в 1940 году сбежал из детдома, бродяжничал по стране, а когда его поймали, присвоил себе русскую фамилию и придумал другую биографию. Его сдали опять в детдом, но уже как русского беспризорника. У него оказались незаурядные способности. Он с отличием окончил десятилетку, затем военное училище и военную академию. Когда он прочитал мою статью, он был полковником. Ему было 37 лет. Он разыскал свою мать через редакцию газеты.
Я получил письмо от Кати Бах. Она мне рассказала, как нашелся ее Володя. В редакции многие плакали, читая это письмо. Но потом она мне намекнула, что у Володи были неприятности. Ведь он был членом партии под ложной фамилией…
* * *
Ночью камера у нас была всегда открытой, и мы могли встать и выйти в уборную. И вдруг нас в ноябре закрыли на замок, а туалета в камере не было.
Я не был готов к этому, и мне срочно нужно было выйти, но, сколько я ни барабанил в дверь, никто не открывал. Только отделенный приходил и тихим голосом говорил, что надо потерпеть.
Открыл он дверь только к двум часам ночи, когда я от боли уже изгибался. Мой брат за меня переживал и, когда отделенный открыл дверь, он его обругал.
Через 10 минут отделенный нас вызвал на вахту. Там сидел прокурор Крамер, пресловутый подонок, на совести которого были десятки расстрелянных. Выслушав рапорт охранника, он назначил 15 суток карцера. Такой срок не каждый может пережить. Это значит 15 дней прожить на 300 граммов хлеба и только через 4 суток получить миску пустого супа.
Когда мы с братом вошли в карцер (камеру на первом этаже противоположного от нас корпуса), мы поняли, что мы находились в смертной камере. На стене было написано:
«Прощайте товарищи! Мы умираем! Арбайтер, Гюнтер, Келлер, Вогау».
Под подписями стояла сегодняшняя дата.
Эти фамилии нам были известны, все четверо были приговорены к расстрелу. Ясно стало, почему никого из камер в эту ночь не выпускали. Их, кроме Гюнтера, в эту ночь расстреляли, и поэтому прокурор Крамер оказался на вахте.
Между прочим, я подозреваю, что среди них был писатель Пильняк. Ведь настоящая фамилия Пильняка была Вогау, его расстреляли в 1937 году.
Два дня мы с братом зверски голодали. На третий день, в 5 часов утра, т.е. еще до рассвета, я вдруг увидел, что за решеткой висит какой-то пакет. Я встал на койку, дотянулся до пакета. Он висел на веревке и проходил как раз через решетку. Я его отвязал, веревка тотчас поднялась наверх. А в пакете были колбаса, сухари, махорка, бумага, спички…
Что значит иметь в друзьях уголовников! Это они передали через все камеры точно до той, под которой находилась смертная, эту передачу для нас, и никто из них не взял ни крошки для себя.
Нам они спасли жизнь, мой брат с пороком сердца не пережил бы 15-дневного голода, если бы не такие две передачи на третьи и 12-ые сутки.
На пятый день к нам попал парень 18 лет. Ему дали пять суток. Когда ему на пятые сутки принесли суп, он настаивал, чтобы мы его съели, хотя сам был очень голоден.
– Вам еще долго сидеть, а меня выпустят сегодня вечером, – сказал он.
Когда его освободили, состоялось наше первое знакомство с Мишкой-Ручкой.
Это был маленький парень из бывших беспризорников, лет 20, левая рука была вывернута с локтя.
Он сразу обратил внимание на сандалии, на которых были стальные пряжки, и попросил дать ему одну пряжку. Он отделил ее от кожи и весь следующий день терпеливо точил об каменный пол. На второй день она стала острой как бритва.
Тогда он дал мне пряжку, оттянул правой рукой от левого локтя кусок кожи и велел мне отрезать его. Я не был в состоянии этого сделать. Вилля тоже ужаснулся.
– Сразу видно – фраер?! – сказал он. – А держать кожу можете?
Я схватил эту кожу длиною в два с половиной сантиметра и шириной в 5 сантиметров, а Мишка-Ручка хладнокровно отрезал ее, так что оттуда хлынула кровь.
Затем он стал ногами барабанить в дверь, держа в руках отрезанный кусок мяса. Пришел охранник и спросил, в чем дело.
– Передай начальнику кусок мяса, – сказал Мишка-Ручка, – а то ему жрать нечего.
Охранник, глядя через волчок, испугался, открыл дверь и вывел парня. Мы потом узнали, что его отправили в больницу.
А через 25 лет я выступал в Краснотурьинске уже под псевдонимом Зепп Эстеррайхер. Самые знатные немцы (их жило много в этом городе) устроили мне «большой вокзал» и вдруг я вижу среди них бывшего прокурора Крамера, который с улыбкой до ушей мне протягивает руку.
– Убери свою руку, – сказал я ему. – Она вся в крови невинных людей!
Крамер ушел, как побитая собака. Персональный пенсионер. Я такой чести не удостоился.
* * *
20.7.1987
Отец моей Геди был горным инженером. Он приехал из города Дортмунда в Кузбасс, а дочь послал в Энгельс учиться в Немпединституте. Когда я прибыл в Энгельс в марте 1935 года, Геди училась на 2-м курсе литфака. В феврале 1936 года мы расписались в ЗАГСе. Целый год она мне носила каждую пятницу передачи, сама голодала и жила от продажи книг из моей библиотеки. 5 октября 1937 года, в годовщину моего ареста, ей разрешили свидание со мною на вахте энгельсской тюрьмы. Она мне сообщила, что завтра ее отправляют на польскую границу, и мы попрощались. В 1947 году я получил от нее единственное письмо. Она мне рассказала о своих мытарствах. Когда она приехала к своим родителям в Германию, ее еще в конце 1937 года арестовали и отправили в фашистский концлагерь, где она пробыла 8 лет до весны 1945 года как «жена коммуниста». Лагерь под городом Мюнстер разбомбили американцы, Геди осталась жива, бежала из лагеря, попала к американцам и с 1945 года работала переводчицей при штабе армии. Она писала, что у нее пятикомнатная квартира, и она меня ждет… Больше я писем не получал, и мои письма до нее не доходили.
А жена Вилли Елена была его любовью с 1925 года, когда им было по 18 лет. Она с ним приехала из Вены и вернулась с сыном в Австрию, когда нас еще не судили, летом 1937 года.
Поэтому мы в тюрьме были голоднее всех. Почти все однокамерники получали передачи, кроме нас. 15 суток карцера нас окончательно обессилели. Мы себе зарабатывали кусок хлеба, иногда кусочек сала изготовлением шахмат из черного хлеба. Фигуры мы сушили, а затем красили их зубным порошком (белые) и сожженными спичками (черные).
Любителей шахмат в камере было много. Бывший пастор Матерн читал лекции по теории дебютов и организовывал в камере турнир на первенство нашей камеры, где после 31 декабря 1937 года находилось 120 человек.
Матерн, бывший лютеранский священник, был до ареста главой антирелигиозного движения в республике и поэтому у населения был одиозной фигурой. Наветами верующих он вместе со сподвижниками угодил в тюрьму. Я помню их фамилии: директор марксштадского музея Иоганнес Зиннер, учитель Констанц, Густав Валл, Мут, Траутвайн. Они все досрочно освободились, были даже оправданы, кроме самого Матерна, который во время войны умер в лагере.
Матерн был старостой нашей камеры. Рано утром он кричал «подъем» и «бить вшей»! Наши рубахи кишели вшами, от которых мы только спасались этой ежедневной вошебойкой. Матерн организовал в камере цикл лекций. Он сам читал лекции о противоречиях в Библии, я рассказывал о влиянии древнего Рима на немецкую культуру и на немецкий язык – каждый день кто-то о чем-то докладывал. Иначе можно было сойти с ума от однообразия, грязи и безнадежности.
* * *
32 года спустя, в апреле 1970 года, я выступал в Караганде и поехал в соседний Сарань, где состоялся мой творческий вечер в немецком педучилище. Там встретил Иоганна Зиннера, бывшего учителя. Он недавно пережил инсульт, с трудом передвигался, опираясь на палку. От него я узнал о судьбе остальных членов группы. Констанц давно умер где-то под Новосибирском, Траутвайн еще раз угодил в тюрьму за бытовое преступление… Зиннер скоро умер от второго инсульта.
* * *
Итак, я нахожусь в Ликинском изоляторе уже четвертые сутки. Спина болит, ведь подо мной пальто на голых досках. Только вечерами, после отбоя, Шишкин меня выводил, кормил чем-то вкусным и давал мне отдохнуть. А 10-го утром он радостно открыл камеру и сообщил мне, что я, хотя и остаюсь подследственным, но из изолятора освобождаюсь и перевожусь в общий лагерь.
Странным было мое положение. Я жил в общем бараке, но к работе не привлекался. Все уходили на целый день на работу, а я оставался в бараке. Я был под следствием.
Один молодой уголовник по кличке «Медведь» рассказал мне, что несколько ребят, знавших меня по Тальме, были вызваны в 3-ю часть и от них требовали показаний, что я им рассказывал антисоветские анекдоты. Он сказал, что никто на меня не давал таких показаний.
(Через пять лет у меня с «Медведем» была интересная встреча в Нижнем Тагиле. Я однажды пришел из школы домой, а моя жена Ася сообщает мне, что в наше отсутствие нас обокрали. Мы были очень бедны, у нас украли какие-то тряпки, одеяло и, самое больное, ее сапоги. Я вышел утром на рынок и разыскал «Медведя», который там промышлял, высматривая, где что плохо лежало. Я ему рассказал, что меня обокрали и что взяли.
– Ладно, – сказал Медведь. – Если они еще не успели загнать твое барахло, то получишь его обратно.
Вечером Ася рассказала с удивлением, что днем пришел какой-то оборванец, бросил котомку в переднюю и убежал. В котомке оказались сапоги и одеяло.)
В лагере я встретил старого знакомого – Дягилева, который три года тому назад в Савинове плясал под мою мандолину. Он здесь работал завскладом. У него хранились все продукты питания не только зеков, но и вольнонаемных. На дворе было холодно, и я был одет в свое венское пальто, которое прельщало Дягилева своей широкоплечей элегантностью, своим покроем. Он мне предложил продать ему это пальто.
Я согласился при условии, что он мне вместо денег отдаст свои талоны на завтрак и ужин, пока я буду находиться в Ликино.
Дягилев согласился.
В Ликино в столовой кормили не по бригадным спискам, а по талонам, которые выдавали в бухгалтерии. В течение двух месяцев Дягилев меня честно кормил. Я получал два завтрака и два ужина. А в пекарне оказался мой старый знакомый, бывший бригадир из Верх-Лозьвы Гриша Новиков, который мне часто подсовывал полбуханки хлеба. Так я постепенно приходил в себя.
К концу ноября меня послали в лес на работу. Обвинение было с меня снято. А что это было сделано через голову Шевченко, я узнал два с лишним года спустя, когда я был завхозом больницы на Большой Косолманке.
Я ходил и ездил без конвоя, только ночевал в лагере. Однажды вечером я откуда-то ехал в автобусе на Косолманку. Когда я сел в автобус, где было много местного народа, напротив меня оказался Шевченко. Его лицо перекосилось от гнева, и он закричал:
– Ты что здесь делаешь? По тебе тюрьма плачет!
Я понял, что он меня провоцирует. Мне стоило что-нибудь ему ответить, как он бы здесь же нашел свидетелей, что я его оскорбил, а в его лице – советскую власть.
– Если бы по мне, тебя бы расстреляли, как собаку! – кричал он. – А то нашлись добрые дяди, хлопали ушами, и вот ты по автобусам шныряешь, сукин сын!
Я молча встал, попросил водителя остановиться и вышел. Около километра, помню, пришлось идти пешком.
* * *
Я недолго ходил в лес на работу. На дороге от Тальмы до Ликино я отморозил пальцы ног, и теперь боль с каждым днем становилась невыносимее. Наконец я заявил нарядчику, что больше терпеть не могу и на работу не выйду. Вечером меня вызвали в кабинет начальника. За отказ от работы в военное время давали вплоть до расстрела. Когда я зашел, там сидел врач по фамилии Флейшман. Начальник велел мне снять лапти и портянки. Глядя на мои ноги, и врач, и начальник согласились с тем, что я так в лес идти не могу. Ноги мои были сплошные раны.
Мне давали какие-то работы в зоне. В декабре я узнал (весь лагерь об этом говорил), что на Тальме арестовали Пичугина, Лебедева, Евдокимова и Шитикова. На Усть-Еве мне сказал комендант Хрусталев, что им дали по 10 лет и заменили фронтом. Все они погибли в штрафбатах.
Мне жаль было только Лебедева. Это был тихий, всегда озабоченный семейными делами человек. Вранье проходило и на Верх-Лозьве и на Тальме через его голову. К убийствам он не имел отношения.
* * *
23.7.1987
В начале января 1942 года меня отправили в лагпункт Набережная. Когда я вечером пришел в столовую, чтобы получить ужин, я за окошечком увидел старого знакомого – киевского архиерея Сухенко Евгения Александровича. Он здесь был бухгалтером продстола и присутствовал при раздаче как контролер. Поваром был крупный мужчина лет 50, бывший зажиточный крестьянин, раскулаченный, а затем осужденный. Сухенко ему что-то шепнул, и он мне налил двойную порцию в котелок. После раздачи я встретился с Сухенко в бараке ИТР. Вообще он был довольно замкнутым человеком, неразговорчивым, но ко мне относился с симпатией. Его впечатлил мой отчаянный поступок, спасший мне жизнь. Об аресте Пичугина он еще ничего не знал, но месяц тому назад на Тальме произошли какие-то изменения, Пичугин и Лебедев исчезли, а Сухенко отправили сюда. Больше ему ничего не было известно.
Лагпункт Набережная был не столько заготовительный, сколько пересыльный. Там числилась большая «бригада» временных жителей, каким являлся и я. Сухенко вручил мне список этих заключенных и объявил меня в хлеборезке и в столовой бригадиром, это было очень выгодно. Когда из бригады кто-то выбывал, то в бухгалтерии ему продолжали выписывать хлеб еще не менее одного дня. Эти пайки оставались бригадиру, т.е. мне, так как другие члены бригады не были знакомы со списком.
Сухенко устроил меня дровосеком на пекарню. Там я встретил Ганну Райзер. Она была помощницей заведующего пекарней, некоего Захара. Это был отвратительный тип из рецидивистов, сгорбленный, рыжий, рябой, пучеглазый. Молодая, стройная, красивая Ганна, по всей вероятности, имела с ним близкие отношения, чтобы спасти жизнь своей подруге и односельчанке Эрне Крамер. Я должен был колоть чурки длиной в один метр на ровные полена одинаковой толщины. Это была тяжелая работа. Каждое утро я выходил за зону без конвоя, колол перед пекарней и складывал метровые полена в поленницу высотой в полтора метра и длиной в два с половиной метра. После этого выходила Ганна из пекарни и давала мне горячую буханку черного хлеба, которую я здесь же съедал, прячась за поленницей.
Ганна спала в пекарне, в зоне я ее не видел. Она мне запомнилась такой – печальной, молчаливой. Мы за все это время не обменялись ни единым словом.
Однажды вечером я в столовой стоял в очереди за добавкой. На дворе был лютый мороз, дверь в столовую была открыта, и я стоял в очереди как раз у открытой двери с котелком, в котором уже была порция горячей баланды. В это время вошел некий Вася, широкоплечий бригадир уркачей, морда кирпича просила, и, игнорируя очередь, подошел к раздаче за второй порцией. Я ему сделал замечание, почему он без очереди подошел. Тогда Вася повернулся и ударил меня кулаком так сильно, что я через открытую дверь вылетел во двор, упал и каким-то образом облил затылок горячим супом из моего котелка. Я ушел в барак и остался без ужина.
Сухенко видел эту сцену, ему было очень обидно за меня, и он доложил об этом начальнику лагпункта. Вдруг пришел нарядчик в мой барак и велел мне придти в кабинет начальника. Когда я вошел, там за столам сидел начальник, а перед ним стоял Вася.
– Расскажите, – обратился ко мне начальник, – что произошло в столовой.
Я слишком был научен обращением с уголовниками, чтобы, как последний наивняк, рассказать, что произошло.
– Ничего не произошло, – сказал я.
– Но ведь он вас ударил!
– А я его не знаю, вижу в первый раз.
– Повернитесь, сказал начальник раздосадованный. – У вас ведь вся шея ошпарена!
– Надо лед убрать перед столовой, – сказал я. – При выходе из столовой я поскользнулся и при этом поднял котелок, так что суп попал мне на затылок.
– Идите оба отсюда! – рассердился начальник.
Утром, когда я сидел у вахты, чтобы меня выпустили в пекарню, строилась бригада уркачей во главе с Васей. Он ко мне подошел и сказал:
– Иди с нами в лес.
– Зачем это мне? У меня блатная работенка, а у вас лесоповал.
– А ведь все-таки в пекарне втыкать надо, – сказал Вася. – У нас тебе горбушка обеспечена. Пошел со мною.
Конечно, не век же работать на пекарне, да к тому на довольно тяжелой работе. Я согласился, заявил нарядчику, что хочу идти на лесоповал. Дали мне пилу и топор, и я пошел с бригадой Васи.
Когда мы пришли на делянку, Вася велел мне развести костер. Пока я его разжег, несколько человек свалили для меня полдюжины деревьев. Мне осталось их только разделать и обрубить сучья. К обеду у меня была норна выполнена на 150%. До вечера я сидел с Васей и десятником у костра и покуривал махорку. Так я работал у Васи изо дня в день, получал кило хлеба и стахановские блюда.
* * *
Еще на Верх-Лозьве мне рассказывали, что на Набережной есть скрипач по фамилии Гернер, немец из села Люксембург. Он играл в столовой, за что получал дополнительный паек.
Когда я прибыл в Набережную, я узнал, что Гернер на лесоповале попал под дерево и был тяжело ранен. Я зашел и нему. Он лежал на спине без движения. У него был поврежден позвоночник. Гернер был красивым молодым человеком лет сорока, широкоплечий брюнет. Он лежал в отдельной комнате, за ним ухаживала медсестра, но настоящей медицинской помощи ему оказать было нельзя. Следовало отправить его в больницу, но он был нетранспортабельным.
Гернер обрадовался нашей встрече, он тоже про меня слышал. Но он не мог скрыть своей постоянной резкой боли и во время разговора кусал губы.
В феврале Гернер умер. Его скрипка никому не была нужна. Я ее забрал. С тех пор у меня была настоящая скрипка, а не самодельная Погжебжинского.
* * *
Вскоре после смерти Гернера меня отправили в лагпункт Усть-Ева.
Начальник Усть-Евы был некий Переверзев, о котором шла скверная слава. Он не убивал заключенных, как Пичугин, но он не допускал никаких приписок, поэтому многие голодали и умирали от истощения. От работы освобождали только при переломах костей или других увечьях, а истощение не считалось основанием для освобождения. Поэтому на Усть-Еве была привычной такая картина: бригада идет о работы тихим шагом, потому что впереди бригады идет отекший от голода и слабости человек, который уже за каждый шаг борется. Он идет с открытым ртом, выпучив глаза, широко расставляя ноги, тяжело дыша, шатаясь. Это обреченный человек. Если он еще сегодня дойдет до барака, то завтра или послезавтра он по дороге умрет, а мертвого лошадь приволочет.
На Усть-Еве я встретил Роледера. Когда я получил письмо от сестры Наташи с сообщением о ее смерти, Андрей утирал слезы. Наверное, он ее тоже любил.
Летом мы шли с лесоповала, впереди бригады шатался обреченный доходяга. Андрей был тоже очень слаб. По дороге охранник крикнул: – Привал! – чтобы переднему дать возможность прийти в себя. Мы с Андрюшей сели рядом на валяющееся бревно, он положил мне голову на плечо и как будто заснул. А когда стрелок крикнул – Поднимайся! – я толкнул Андрея и сказал: – Вставай, Андрюша. А он упал… Оказалось он умер сидя, опираясь на мое плечо.
* * *
А первая моя работа после прибытия на Усть-Еву была следующей. В лесу лежал снег по грудь. Мне дали большую деревянную лопату, и я должен был копать дорогу шириной в полтора метра по трассе, отмеченной жердями, засунутыми в снег. На второй день ко мне на лыжах подъехала Полина Антоновна. Я стоял внизу в своей выкопанной яме, а она наверху.
– Зачем ты Шитикову дал такое заявление, порочащее меня? – спросила она.
– Меня Ворошилов довел до безумия. Ведь на моих глазах погибала Наташа.
– А где она сейчас?
Я еще не знал, что она поехала к сестре в Ростов-на-Дону, а затем умерла в эвакуации. Все это я узнал только позже. Но я знал, что ей в Серове удалили матку. Это я рассказал Полине Антоновне. На нее мой рассказ произвел тяжелое впечатление.
Полина Антоновна была здесь дорожным мастером. Она мне помогала на Усть-Еве, сколько могла. Жила она с комендантом Иваном Яковлевичем Хрусталевым и имела большое влияние на него.
* * *
Хрусталев был когда-то директором обувной фабрики и получил 8 лет за большую растрату. Это был интересный человек, знаток русского фольклора, отличный организатор художественной самодеятельности. Когда он увидел у меня скрипку, то познакомил меня с гитаристом Львом Борисовичем Буряком, парнем 22 лет, отбывающим срок за грабеж с убийством. Буряк окончил десятилетку в Ленинграде, а затем связался с шалманом. Через два года я узнал, что он ограбил и зарезал кладовщика и за это был расстрелян.
А пока мы с ним каждый вечер играли в столовой, за что нам повар Костя Куракин давал добавки из остатков ужина.
А началось это с того, что меня однажды нарядчик позвал к Переверзеву в кабинет. Я тогда был очень слаб, вес у меня был без гроба 46 килограммов при росте 170 см. Я доплелся до кабинета начальника, а там стоял повар Костя Куракин, здоровенный парень, отбывающий срок за бандитизм.
Переверзев обратился к нему с бесстрастным лицом:
– Куракин, посмотри на этого доходягу. Ты его хорошо видишь?
– Хорошо вижу, гражданин начальник. – Как ты думаешь, Куракин, долго ли он будет жить?
– Я думаю, что он скоро сдохнет.
– А как ты думаешь, хорошо ли это? Кто же нас смешить будет?
– Да, гражданин начальник, плохо будет.
– Так вот, Куракин, корми его. Это нужный человек.
Вот так мы с Буряком оказались по вечерам в столовой и давали концерты. А Куракин нас кормил, когда уже все бригады были накормлены.
* * *
Воспитателем на Усть-Еве была симпатичная девчонка из местных жителей, звали ее Галя. Хрусталев с ее помощью организовал драмкружок и народный хор. Галя нам достала ноты и какие-то водевили. Мы ставили «Недоросля» Фонвизина, я играл Вральмана. В самодеятельности участвовали 10-12 человек из молодых заключенных. В оркестре были две гитары (Буряк и немецкий меннонит Дик), две мандолины, домра и моя скрипка. Несколько раз мы устраивали вечера в столовой, где кроме зеков присутствовали Переверзев и охранники, раненые фронтовики.
Настроение у заключенных было подавленное, многие не могли справиться с нормами и голодали. Каждую неделю кто-то умирал от истощения, Многие болели куриной слепотой. Однажды после захода солнца я ничего не видел и на ощупь зашел в комнату Хрусталева. Он сказал: – У тебя ведь авитаминоз, куриная слепота!
На следующий день меня освободили от лесной работы и назначили дневальным-поломойкой в бараке. Я обслуживал полбарака, а другую половину – армянский актер Матросян. Между этими половинами жили Хрусталев и нарядчик в отдельной комнате.
Хрусталев уговорил Переверзева создать из всех нетрудоспособных доходяг бригаду для сбора подножного корма. Она собирала в лесу грибы и ягоды, которые шли в пищу. Она собирала хвою, из которой варили навар. В бараках стояли баки с хвоей и мы стали ее пить вместо воды. Даже на рыбалку послали этих слабосильных, и они два раза привозили по возу свежей рыбы, пойманной мордами. Благодаря этим мерам многие выздоровели, и я тоже вылечился от куриной слепоты.
К концу лета к нам забрел начальник санчасти отделения, некий Генкин, врач из Москвы. Он с семьей эвакуировался на Урал и устроился на работу в Севураллаге НКВД.
Генкин зашел ко мне в барак, остановился и спросил, кто здесь убирает. Я представился. Тогда он сказал:
– Разве это пол? Это половая болезнь!
Когда он ушел, Хрусталев мне сказал:
– Не старайся! Шут с ним с полом. Он сгниет здесь в тайге, лишь бы ты остался живым.
В конце августа Хрусталев подал заявление с просьбой отправить его добровольцем на фронт.
Через 4 года в Сосьве я встретил освободившуюся Полину Антоновну. Она мне со слезами сообщила, что Иван Яковлевич погиб на фронте.
* * *
26.7.1987
В мае 1942 года на Усть-Еве скоропостижно умерла от воспаления легких медсестра Таня Андреянова.
Ей было 25 лет, когда ее, учительницу русского языка, арестовали за анекдот, который она рассказала в учительской и, без суда, по постановлению «тройки», ей дали десять лет.
Впервые я ее увидел в энгельсской тюрьме. Это была среднего роста, стройная, миловидная блондинка, всегда веселая, жизнерадостная певунья; при всей ее непосредственности и общительности она излучала такое наивное целомудрие, что даже уголовники при ней не смели ругаться матом.
В Савиново, после того, как афериста «фельдшера» Деева отправили на лесоповал и меня освободили от кратковременной медицинской карьеры, на должность «лекпома» был назначен врач Ивашкевич, породистый поляк 40 лет. Почти три года Таня у него работала медсестрой. В начале 1941 года, когда я в Ликино находился между Верх-Лозьвой и Тальмой, Ивашкевича отправили неизвестно куда.
Я помню, как я с Таней сидел на скамейке перед женским бараком, и она вдруг горько заплакала:
– Мы ведь хуже крепостных! Даже рабы имели право любить рабыню, а мы этого права не имеем?
Да, нас беспощадно преследовали за «связь с женщинами», и особо преступным нарушением режима считалась постоянная связь, любовь, в то время как на разовые, скотские встречи начальство закрывало глаза.
В Усть-Еве я снова встретил Таню. Она мне рассказала, что Ивашкевич находится в другом отделении Севураллага, кажется, на Лупте, и сумел через охранника, прибывшего оттуда, передать ей письмо, в котором он ей клянется, что останется ей верным и они поженятся, когда в 1947 году кончится их срок. Оба они отбывали по 10 лет по 58 статье.
– Ведь пять лет прошли, как один день, – сказала Таня со счастливой улыбкой на исхудавшем лице. – Осталось еще только пять лет.
А вскоре после этого она простудилась, лежала трое суток без медицинской помощи с высокой температурой и умерла. Ее зарыли где-то в тайге.
* * *
На Усть-Еве я подружился с бывшим австрийским военнопленным Густавом Шроммом, родом из Вены, район Оттакринг. Ему было 20 лет, когда его в 1914 году мобилизовали на русский Фронт, где он в 1916 году попал в плен. Здесь он полюбил русскую девушку и в 1918 году, когда все пленные возвращались домой, остался у своей жены, с которой он прожил почти 20 лет, когда его в 1937 году арестовали и без суда отправили на Урал. Ему было почти 50 лет, когда мы с ним познакомились. Он был очень истощен, изнурен тяжелой работой. Иногда он получал письма и посылки от своей жены, но это его не радовало. Он сидел перед убогой посылкой с поникшей головой и говорил: – Она же сама голодает, мне это в горло не лезет.
Густл, как я его звал по-австрийски, мне неоднократно говорил, что он покончит жизнь самоубийством.
Однажды мне кто-то сказал, чтобы я зашел в стационар, меня Густав Штром зовет. Я зашел туда, но дежурная сестра меня не хотела пустить, потому что там все болели дизентерией. Я не знал, что на Усть-Еве началась эпидемия, обещал сестре, что я ни до чего не дотронусь. Когда я зашел, все койки были заняты больными дизентерией, бледными, измученными, все время кто-то выскакивал из постели к ведру, стоящему рядом, и опорожнялся кровавым поносом. Все они были обречены, так как никаких лекарств не было. Слабым голосом меня позвал Штром. Я подошел к койке, и он мне на немецком языке сообщил страшную весть: он на днях тайно посетил эту больницу и из одного из ведер взял в рот кровавый кал, чтобы скорее умереть.
– Если когда-нибудь выйдешь на волю, сообщи моим родным в Вене, как я умер.
Адрес своей русской жены он мне не дал, только венский адрес. Я запомнил: Вена, 16 район, Тальгеймергассе, как будто дом № 47.
В 1976 году я был в Вене и зашел в этот дом, но оказалось что в этом доме жил когда-то Густав Ковар, член агитбригады «Ротес Темпо», которой я руководил. Очевидно из-за того, что оба были Густавами, я номер дома перепутал и не мог выполнить поручение Шромма.
Он умер два дня спустя после моего посещения. Меня до сих пор мучает совесть, что я не сдержал своего обещания.
* * *
30.7.1987
В сентябре 1942 года Усть-Ева была расформирована. На моем чемодане было 20 неперечеркнутых палочек, когда вдруг утром никто не вышел на работу, а всем велели собраться «с вещами» для отправки в этап.
Остались в лагере бухгалтер, повар и другие «придурки», как называли зеков, не занятых на «прямых работах», а также больные в стационаре. Их судьба мне неизвестна.
Мы пошли длинной цепью по лесу, впереди более сильные, а сзади слабые истощенные доходяги. Конвоиры шли и спереди и сзади и по бокам. Несмотря на то, что нас постоянно подгоняли, вереница зеков растянулась на полкилометра. Колонну замыкали подводы, на которых возили наш скарб и безнадежно отставших и падающих от слабости мужчин и женщин.
Я не помню, сколько мы шли. Утром нас еще накормил Костя Куракин баландой и выдал нам по куску хлеба, который все сразу же жадно сжевали. А после полудня мы прибыли в Ликино.
По дороге я вспомнил такой же поход по тайге четыре с половиной года тому назад. Дней десять нас возили в вагонах для скота, по 36 человек на вагон с зарешеченными окошками и дыркой в полу вместо туалета. Поезд вез из энгельсской тюрьмы десять вагонов с людьми в неизвестном направлении. По дороге мы выбрасывали письма через решетки, в том числе я выбросил письмо для Геди в город Дортмунд. Через девять лет я узнал, что она действительно получила это письмо. Чужие люди подбирали наши письма у железнодорожного полотна, наклеивали марки и отправляли по почте…
Нас кормили утром и вечером горячей пищей и выдавали нам пайку хлеба. В этом отношении нам повезло. Ведь когда я попал в Верхотурье, мне рассказали, что в 1941 году прибыл целый состав из Ленинграда с трупами умерших от голода зеков, осужденных за опоздание на работу. Охрана продавала по дороге все продукты… Говорили, будто кое-кого за это расстреляли.
Наконец открыли наш вагон. Мы вышли. Оказалось, что из всего состава три вагона загнали в тупик на станции Надеждинск – два вагона с мужчинами и один с женщинами. И погнали нас трое суток по тайге. Женщин было немного. Их возили на телегах и наши вещи тоже. Это было в конце марта 1938 года.
Люди находились несколько месяцев в тюремных камерах (а я и мой брат полтора года), и мы были очень ослаблены, так что этот трехсуточный поход от Надеждинска до Лозьвы (около 30 километров по тайге и болотам) нам совсем не был под силу. А конвоиры нас подгоняли под угрозой пристрелить любого, кто отстанет или отойдет в сторону. Правда, вооруженные ребята не выполняли, что им было приказано, и когда старики уже совсем не могли дальше идти, конвоиры останавливали колонну, давали отдохнуть или сажали ослабленных на подводу.
Вот так мы и сейчас шли из Усть-Евы в Ликино.
Я помню, тогда в марте 1938 года, мы ночевали на каких-то сеновалах. Вошли какие-то начальники и спросили, у кого какая специальность. Мы с братом немало удивились, что наше заявление, что мы являемся докторами наук (математик и языковед) не произвело никакого впечатления. А некий Келлер, инженер-строитель, вызвал живейший интерес, и его здесь же забрали из-под конвоя. Сапожники, портные, фельдшеры, агрономы оказались нужными людьми, а мои знания в области европейских языков вызвали только сочувственные улыбки.
На третий день мы приблизились к какому-то таежному поселку. Я шел одним из первых. Вдруг вижу, на дороге лежит сверток. Я нагнулся, поднял, развернул бумагу, в ней – полбуханки хлеба. А вокруг ни души. Другие нашли тоже свертки с хлебом, вареной картошкой, крутыми яйцами. Мы стали жадно есть и делить наши находки с отстающими. Когда мы подошли к домам, из-за кустов в нас стали бросать хлеб и картофель. Потом люди осмелели, сначала к нам подбегали дети, затем плачущие женщины, и передавали нам свои дары.
Мы, отверженные обществом, никакой жалости не испытавшие, измученные издевательствами следственных органов, были совершенно поражены этим проявлением сочувствия со стороны чужих людей. Я никогда не забуду эту картину, как русские женщины отдавали нашим заключенным немцам свой хлеб, и как эти немцы из Поволжья глотали его со своими слезами вместе, как мужчины плакали навзрыд, держа картошку дрожащими руками.
А конвоиры кричали: «Отойди! Стрелять будем!» – и стреляли в воздух.
Потом уже, когда мы прибыли в первый лагпункт («Лозьва») и первыми десятниками оказались мужчины из этого таежного поселка, мы узнали, что это были оставшиеся в живых раскулаченные. Если поверить их рассказам, так их привезли сюда в 1931 году поздней осенью 30.000 (тридцать тысяч!) человек, мужчин, женщин, подростков и сказали им: – Вот здесь живите. – Без крыши над головой, триста грамм хлеба на душу в сутки… Девушки отдавались охране за кусочек хлеба. От голода и болезней стали все подряд умирать, хоронить было некому. Выжил только один процент, самые сильные, кто успел выкопать землянку и сумел прокормиться клюквой, брусникой, грибами…
Вот какой это был поселок, который нас встретил хлебом и слезами.
Наконец мы, до ужаса уставшие, пришли в наш первый лагпункт Лозьва. Женщин до этого от нас отделили, и они в основном попали в Савиново. Нас было около 70 мужчин, которых разместили в длинном бараке, где уже жило два десятка грузин, прибывших из тбилисской тюрьмы. Сначала мы не могли привыкнуть друг к другу. Немцы говорили на своем диалекте, а грузины – по-грузински. С русским языком на первых порах обстояло неважно. И совсем странные песни пели эти кавказцы, с гармонией, непривычной европейскому уху.
А затем мы узнали, как нам повезло, что мы не прибыли из тбилисской, а из саратовской и энгельсской тюрем. Большинство грузин были зверски избиты во время следствия.
Среди них был мною неоднократно упомянутый прокурор Джапаридзе. Он вызвал лютую ненависть у десятников из местных жителей, ранее раскулаченных. Однажды, когда мы вечером возвращались с работы, наш десятник вдруг придрался к Иосифу Платоновичу из-за какой-то мелочи и стал его ругать матом, приговаривая:
– А сколько людей ты сам угробил, сволочь грузинская?
И затем был мат.
Это была откровенная провокация, чтобы Джапаридзе не выдержал и ответил тем же.
А он стоял бледный, молча, со стиснутыми зубами. Я видел, как грузины стали его обступать, боясь, что он вдруг ударит десятника.
В этот момент один из немцев, баптистский проповедник, подошел к десятнику и сказал ему спокойно:
– Раз этот прокурор с нами здесь, значит он не угодил начальству. Он такой же несчастный как ты и я, и мы все.
В этом проповеднике по фамилии Янц или Янцен было что-то сильное и убедительное. Десятник отвернулся, и мы продолжали путь.
* * *
До Ликино нам еще шагать несколько километров. А я вспоминаю, как я с братом свалил первое дерево.
Утром после прибытия нас всех построили, разделили произвольно в две бригады, выдали нам поперечные пилы и топоры и повели в девственный, нетронутый лес. С каждой бригадой шел, кроме конвоира, инструктор-десятник из местных жителей. Отойдя от барака (ограды и вышек еще не было) не больше чем полкилометра, нам велели разделиться на звенья и начать лесоповал. Мы с братом не имели никакого представления, что это такое. Пока немецкие колхозники, из которых, в основном, состоял наш этап, начали дружно валить деревья, и вокруг нас гремели падающие стволы, мы стояли в нерешительности, не зная, с чего начать.
Подошел десятник и спросил, почему мы не шевелимся. Мы признались, что нам до сих пор не приходилось лес валить. Тогда он указал на дерево, внушающее страх своими размерами. Это был красавец в три с половиной конца с диаметром пня 50 сантиметров и 44 в первом верхнем отрезе. Десятник сказал, что пень должен быть не выше 24 см, и что нужно сперва сделать подруб. Мы спросили, что такое подруб. Тогда наш ментор сочно выругался я удивился, как мы вообще до сих пор жили на свете. Потом схватил наш топор и вырубил клин глубиной 10 см под углом 45 о. Сделав это, он повернулся и ушел.
Стояли мы с братом и не знали, с какой стороны пилить. Нам показалось самым логичным продолжать там, где уже было подрублено, потому что оттуда вроде меньше пилить надо. Вот и взялись мы дружно за это дело, не зная, какой опасности мы себя подвергали. Когда пила уже вся вошла в дерево, она шла все туже и наконец, совсем застряла. Тогда я пошел искать десятника за советом. Он не зная, что мы пилили с обратной стороны, дал мне клин и велел вбить его, чтобы освободить пилу. Так мы и сделали, продолжая пилить, постепенно дальше вбивая клин. Вдруг сосна стала себя странно вести: она треснула, и ствол стал вертеться в неопределенном направлении. Мы от своего страшного дерева убежали в разные стороны. Я далеко убежал, слыша за спиной грохот падающего дерева. Потом долго блуждал и не мог его найти. Нашел я только брата, который тоже искал эту сосну. Наконец мы ее нашли. Она была треснута высотой до пяти метров. Вместо пня торчала вертикальная белая стрела, а ствол лежал как-то поперек с исковерканным первым концом. Пила была искорежена.
Лесорубы из нас не получились.
* * *
31.7.1987
Итак я прибыл в Ликино 15 сентября. Встретил Дягилева, который без напоминания продолжал расплачиваться за пальто, так что я был обеспечен двумя завтраками и ужинами.
Не помню, что я работал в Ликино. Кажется, я был на уборке картофеля. Хорошо помню, что мне осталось всего три дня срока, когда меня направили с бытовиками на «переборку капусты» Большой сарай был до самой крыши набит вонючей слизью. Никогда я не думал, что благоухающая капуста может превратиться в такое дерьмо. Из него мы должны были отобрать что-нибудь пригодное для пищи. С утра до вечера мы откладывали уцелевшие жалкие кочаны, а ведра со слизью выбрасывали в Лозьву. Не удивительно, что в реке пропала рыба.
А 6-го октября, когда на моем чемодане появилась палочка минус одна, я перевернул свое ведро, сел на него и заявил конвоиру, что вчера кончился мой срок, и я бастую. Он мне пригрозил, что заявит начальству об отказе от работы, и меня посадят в карцер. Но я был в отчаянье. Ведь мне было известно, что многих осужденных по 58 статье не освобождали, а просто объявляли им, что им добавили еще столько-то лет, обычно десять.
Так я сидел несколько дней. Стрелок был добрым парнем, начальству не заявил, а бригадир мне выписал 30%, так что я сидел на трехстах граммах хлеба, но выручали меня харчи Дягилева.
И вдруг пришел к сараю другой охранник и велел пойти с ним. Уверенный, что меня как отказчика ведут в изолятор, я поплелся за ним с поникшей головой. Но нарядчик велел мне срочно собрать вещи (пресловутый чемодан с котелком и ложкой, а также скрипку Гернера, для которой кто-то из женщин сшил футляр из черной тряпки) и отправиться к реке. Там стоял катер, и в нем были человек двадцать заключенных. Оказалось, что у них всех кончился срок, и нас отправляют в Сосьву, где находилось управление Севураллага.
В отдельной каюте ехал на катере начальник санчасти Генкин с женой и двумя детьми. Он приоткрыл дверь и просил меня что-нибудь сыграть на скрипке. Я играл Шуберта, Крейслера, Штрауса и еще что-то. При этом он мне сказал, что он был на Тальме с расконвоированными, и они там раскопали некоторых умерших от «воспаления легких», но почему-то с проломленными черепами.
На второй день нас высадили, кроме Генкина, и повели под конвоем дальше. По дороге мы встретили группу эстонцев, представителей интеллигенции. Они стояли, утирая слезы, и один из них произносил речь на эстонском языке. Их конвоир терпеливо стоял и ждал, когда митинг кончится. Наша группа сделала привал, во время которого эстонцы мне сказали, что они похоронили только что умершего по дороге какого-то профессора Тартусского университета.
Нас привели на сосьвинский комендантский лагпункт. Я там находился несколько дней, как в санатории. На работу меня не посылали. Только замначальника по производству инженер из Москвы Ермолаев по вечерам звал меня в свой кабинет и просил поиграть на скрипке. Я удивился этому, ведь я был самоучкой и играл весьма посредственно. Но обстановка, в которой оказались эвакуированные москвичи, была настолько убогой, что они были рады малейшему проблеску культуры.
25-го октября нас десять человек повели в управление к начальнику 3-го отдела полковнику Петрову.
Мы сидели в «антишамбаре» перед его кабинетом, и он стал поодиночке вызывать.
Первым зашел к нему грузин по фамилии, кажется, Мегрелидзе. Через пять минут он вышел сияющий и сказал, что полковник его спросил, любит ли он советскую власть, на что грузин ответил, что он от нее без ума, после чего ему сказали, что он может идти.
Следующим был немец Вебер. Когда он вышел, он с огорчением сообщил, что его отправляют в трудармию. А что это такое никто не знал.
Я был из последних. С сердцебиением я открыл дверь. За длинным столом для заседаний стоял поперек письменный стол, и за ним сидел худой, лысый, хмурый офицер лет 50-и.
– Стойте у двери, – сказал он. Затем, глядя на меня пронзительным взглядом, он добавил:
– У вас кончился срок 5-го октября. Вы его отбыли полностью.
Я кивнул, не в состоянии вымолвить ни слова.
– Но ведь у нас есть сведения, что вы относитесь отрицательно к советской власти.
Здесь я до того разозлился, что не мог совладать с собой.
– Если я вам скажу, что я вас очень люблю, вы ведь меня будете считать лгуном и подлецом, – сказал я. – У меня степень доктора, я знаю в разной степени пятнадцать языков. Смотрите, во что я одет, на какой работе я был эти годы – разве я могу быть в восторге от своего положения? Дайте мне работу по специальности, и я буду для вас полезным человеком.
Петров, очевидно, такой речи не ожидал. Он широко улыбнулся:
– Подойдите, сядьте.
Я сел у его стола и заметил на его столе свою толстую тетрадь, в которую я с 1937 года до 1939 записывал блатной фольклор и словарь «старой фени», которую у меня отобрали при «шмоне», т.е. при обыске на Верх-Шольчино.
– Это мой словарь! – воскликнул я.
– Я знаю, – сказал полковник. – Он нам сослужил добрую службу.
После небольшой паузы он продолжал:
– А ведь освободить мы вас не можем. Вы объявили себя евреем. Но родственники, которых вы указываете в Москве и Одессе, эвакуированы или на фронте. А пока что все немцы на вас указывают как на самого грамотного из них. Приехали вы из Австрии. Сейчас идет воина. Кончится война, мы выясним, кто вы на самом деле. А пока что вы для нас немец. Итак, мы вас освобождаем из заключения, но мобилизуем в трудармию. Дадим вам литерный билет до Верхотурья с направлением и продаттестатом.
В лагерь нас обратно провожал конвой. А утром открылись передо мной ворота, и я, все время оглядываясь и не веря, что за мною никто не ходит, со скрипкой под мышкой и фанерным чемоданам в другой руке отправился на станцию. Когда, пыхтя, подъехал паровоз, я даже перепугался. Непривычно это было после стольких, лет в дикой тайге.
Я сел в вагон. Он был почти пустым. Напротив меня у окна сидел мужчина, наверное, из эвакуированных. Костюм, видавший виды, обтрепанный галстук. А я был во всем лагерном, включая лапти.
Мужчина, пожилой, небритый, в очках, спросил, оглядывая меня и мою скрипку:
– Куда держите путь?
– Я сбежал из могилы, – ответил я, – и еду в поисках нового кладбища.
Мой собеседник вытаращил на меня испуганные глаза, безмолвно поднялся и ушел в другой вагон.
* * *
22.8.1987
Я сказал, что не помню, чем занимался в Ликино. Вспомнил: я работал у моторной пилы. Горбыль относил в сторону, а доски складывал в штабели. Хорошая и сухая работа. Комар не кусает, под крышей, в тепле. Потом я работал у другой пилы, которая разрезала толстые бревна на чурки 70 см высотой, а я успевал за пилой расколоть эти чурки и в перерывах складывать полена в поленницу.
Однажды я на улице увидел Шуру Бочкареву с ребенком на руках. В 1962 году я узнал, что это была младшая дочь Буяка – Нина. Шура нянчила Нину, а до этого Ирину.
Нина Буяк приходила ко мне в Москву в гости где-то в 1968 году с мужем-летчиком и подругой Ушаковой (внучкой автора русского словаря). Через год ее муж ее бросил с ребенком и жил с Ушаковой, потому что Нина ему изменила с врачом. Жили они в Йошкар-Оле.
Ирина пишет, что они опять сошлись, и Нина «отбесилась». Нине сейчас 47 лет, а Ирине больше 50. Ирина парализована и привязана к постели.
Вот что жизнь придумывает.
А в Ликино был такой случай. Меня послали на конный двор возить бревна со склада куда-то за 200 метров по дороге. Мне запрягли какую-то старую клячу с волокушей. Мне надо было на волокушу нагрузить бревно и гнать эту лошадь по дороге. А эта хитрая тварь меня слушала только сто метров, а затем поворачивала и, как я ее ни дергал, тащила бревно обратно в конюшню. Я начинал ее бить, тогда она бежала галопом, так что я за ней едва успевал. А ребята на конюшне надрывали надо мной животы. Так я и не довез ни одного бревна.
* * *
Город Верхотурье находился за шесть километров от вокзала, но лагерь трудармейцев был где-то ближе на «Мостовой». Не знаю, почему так называлось начало УЖД, т.е. узкоколейной железной дороги. Мало радости было, что меня «освободили», ведь этот лагерь был тоже окружен частоколом, была вахта, и был конвой.
Меня пропустили на вахте, комендант из волжских немцев зачислил меня согласно продаттестату на питание и показал мне мое место в одном из бараков. Поужинав, я, усталый от всех переживаний, лег спать.
А ночью вдруг меня кто-то стал тормошить. Я проснулся и не верил своим глазам: передо мною стояла маленькая блондинка Нона Сталенионис, вынула из-за пазухи два еще горячих пирожка с картошкой и сунула их мне в руку. «Я работаю на кухне, только ты туда не приходи ко мне», – шепнула она. Я никогда не забуду эти пирожки, которые мне Нона приносила по ночам. Ведь у нее были всякие ребята в Савинове, когда мы с ней пели частушки весною 1938 года. А я к ней никогда не приставал, просто относился к ней дружественно. Вот в такой доброй памяти я ей остался. Нона, оказывается, числилась по личному делу австрийкой, а почему, это она сама не знала. Посадили ее без паспорта, как бродягу. Кто был ее отец, она не знала, она была сиротою. В Савиново ей было всего 17 лет.
Через две недели Нона исчезла из лагеря. Комендант сказал, что ее по болезни отправили в Ступино, где была центральная больница Верхотурского отделения Севураллага.
Вообще на Мостовой были в основном немцы, большинство из немцев Поволжья, но и из Москвы, Ленинграда, Украины и других мест. Я, например, помню Густава Эльфингера, племянника (сына сестры) пролетарского поэта Эриха Мюзама, зверски замученного в фашистском концлагере и покончившего жизнь самоубийствам. Эльффингер работал механиком в мехмастерских. Он был очень опечален тем, что его русская жена в Москве от него отказалась. Это был на вид крепкий и красивый мужчина лет тридцати. А в 1947 году мне писали из Верхотурья, что Эльффингер умер от инфаркта миокарда.
Утром после завтрака меня включили в бригаду грузчиков, и мы пошли под конвоем на лесосклад. Туда привозили по УЖД круглый лес, вагоны разгружались, бревна накатывались на высокие штабеля, а оттуда грузились на гондолы и платформы железной дороги широкой колеи, чтобы отправляться вглубь страны.
Я помню первые лагеря по УЖД: Ступино (больница), Боровлянка и Березовка (лагеря заключенных).
Погрузка вагонов была очень трудоемкой работой, и без приписок нельзя было справиться с нормой. В гондолу входило 50 фестметров древесины, и это надо было высоко катать через край вагона. А на платформах надо было укрепить вертикальные стойки, а потом туда катать лес и так закреплять проволокой, чтобы он не развалился.
Так я весь ноябрь ходил на погрузку леса, зарабатывал свою горбушку, а стахановские пирожки мне ночью тайком приносила Нона.
* * *
5.8.1987
В верхотурском лагере я узнал, что республика немцев Поволжья уже не существует. Мне рассказали, как вдруг в одни сутки всех немцев буквально выгнали из республики вместе с коммунистами и всей интеллигенцией, в том числе и врачей Урбаха и Гразмюка, которые пользовались в народе большой любовью. Колхозников заставили бросить скот, кур, собак и прочую живность, а поскольку не хватало подвод и лошадей, людей погнали пешком, и только больных и стариков посадили на телеги. Недоеные коровы кричали от боли, рассказывали мне крестьяне со слезами. Люди не успели взять с собой достаточно продуктов, а пришлось идти месяц до Казахстана. Только прибыв туда, забрали мужчин в трудармию, а женщины и дети погибали на чужбине. Все это было страшно слушать. Были среди немцев счастливчики, которые списались со своими семьями и даже получали скромные посылки, но многие не имели никаких весточек от своих, что их очень деморализовывало и угнетало.
Я был новичком в лагере, а большинство были «старожилы», т.е. они здесь находились уже с зимы.
Мне пришла идея устроить вечер самодеятельности. В столовой после раздачи ужина собрались трудармейцы, но и вольнонаемные, например, начальник лагеря Целищев, много женщин, в том числе молодая женщина-врач Гинзбург.
Я ее помню с 1918 года. Она тогда была цветущая, лицо как персик, только что окончила Одесский мединститут и была направлена на работу в Севураллаг. Я помню, как меня с бригадой направили к Лозьве-реке на погрузку баржи продуктами, а на берегу стояла Гинзбург в окружении нескольких офицеров, прибравших ее к рукам. Мы таскали мешки с мукой и сахаром, весом около 60 килограмм, я на доске потерял равновесие и вместе с сахаром упал в реку. Гинзбург тогда ахнула. А теперь она меня узнала. Прошло с тех пор 4,5 года, и она была уже очень потрепана.
Так вот, я нашел среди трудармейцев какого-то профессионального певца из Москвы, который владел зычным баритоном и пел на этом вечере «Орленок, орленок», и некоего Гепнера, народного артиста Крымской АССР, прекрасно читающего короткие рассказы Зощенко. Я пел песни на немецком языке под гитару, чем вызвал восторги среди несчастных немцев, не смевших даже обращаться на родном языке. А затем я объявил танцы, играл на скрипке, и русские женщины, занятые в лагере, танцевали с молодыми немцами. Этот вечер поднял настроение у трудармейцев. Начальник лагеря обратил на меня внимание и сказал мне, что надо такие вечера чаще организовывать, у людей будет хорошее настроение. Я устроил два раза в неделю такие представления с танцами, после чего меня вдруг назначили нормировщиком в мастерских.
Я не имел ни малейшего представления о том, чем там люди занимались, и в течение двух месяцев нормировал их труд с потолка, лишь бы рабочие были обеспечены горбушкой. Заведующий мастерской Виллевальд, молчаливый пожилой человек, был мною доволен. Я еще помню механика Герхарда Штарка, молодого парня из Крыма. Он мне рассказал, что одно время был под следствием в симферопольской тюрьме, и что там сидел под следствием писатель Герхард Завацки, которого я знал из Энгельса. Он однажды явился ко мне домой и принес первую часть своего романа «Мы сами». Я рукопись отредактировал. Она в моей редакции сейчас опубликована в альманахе «Хайматлихе Вайтен». Через Штарка я узнал, что Завацки, физически слабый человек, был арестован и во время следствия избит. Позже я узнал, что он вскоре умер где-то в лагере около Соликамска.
Гинзбург я встретил через 5 лет в Свердловске, когда я в военном госпитале посетил Буяка после операции почек. Ей тогда было 34 года, а выглядела она на все 50: седая, замученная. Она вышла замуж за коменданта лагеря (не то Гофмана, не то Гофмайера), алкоголика, родила двух детей, а муж ее избивал, и ей было некуда деться. Ее родные, очевидно, погибли в Одессе, так как после оккупации Одессы она от них никаких писем не получала. Я с удручением помню эту встречу, ее безнадежный рассказ, ее отчаянье и безвыходное положение.
13.8.1987
Восемь дней подряд я день и ночь ломаю голову и ничего и никого не могу вспомнить из верхотурского лагеря. Не помню даже, сколько времени я там провел. Осталась туманная картина: в лагере много народу, безликая толпа, а на складе – вагоны, высокие гондолы, на которые я с кем-то при помощи рычагов и вручную катаю лес. Больше всего запомнились вечера самодеятельности, а после них раздвигают столы и скамейки, и я играю на скрипке, кто-то аккомпанирует на гитаре, а народ танцует под немецкую польку «Тру-ля-ля».
Однажды на таком вечере танцев присутствовал какой-то начальник не то из управления, не то это был начальник верхотурского отделения Лев Михайлович Бесчинский. Утром комендант велел мне не выходить на работу, в 10 часов меня вызвал, кажется, Целищев и сообщил мне, что я назначен нормировщиком в женский лагерь трудармейцев Корещиху. Мне дали какие-то документы, продаттестат: направление и я отправился в путь.
Мне до сих пор непонятно, почему именно меня туда направили. Может быть, я себя отрекомендовал как податливый нормировщик, который обеспечивал всех куском хлеба. Может быть, про меня было известно, что я не связывался с женщинами, а слух о Наташе до Верхотурья не дошел.
Не помню, как я добрался до Корещихи. Это был сельскохозяйственный лагерь в стороне от узкоколейки. Кажется, я туда добрался пешком. Шла хорошая укатанная дорога через тайгу, где в канаве вдоль дороги летом росли сплошные белые грибы. Потом тайга сменилась сенокосными лугами, полями, и вдруг я увидел колхозный поселок и лагерь за частоколом. Не было ни вахты, ни охраны, ворота стояли открытыми. Я прибыл туда зимой, наверное, в январе 1943 года, затемно. Зашел в лагерь, когда женщины уже готовились ко сну. Никого из начальства не было. Дом начальника Никитина находился в стороне от лагеря, на дороге. Мое появление вызвало ажиотаж среди женщин. Они меня устроили на ночь в одном из бараков, постелили матрац на большом столе, а сами легли на свои койки. Усталый с дороги, я мгновенно заснул. А утром разыскал Никитина.
В Корещихе было около 120 женщин и девушек, все немки из разных мест, в основном из Поволжья, но и с Украины, из Ростова-на-Дону и др.
Никитин, болезненный мужчина 50-и лет, жил здесь с женой не старше 30-и и маленьким сыном. Я не помню, чтобы он когда-либо смеялся или даже улыбался. Он мне рассказал, что он был начальником лагпункта на Медвежьей Горе, на строительстве Мурманской железной дороги, о которой говорили, что на каждой шпале лежит труп замученного зека. При всей его замкнутости и неулыбчивости это был добрейший человек, который с большим сочувствием относился к подчиненным. Наверное, это была причина, по которой его из тех мест отправили на Урал.
Я ему утром представился.
– Мы до сих пор обходились без нормировщика, – сказал он. – Женщины работают на совесть. Их подгонять не надо. Конечно, бухгалтеру нужно основание, чтобы им выписать продовольствие согласно выработке. Ну, смотрите, не обижайте их.
Потом он меня повел к двухэтажному дому, стоящему тоже на дороге. Там на втором этаже я устроился на житье в маленькой комнате с койкой, а в большой комнате жили бухгалтер Тургенев и счетовод, оба бывшие заключенные, отбывшие свой срок по 58-ой статье.
Еще одна вольнонаемная женщина работала в лагере. Она жила в маленьком домике в самой зоне. Это была фельдшер Вера Владимировна Ясенская. Как она попала в медработницы, непонятно. Это была бывшая балерина Воронежской оперы или оперетты, но теперь уже пожилая женщина с сединой. Она отбыла 5 лет неизвестно за что, но я предполагаю, что села она за то, что ее подругой была Аллилуева, жена Сталина.
Ясенская жила с мужем где-то в центре Москвы. Ее излюбленная тема разговора с женщинами и девушками-немками была, как Аллилуева к ней приходила домой, чтобы немного душой отдохнуть, и как оно за день до смерти явилась взволнованная к Вере Владимировне и жаловалась, что она боится идти в Кремль.
* * *
Среди трудармеек была 16-ти летняя Валя Мюллер, племянница бывшего наркома просвещения АССР НП Александра Вебера.
У меня с Вебером были особые счеты.
На республиканском совещании учителей я обвинил Вебера в очковтирательстве и процентомании. Будучи преподавателем истории и грамматики немецкого языка в немецком пединституте да в немецкой республике, я провел диктант по всем факультетам, который показал, что 90% студентов были малограмотными. За этот диктант Вебер меня ругал на этом совещании, и между нами произошла перепалка. После этого я опубликовал критическую статью в центральной газете «Нахрихтен», чем навлек на себя гнев Вебера.
После этого Вебер у меня заказал перевод географического атласа на немецкий язык. Я потребовал за эту работу (более 10.000 наименований) 1000 рублей. На эту сумму мы заключили договор. А я, как засел за работу, так выполнил ее за несколько дней и сдал ему перевод, отпечатанный на машинке.
Вебер был возмущен и отказался платить. Тогда я подал в суд на наркомпрос, и мне присудили все 1000 рублей, которые я получил через судебного исполнителя.
Вскоре Вебера постигло несчастье: умерла от внематочной беременности его молодая жена, студентка истфака Ида Гаус, веселая затейница, участница художественной самодеятельности.
Как вежливый человек, я направил Веберу письмо, в котором я ему выразил свое искреннее соболезнование.
А в тот же день у меня дома (я жил с Геди у Чернушенко, где мы снимали комнату) появился курьер из наркомпроса, который мне вернул мое соболезнование с резолюцией Вебера в левом верхнем углу:
«С возмущением и отвращением возвращаю ханжеское соболезнование врага! – Вебер».
А теперь я встретился с Валей Мюллер, племянницей Вебера, т.е. Иды Гаус. От нее я узнал, что Вебер отбывает десять лет по 58 статье в Норильске, где он работает возчиком. Я просил Валю, когда она будет писать дяде Саше, чтобы она мне разрешила добавить несколько строк.
Я написал ему: «Дорогой т. Вебер! До сих пор я не могу понять, за что вы меня так обидели зимою 1935/36 года. Ведь я действительно честно вам сочувствовал» и т.д.
Валя получила ответ из Норильска. Вебер ей писал: «Берегись этого человека, это опасный и коварный человек».
Через 12 лет, в 1956 году я случайно в Томске на главпочтамте познакомился с родственницей Вебера (кажется его тетей) и от нее узнал, что он жив и здоров и живет в Сызрани со второй женой.
Я ему написал в Сызрань и повторил, что мое соболезнование было искренним.
Он не ответил.
Наконец, где-то в 60-е годы, незадолго до его смерти, мы с ним встретились в редакции «Нойес Лебен», помирились и стали друзьями. Оказалось, что вину в беременности Иды он приписал мне.
И только недавно он узнал от ее сестры Анны Гаус, вдовы бывшего завуча Немпединститута Целяско, что виновником был Петер Брунс, эмигрант из Германии, ее сокурсник, (между прочим, агент гестапо, как он добровольно признался). Ида в этом созналась сестре, а Анна до тех пор хранила эту тайну.
* * *
14.8.1987
Среди разных ремесел, которыми занимались женщины зимою, мне особенно запомнился гончарный цех, где колдовала Фрида Раймер, девушка 22-х лет из Поволжья. Хотя и говорят, что не боги горшки обжигают, но Фрида там орудовала как настоящая богиня. Небольшого роста, крепкого телосложения, с загорелым, всегда улыбчивым лицом, она одна успевала за всем: восседала за гончарным кругом, вертела его босыми ногами, выделывая горшки, чашки, тарелки, кувшины своими ловкими пальцами; она же поддерживала огонь в печи, где обжигала творения своих рук, она же месила глину, доводя ее до кондиции, и уносила свою продукцию вниз на первый этаж маленького дома, предоставленного ей в качестве мастерской. И она добывала глину и таскала ее на санях, чтобы дома сделать ее гибкой и послушной. Хотя она меня полгода спустя чуть не погубила, но я ее вспоминаю с уважением, потому что она тогда была права, не зная никаких компромиссов со своей совестью. Но об этом позже.
Напротив дома, где я жил с Тургеневым и счетоводом, находилась хлебопекарня. Там работали две сестры: Луиза Бехер 36 лет и Клара Петерс 22-х. Они были из Ростова-на-Дону, там их мобилизовали в трудармию. Луиза, урожденная Петерс, развелась с мужем еще до войны. Клара, крупная, большеглазая девушка с косой, тихая, скромная, трудолюбивая певунья, была кладезем немецкого фольклора. Она знала много народных песен, которые даже я не знал, много сказок и былин и, несмотря на то, что успела окончить только 7 классов, писала по-немецки почти без ошибок. Я очень скоро подружился с сестрами, а в Клару влюбился без ума.
Сейчас ей 66 лет. Живет она с мужем и взрослым сыном в Нижнем Тагиле. Два года тому назад она меня поздравила с 80-илетием, не указав свой обратный адрес…
Луиза сперва относилась неодобрительно к моим частым посещениям пекарни, а потом смирилась.
Однажды ночью, когда в пекарне было темно, я обратил внимание на громкое жужжание. Луиза объяснила, что это шум от массы тараканов, от которых не знает, как избавиться. Был на дворе 30-ти градусный мороз. Я на другой день предложил Никитину выпечь хлеб за сутки вперед. Его жена была завскладом, она выдала двойное количество муки. Имея запас хлеба на два дня, мы открыли на целые сутки все окна и двери, так что тараканы замерзли, и с ними было покончено до самой осени.
* * *
Пришла весна и с ней весенние заботы: посадка картофеля, моркови, лука, чеснока и других овощей. Группа женщин была занята заготовкой дров для отопления барака, пекарни и других строений. Моя задача состояла в том, чтобы, исходя из совершившихся работ, скомбинировать нормы, согласно которым люди выполняли по 110-120%. Какая норма была, например, для работы Фриды Раймер? Просто смешно.
Вообще я помню Корещиху как курорт. Делать мне было нечего. От скуки я помогал колоть дрова и пилить их. Неоднократно я ходил с женой Никитина собирать грибы. В лесу было изобилие белых грибов. Я лазил на кедры при помощи приделанных к ботинкам когтей и сбивал оттуда шишки, а Никитина их собирала в мешки, и мы их потом жарили и ели вкусные кедровые орешки. Два раза я ходил с Никитиным на охоту. Он мне дал дробовик и брал с собой собаку. Один раз мы даже принесли пять уток.
Но эта беззаботная жизнь кончилась в августе, когда начался сенокос. Вообще сенокос – очень красивая работа при солнечной и сухой погоде. Но как только мы накосили траву, начались бесконечные дожди, которые с перебоями беспрестанно лили весь сентябрь до середины октября. Стога, собранные на скорую руку, начали гореть. Вообще я видел, как женщины косили и гребли, но чтобы жен-дины подавали сено вилами на стог и наверху стояли и копнили сено – такое я видел первый раз. Это даже для мужчин тяжелая работа. А потом, когда из стогов дым пошел, и их все надо было разбросать, а внутри было все черно и из золы поднималось пламя – так этих женщин стало жаль до слез. Никитин ходил растерянный по сенокосу, у него даже был сердечный приступ. Наконец, во второй половине октября на несколько дней прекратился дождь, и мы успели сено высушить и застоговать. Одновременно успели выкопать картофель и куда-то отправить. И к концу октября было объявлено, что Корещиха ликвидируется. Женщин разослали по разным сельскохозяйственным объектам. А я получил направление на станцию Косолманка, в так называемую Большую Косолманку, на должность завхоза больницы и дома матери и ребенка. Луизу отправили куда-то далеко от Корелино телятницей, а Клару – в Верхотурье на Мостовую в пекарню.
* * *
15.8.1987
Большая Косолманка находилась у железнодорожной станции Косолманка на ветке от Свердловска до Ивделя. Она состояла из лагеря трудармейцев по левую сторону железнодорожного пути (если ехать в Свердловск) и из больницы для заключенных и роддома заключенных женщин – по правую сторону пути.
Об этих двух объектах я скажу потом.
В лагере мне отвели комнату в одном из бараков. Прежде всего, я с нетерпеньем ждал встречи с Владимиром Федоровичем Далингером, бывшим начальником особого отдела НКВД Саратовской области, который здесь в лагере был секретарем парткома. Ведь трудармейцы хотя и находились под строгим режимом, считались не заключенными, а мобилизованными.
Далингер был главным следователем и руководил «следствием» по «делу» моему и моего брата. У меня с ним была одна единственная встреча в саратовском НКВД. Это было зимою 1936/37 года. Меня вызвали к нему на допрос. Когда я вошел в кабинет, передо мной сидел полный мужчина в форме офицера. Он меня спросил, почему я отказываюсь от расовой теории, ведь я в беседе со студентами называл секретаря парткома Чернушенко «крестьянской башкой» (Bauernsch?del).
– Да, – сказал я, – но, во-первых, это к расовой теории не имеет отношения, так как крестьяне не являются расой; во-вторых, на немецком языке в этом слове ничего обидного нет, скорее всего, это похвала. Я хочу напомнить, что в «Воспоминаниях о Ленине» Н.К.Крупская, сразу на первой странице, рассказывает, как она впервые увидела Ленина. Это было на какой-то сходке. Рядом с ней сидела, кажется, Клара Цеткин и спросила ее: «Ты видишь там эту крестьянскую башку? Это Ленин».
Здесь Далингер ударил кулаком по столу и крикнул: «Заткнись… твою мать!» – вызвал охранника и велел меня немедленно отправить обратно в тюрьму.
Это был весь допрос. Он длился не более пяти минут и не имел никаких последствий.
Но из коварных методов следствия, которые входили в систему Далингера, я помню следующую потрясающую своей подлостью историю.
Это было где-то в начале 1937 года. Однажды ночью к нам в камеру привели странного человека, худощавого, среднего роста, который с нами (нас было двое: я и бывший австрийский военнопленный Эрвин Ланг, специально ко мне посаженный провокатор) не хотел разговаривать и всю ночь не спал. Чуть свет он стал стучать в дверь, звал отделенного и требовал на отличном немецком языке, чтобы ему, наконец, дали машину, так как его жена дома ждет и вообще ему пора на работу. Отделенный не понимал по-немецки и просил меня перевести ему на русский язык. Когда я перевел, парень спросил, не сумасшедший ли сюда попал, и захлопнул дверь. Но наш новенький продолжал стучать и нервничать, от завтрака отказался и к нам относился с явным презрением. Я не помню, сколько времени это продолжалось, но кажется мне, что в этот же вечер его вызвали на допрос. Долго его не задержали. Вернулся он, весь дрожа, на нем лица не было, и здесь, наконец, он нам рассказал, что с ним произошло.
Его звали Карл Гефтер (Hefter). Это была его партийная кличка, настоящую фамилию я не знал. Он был политэмигрантом из Германии, коммунист. В Марксштадте он был секретарем парторганизации на заводе «Коммунист». В ту самую ночь, когда он к нам попал, к нему приехали на легковой машине двое штатских, просили извинения за беспокойство и сказали, что его вызывает начальник ОСО Далингер по важнейшему партийному делу. Его повезли в Саратов, где его принял Владимир Федорович Далингер с переводчиком. Далингер сказал ему, что Гефтер на заводе единственный честный человек, которому он верит. Он просит его дать подробную характеристику на целый ряд членов ВКП(б). В моей памяти остались директор завода Свиревич, юрист Монд, инженер Гандшу (Handschuh) и немецкий коммунист, член рейхстага, депутат от ГКП Саксонии Берг. Всего он дал самые лучшие характеристики человек на десять. Наконец, ему дали подписать протокол. Он был написан на русском языке, которого Гефтер не знал.
– Не сомневайтесь, – сказал Далингер. – Все написано дословно по вашим показаниям. Неужели вы нам не верите?
Гефтер подписал.
– А теперь, – сказал Далингер, – придется у нас переночевать. Уже поздно. Машина будет утром.
Так попал Гефтер ко мне в камеру. А на допрос его вызвал какой-то подчиненный Далингера, кажется, Гепнер. И тут оказалось, что Гефтер подписал, что он является главой троцкистской организации, членами которой являлись все, о которых его расспрашивал Далингер.
Его дальнейшая судьба мне неизвестна. Шли слухи, что его расстреляли. Мне это перестукивали в стену камеры. Его молодую жену арестовали в ту же ночь. Ее отправили в этап из энгельсской тюрьмы летом 1937 года. Она получила 5 лет как ЧСИР (член семьи изменника родины). Трехлетнюю дочь забрали в детдом.
А теперь я на новом месте увидел своего бывшего старшего следователя Далингера. В Саратове, когда он стучал кулаком по столу и крыл матом, он был полным и голосистым, а здесь тихим и худющим, кожа да кости. Но все-таки он был парторгом, жил в отдельном домике на территории лагпункта с комендантом Глекнером. Его даже возили на сессию Верховного Совета, так как он был депутатом.
Однажды мне удалось его остановить и спросить, узнает ли он меня.
– Нет, – сказал он, внимательно разглядывая меня.
– Неужели вы не помните австрийцев братьев Брайниных, Бориса и Вильгельма Львовича?
Далингер изменился в лице, он явно расстроился. Я его спросил, зачем он на меня создал такое нахальное дело. Он ничего не ответил, повернулся и ушел.
Но в колонне вскоре узнали о том, что Далингер меня посадил. А трудармейцы меня любили как неунывающего весельчака. Далингера стали бойкотировать. Он вскоре исчез. Говорили, что его отправили куда-то далеко.
В 1946 году, когда меня освободили, и я устроился учителем в Нижнем Тагиле, я решил, прежде чем окончательно уехать на новое место жительства, попрощаться с Далингером.
Я узнал, что он находится на Монастырке, где-то между Новой Лялей и Серовым. Я сел на товарняк и поехал в Монастырку. На вахте меня пропустили. В одном из бараков я нашел одинокого Далингера. Кажется он был дневальным. Я к нему подошел и сказал:
– Далингер, меня освобождают. Я приехал специально для того, чтобы с вами попрощаться.
Он мне пожелал всего хорошего.
– А теперь скажите, зачем вы выдумали, что я преподавал расовую теорию и даже восхвалял Гитлера? Вам самому не смешно?
Далингер посмотрел на меня печальными глазами и спросил:
– Вас в Саратове избивали?
– Нет, – сказал я, – этого не было.
– Вы стояли неделю на ногах?
– Нет.
– Вас физически репрессировали?
– Нет.
– Так вот, идите и подумайте!
Мне как-то стало не по себе. Сколько их сидело следователей и прокуроров за то, что не выполнили план. А ведь Далингер мог, как делали в Москве, Тбилиси и других городах воспользоваться указаниями из центра, которые рекомендовали любыми средствами заставлять подследственных подписывать протоколы допросов. А он добивался выполнения плана только провокаторами, ложными свидетелями или, как в случае с Гефтером, мошенничеством. Иначе его бы самого расстреляли.
Мы пожали друг другу руки и разошлись, помирившись.
Через 36 лет, т.е. в 1982 году, когда я работал литконсультантом в газете «Нойес Лебен», меня вызвал в свой кабинет главный редактор Цапанов Владимир Васильевич и спросил:
– Вы сидели в саратовской тюрьме. Помните Далингера?
– А как же, помню.
– У него юбилей, 80-летие. Стоит ли о нем написать в газете?
– Пишите, – сказал я. – Хотя он много натворил бед, но он никого не избивал, так что по тем временам он был относительно порядочным человеком.
Вот какие курьезы сочиняет жизнь! Думал ли Далингер, когда он в 1936 году велел меня арестовать, что через 46 лет он будет нуждаться в моей рекомендации и что он ее получит, несмотря на все подлости, которые он сотворил.
* * *
17.8.1987
На другой день я познакомился со своим новым полем деятельности. Я принял свое хозяйство в больнице и роддоме. Они находились довольно далеко друг от друга, в разных концах поселка, по ту сторону железной дороги. Так же, как лагерь трудармейцев, эти два объекта были окружены частоколом с вахтой, где постоянно дежурил охранник. Я был расконвоирован и ходил свободно. Такими же привилегиями пользовались заключенные Борис (возчик лет 24) и Добровольский (разнорабочий лет 45-50). На территории больницы был большой барак с пациентами и отдельной комнатой, где жили хирург Фогельфангер и фармацевт Лифшиц. У барака была пристройка с двухэтажными нарами, где жили заключенные женщины – обслуживающий персонал (санитарки, уборщицы и т.д.). Напротив была конюшня (одна лошадь, за которой ухаживал Добровольский) и коровник (одна корова, к которой была прикреплена доярка Нюра, лет 20). Отдельно стоял домик с конторой. Там был начальник, сильно напоминающий мне Пичугина, такой же плюгавенький с треугольной головой и бегающими глазами, вечно всех подозревающий в диверсиях. В конторе работал бухгалтер Крюков, отбывающий в этом теплом местечке десять лет за мошенничество. Отдельно стояли продовольственные склады, которыми заведовал Коваль, и кухня.
А роддом с пристройками занимал много места. Во всю длину двора стоял двухэтажный барак, где лежали роженицы, т.е. заключенные женщины, успевшие забеременеть в лагере, со своими грудными детьми. Когда детям исполнялся год, их часто отбирали у матерей в детские дома, что влекло за собой душераздирающие сцены, когда несчастные матери не хотели расстаться со своими детьми. Перпендикулярно этому бараку, вдоль забора у вахты, был склад, а на чердаке в полутьме стояла Аня Яковлевна Знаменская и стирала своими худыми руками белье матерей, пеленки детей, простыни, наволочки. Напротив склада, вдоль противоположного забора была кухня, заведовала этой кухней старая знакомая из Корещихи Фрида Раймер.
В больнице я встретил в женском бараке старую знакомую из Савиново: Шуру Бочкареву. После того, как она вынянчила двух дочерей Буяка, Ирину и Нину, она сама забеременела от Дягилева, была отправлена на Косолманку и родила здесь дочку. Она единственная жила с годовалым ребенком в бараке. Узнав, что Дягилев, которому я многим был обязан, – так сказать Шурин муж, я старался поддержать ее.
Наша корова давала утром и вечером по полведра молока, т.е. по 8 литров в сутки. Их распределяли кормящим матерям и слабым детям, иногда и мне перепадало около 300 грамм. Я это молоко приносил Шуре, или, тайком в бутылочке – Знаменской. Привыкшие в лагерных условиях за все расплачиваться своим телом, Аня и Шура принимали эти подношения с удивлением и настороженностью. Про Аню я уже раньше рассказывал. Шуре я тоже приносил хлеб.
Шура отбывала 10 лет и должна была освободиться в 1947 году. Но вдруг весною 1944 года ей пришло освобождение. Счастливая и возбужденная, она, прощаясь со мной, ликовала, что и Дягилев освободился и ждет ее в Сосьве, где устроился на работу.
На прощанье она меня спросила, за что я ей так помогал. Я ей велел, чтобы она передала привет своему мужу и что я с ним все время рассчитывался за то, что он меня поддерживал в самые тяжелые дни заключения.
* * *
23.8.1987
Утром в 9 часов я сидел у бухгалтера Крюкова, когда вдруг зашел Борис. Он сказал, что он, как всегда в это время, привез 90 кило хлеба, но зав. пекарней забыл у него взять документ, подтверждающий получение хлеба, так что по документам мы ничего не получили. Я считал, что Борис должен немедленно вернуться на пекарню и отдать этот листок. А Крюков посмеялся надо мной и сказал, что пекарь сам ворует побольше этого и все покрывает за счет припека. Из 100 кило ржаной муки нужно выпечь 143 кило хлеба. Поскольку пекарня получала от 350 до 400 кило муки (она обеспечивала не только больницу и роддом, но и лагерь трудармейцев и весь поселок), так стоит повысить припек на 5%, чтобы эти 90 кило покрыть в течение нескольких дней. И Крюков здесь же придумал какой-то хитрый ход, чтобы в течение 15 дней получать из пекарни по 6 килю в день и таким образом добился, что по документам все будет шито-крыто, а три буханки в день мы поделим между собой. Так случилось, что у меня в течение полумесяца оказалась лишняя буханка. Мне она попала как невольному свидетелю.
Я ее частично менял на самосад, а добрую половину дарил Знаменской и Бочкаревой. Как Крюков правильно предполагал, зав. пекарней не догадался, что у него украли воз хлеба, и покрыл недостачу за счет припека.
* * *
Роженицы получали хорошее питание, раз в неделю свежее постельное белье. Каждая имела под расписку шерстяное вязаное одеяло. Эти одеяла были предметом моей постоянной заботы. Я стал замечать, что они становились с каждым днем короче. Сначала они покрывали женщин с ног до головы, а потом у некоторых торчали голые ноги из-под одеяла. Дело в том, что женщины их распускали на нитки, из которых они вязали теплые пуловеры для своих малышей. А поскольку эти одеяла числились на мне, так я был вынужден принять строгие меры, чтобы прекратить эту рукодельную самодеятельность. Были такие случаи, что от одеяла оставались какие-то обрывки, покрывающие только живот и бедра. Когда малышам, уже просящимся на горшки, выдали теплые вещи, распускание одеял прекратилось. Но это было уже весною.
Я ездил в Верхотурье за некоторыми принадлежностями для больницы, например, за лекарствами для аптеки, за марлей и бинтами. Ездил поездом или автобусом, следовавшим по маршруту Корелино-Верхотурье. Больные давали мне деньги, чтобы я на базаре купил самосад для них. Он стоил три рубля стакан. При этом я встречался с Кларой, которая работала в пекарне при лагере заключенных. Это были радостные встречи, где мы торопились скорее рассказать друг другу наши новости. Заведующий пекарней преследовал ее своими ухаживаниями и запрещал ей выходить ко мне во время работы. В марте Клару отправили к Луизе, они работали телятницами. Но иногда Клара ухитрялась в выходные дни добраться до меня на Косолманку. Это были для нас большие праздники. В больнице работала молодая медсестра Таня. Когда Клара приезжала, Таня нам уступала свою квартиру (у нее было полдомика в поселке), а сама шла ночевать к своему парню. Он был охранником, и у него была своя комнатушка в общежитии.
Однажды ее парень вернулся из командировки. Таня побежала на станцию, чтобы ее встретить. Она его увидела по ту сторону пути и без оглядки бросилась к нему, не замечая приближающегося грузового состава. При этом она попала под поезд и погибла на глазах у любимого.
Продукты возил Борис на санях с базы, находящейся при верхотурском лагпункте. В феврале 1944 года он вернулся пьяным. Тогда начальник поручил мне очередной рейс. Мне запрягли коня в сани, и я поехал, чтобы привезти два мешка крупы и большую бутыль керосина на 25 литров. Возвращался я из Верхотурья вечером в полной темноте. Туда я дорогу легко нашел еще при свете, а обратно у станции Обжиг, не мог на развилке разобраться – не то через рельсы переехать и продолжать путь по правую сторону пути, не то прямо ехать, где дорога круто поднималась вверх. На дороге стояла пекарня. Я стал стучать в дверь, но никто не открывал. Как потом выяснилось, зав.пекарней был эвакуированный житель Арбата, который в страхе стоял за дверью и боялся открывать. Долго я стоял и кричал и, в конце концов, решил поехать прямо. Но когда сани поднялись вверх, бутыль с керосином перевернулась, пробка вылетела, и керосин пролился на снежную дорогу. Это я заметил, когда дорога завернула налево в лес, вместо того, чтобы идти вдоль пути. Я слез, чтобы сани повернуть назад. Когда я увидел, что случилось, меня охватила паника. Керосин был дефицитом. Но мне повезло, что бутыль стояла сзади, и поэтому не вылился керосин на крупу. Меня могли судить за это! Когда я вернулся, этот идиот с Арбата стоял перед пекарней. Он за всю свою еврейскую жизнь не слышал той отборной ругани, которой я его отблагодарил.
К моему удивлению, мне начальник больницы поверил, что я не продал керосин, и дело обошлось. Но больше мне сани или телегу не доверяли. Считали, что пьяный Борис надежнее трезвого неумехи.
* * *
Фамилия этого «пекаря» была Карпас, жил он около здания театра им. Вахтангова, Арбат, 20. Давно умер, кажется 30 лет тому назад. А я до сих пор на него злюсь.
* * *
25.8.1987
На Косолманке жили жены расстрелянных коммунистов. Им вообще не были предъявлены какие-либо обвинения, кроме ЧСИР (члены семей изменников родины). На Верх-Лозьве, например, был 14-и летний сын Якира. Дочери Бубнова было 16 лет, когда она угодила в лагерь, где она проработала 17 лет, а вышла оттуда уже после смерти Сталина 33-х летним инвалидом. Я помню милейшую, красивую врача Чаевскую, которая, если я не ошибаюсь, курировала роддом, и еще две женщины, как она, отбывшие свои 5 лет, но оставленные при лагере «директивницами». Была такая «директива НКВД СССР и Прокурора СССР от 29.04.1942 года за № 185», согласно которой отбывшие свой срок осужденные по 58 статье закреплялись до конца войны за лагерем на работу по вольному найму. Их называли директивниками. Кажется, эти три женщины были из Ленинграда. Тогда ленинградцы еще очень отличались от москвичей своей выдержкой, особой культурой общения. Среди трудармейцев были тоже ленинградцы: Рафаэль (главный бухгалтер), Фильзингер (бухгалтер?) и Реппих (завхоз лагеря). Они дружили с этими ЧСИРами. Рафаэль умер от чахотки в 1945 году, от чего любившая его женщина чуть не покончила жизнь самоубийством.
Много лет спустя, в конце 60-х годов, я в очереди у мебельного магазина познакомился с мужчиной, который своей одеждой вызвал у меня ощущение, будто он недавно еще был в лагерях. Подозрение подтвердилось: он отбывал за растрату пять лет в Верхотурье. От него я узнал, что врач Чаевская все еще живет в Верхотурье (ей тогда уже было за 60 лет), она работает врачом и является всеобщей любимицей.
* * *
При больнице имелся целый гектар огорода. Пришла весна и надо было посадить овощи. Добровольский оказался отличным помощником. Он с прошлого года заготовил семена лука, моркови, капусты, семенного картофеля и вырастил в отапливаемом сарае рассаду помидоров и других овощей. Нам выделили несколько трудармейцев для этих работ. Не было у меня чеснока, укропа и еще чего-то. Тогда я с разрешения главврача вытащил за зону рулон марли и пошел по поселку менять марлю на семена. Так мы весь гектар засеяли всяким добром, чтобы улучшить питание больных и рожениц.
В моих походах по домам я познакомился с Евгенией Петровной Сморыго. У нее с детства были парализованы ноги, и она передвигалась на костылях. Молодая, миловидная девушка работала в Косолманке учительницей. Я иногда к ней заходил в дом, где она снимала комнату. Она была эвакуирована из Ленинграда. Начитанная, образованная, умница, она мне своей компанией доставила много радости. Однажды она мне подарила французско-русский словарь и сказала: – Пусть это будет первая книга вашей будущей библиотеки: – Я этот словарь бережно хранил, и он до сих пор занимает почетное место среди моих многочисленных книг, хотя с тех пор прошло 43 года. В 1946 году я разыскал Евгению Петровну где-то под Ленинградом, но ее ответ был весьма сдержанным. Она не могла простить мне то, что я от одиночества женился. А я ведь совсем не обращал внимания на то, что она, хотя без ног, но все-таки женщина.
* * *
Косолманка относилась к Корелинскому отделению Севураллага. Начальником отделения был некий Таран, о котором у меня остались очень хорошие воспоминания. Он, как и Буяк, изыскивал всякие возможности, чтобы трудармейцы и заключенные получали дополнительное питание. Примером может служить как раз тот гектар, который, благодаря стараниям Тарана, был закреплен за больницей и роддомом.
Начальником санчасти был тот самый Генкин, который раскопал на Тальме трупы убитых, с которым я ездил на катере в Сосьву. Он и курировал больницу и роддом как медицинский работник.
В первых числах мая кто-то мне сообщил, что меня срочно вызывает Генкин.
Я сел на велосипед и поехал вдоль железнодорожного пути в Корелино, зашел в здание отделения, в кабинет Генкина. Он сидел за столом и очень мило со мною поздоровался, предложив мне сесть за стол.
– Вот что, – сказал он. – Мне нужно жену и детей отправить в Москву, а в Москве с продуктами плохо, да и в дорогу им надо что-то с собой взять. У вас ведь в больнице целый склад продуктов. Я вам, сами знаете, немало помогал, так что я от вас ожидаю, что вы мне поможете. Короче говоря, мне нужно не меньше полпуда мяса, причем срочно.
Я совсем растерялся.
– Мясо на складе у кладовщика Коваля, – сказал я. – Не могу же я просто у него забрать! Чем же мы будем отчитываться?
– Очень просто. Вы ведь составляете меню для двух кухонь. Выпишите на роддом два кило, а на больницу шесть кило мяса на обед и ужин. Ничего с ними не случиться, если они это мясо не получат, а им сварят кашу без него. А эти 8 кило вы привезите мне.
Обратно я ехал в раздумьях. Дело было рискованное. Я зашел к Ковалю на склад и рассказал ему, в какой капкан я попал. А попробуй, не выполни, так ведь нам Генкин может так отомстить, что мы оба окажемся на лесоповале, если не хуже.
В этот же вечер, я как обычно, написал меню на завтра, куда включил по 25 грамм мяса на душу на обед и столько же на ужин. Утром в 7 часов я забрал 8 кило мяса у Коваля, погрузил мешок на багажник и поехал в Корелино. Генкин был очень доволен.
Через час я вернулся, принес меню тете Дусе в больницу и Фриде Раймер в роддом и сообщил им, что мясо пока только на бумаге и что они его получат в другой раз.
Тетя Дуся это проглотила, только улыбнулась, а Фрида устроила мне настоящий скандал. Дело в том, что тетя Дуся жила в поселке, у нее была своя корова и свинья, и она в мясе не нуждалась. А Фрида хотя бы полкило для себя бы взяла, и ее совсем не устраивало бумажное мясо.
К 12 часам в тот памятный день меня на улице остановил охранник, который часто танцевал под мою скрипку, и сообщил мне под большим секретом, что в 3-ю часть поступил на меня какой-то донос и что завтра в кладовке будет инвентаризация.
В панике я схватил велосипед и летел в Корелино. Бездыханный я влетел в кабинет Генкина и просил его немедленно вернуть мясо. А он только пожал плечами и сказал, что он его уже отправил жене. Оно катится по железной дороге в Свердловск, где жена это мясо ждет не дождется.
Я вернулся в Корелино в отчаянии. Единственной надеждой был завхоз Реппих. Я его разыскал в лагере на складе. Там были еще два экспедитора, которые возили продовольствие из Верхотурья. Я отозвал Реппиха в сторону и сообщил ему, что мне грозит тюрьма, если я немедленно не достану полпуда мяса.
Реппих воспринял это сообщение с олимпийским спокойствием. Он позвал одного из экспедиторов и сказал ему шепотом:
– Нужно выручить человека. Найдешь полпуда свежего мяса?
– Свежего нет, есть копченое.
При этих словах он подошел к русской печи, глубоко туда залез и вытащил оттуда полбарана. Реппих схватил мешок, положил мясо в мешок и передал мне.
Здесь я впервые ощутил на своей собственной шкуре солидарность воров-хозяйственников. Если бы не Реппих, я бы получил 5 лет, но не по статье 58, а просто за воровство! И спасибо тому охраннику!
В этот безумный день я успел украсть и обратно Ковалю вернуть краденое.
Но назавтра утром действительно пришел ревизор. И что его больше всего удивило, это было совершившееся чудо: вместо числившейся на складе 12 кило свежей говядины там оказалось 4 кило свежей говядины и 11 кило копченой баранины. Ни Коваль, ни я эту пересортицу объяснить не могли.
* * *
29.8.1987
Комендант Глекнер, рыжий здоровяк 50-и лет, был влюблен в медсестру Женю, маленькую, смазливую, кокетливую местную жительницу, которая обслуживала лагерь трудармейцев, но жила в поселке в собственном доме. Ей было от силы 25 лет.
Пользуясь своей относительной свободой, Глекнер к ней ходил по вечерам, а иногда поздно возвращался. Ясно было, что между ними были интимные отношения.
Кому-то стало известно, и, очевидно, поступил донос в 3-ю часть. У Глекнера отобрали пропуск, и Женю сняли с работы. Она перешла в местный медпункт. А Глекнеру было объявлено, что он будет исключен из партии, если попытается продолжать эту «связь с вольнонаемной». Из сего следовало, что трудармеец не человек, в отличие от «вольнонаемной».
Глекнер заболел. Он лег, не выходя из своей комнаты, и объявил голодовку. Восемь дней он ничего не ел, совсем ослабел, и его застали при попытке повеситься. Тогда его сняли с должности коменданта и послали в лес на общие работы. Здесь только он понял, что никто его не пожалеет и он только себя загубит. Он поклялся, что образумится, и его, бледного, похудевшего, снова вернули на старую должность.
А я встретил в поселке Женю, такую же улыбчивую и кокетливую, и рассказал ей, что с Глекнером произошло. Она в недоумении повела плечиками и сказала: – Что он, с ума, что ли, сошел? Нет, так нет! Подумаешь – Отелло!
Хотя Отелло здесь ни при чем, но она, как видно, большого значения этому делу не придавала.
* * *
Хирург Фогельфангер был еврей из Кракова, который успел бежать от фашистов в советскую зону. Он скоро обрел большой авторитет и стал обслуживать командный состав Красной Армии. Но уже тот факт, что он уроженец Польши, обрек его на тюрьму. Тем более, что он в лагере работал бесплатно, а «на воле» ему надо было платить.
Интересно, что у нас с ним были общие знакомые в Тарнове, и он еще в 1938 году слышал там обо мне не очень лестные отзывы, так как я был на штыках с сионистами и дружил с братьями Штраммер, с племянницей Карла Радека Ирой Найс и другими коммунистами.
Когда я в 1946 году освободился, я поехал в Ступино, где Фогельфангер был главным врачом, чтобы с ним попрощаться. Год спустя я получил от него письмо, что он с женой-полькой, с которой он познакомился в Ступино, уезжает в Канаду. С тех пор его след простыл.
* * *
После неблаговидной истории с мясом начальник больницы снял меня с работы за «кражу марли», хотя я это делал для больницы, меняя ее на семена. Иначе их достать было невозможно, и наш гектар остался бы незасеянным.
В лагере мне Глекнер сообщил, что я завтра буду работать банщиком. Приедет начальник Корелинского отделения Таран с женой и дочкой, чтобы помыться в бане, и я должен буду их обеспечить водой.
С 5 часов утра я в бане растопил печь под чаном для горячей воды.
Баня была большим помещением, рассчитанным на одновременное мытье 40-50 человек. Столы с тазами стояли в три длинных ряда. В конце зала на возвышенном месте (5-6 ступенек вверх) находился чан и колодец, из которого я должен был вручную вытаскивать ведра с водой: в чан 50 ведер, а затем подавать холодную воду моющимся. Тяжелая была работа.
Тараны пришли к 10 часам утра и стали при мне раздеваться догола. Очевидно, они меня человеком не считали. Жена Тарана, полногрудая, широкобедрая женщина 38 лет, смотрела на меня рыбьими глазами, когда я приносил очередное ведро с водой. Наверное, так смотрели рабовладельцы на своих бессловесных рабов.
* * *
После этой банной интермедии Глекнер мне объявил, что Таран меня вызывает в Корелино на должность бухгалтера по расчетам.
Это было делом рук Генкина, который меня отблагодарил за то, что я держал язык за зубами и его не выдал. Ведь ревизия кончилась ничем. Коваль где-то, при помощи Бориса, откопал поллитра водки, после чего ревизор подписал акт, что на складе все впорядке, «кроме незначительной пересортицы, которая накопилась в течение двух лет».
Итак, я отправился в Корелино, где стал работать в бухгалтерии отделения. Главным бухгалтером был некий Жданов, высокого роста старик, а вещстолом ведал трудармеец Хуберт. Он устроился неплохо, жил в доме молодой особы по Фамилии Бушуева; и не только жил у нее, а просто с ней. А где жил я, я не помню точно. Было лето, июнь месяц, топить не надо было. В селе было несколько заброшенных домов. Хозяева уехали, оставив плиту, застекленные окна, по 20 соток огорода и т.д. Помню, что через некоторое время я занял один из домов.
За работу в бухгалтерии я взялся горячо, завел картотеку, сидел там день и ночь, чтобы навести порядок. Однажды, когда я просидел до 11 ночи, рядом в помещении было какое-то совещание ВОХРы. Все шинели ребята оставили в моем проходном помещении. Когда я ушел, собрание еще не было закончено. А наутро меня обвинили, что я украл одну шинель, которая там пропала.
Кто ее украл, я не знаю, но мне она не была нужна. Поскольку я там был один, подозрение осталось на мне. А Генкин на днях уехал к своей семье в Москву, и некому было меня защитить.
Таким образом моя работа бухгалтером через месяц кончилась, и меня в первых числах июля отправили на Малую Косолманку на сельхозработу.
* * *
Малая Косолманка находилась на расстоянии 10 километров от железной дороги за лесом. Это было большое подсобное хозяйство Севураллага, где выращивались всякие овощи, заготовлялось сено и другой зимний корм, а в филиалах («командировках»), например, на Жданке, были коровы, курятники, телятники и т.д.
Начальником этой колонны трудармейцев был Петр Адамович Гетц, молодой немец из Поволжья. Он ходил в военной форме без погон и носил на груди орден Красной Звезды, который он получил за то, что одним из первых, в июле 1941 года, сбил двух мессершмиттов. Это был военный летчик, курсант энгельсской школы авиаторов. После награждения его тут же отправили на Урал в трудармию и назначили начальником Малой Косолманки.
Мы с ним подружились с первых дней. Через 35 лет я его разыскал в городе Каменск-Уральске, где он сейчас живет на бульваре Парижской Коммуны, дом 4, квартира 24. Единственная тень между нами прошла, когда я был готов прощать Далингеру, а Петр Адамович решительно не был согласен с этим. В последнем письме (от 20 августа 1987 года) он пишет:
«Я с вами не согласен в том, что он Вас культурно-вежливо посадил на 10 лет, он, наверное, имел возможность Вас освободить. Какая разница, как эти 10 лет получить – с физическим применением или без него? Видимо он на Вас оформлял документы фальшиво.
Вообще он видел в каждом человеке только отрицательные стороны, поэтому он посадил несколько человек из числа трудармейцев, в том числе врача Гольчфохта».
Вот такой был начальник Малой Косолманки Гетц.
* * *
30.8.1987
Работа на Малой Косолманке не была тяжелой. Мы окучивали картошку, пололи морковь, лук и другие овощи, целых десять дней заготовляли березовые веники; их потом сушили, и зимою, из-за нехватки сена, скармливали скоту. Выходил я утром с лучком и топором в березовую рощу, окружающую лагерь, выбирал березу с особо богатой листвой, валил бедную (до сих пор жаль этих красавиц) и потом отрубал с нее ветки, связывал их в толстые веники. Норма была 60 веников в день, их можно было собрать с одной богатой березы. Я успевал заготовить по 100 веников с двух берез.
Противная работа была – унавоживание табака и помидоров. Оказалось, что эти две культуры требуют жидкий человеческий кал, который возили из нашей уборной. После этого я много лет не мог смотреть на помидоры. Меня тошнило, когда я их издали видел.
По вечерам я собирал ребят (женщин не было) во дворе или столовой и пел с ними под гитару немецкие народные песни. Я до сих пор помню тексты более двухсот песен, а тогда знал гораздо больше. Мне жаль было этих немцев, которые так настрадались за свою национальность, а ведь не только не знали свой фольклор, но даже просто не знали своего родного языка – особенно молодежь. Иногда присутствовал Гетц на этих вечерах, стоял позади всех, но сам не пел, потому что плохо владел языком.
В сентябре, когда наш лагерь выполнил план, Гетц послал двадцать лучших работников, в том числе и меня, прогуляться на Черную Речку. Каждый из нас получил коня, и мы отправились по тайге и бездорожью за 20 с лишним километров в этот таежный поселок. Какая была официальная цель, я так и не узнал. Мне дали какого-то на ладан дышащего коня-доходягу, который каждые двадцать шагов останавливался и ждал очередного удара палкой по худому заду. Ребята, далеко ускакавшие вперед, из-за меня должны были останавливаться, пока я их не нагнал.
В поселке не было ни одного мужчины, только женщины, которые обрабатывали поля и выращивали скот. Они нас встретили на ура. Нашлась гармошка, на которой играл Ганс Шенкнехт (недавно я от него и его жены Лизы Каспер получил поздравление с 82-летием). Долго, до полуночи, не замолкала музыка и топанье ног танцующих. На другой день мы помогли убрать картофель, а на третий день мы вернулись на Малую Косолманку.
По моим наблюдениям наши мужчины оставили о себе конкретную память – уж слишком изголодались и те, и другие по ласке…
Вскоре после этой экскурсии Гетц покинул Малую Косолманку вместе с лучшими работниками. Ему предложили возглавить лагерь, где заготовлялась береза для ружейной болванки. Гетц согласился только при условии, чтобы этот лагерь был вольным поселком без ограды и без конвоя. Получив на это согласие сверху, он со мною попрощался, обещав мне, что скоро и меня вызовет.
* * *
Не прошло и трех недель, как мне новый начальник Малой Косолманки объявил, что Гетц меня вызывает на «Шайтанку». Утром мне оседлали коня, и я со скрипкой и чемоданом поехал по указанному направлению.
Не помню, сколько так я ехал по осеннему лесу. Помню только, что на Шайтанке я оказался совершенно неожиданно. Это был не лагерь, а поселок без вышек, ворота были настежь открыты, окружен он был весьма условной проволочной оградой, отделявшей его от леса. Как мне потом объяснил Петр Адамович Гетц, это было нужно, чтобы ночью не забрел медведь или волк. А люди могли свободно передвигаться.
В поселке был фельдшер, повар Бейфус (он умер, кажется, три года тому назад, в 1984 году) и какой-то освобожденный по болезни. Гетц был не то на делянке, не то где-то по делам. Бейфус меня накормил чем попало. Я занял свободное место в бараке и стал ждать прихода людей.
Скоро Гетц пришел. Коня отвели на конюшню. Люди пришли уставшие, помылись, затем бригадами пошли ужинать в маленькую столовую.
Гетц был оригинальным начальником. Он добился, чтобы не было ни одного конвоира и чтобы люди могли свободно передвигаться куда угодно. Только после отбоя ворота закрывались на засов – все из-за зверей. Никакого понукания! Люди должны работать не из страха, а из патриотизма. И вот этот небольшой лагерь выполнял задание изо дня в день не менее чем на 150%.
Меня он сюда вызвал как культработника. Ему нужен был скрипач и гитарист, чтобы рабочим было веселее жить.
Моя работа была заготовка дров на зиму. Лагерь был окружен сосновым лесом, а береза, из которой делали болванку, стояла сплошным березняком за 3 километра от лагеря. Я каждый день выходил один с пилой и топором, валил 3-4 дерева, обрубал сучья и сжигал их, распиливал ствол, привозил его ближе к лагерю на волокушах, для чего мне вечером выделялась кобыла, а потом утром распиливал, раскладывал в поленницы.
На Малой Косолманке я получил письмо от Клары, в котором она мне сообщила, что она работает телятницей за 5 километров от моего нового места жительства.
Гетц разрешал трудармейцам в выходные дни идти туда, куда хотели, чтобы только они утром были на работе. Он и мне это разрешил. Итак, я каждую субботу вечером уходил к Кларе и у нее ночевал. Их было там 5-6 девушек, которые ухаживали за телятами. Так мы с Кларой встречались весь октябрь и ноябрь – до моей встречи с волками…
* * *
Зимой телят отправили на Жданку, это был поселок близко от Корелино. Подножный корм кончился, и пришлось их кормить сеном.
А меня послали подметать ледяную дорогу, т.е. убирать с нее снег, чтобы сани на вывозке готовой продукции ехали по голому льду.
Итак, я утром беру котелок, набираю на кухне жар из плиты, беру топор и метлу и иду по дороге до ледянки, чтобы первым долгом нарубить сухостоя и развести костер. И так день за днем.
В одно такое утро я шагаю весело по дороге, вдруг на дорогу из лесу выскакивает большая красивая собака шагов пять от меня, останавливается и смотрит на меня в упор. Очень похожа была на овчарку. А я очень люблю собак и стал ее звать – Иди-ка сюда, подойди!
А собака ни с места. И вдруг выскакивает вторая собака и стала рядом с первой.
Здесь я только понял, что это – волки! А кругом никого! Шесть часов утра.
Я слышал, что волки боятся огня. У меня в руке котелок с жаром, Рядом стоит береза. Я стал ее топором тесать, чтобы отрубить березовую кору и бросить ее в котелок, чтобы получилось пламя.
А волк – умная тварь. Он знает, что такое топор. Если человек с топором, так его голыми лапами не возьмешь. Один из волков повернулся, прыгнул с дороги в глубокий снег и убежал, а потом второй – за ним.
Я тоже повернулся и пошел в лагерь, нашел Гетца и рассказал ему об этой встрече. Он схватил двустволку, зарядил ее и пошел со мной к тому месту. По следам он установил, что это были волки.
– Повезло вам, – сказал он. – Если бы их было больше двух, вас бы разорвали.
С тех пор я один на дорогу не выходил. Сначала выходили бригады. От их рабочего шума волки шарахались. Потом я уже шел чистить делянку. Но сначала разводил на всякий случай большие костры.
Я люблю костры. Можно целый день сидеть и думать, думать, без конца вспоминать о другой жизни, какая была и которой больше никогда не будет.
То есть, пока Сталин жив и пока живы его ставленники.
* * *
31.8.1987
Гетц кормил трудармейцев лучше, чем кормили в других лагерях или, как их называли, «колоннах». Откуда он брал дополнительные продукты, никто не знал. Предполагали, что с подсобного хозяйства. Никому он не давал никаких поблажек. Если после раздачи еще что-то оставалось, так это получали лучшие работники. Сам Гетц приходил в столовую и, на глазах у всех, получал свою порцию. Даже повару он не разрешал добавки.
Я разыскал через Справочное бюро Эвакуированных (Бугуруслан) свою тетю Серафиму Борисовну Томашпольскую. Я туда обратился еще на Косолманке и нашел ее, наконец, в Байрам-Али. Теперь она вернулась в Одессу и, по моей просьбе, обратилась в Управление Севураллага. Она выразила свое недоумение, почему я попал в трудармию, и засвидетельствовала, что я вовсе не являюсь немцем или австрийцем. Но в течение года ничего не изменилось.
В феврале 1945 года я Гетцу открылся и просил его походатайствовать в Управлении, чтобы меня демобилизовали. Он выполнил мою просьбу, и вскоре привез мне справку о том, что я закреплен за Севураллагом по вольному найму как «директивник». Справку я храню еще сегодня, но она почему-то оформлена задним числом, т.е. октября 1942 года, когда действительно кончился мой срок. Таким образом, у меня нет никакого документа о том, что я находился 2,5 года в трудармии как немец.
35 лет спустя в газете «Нойес Лебен» № 22 1979 года опубликовали заметку: «Петер Гетц, где ты?» Посыпались письма от комсомольцев 20-х годов, от трудармейцев Шайтанки, и, наконец, к моей радости, объявился сам Гетц. К нему в Каменск-Уральск выехал корреспондент и 1 января 1980 года появилась в газете большая статья об этом замечательном человеке.
С тех пор я с ним переписываюсь.
* * *
5.9.1987
Прощай, Шайтанка, последний из моих лагерей! Я стал свободным человеком, т.е. относительно свободным…
Так же, как я «освободился» в 1942 году из заключения в трудармию, я и сейчас «освободился» из трудармии в крепостного Севураллага НКНД, без права уйти за его пределы. Но зато мне не было неведомо, что такое безработица.
Когда я жил за границей, я был всю жизнь преследуем этим призраком. У меня не было никогда определенной должности, я зарабатывал себе деньги, главным образом, репетиторством, а в каникулы ходил по Европе с гитарой, пел на ярмарках, на улицах, в ресторанах, собирая подаяния. Страшный бич – безработица! Честно говоря, я чувствовал себя морально гораздо лучше, чем в Австрии, когда я в лагерях был обеспечен работой, т.е. был мастером лесозаготовок, бухгалтером, завхозом, нормировщиком…
Итак, прощай Шайтанка, я иду по снежным лесным дорогам один, без конвоя, с направлением в Корелино на должность бухгалтера по расчетам. Ушел я после выхода бригад на работу, сколько времени шел, не помню. Гетц дал мне на дорогу хлеба и еще чего-то. Помню, что по дороге развел костер и что шел через Жданку, где встретился с Кларой. В небольшом доме она жила вместе с другими девушками, в том числе с Лизой Каспер. Каким-то образом там и оказался Ганс Шенкнехт, будущий муж Лизы и мой веселый гармонист. Через 38 лет я от них получил письмо. Их адрес: 662405, Красноярский край, Ширинский район, п/о Солнечноозерное.
Клара рассказала мне, что ходят слухи, будто в Корелино строится большой птичник. Может быть, мне удастся устроить ее и Луизу птичницами, и мы бы были опять все трое вместе.
Клара и Луиза мне были как родные. Много мы вместе пережили, горя и радости.
* * *
В Корелино я занял опять тот заброшенный дом, но, как я ни топил печь, мороз проникал через все щели. После бессонной ночи я явился к Жданову, и он меня устроил в теплом закутке в том доме, где была бухгалтерия, даже дал мне под расписку матрац, одеяло и полушку, набитую соломой, так что по утрам мое лицо было все исколото! Вскоре я углубился в свои бухгалтерские дела.
Но слухи о строящемся птичнике оправдались. Он был рассчитан на 500 кур.
Я зашел к начальнику отделения Тарану, который очень радушно встретил своего бывшего банщика, и рекомендовал ему Луизу Мартыновну Бехер и Клару Мартыновну Петерс на должность птичниц. На наше счастье у него еще не было никаких кандидатур, и он уже в первой половине марта вызвал Луизу и Клару в Корелино. Для них был готов дом с русской печкой и большой поленницей, а также отапливаемый цыплятник. Так мы после полутора лет разлуки оказались опять вместе.
* * *
Из моей бухгалтерской жизни у меня остались в памяти только отдельные отрывки. При моей педантичности я чуть не поссорился с главбухом Ждановым. Я старался избавиться от всех дебиторов и кредиторов, которые со своими остатками переходили из месяца в месяц. Там был один дебитор, какие-то красные 5 рублей с копейками. При попытке их ликвидировать, оказалось, что за ними тянулся хвост в несколько тысяч дебета и кредита, причем эта путаная история тянулась уже не один год, и в нее были запутаны авансовые отчеты самого Тарана и каких-то работников управления. Сначала Жданов с присущей ему тихой улыбкой посоветовал мне не копаться в этой «мелочи», а потом, когда я дошел до авансовых отчетов, он просто рассердился и потребовал, чтобы я уничтожил все проводки по этому делу. После этого он стал меня опять обхаживать, но и явно побаивался. По-моему, он был рад, когда я был отозван из Корелино.
Когда немного потеплело, Луизу и Клару отправили в Верхотурский инкубатор за цыплятами. Это было очень потешное зрелище, когда этих малюток утром выпускали к крошечным кормушкам, где они горы измельченных яиц, молока и прочих продуктов вмиг уничтожали, и кормушки очищались до блеска.
Кроме инкубаторских цыплят в птичнике были взрослые куры, они давали более ста яиц в день. Таран получал лично по ведру яиц в неделю, да и мы трое не оставались голодными. Из цыплят до 85% оставалось живыми, но числились только 70%, так как начальство и Жданова надо было кормить мясом. Луиза и Клара не позволяли себе такой роскоши, только из корма мы иногда варили себе кашу.
Летом я снова перебрался в тот заброшенный дом, утеплил его и заготовил дрова на зиму. Это был напрасный труд, так как зимовать в Корелино не пришлось.
* * *
По ночам в отделении всегда кто-то дежурил. Это были обычно молодые холостые мужчины из вольнонаемных. 3-4 раза в месяц начальник отделения Таран назначал и меня тоже. Я охотно сидел там у телефона, потому что следующий день был для дежурного выходным днем. При этом я приводил в порядок свои бухгалтерские дела, которые с тех пор, как меня отправили на Малую Косолманку, были изрядно запущены.
В ночь с 8 на 9 мая 1945 года я как раз был дежурным. В два часа утра зазвонил телефон.
На другом конце провода раздался бодрый голос:
– Говорит лейтенант такой-то из управления. Запишите телефонограмму. 8-го мая в такой-то час Германия капитулировала. Война окончена.
Я дословно не помню текст, но что-то в этом духе.
Я помню, что я трясущимися руками держал эту телефонограмму и сразу не был в состоянии позвонить Тарану и поднять его с постели.
Долго я звонил, пока раздался его сонный и недовольный голос:
– Слушай, шутник! Шутить надо днем, а не ночью!
Я ему прочитал текст телефонограммы («Всем начальникам отделений… 9-е мая – праздник…») и фамилию, кто передал из Сосьвы.
Таран без слов положил трубку. Через час все село было на ногах. По улицам ходили поющие, ликующие жители, гармошка играла. Ко мне ввалились охранники и все своими глазами хотели увидеть текст телефонограммы, записанный в книге дежурного.
Это был счастливый день, вообще мне запомнился 1945 год, прожитый в Корелино, как самый счастливый год в Севураллаге НКВД. Это был первый год без лагерей. Рядом были Луиза и Клара, которые обо мне заботились – и я мог о них позаботиться.
Через несколько дней в Корелинском клубе, где я обычно устраивал танцы, выступала лагерная гастрольная труппа актеров, собранная из различных лагерей. Это были профессионалы, отбывающие срока по разным статьям, бытовым и политическим. Они поставили пьесу Островского «Без вины виноватые». Играли неплохо, но все испортил вдрызг пьяный Незнамов, который с идиотской улыбкой говорил трагические слова, еле держась на ногах.
* * *
В июне пришли в бухгалтерию четыре белорусских девушки, только что освободившиеся из Корелинского лагеря заключенных. Они были почти голые, на них ничего не было, кроме лагерных платьев, и в руках мешок с сухим пайком на неделю. Как они добрались до своих сожженных и разрушенных белорусских сел и добрались ли вообще? Они спрашивали, где бы переночевать, ведь поезд только утром должен был остановиться в Корелино.
Я их повел в «свой» дом и дал им мешочек с мукой. Иногда я участвовал в разгрузке вагонов с мукой, солью, сахаром и т.п. При этом на полу вагона оставалось немного рассыпанного добра, которое я (и другие тоже) собирал. Так у меня оказался маленький запас муки. Когда я вернулся в бухгалтерию, одна из девушек принесла мне котелок с кашей.
Утром они уехали.
Доехали ли они до своих сел? Они обещали писать, но я от них весточки не получил.
* * *
9.9.1987
В бухгалтерии появился молодой ревизор, по фамилии, кажется, Шарохин. Я его сразу узнал: он отбывал срок в Ликино за мошенничество. Ему очень не понравилось, что я узнал его, а то он напускал на себя большую важность.
Вечером я ушел к себе, а ревизор остался на ночь работать. Утром он мне заявил, что у меня по кассе большая недостача: охранники получили зарплату за август, а ведомость с подписями отсутствует.
Я сперва был в панике. Ведь нужно было заново собрать подписи около 50 человек из четырех лагпунктов. Ведомость я сумел восстановить по июльской, помнил, кто выбыл, кто прибыл и сколько вновь прибывшим было выплачено. Когда я подбил итог, все сошлось до копейки. Затем я стал разъезжать по казармам и вторично собирать подписи. На мое счастье никто не отказался во второй раз подписаться. Шарохин должен был завтра уехать, а я к вечеру уже принес готовую ведомость. Этого он не ожидал. Долго он изучал начисления и удержания (особенно алиментов), а потом только составил акт ревизии.
Я до сих пор не сомневаюсь в том, что эту ведомость сам ревизор удалил и уничтожил.
* * *
14.9.1987
Странно: в Савиново я был в 1938 году только 3 месяца, а помню всех людей, все бараки, много подробностей, в Корелино я был в 1945 году почти 9 месяцев, а в памяти все слилось в один неясный туман. Клара – родное, простое существо. Бухгалтерия, документы, мемориальные ордера, картотеки. Помню: однажды вечером я был у Луизы и Клары, вдруг пришли комендант Штраухман и еще кто-то, стучали в дверь. Луиза предложила мне залезть в печь. Я как раз там поместился, она закрыла дверцу. Вошли эти двое. Они меня явно искали, сказали, что меня дома не оказалось. К счастью они оставались только минут двадцать, а то я бы задохнулся.
Помню: однажды днем все куры в панике забились в угол во дворе и передавили друг друга. Они увидели ястреба ничтожной точкой в небе. Когда их разогнали, там оказалось 80 трупов. Пришлось составить акт.
Помню курицу попрошайку. После кормления птиц она стучала клювом в дверь. Она была слабее других, ее отталкивали от корма, вот она приходила просить добавки. Мы ее уже знали, запускали, она прыгала на плиту и жадно клевала зерна. Когда было ЧП с ястребом, она была среди погибших.
В клубе я организовал небольшую хоровую группу. Среди них был замухрыга Слесарев и его жена, которая его дико ревновала к Аве Абакумовой, фармацевту, заведующей аптекой из Верхотурья. Зачем Ава приезжала из Верхотурья, не знаю. Она потом погорела на недостаче спирта, которым она угощала командиров охраны, и внезапно исчезла из Верхотурья. По-моему, ее не очень искали, так как у тех, которые ее искали, тоже было рыльце в пуху.
Я вчера отправил письмо Луизе. Ей сейчас 80 лет, не знаю, жива ли. Ее последний адрес был: Нижний Тагил, ул. Попова, дом 18. Я ее спрашиваю, не помнит ли она, где я жил до того, как занял пустующий дом, и где я столовался. Что была столовая, я знаю только из-за того, что мои картофельные грядки были рядом с картофельным полем столовой.
Был недалеко от Корелино большой малинник. Я уже рассказывал, как я там встретил медведя.
Со Слесаревым и Авой я ходил по грибы. Их там было видимо-невидимо. За полдня я собирал полное ведро белых грибов и приносил Луизе и Кларе, которые из них варили чудесный суп с крупой.
А в октябре я получил спецнаряд в Верхотурье на должность старшего бухгалтера по расчетам верхотурского отделения Севураллага НКВД.
Начальнику Верхотурского отделения Льву Михайловичу Бесчинскому я не столько нужен был в качестве бухгалтера, сколько как организатор художественной самодеятельности.
20 октября 1945 года я сдал Жданову свои дела, попрощался с Луизой и Кларой и отправился в Верхотурье. Три года тому назад, в конце октября 1942 года, я приехал в этот город, чтобы явиться в лагерь трудармейцев, а сейчас я прибыл в отделение как «вольнонаемный» крепостной Севураллага…
* * *
21.9.1987
Сегодня меня потрясло письмо из Каменск-Уральского: жена Петра Адамовича Гетца прислала мне газету «Каменский рабочий» от 10.9 с объявлением о смерти Гетца. Приписка от руки: «Умер 6 сентября, похоронен 9 сентября 1987 года».
Он был на пять лет моложе меня. Ему исполнилось 77 лет. Последнее письмо, такое типичное для его честности, он мне писал за две недели до кончины. Это было письмо о том, что Далингерам ничего простить нельзя.
Я целый день в трауре. Тяжело мне на душе. Умер начальник Шайтанки, мой дорогой друг.
* * *
26.9.1987
В центре Верхотурья, на главной площади, стояло одноэтажное здание верхотурского Севураллага. Там был кабинет начальника Бесчинского, начальницы УРЧ Гали Чупашевой, отдела кадров (Краева) и других отделов. Главбух был Седнев из местных жителей, у него был отдельный кабинет, а рядом работали его подчиненные: Шурмухин (личные деньги заключенных), я (зарплата, авансовые отчеты и другие расчеты), мужчины и женщины из верхотурских жителей, у них были продовольствие, подсобные хозяйства, вещевой стол и т.д.
Седнев сообщил мне, что на моем месте сидел местный житель, который по семейным обстоятельствам уехал. Он мне передал его архивы и картотеки, которые оказались в весьма запущенном состоянии.
Я снял комнатку на Республиканской улице у злой старухи за сто рублей в месяц. Моя зарплата была всего 600 рублей, но так как в столовой можно было кормиться за копейки, я мог себе позволить такую роскошь.
По выходным дням ко мне приезжала Клара, что вызвало гнев моей хозяйки. Она меня терпела два месяца, а потом велела искать другую квартиру.
Я нашел угол на коммунистической улице, дом 15 у Анастасии Пятаковой. Но туда уж Клара не могла приезжать. Пришлось мне по субботам вечером отправляться в Корелино.
Это продолжалось два месяца. А в феврале меня вызвали в 3-ю часть, где какой-то молодой и самоуверенный военный со мной вел приблизительно такой разговор:
– Мы скоро отпустим директивников по избранному месту жительства, в том числе и вас. У вас будет паспорт «минус 43», т.е. вы не имеете права жить в областных городах. Куда бы вы поехали?
Я назвал Нижний Тагил. Мне были известны случаи, когда освободившихся заключенных на Украине, в центральной России и других местах снова арестовывали и по новой давали 10 лет. А Нижний Тагил в «минус» не входил, это был крупный промышленный и культурный центр и – главное – недалеко от Севураллага. Кроме всего, я знал, что там работал Буяк начальником Тагиллага, и я надеялся, что он меня не даст в обиду.
– Имейте в виду, что немцы здесь останутся на веки вечные, так что ваша Петерс никуда с вами не поедет.
То есть он мне намекнул, что если мне вздумается жениться на Кларе, так меня могут с ней вместе закрепить за лагерем «на веки вечные».
В то время это было весьма вероятно. Ведь начальница УРЧ Галя Чувашева вышла замуж за директивника Лоладзе, после чего ее исключили из партии, сняли с работы, и она никуда устроиться не могла…
А через несколько дней я узнал, что Луизу и Клару отправили в далекий таежный поселок.
* * *
Еще один случай.
В здании работал молодой парикмахер Арндт. По выходным дням он стал ходить в Сосновку недалеко от Верхотурья. Там он полюбил девушку, и они решили пожениться.
В Сосновке устроили пышную свадьбу с пляской, вся деревня принимала участие. После брачной ночи молодые пошли в ЗАГС, а там отказались их регистрировать, потому что у жениха не было паспорта.
(У меня сохранилась справка об освобождении, служившая мне вместо паспорта. В милиции ставили мне печати о прописке на этой справке).
Несчастные мать и дочь ходили к Бесчинскому, но он был непреклонен, даже когда дочь была уже на 4-ом месяце.
– Надо было думать, прежде чем устраивать свадьбу с немцем! – сказал он им.
Арндта после этого убрали из Верхотурья.
Ужасный цинизм!
* * *
27.9.1987
Семена Калугина я знал еще из Ликино. Его арестовали, когда он учился на 3-м курсе политехнического института где-то на Украине. Это был интеллигентный, начитанный парень, которого лагерная жизнь не испортила. Не помню, как он попал в Верхотурье директивником. Здесь он работал электротехником. От нужды и одиночества он связался с крупной молодой буфетчицей, которая его выкормила и вообще, как могла, за ним ухаживала. В доверительной беседе со мной он стыдливо признался, что он очень одинок, так как говорить с женой не о чем, единственная радость – ее маленькая дочка, которая его называла папой.
Через 4 года я встретил Калугина в поезде. Я ехал из Нижнего Тагила в Свердловск, а он из Верхотурья по делам лагеря. Он тогда был заместителем начальника отделения по производству.
А в 1962 году мы случайно в Свердловске встретились в автобусе. Он сказал, что еле ноги унес из Верхотурья. За какие-то дела по производству его хотели отдать под суд, да и его сожительница преследовала его, потому что он не выдержал бессодержательной жизни с ней. Он мне дал свой адрес, но я вскоре уехал, не посетив его.
К новому 1963 году я ему послал поздравление. В ответ его сосед сообщил мне, что Семен умер от рака легких в возрасте 44 лет.
* * *
Главбух Седнев неплохо играл на баяне. На этой почве мы с ним подружились. Я часто к нему приходил со скрипкой, и мы вместе разучивали разные пьесы и песни.
Вокруг этой ячейки образовалась группа песенников: Галя Чувашова, Краева из отдела кадров, Надя Седнева, сестра главбуха, инспектор кадров и другие, имена которых я забыл.
Верхотурский дом культуры был в полном запустении. Кроме кино там не было никаких мероприятий. Поэтому местные власти обрадовались, когда я предложил устроить вечер танцев для молодежи. Я никакой оплаты не требовал за это. Иногда я один со скрипкой играл, иногда Седнев аккомпанировал. Собралось много молодежи. Старшеклассникам местной десятилетки запрещалось приходить на танцы. Особенно усердно следил за этим классный руководитель десятого класса по кличке «Козел». Ученики выставляли посты, чтобы их вовремя предупредили о появлении Козла.
Особой популярностью пользовалась немецкая полька, где в припеве выкрикивали: «Тру-ля-ля!» Благодаря этой польке я среди молодежи получил прозвище «Дядя Труляля».
Иногда в клубе устраивались концерты нашего хора. Я собирал местные частушки и другие народные песни, которые наши девчата исполняли с большим успехом.
Скоро у меня установились дружеские отношения со старшеклассниками. Педагог по профессии и призванию, я истосковался по работе с молодежью. Иногда в сквере они меня окружали и засыпали вопросами по древней истории, по языкознанию, по географии, о моих странствиях по разным городам и странам, а иногда я им решал задачи по стереометрии и тригонометрии. Это были для меня радостные встречи.
Однажды меня вызвал Бесчинский и с улыбкой сообщил мне, что у него был Козел и спросил, что за тип – дядя Труляля, который вмешивается в работу школы и мешает ей воспитывать учеников. Дети ссылаются на этого Труляля как на авторитет («… а дядя Труляля сказал вот так!…»). Бесчинский посоветовал мне прекратить эти встречи, а то пришьют какую-нибудь контру.
В марте стало известно, что через 2-3 месяца в Сосьве состоится общелагерная олимпиада художественной самодеятельности. Приедут из всех отделений актеры, музыканты, певцы, плясуны и будут соревноваться: заключенные наравне с вольнонаемными.
Закипела работа у нас. Все свободное время я отдавал подготовке к олимпиаде. Спасибо Погжебжинскому! Благодаря ему я смог организовать хор в четыре голоса. Были в хоре в основном верхотурские вольнонаемные, жены охранников и пр.
Олимпиада состоялась в Сосьве, где находилось управление Севураллага. Она продолжалась семь дней, с 8-го по 14-е июня. Я выступил со скрипкой и пел песни под гитару, пели частушки и «Уралочку» наши девчата, и я получил первый приз: отрез на костюм (2,5 метра серой шерсти – сейчас мне нужно 3,3, а тогда я был худющий!) и, как ни смешно, «Краткий курс истории ВКП(б)», который мне, «врагу народа», торжественно вручил начальник управления майор Васин.
Эта книга до сих пор хранится в моей библиотеке как курьез. По ней я в Нижнем Тагиле сдал на «отлично» историю партии в Университете марксизма-ленинизма…
А было это так.
В 1947 году я узнал, что на Вагонке открывается Университет марксизма-ленинизма. Я пошел в райком партии и просил зачислить меня в слушатели. А мне говорят:
– Вы не член партии. У нас много коммунистов, которые больше вас нуждаются в этой учебе.
Я возмутился:
– Больше меня никто не нуждается. Ведь я осужден был как враг народа, а воспитываю молодежь и, как классный руководитель, возглавляю комсомольскую организацию.
Мои доводы вызвали смех. Меня зачислили. Через два года мне вручили диплом № 1 с отличием.
* * *
28.9.1987
В Сосьве я встретил на улице Полину Антоновну Савицкую. Она освободилась, но решила остаться в Сосьве, где ей предложили должность при управлении лагеря: руководитель всего дорожного строительства Севураллага. («Все равно меня в Иркутске снова посадят, а о такой работе там не может быть и речи»). Со слезами она мне сказала, что Иван Яковлевич Хрусталев погиб в штрафбате. Ведь даже добровольцев из лагерей сперва отправляли в штрафбат. Так погиб Мансуров, но и такие подлецы, как Пичугин, Шитиков, Евдокимов, погибли наравне с ним.
На улице меня вдруг обнял и расцеловал Рагозин, бывший начальник лагпункта Верх-Шольчино. Узнал меня через 8 лет.
Полина мне дала московский адрес брата Хрусталева. В 1954 году я нелегально находился в Москве и посетил этого брата где-то на Сретенке. Но какая разница между интеллигентным Иваном Яковлевичем и этим братом! Это оказался пропойца и бездельник. Войдя в его убогое жилище, было сразу видно, что там было пропито все, что можно было продать. О своем брате через 10 лет после его смерти он отзывался со злом.
* * *
Анастасия Пяткова, у которой я снимал угол, была женой фронтовика, который вернулся без ноги только летом 1946 года. А уже осенью 1945 года вернулась с войны его младшая сестра Катя Пяткова. Она ушла на фронт добровольно 19-и лет, в декабре ей исполнилось 22 года. Всю войну отслужила медсестрой и сейчас в Верхотурье устроилась в горбольнице операционной сестрой. Мы с ней подружились, но как-то платонически. Вообще я подружился со всей семьей Пятковых. Это были настоящие сибиряки, внешне вроде грубоватые, но при этом добрые, надежные, крепкие люди. У меня сейчас в Москве таких друзей нет.
Из отреза мне сшили костюм при деятельном участии Кати и всех Пятковых. Это был за десять лет мой первый костюм.
От Анастасии я переехал к молодой женщине-бухгалтеру, у которой был свой собственный двухэтажный дом на главной улице. Она квартплату не просила, сдала мне комнату просто так, боясь одиночества. Когда ее вдруг арестовали за какие-то бухгалтерские грехи, меня приютил Семен Калугин.
Арестован был Шурмухин и ревизор. Оказалось, что они занимались под моим носом (я ведь был старшим бухгалтером) грязными делами. Шурмухин вел учет личных денег зеков. Пока заключенный находился в лагере, у него накапливались на своем счету заработанные деньги за вычетом расходов за питание (2 р.60 коп. в сутки), одежду и т.п. У некоторых накопилось до 20.000 рублей. Если зек умер, его личные деньги списывались в счет государства. Шурмухин, когда умирал зек, задним числом оформлял его деньги, будто он их получил, и подделывал подпись. Эти деньги он делил с ревизором и кассиром. Насколько мне известно, Шурмухин и ревизор получили по 10 лет каждый.
Но за что посадили Седнева, я не знаю. Может быть, за халатность в связи с делом Шурмухина. Он получил два года и отбыл их в Карпинске. Жена и дети уехали из Верхотурья в Карпинск, где Седнев остался на должности бухгалтера. А у Шурмухина осталась жена с двумя детьми в бедственном положении.
Обо всем этом мне подробно написала в Нижний Тагил сестра Седнева, Надя.
Среди друзей была эвакуированная из Москвы актриса Дора Николаевна Уральская, женщина уже в годах – около 60 лет. Она мне помогала в самодеятельности, руководила драмкружком. Она была одинокой, у нее ни одного близкого человека на свете не было. Мы иногда целыми вечерами с ней делились своим горем и своими радостями,
Кате Пятковой сейчас 63 года, она мать пятерых взрослых детей, пенсионерка – Онучина Екатерина Алексеевна.
* * *
Я нашел старый адрес: Хрусталев Иван Сергеевич!!!, Сретенка, ул. Хмелева, д. 21, кв. 20.
Если это его брат, так не может он тоже быть Иваном, и отчество не сходится. Неужели мой Хрусталев был Иван Сергеевичем?
12 августа меня вызвал Бесчинский и объявил мне, что я освобождаюсь из Севураллага и сам могу выбрать место ссылки.
Я ему сказал, что я хочу попытаться устроиться учителем в Нижнем Тагиле.
– Ладно, – сказал Бесчинский. – Я дам вам месяц положенного вам отпуска. Получите отпускные и отпускное удостоверение. Если вас не возьмут в гороно, тогда вернитесь в Верхотурье. Я доволен вашей работой, дадим вам жилье и останетесь у нас.
У меня в Нижнем Тагиле был знакомый снабженец, некий Сербин, у него я мог остановиться на несколько дней. Итак, я приехал в Нижний Тагил, пошел в горОНО, где меня принял кавказец по фамилии Аганесов.
Самое удивительное, что меня немедленно оформили учителем немецкого и английского языков без документов об образовании. Такая была нужда в учителях иностранного языка. Я получил 30 часов в неделю в мужской школе № 9 и женской школе № 7 на Вагонке и место в общежитии завода.
Тогда я вернулся в Верхотурье, снялся с учета, выписался в милиции, поехал прощаться с Далингером и с 17 августа стал ссыльным в Нижнем Тагиле (до июля 1955 г.).
Публиковалось в журнале "Крещатик": 2010 - № 1, 2011 - №№ 3-4, 2012 - № 1.
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg



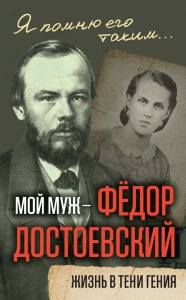
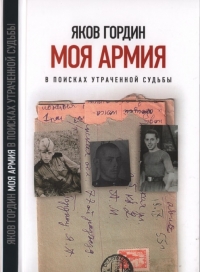

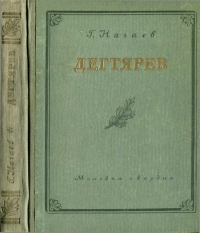


Комментарии к книге «Воспоминания вридола», Борис Львович Брайнин
Всего 0 комментариев