Отцифровал М.В.Борисов
Посвящаю свою работу по оцифровке книги «Вечный странник» замечательному человеку, прекрасной женщине, хорошему специалисту — врачу Наире Геворговне Овсепян.
А также находясь под впечатлением от слога автора, которым написана эта книга.
e-mail: mvd12345@tochka.ru
Глава 1 НАЧАЛО ПУТИ
Во второй половине XIX века Кутина (Кетая) была небольшим городком в Западной Анатолии (ныне Турция). Населяли его в основном армяне, греки и турки. Греки и армяне жили тут испокон веков. В XVII веке в Кутину переселились несколько десятков семей из деревни Цхна провинции Гохтан (ныне территория Нахичеванской АССР).
В древней Армении Гохтанский край славился виноградниками и вином, языческими песнями и танцами, старинными легендами и искусством певцов сказителей.
За многие века, проведенные в Кутине, армяне не только не ассимилировались, но и благодаря своей высокой культуре смогли занять ведущее место в общественной жизни города. Известно, что у кутинских армян было уникальное производство керамических изделий и что метод их изготовления они хранили в тайне. Сырьем служила какая-то особая порода камня, за которой они специально ездили в горы. Привезенный материал они подвергали обработке и из него изготовляли посуду — витые кубки, вазы, тарелки, блюда, разного рода сосуды и предметы домашнего обихода. Изготовленную посуду женщины разрисовывали красивым орнаментом. Краски, изготовленные из растений, не стирались и со временем не тускнели. Свой товар армянские мастера из Кутины вывозили продавать в Эскишехир, в Бурсу, Анкару и даже в Константинополь. Известно также, что это производство, которое являлось источником материального благополучия армян, послужило причиной того, что турецкие правители города приняли дикое решение запретить в городе армянскую речь. Это решение они осуществили самым варварским способом. Туркам давалось право отрезать язык любому жителю города, говорившему по-армянски. И вскоре в Кутине можно было встретить множество людей, которые не смогли бы заговорить ни по-армянски, ни по-турецки, ибо язык у них был отрезан по самый корень.
В Кутине перестала звучать армянская речь. Спустя время армянское население города стало туркоязычным. Древние рукописи, хранящие сокровища духовной культуры народа, были теперь недоступны для них. И все же находились смельчаки, обучавшие детей месроповским письменам в приспособленных для этой цели сеновалах, хлевах и даже в тонирах.
Единственным местом в городе, где можно было, не боясь преследований, услышать армянскую речь и армянскую песню, была церковь св. Теодороса. Здесь читали и пели на древнеармянском языке — грабаре, в равной степени непонятном как туркам, так и армянам. Однако армяне любили этот непонятный им язык, как любили они и церковные свои песни, находя в них утешение и видя в них средство сохранения своей национальной культуры.
Немало бедняков-ремесленников, проявлявших любовь к музыке и одаренных музыкальными способностями, пело в церковном хоре. Пели в церковном хоре и «гохтанцы»: Геворк Согомонян и его брат Арутюн.
Геворка Согомоняна, сапожника по профессии, природа щедро наделила множеством талантов. В армянских, да и в турецких семьях он был самым любимым и уважаемым гостем. Ни одно значительное празднество или застолье не обходилось без него. Из уст в уста передавались не только сложенные им песни, одинаково нравившиеся и армянам, и грекам, и туркам, но и меткие характеристики, остроумные шутки и выражения.
После того, как Геворк Согомонян женился на Тагуи Ованнисян, уроженке Бурсы, его невзрачный каменный домик, в котором и прежде любили проводить время друзья, стал своеобразным Очагом культуры. Эта красивая и хрупкая женщина так же, как и он, говорившая только по-турецки, обладала тонкой и чувствительной душой. Исключительно одаренная, она в своем городе пользовалась известностью как певица, автор многих песен и исполнительница народных танцев. Однако в противоположность Жизнерадостному общительному мужу, она любила одиночество, избегала общества, была натурой меланхоличной и мечтательной.
У этой счастливой супружеской четы 26 сентября 1869 году родился первенец, которого согласно древней армянской традиции три дня спустя омыли в церковной купели и назвали Согомоном. Крещение младенца послужило поводом для веселого и шумного застолья, собиравшего соседей, друзей-ремесленников, а также священников церкви св. Теодороса, где Геворг Согомонян был певчим. В этот сентябрьский вечер в честь новорожденного были подняты бокалы с искристым красным вином и звон их слился с задушевной песней молодых родителей. Они пели песни, доставшиеся им в наследство от предков-язычников, наслаждались их удивительной гармонией. А потом друзья Геворка и Тагуи пожелали младенцу унаследовать таланты родителей, расти им на радость, жить долго и счастливо…
Всю свою женскую нежность, всю теплоту души посвятила Тагуи первенцу. Эти чувства выражались и в песнях, которые она пела над колыбелью малыша.
Но судьба отвела ей не много времени для наслаждения радостью материнства: мальчику был год, когда перестала звучать материнская песня. Ее заменили песни отца, тетки, бабушки. В их голосах, прежде веселых и жизнерадостных, теперь слышалась грусть — они оплакивали Тагуи, безвременно ушедшую в семнадцать лет.
Обучение грамоте
Добрый и чуткий Геворг был хорошим отцом. Когда сыну исполнилось семь лет, он взял его за руку и отвел в школу. Учащиеся за четыре года получали тут скудное образование, а преподавание велось по старинке. Маленький Согомон часто жаловался на школьные нравы, на жестокость учителя, наконец, на то, что круглый год приходилось сидеть на жестком холодном полу без подушки.
Прошли четыре долгих года. Согомон окончил школу в числе лучших учеников, и на отца навалились новые заботы: способности мальчика были очевидны, а продолжить учение в Кутине он не мог — не было школы. Отправить сына в Константинополь не позволяли скудные средства, и пришлось остановить выбор на Бурсе: и недалеко, и за мальчиком могли присмотреть дед и бабушка — родители Тагуи.
Раз в неделю жители Кутины шумно рассаживались на телеги, держа путь в соседние города — Бурсу, Эскишехир на воскресный базар. На одной из телег устроились и Геворг с сыном. Живописная дорога, песни отца, короткий отдых у родника, сопровождавшийся задушевными беседами, выдуманными и невыдуманными историями, — все это навсегда осталось в памяти впечатлительного мальчика.
В Бурсе Согомон успешно выдержал испытания и был принят в школу. Геворг оставил сына в доме деда — отца Тагуи. Прощаясь, обещал навещать его часто, не забывать. Но не смог он выполнить обещанное: четыре месяца спустя узнал маленький Согомон о смерти отца. Что было делать? Пришлось держать обратный путь по так хорошо запомнившимся местам.
Бабушка Мариам повела его на армянское кладбище. Отец был похоронен рядом с матерью. Мальчик не мог, не хотел верить, что под этими двумя холмиками, безразличные к его дальнейшей судьбе, покоятся его родители — мать, которую он не помнил вовсе, и отец, который совсем еще недавно гордился им и обещал отправить после Бурсы в Константинополь продолжать учение. Согомон не звал их, не рыдал, только тихие слезы текли из глаз, мешая как следует разглядеть два скромных могильных холма и поверить в их реальность.
Сирота
Одиннадцатилетний Согомон попал в компанию таких же, как и он, ребят, живших своей жизнью и полностью предоставленных самим себе. Когда бывали сыты, они собирались в церкви св. Теодороса и с радостью выполняли там самые разные поручения. Звонарю помогали звонить, с послушниками подметали сцену, пол, собирали огарки свечей, выполняли обязанности осветителя — зажигали или тушили светильники, — словом, во всем были расторопны и исполнительны.
Но не было для Согомона большего счастья, чем пристроиться возле псаломщика и часами слушать, как он заучивает красивые благозвучные мелодии, или стоять в одном ряду с певцами, там, где совсем недавно стоял отец, и петь шараканы.
Во время исполнения шаракана его взгляд останавливался на изображении богоматери, на которую, по словам отца, очень походила Тагуи — его мать. И от этого его детское сердце трепетало, на душе становилось теплее, а песня звучала еще чище, прозрачней. В такие минуты прихожане были не в силах сдержать свое восхищение искусством юного певца и шепотом благословляли его.
Дружная стайка ребят часто отправлялась в раскинувшиеся за городом леса, зная, что там можно полакомиться ягодами и дикими плодами. Но для Согомона самым большим удовольствием было лежать на теплой душистой траве и вслушиваться в голоса птиц, запоминать их щебетанье, трели. Все эти звуки он потом воспроизводил с такой точностью, что при желании мог обмануть не только своих друзей, но и птиц. Он с жадностью вслушивался во все эти голоса, в таинственное дыхание леса и не уставал, не пресыщался ими.
Дудки, сделанные Согомоном из зеленых полых веток или из камыша, были лучше всех, и друзья готовы были пожертвовать всей своей лесной добычей, лишь бы получить их.
Но и этим беспечным дням суждено было пройти очень быстро — заболела бабушка Мариам, мальчик остался единственным мужчиной в доме, и все заботы легли на его плечи. Теперь, чтобы заработать на кусок хлеба, он должен был бродить по улицам города, петь, танцевать, играть на свирели. Просто так никто бы не подал маленькому нищему ни копейки, да и он бы, не протянул руку за подаянием. Надо было научиться с помощью трогательных мелодий располагать к себе людей, находить пути к их сердцам, запертым на семь замков. Сознание всего этого причиняло мальчику острую душевную боль.
Первая улыбка судьбы
Жизнь полна неожиданностей, тем более, жизнь сироты. Вардапет Геворг Дердзакян, один из руководителей армянской церкви Кутины, готовился к поездке в Вагаршапат. Его вызвал туда католикос, чтобы повысить его в сане.
Кроме того, вардапету Геворгу было поручено привезти в Эчмиадзинский собор для учебы в семинарии самого способного из сирот — певцов церковного хора.
Со щемящей жалостью смотрел будущий епископ на худые голые колени сирот, на их жалкие лица и ветхую одежонку, смотрел и не знал, на ком из двадцати остановить свой выбор — все они были сиротами, все прекрасно пели. Он бы взял всех, но в семинарии ждали лишь одного. И вардапет Геворг отобрал четверых — они ему особенно приглянулись — и попросил спеть еще раз. Дети старались показать все свои способности, каждому хотелось стать единственным избранником вардапета.
Согомон пел последним. Первая песня, вторая, третья… Вардапет не останавливает его. Задумался. Или, может быть, вовсе не слушает? Но вот он поднимает глаза на мальчика, ласково спрашивает, как его зовут, кем были родители, кто заботится о нем и, наконец, велит собираться в дорогу.
Согомон мчался домой как на крыльях.
Девятнадцать сирот, друзей Согомонa, понурив головы, выходили из церкви.
Большая дорога начинается с песни
Вардапета Геворга и Согомона, прошедших долгий, утомительный путь, Вагаршапат встретил грустным перезвоном колоколов.
Маленькие дома с плоскими земляными крышами показались мальчику очень непривычными. Поразило и то, что в этом небольшом городке — скорее даже, большой деревне — было столько церквей, а жители говорили на непонятном языке.
После непродолжительного отдыха в монастырской гостинице вардапет тщательно привел себя в порядок, проследил, чтобы и его юный спутник прилично выглядел и, дав ему последние наставления, направился вместе с ним в приемную католикоса.
Католикос Геворг IV сидел в тронном зале. Для прослушивания он вызвал к себе вардапета Гевонда Жамараряна и Тер-Аствацатуряна — лучших в Эчмиадзине знатоков музыки.
Вардапет Геворг с осторожностью приоткрыл дверь и пропустил вперед Согомона. Мальчик вошел, огляделся вокруг, опустился на колени и, приблизившись к сидящему на троне седовласому католикосу, в низком поклоне приложился сначала к краю его сутаны, потом к руке. Католикос опустил большую ладонь на голову мальчика и благословил его, сказав несколько слов на том же непонятном языке. Согомон беспомощно оглянулся в сторону вардапета.
Святой отец, мальчик нем? — спросил католикос Дердзакяна.
Святейший, сирота не знает армянского языка, он говорит только по турецки.
Католикос нахмурился, недовольно посмотрел на кутинского вардапета. И так как сам он был из Константинополя, пробормотал по турецки:
— Эх, сын мой, зачем же ты пришел сюда, если не знаешь родного языка?
Только теперь Согомон понял причину недовольства католикоса и спокойно ответил:
Не знаю, потому меня и привезли — чтобы учиться.
Прямой и умный ответ двенадцатилетнего мальчика понравился католикосу. А может быть, он вспомнил свое детство? Не вина, а беда этого мальчика, что его родителей заставили забыть родной язык…
Ты смелый мальчик, это хорошо. Теперь посмотрим, что ты умеешь делать, — сказал католикос.
Умею петь, — уверенно ответил Согомон.
Кивком головы католикос дал понять, что слушает его.
Согомону уже не раз приходилось петь перед незнакомыми людьми. И он запел. Пел уверенно, свободно, сначала на турецком, потом шаракан на древне- армянском. Звонкий прозрачный голос заполнил просторный зал.
Католикосу не верилось, что этот сильный и в то же время нежный голос принадлежит тонкому, как соломинка, мальчику с блестящими черными глазами. Каким образом юному певцу удалось вложить в песню столько сердца, столько чувств, что она буквально переворачивает душу? Не одна слеза скатилась по щекам католикоса и исчезла в бороде и усах.
Когда Согомон кончил петь, католикос подозвал его к себе. Мальчик подошел к 'патриарху и приложился к его руке.
— Это я должен поцеловать тебя, сын мой, — сказал растроганный католикос, — приблизься, дай поцеловать твой лоб.
Выслушав единодушную похвалу от Жамараряна и Тер-Аствацатуряна, католикос распорядился вызвать к себе двух семинаристов — старшеклассников, лучших знатоков армянского языка, чтобы поручить им обучение Согомона.
После посвящения в сан Геворг Дердзакян попрощался со своим юным земляком и вернулся в Кутину.
Трудолюбивый ученик
Согомон оказался на редкость способным и старательным учеником. Всего за 3–4 месяца он научился бегло читать, писать и говорить по армянски, и при поступлении в семинарию не уступал никому. Все предметы давались ему с легкостью, однако особую любовь он питал к музыке.
Довольно быстро овладев новой системой армянской нотной записи, Согомон все свободное время посвящал собиранию армянских народных песен. Он увлекся настолько, что нередко занимался этим и на уроках: пристраивался за каким-нибудь широкоплечим учеником, чтобы не попасться на глаза учителю, и, держа тетрадь на коленях, записывал в нее новые песни.
Учителя не осуждали этих «нарушений» юного музыканта, поскольку были уверены, что он приходит в класс, прекрасно зная не только заданный накануне урок, но и выучив новый.
Четыре года спустя его имя было знакомо всем семинаристам от мала до велика. Его прозвали «нотником Согомоном» — за свободное чтение с листа и запись мелодий на слух. Кроме того, он был лучшим певцом церковного хора и лучшим солистом. А по воскресным дням он пел духовные песни в храме, стоя за креслом католикоса, в такие минуты святейшему казалось, что до него доносится голос ангела.
Юный Согомон был также страстным почитателем армянской истории и литературы. На пытливого и любознательного юношу неизгладимое впечатление произвел роман «Раны Армении». Дочитав последнюю страницу, Согомон всю ночь не смыкал глаз: то вспоминались яркие эпизоды романа, то представал образ храброго Агаси, то вставал перед ним сам Хачатур Абовян, автор бессмертного произведения. Он был таким же, как и Согомон, жаждущим знаний юношей, так же, как и он, учился в Эчмиадзинской духовной семинарии. Перед мысленным взором Согомона проходили страницы жизни Абовяна: восхождение на вершину Арарата, годы учебы в далекой северной стороне, возвращение на родину и столь таинственное исчезновение…
Встреча с романом, личность автора, его жизненная судьба — все эти впечатления были настолько сильны, что Согомон решил на следующий же день с одним из своих друзей тайком отправиться в Канакер, чтобы своими глазами увидеть дом, в котором родился великий писатель и просветитель.
Обет
Раню поутру двое юношей, стараясь не шуметь, вышли из общежития семинарии и направились в сторону Еревана. Вскоре они присоединились к крестьянам, едущим на городской рынок. Однако неторопливый шаг осликов, груженных кладью, и ленивое поскрипывание телег никак не устраивало нетерпеливых друзей. Они ускорили шаг, оставив спутников далеко за собой, и после полудня были уже в Канакере. Без отдыха принялись они искать отчий дом Абовяна.
Это был одноэтажный глинобитный домик с плоской крышей, простой и скромный. Небольшой двор пуст, безлюден. Под стеной порожний карас с облупленными боками, чуть поодаль — заброшенная телега и несколько полусгнивших бревен. Дверь, ведущая в дом, закрыта, одиноко смотрят подслеповатые окна.
Эта картина наполнила сердца юношей грустью. Неужто вот в этом бедном доме жил человек, силой своего гения осветивший путь целого народа, заслуживший его глубокое признание?
Юноши, несколько разочарованные увиденным, но полные самых возвышенных чувств, покинули Канакер. Прежде чем вернуться, они долго бродили по живописным полям и ущельям, сидели на берегу Зангу, смотрели на бегущие
волны и, перебивая и дополняя друг друга, вспоминали страницы любимой книги. А когда их взору открылся седоглавый Арарат, покоренный в свое время молодым Абовяном, они поклялись служить своему народу так, как служил он, великий писатель и просветитель, — человек, которого они в этот день признали своим учителем на всю жизнь.
Первый урок, воспринятый Согомоном от великого писателя, заключался в любви к Простому народу и прежде всего к крестьянину, земледельцу, к созданному им слову, пеоне, в уважении к его благородному труду и нелегкой доле.
Юный собиратель народных мелодий
В семинарии учились юноши, приехавшие из разных областей Армении (как Восточной, так и Западной). Это были сироты или дети бедняков, в большинстве своем выходцы из деревень, крепко связанные с народом, его бытом.
Благодаря своему особому обаянию, Согомон легко и быстро сближался с людьми. Не последнюю роль в этом играл и его удивительный голос. Быстро выучившись диалектам своих однокашников — хойскому, мушскому, сасунскому, лорийскому, карабахскому, — он с удовольствием разучивал их народные песни, Когда тихими летними вечерами семинаристы выходили во двор на прогулку, Согомон по их просьбе пел выученную за день песню. Пел с чувством, с любовью. Друзья просили его спеть еще раз, после чего сами присоединялись к нему.
Среди семинаристов началось своеобразное соревнование — кто даст Согомону больше песен своего края, чья песня понравится ему больше других.
В семинарии учился юноша-курд. Он был очень рад, узнав об интересе Согомона к курдским песням, танцам, мелодиям, которые юный курд наигрывал на свирели.
Каждую осень, вернувшись после каникул, семинаристы спешили к своему другу, чтобы спеть ему новые песни, услышанные в родных краях. Так пополнялись записные книжки юного собирателя народных песен. Теперь в его собрании наряду с крестьянскими и городскими песнями можно было встретить песни армянских ашугов и гусанов, а также песни других народов.
Теперь уже увлечение Согомона музыкой стало настолько серьезным, а знания — настолько глубоки, что их уже не в состоянии были удовлетворить преподаватели семинарии. По этой причине юноша стал брать уроки у известного музыковеда Никогаёса Ташчяна, главным образом совершенствуя свои познания в области записи и исследования шараканов.
Помощник и преемник Кара-Мурзы
Когда в семинарию Геворкян преподавателем музыки был назначен известный армянский композитор Кристофор Кара-Мурза — музыкант, снискавший большую популярность в Закавказье, радости Согомона не было границ.
Во второй половине XIX в. формируется армянская профессиональная музыка, развивающаяся в русле европейской или русской профессиональной музыки, но лишенная органичной связи с национальным музыкальным языком. Между тем, армянский профессиональный музыкальный язык и стиль могли быть созданы лишь после разработки в армянской народной песне и музыке принципов многоголосия. Первым, кто попытался это сделать, был Кара-Мурза.
Приехав в Вагаршапат, Кара-Мурза сразу же организовал в семинарии Геворкян хор. Неудивительно, что опытный музыкант обратил внимание на Согомона, страстного любителя народной песни. Так молодой человек стал помощником выдающегося композитора.
1893 год стал важной и незабываемой вехой в жизни Согомона.
Прошло уже двенадцать лет с того дня, как он покинул Кутину. И вот первый приезд в город детства. Каким предстал он перед двадцатичетырехлетним Согомоном? Отчий дом покинут, полуразрушен, бабушки Мариам нет в живых, к щемящим душу воспоминаниям прибавилась боль новой утраты. Родной город был ему неинтересен. Единственным утешением стали встречи с друзьями отца. Согомон с волнением слушал рассказы о своих родителях, записывал сочиненные ими песни, не забытые в народе до сих пор. Это и было, пожалуй, единственной ценностью, доставшейся ему в наследство от родителей и привезенной в Вагаршапат…
Между тем, новый католикос Хримян Айрик, при первой встрече с Согомоном покоренный его голосом, произвел его в иеромонахи и дал имя Комитас — в честь знаменитого католикоса VII в. Комитаса, поэта, певца, композитора и ученого.
Через некоторое время высшее духовенство Эчмиадзина, с осуждением относившееся к деятельности популяризатора народного искусства Кара-Мурзы, уговорило католикоса принять решение об освобождении его от должности преподавателя музыки. Руководство церкви наложило запрет на внедрение многоголосия в духовные песни, мотивируя это тем, что единоверие должно воспеваться одним голосом. Кроме того, в жизнелюбии народных песен святые отцы видели угрозу нравственности своих воспитанников — будущих служителей церкви.
Кара-Мурза, которому был дан «совет» продолжать работу непосредственно в народе, покидал семинарию с обидой. Большинство учащихся встретило решение католикоса с недовольством. Без особого энтузиазма было воспринято и назначение на вакантную должность Комитаса. Семинаристы любили Согомона, привязанность их была искренней, однако в поспешности, с какой произошла смена учителей, им виделась интрига. Тем более, что новый учитель вскоре и сам приступил к организации четырехголосого хора, а через некоторое время в семинарий стал действовать и оркестр народных инструментов.
Деятельность, развернутая Комитасом, его прекрасное искусство заставили забыть историю с Кара-Мурзой, тем более, что сам Комитас не имел к случившемуся никакого отношения. Что касается католикоса, то он с большим удовольствием слушал народные песни, исполняемые хором и оркестром семинарии. Особенно нравились ему те концерты, в которых принимал участие назначенный им преподаватель музыки — Комитас.
Есть ли у армян песня?
Учить, учить… С утра до ночи это было его единственным занятием, его работой и целью жизни. Однако рано или поздно наступает день, когда сам учитель нуждается в пополнений своих знаний: когда учишь других, лучше замечаешь собственные пробелы. И начинается придирчивый экзамен — подвергаешь сомнению свои силы, мысли, знания… Ради чего он за столько лет собрал и записал более тысячи песен?
Как-то Комитас пригласил к себе Овсепа Чаникяна, автора так полюбившегося ему сборника «Акна» — сколько в нем было прекрасных народных песен! Но пел их Овсеп так, как спел бы человек, любящий петь — и только. Пел как обычные песни. А для молодого музыканта каждая из них была настоящим сокровищем, глаза его загорелись, он записывал эти песни и сразу же пел. Сколько в них красоты, души, сердца! Забыв о присутствии гостя, Комитас погружался в собственные мысли: «Надо не откладывая, издать эти шедевры под названием «Акна — сборник народных песен». Тогда посмотрим, кто осмелится утверждать, что у армян нет собственных песен. Вот же они! Что же это, если не исконно народные песни!»
«Это персидские, ассирийские, курдские, турецкие, даже китайские песни, — мысленно возражал себе за своих оппонентов Комитас, — очень возможно, что китайские».
«Подождите, а почему турки, курды, китайцы могут иметь свою самобытную музыку, песню, а у армян ее не должно быть?»
«Нет, — уточняет невидимый оппонент, — мы не утверждаем, что она вообще отсутствовала. Есть, конечно, кое-что и у армян, Но это лишь влияния. Вот, к примеру, послушай, если не веришь, послушай и убедись сам».
И тогда доносится до его слуха церковная мелодия. Хотя временами кажется, что она армянская, но еще больше в ней турецкого. Вот хоть бы эти переливы, сопровождающие отдельные части протяжной, заунывной мелодии, они так напоминают турецкие народные песни. Но ведь это в константинопольских церковных песнях! Чтобы лишний раз проверить себя, он напевает одну из мелодичных духовных песен Эчмиадзина. Огромная разница! В чем же причина? Трудно ответить на этот вопрос. Различие между ними он чувствует душой, слухом, но выразить это, объяснить, доказать пока не в состоянии. Так же заканчиваются все попытки сравнения крестьянских песен с песнями гусанов и ашугов.
«Вывод ясен, — продолжает настаивать незримый оппонент, — у армян нет национальной песни».
«Есть!»
И спор вновь возвращается на круги своя — с того, с чего начался: армянская песня находится под сильным влиянием музыкального искусства других народов. Но разве есть народ, не испытавший на себе влияния других народов или не оказавший влияния сам? Разве возможен обмен культурными (да и всякими другими) ценностями без взаимного влияния и обогащения?
А может быть, чистота армянской песни утеряна? Подобно тому, как утерян ключ к прочтению наших древних нот — «хазов»? Эти нотные знаки по сей день хранят в неприступной тайне мелодии, звучавшие тысячу лет тому назад (а возможно и больше). Если когда-либо их тайна будет раскрыта, многие оппоненты прикусят языки. Он сегодня же, сейчас же займется хазами. Как это он до сих пор не догадался? А пока ответы на все эти вопросы следует искать в народе: именно народ создает свои песни, и только он народ, может раскрыть все тайны своего творчества — своей историей, своим сегодняшним днем.
Армения всегда была ареной непрекращающихся войн. Сколько раз наш народ терпел поражения, сколько раз оказывался под гнетом не только цивилизованных, но и отсталых народов, предававших армянскую землю огню и мечу! Завоеватели подчиняли себе все и вся, и лишь одного они не могли отнять у нас — права и желания трудиться, создавать, строить. Нашим, уделом всегда был труд, их единственной целью — нажива, грабеж, насилие. Они могли отнять у нас песни радости, счастья, исковеркать их до неузнаваемости, оставив нетронутыми лишь песни тяжелого, но честного труда. Труд всегда был долей армянина-землепашца, и поэтому именно его трудовыми песнями должны проверяться «на чистоту пробы» все те песни, которые называются армянскими.
Песни Акна, записанные в тот памятный день Комитасом, лишний раз убедили его в том, что армянские церковные и народные песни родственны между собой, что у них имеются общие истоки. А хазы непременно могут стать ключом и к тем и к другим.
Проводив Овсепа Чаникяна, Комитас направился в Эчмиадзинский матенадаран и погрузился в таинственный мир древних хазов.
Учитель желает учиться
Двухлетняя упорная работа над хазами не привела к сколько-нибудь значительным результатам, но тем не менее дала возможность всерьез «осадить» эту неприступную крепость. И поскольку ключ к прочтению хазов находился когда-то в руках музыкантов-священников, записывавших песни с помощью этих нотных знаков, было необходимо в первую очередь самым тщательным образом изучить духовную музыку. Надо было выяснить, какие из песен в течение веков не подвергались изменениям или изменились лишь в незначительной степени, какие из духовных песен наиболее близки народным и несут на себе печать их ярко выраженного влияния и, наконец, какие из народных песен могли быть созданы столетия и даже тысячелетия назад.
Собранные Комитасом песни — как духовные, так и народные — могли бы дать ответ на этот вопрос. Наиболее долговечными, «живучими» и наименее подверженными изменениям и влияниям оказались трудовые, обрядовые, эпические, эпико-лиричиские и крестьянские мелодии, на протяжении веков крепко связанные с народными обычаями и традициями. Среди духовных песен менее всех подверглись изменениям шараканы. Однако эти выводы все еще не могли считаться решением вопроса. Суть искомого ответа могла быть только в одном: в определении закономерностей, доказывающих самостоятельность, самобытность армянской песни. В самом деле, что же, в конечном итоге, предопределяет отличие армянской песни от курдской, курдской — от турецкой, в свою очередь турецкой — от арабской, арабской — от персидской?
Музыковеды Европы давно уже нашли научно обоснованные закономерности, предопределяющие национальные особенности английской, французской, итальянской, русской музыки. Но отчего же им не удалось, несмотря на неоднократные попытки, найти аналогичные закономерности, характерные для армянской музыки? Не потому ли, что до сих пор им были доступны лишь искаженные, псевдоармянские формы нашей песни, несущие на себе печать многих музыкальных влияний, и прежде всего — турецкого.
Вопросы, мучившие Комитаса, все более убеждали его в необходимости овладения достижениями европейской музыковедческой мысли. Но кто, на какие средства возьмет на себя заботу о его дальнейшем образовании? Единственный человек, на которого он мог бы надеяться, был католикос Хримян Айрик.
В доме католикоса Комитас был своим человеком. Здесь все любили и уважали его, начиная с внучатых племянниц, которым он давал уроки пения, и кончая самим хозяином, который всюду брал его с собой: Комитас был украшением его свиты. Куда бы он не отправлялся — в Ереван, Тифлис, Александрополь — Комитас везде сопровождал его. Особенно памятен был католикосу случай, происшедший в Александрополе. Огромная толпа, собравшаяся перед домом предводителя местной епархии, ждала католикоса. Его святейшество вышел на балкон, благословил людей, прочитал молитву. Но вскоре аплодисменты разразились с — новой силой. Теперь уже народ хотел видеть и слышать Комитаса. Отказать было невозможно, и он вышел на балкон, спел шаракан и армянскую народную песню «Дле яман».
Комитас на этот раз пришел к католикосу, чтобы поговорить с ним о своем желании поехать учиться. Подойдя к католикосу, он приложился к его руке и сел напротив. Он очень волновался, но, заметив сочувствующую улыбку католикоса, начал говорить прямо, без обиняков. Он много говорил о мучившем его вопросе — о проблеме самобытности армянской тесни. На сегодняшний день многие европейские, да и армянские специалисты считают, что армянский народ, обладающий столь древней культурой, растерял самобытные черты музыкальной культуры. Подобные мнения серьезно аргументируются, и чтобы их опровергнуть, надо иметь основательные знания в области теории музыки. Словом, он просил католикоса направить его учиться в Европу.
Католикос дал свое согласие, но прежде посоветовал поехать в Тифлис, прослушать курс лекций в местной консерватории. Ему нужно было время, чтобы найти богатого попечителя, мецената, который взял бы на себя расходы по обучению студента за границей: церковь такими средствами не располагала.
Когда Комитас навещал Хримяна Айрика, главной заботой домочадцев было угостить его крепким кофе и разными сладостями. О слабости гостя к мучному знали все. Знали они и о том, что хозяин дома под конец обязательно попросит его спеть. Так и случилось. Когда подали мучное, католикос, лукаво прищурившись, обратился к Комитасу:
— Ешь, сын мой, чтобы голос твой всегда был сладким.
Сам же откинулся на мягкие подушки и закрыл глаза в ожидании песни.
Студент Екмаляна
Макар Екмалян, выпускник Петербургской консерватории, в Тифлисе пользовался большой популярностью. Будучи преподавателем музыки в школе Нерсисян, он руководил также двумя четырехголосыми хорами — в школе и в армянской церкви. Оба эти коллектива играли важную роль в культурной жизни города. Так же, как и Кара-Мурза, Екмалян вводил в армянские народные и церковные песни принцип многоголосия. Два ученика Екмаляна — Арменак Шахмурадян и Тигран Налбандян, — обучавшиеся у него вокальному искусству, стали солистами этих хоров и были хорошо известны в городе.
Шахмурадян и Комитасе знали друг друга по Эчмиадзину: начинающий тогда певец был солистом в хоре Комитаса и помог ему записать несколько народных песен. И вот теперь учитель приехал в Тифлис в качестве ученика.
Екмалян, проверив знания Комитаса, был настолько восхищен его эрудицией, способностями, что отсоветовал ему учиться в Тифлисской консерватории — это не прибавило бы ровным счетом ничего к его знаниям и было бы лишь напрасной тратой времени. Вместо этого он обещал заниматься с ним по теории и практике гармонии.
Намеченную программу вардапет Комитас усваивал так легко и основательно, что Макар Екмалян очень скоро почувствовал приближение той минуты, когда отпадет необходимость в их регулярных занятиях.
Преподавателя удивляла необычная осведомленность ученика в вопросах армянской народной песни, истории церковной песни, а также та горячая убежденность, с которой тот вступал с ним в спор о самобытности армянской музыки. Сам Екмалян придерживался того мнения, что армянская музыка представляет собой ветвь арабо-персидской. Комитас впервые встречался с таким серьезным оппонентом. И несмотря на то, что Екмаляну не удалось поколебать взгляды своего ученика, их споры были полезны хотя бы тем, что двадцатишестилетний вардапет лишний раз убедился в необходимости продолжить музыкальное образование в Европе.
В Тифлисе Комитас впервые получил возможность жить полноценной духовной жизнью — не пропускал ни одного концерта, оперного спектакля, театральной премьеры. В этом пестром восточном городе ему удалось ощутить дыхание Европы. Он был окружен подлинной интеллигенцией, интересными людьми, с которыми можно было спорить, обмениваться впечатлениями. Споры эти, хотя и не всегда приводившие к разрешению волновавших вопросов, тем не менее будили, стимулировали мысль.
После Тифлиса царящее в Эчмиадзине сонное спокойствие показалось ему еще более невыносимым.
За это время католикос обратился с просьбой к армянину миллионеру Александру Манташеву оказать Комитасу содействие. Он рассказал о его незаурядных способностям не забыв при этом упомянуть, что человек, опекающий столь одаренного музыканта, приобретет в глазах нации авторитет бескорыстного благодетеля. Семена, посеянные католикосом в душе честолюбивого миллионера, дали хорошие всходы, но он тем не менее ждал, когда будущий студент лично обратится к нему. Комитасу ничего не оставалось делать, как просить нефтепромышленника взять на себя расходы за его учение в Берлине. Молодой, вардапет был уверен, что трех лет учебы в Берлинской консерватории будет достаточно.
Положительный ответ Манташева не заставил себя ждать, и Комитас стал готовиться к отъезду.
В дальнюю дорогу он взял одну из своих многочисленных тетрадей с записями песен — самую объемистую, несколько своих статей, свирель, подаренную, курдом семинаристом, и «талисман» — подарок католикоса. Хримян Айрюк знал, что Комитас с особой любовью относится к Хачатуру Абовяну. Пожалуй, для такого страстного поклонника Абовяна, каким был Комитас, нельзя было придумать более желанного подарка, чем портрет великого писателя. С нескрываемым душевным трепетом он принял из рук католикоса портрет в ажурной серебряной рамке, обещал никогда не расставаться с ним и всегда помнить доброго Айрика.
И вот теперь, в солнечный майский день 1896 года, как в свое время Абовян, Комитас прощался с родной Арменией.
Глава 2 СТАНОВЛЕНИЕ
Берлин встретил двадцатисеми летнего вардапета Комитаса, как и следовало встретить простого приезжего, с безразличием. Но имеющиеся при нем рекомендации способствовали тому, чтобы вокруг него сразу же собрались студенты-армяне. Некоторые из них знали его по Эчмиадзинской семинарии или по Тифлису.
Первой заботой Комитаса были поиски комнаты — дешевой и удобной, расположенной в центре города, неподалеку от консерватории, оперы, театров, библиотек. Но увы, его средства позволили вести поиски лишь на городской окраине.
Комнатка нашлась на улице Коха, на четвертом этаже старого, но уютного дома. Два больших окна открывались прямо на крышу соседнего дома. Напротив — ни одного окна, рядом — ни души: на четвертом этаже комнатка была единственным жилым помещением. Эта обособленность сразу же пришлась Комитасу по душе: и ему никто не станет мешать, и он никому не надоест, сколько бы ни пел и играл на рояле.
Комнатка была обставлена скромно, но со вкусом, все здесь понравилось Комитасу — вплоть до нескольких пейзажей в простеньких деревянных рамках, словно кто-то сознательно постарался угодить ему. Вот только рояля не было — придется взять напрокат. Комитас стал даже прикидывать, где бы лучше его поставить.
Тем временем его новые друзья на бойком немецком языке вели переговоры с хозяйкой. Окончательную цену, названную ею, они нашли приемлемой для скудных средств своего соотечественника.
Хозяйка выжидающе смотрела на будущего жильца. Догадавшись, чего от него ждут, он произнес свои первые слова на немецком:
— Гут, гут…
В тот же день друзья помогли ему перевезти весь небогатый скарб.
Надо было Обживать новую квартиру, устраиваться. Прежде всего нашел себе место портрет Абовяна — прямо над письменным столом, чтобы каждый раз, подняв голову, можно было встретить взгляд любимого учителя.
Разместив все остальное, — книги, одежду, — Комитас принялся подробно отвечать на все вопросы друзей, не избалованных вестями с далекой Родины.
Когда вопросы и ответы на некоторое время иссякли, он взял в руки подаренную перед отъездом свирель, и на немецкой земле зазвучала песня высоких гор и цветущих долин, песня, в которой так тесно сплелись радости и горести армянского крестьянина.
Экзамен
Ректор берлинской высшей музыкальной школы Йозеф Иоахим в своем кабинете проверял музыкальные способности и знания Комитаса.
Строгий экзаменатор остался очень доволен. И тонкое чувство ритма, и правильное воспроизведнние мелодии сложных музыкальных отрывков, незаурядные вокальные данные — все — свидетельствовало об огромном таланте будущего студента. Иоахима, выдающегося скрипача и композитора, особенно интересовали музыкальный слух и теоретические знания Комитаса. Что касается первого, то здесь экзаменующийся был безупречен — он прекрасно читал с листа и отличино исполнял предположенные ему отрывки. Что же до теории, то и здесь, несмотря на отсутствие глубоких познаний, можно было увидеть явные способности и вкус к научному мышлению.
Знания Комитаса в области восточной музыки профессор нашел не только превосходными, но и исключительно зрелыми, самобытными. С лучшей стороны проявил себя будущий студент и в композиции. Иоахим был озабочен лишь тем, что двадцатисемилетний Комитас не умел играть на фортепьяно. Однако как музыкальные способности, так и знания молодого человека позволяли надеяться, что при условии регулярного упорного труда он и здесь сможет добиться определенных результатов.
Поглаживая короткую густую бороду, профессор думал о том, кого из многих музыкантов Берлина было бы правильнее рекомендовать Комитасу в качестве преподавателя и наставника. Наконец он остановил свой выбор на Рихарде Шмидте, отличном музыканте и многоопытном педагоге. Однако лишь после долгих раздумий, взвесив окончательно все за и против, назвал вслух фамилию Шмидта.
Частная музыкальная школа Рихарда Шмидта пользовалась в музыкальных кругах Берлина хорошей репутацией. Уже тот факт, что именно Йозеф Иоахим рекомендовал ему Комитаса, был для Рихарда Шмидта красноречивым свидетельством незаурядных способностей студента. В свою очередь проэкзаменовав Комитаса, Рихард Шмидт не только убедился в справедливости высокой оценки, данной Комитасу профессором Иоахимом, но и обещал лично заниматься с ним.
Не откладывая, Рихард Шмидт составил подробнейшую программу занятий, взяв на себя контроль за выполнением каждого ее пункта. Программа была настолько сложна и интенсивна, что могла бы привести в замешательство любого человека. Однако опытный музыкант и педагог не сомневался, что имеет дело с незаурядной личностью. Он продумал, объяснил и обосновал важность каждого пункта, начиная с игры на фортепьяно и кончая изучением немецкого языка. Это были самые необходимые предпосылки, без которых было бы немыслимо достижение поставленной цели.
Изменяют пальцы
Перед Комитасом раскинулся бескрайний, неисчерпаемый мир звуков, и он, забыв обо всем на свете, погрузился в него.
Изучение немецкого языка не составляло для него особых трудностей. Усвоение ежедневных заданий по основам музыкальной теории, гармонии, контрапункта, музыкальных форм, дирижерского искусства — вскоре убедило профессора в том, что он может в два раза увеличить объем намеченной ранее программы. Столь очевидные успехи в овладении теоретическими дисциплинами убедили Шмидта в том, что теперь уже он может поручить своему ученику несколько газетных статей, посвященных теоретическим проблемам, и в частности, восточной музыке. В скором времени Комитас стал активным корреспондентом многих берлинских газет и журналов, уделявших внимание музыкальному искусству. В своих статьях он подробнейшим обратом останавливался на вопросах, связанных с характеристикой, раэбором и трактовкой cпецифических особенностей восточной музыки.
Однако значительную часть напряженного рабочего дня Комитас отводил игре на фортепьяно. Преподаватель не связывал больших надежд с великовозрастным учеником: ведь это неслыханное дело — овладеть таким инструментом в двадцать семь лет! В истории музыки подобных примеров не было. Незначительность результатов, потребовавших фанатического упорства, напряженнейшего труда, не раз опустошала веру Комитаса в свои силы, ставила на грань безнадежности. И все же он не позволял себе пасть духом, сдаться — упадок сил длился минуты, упорная работа — часы, дни, месяцы.
После таких спадов он брался за работу с удвоенной энергией. Суставы теряли подвижность, гибкость, на пальцах появлялись мозоли, руки тяжелели и не слушались его. С каким трудом давалось ему исполнение простейших упражнений! Однако как ни трудны были они для него, главные трудности — он это хорошо знал — были впереди. Техническое совершенство — несамоцель, оно лишь обязательное условие для достижения самой сложной и важной задачи — проникновения в самую суть, душу художественного произведения. В конечном счете, почти всякий человек после более или менее длительного обучения научится правильно играть по нотам, но ведь куда более важно — и в этом именно кроется смысл подлинного творчества — суметь передать мысли и чувства автора, а также свое личное их восприятие и отношение к ним.
Комитас, конечно же, хорошо понимал и представлял всю сложность стоящих перед ним задач. Он походил на художника, старательно выписывающего лицо человека, но внутренне уже готовящего себя к отображению всех пропорций его тела, видящего свою главную задачу в воссоздании его образа в целом.
Если бы только хозяин рояля знал, сколько часов в сутки «страдал» под пальцами Комитаса его инструмент, он бы, конечно, взимал плату в трехкратном размере…
В мире музыки
Несмотря на то, что берлинская музыкальная жизнь полностью поглотила Комитаса, выполнение намеченной учебной программы осуществлялось с той же одержимой настойчивостью и последовательностью.
Знание языка уже позволяло ему знакомиться с наиболее интересными трудами по истории немецкой музыки, с проблемами, стоящими перед немецкими музыкантами и музыковедами.
Трудно сказать; где кончалось для него удовлетворение душевной потребности и где начиналось учение, напряженная исследовательская работа, упорный труд. Оперные спектакли, горячим поклонником и постоянным посетителем которых он был, не начинались для него с увертюры, с первого взмаха дирижерской палочки и не заканчивались с опускающимся занавесом и медленным угасанием огромных хрустальных люстр.
За короткое время в Берлинском оперном театре у него появилось множество хороших друзей среди хористов, оркестрантов, солистов, приглашавших его иногда даже на репетиции.
Еще больше времени проводил он в опере, когда репетировали свои партии выдающиеся немецкие певцы, гастролеры из Италии, Франции, России. В такие дни он предварительно знакомился с клавиром оперы, уделяя особое внимание вокальным партиям.
Таким же желанным гостем и слушателем был Комитас и в филармонии: во время концертов — в зале, на репетициях — за кулисами. С программой симфонических оркестров, хоровых капелл знакомился заранее, уточнял для себя трактовку того или иного произведения и потом уже во время концерта, проверяя себя, сравнивал ее с исполнением артистов.
Один год равен шести годам, но нужда остается нуждой…
Закончился первый учебный год, и Рихард Шмидт не замедлил представить отчет о проделанной его учеником работе. Результат был ошеломляющим: за один год Комитас усвоил курс, на который другому понадобилось бы не менее шести лет. Единственное, что пока не удовлетворяло высоких требований професора и студента, была игра на фортепьяно.
Весть о столь выдающихся успехах Комитаса дошла и до Эчмиадзина, и оттуда стали приходить письма, в которых все чаще упоминалось о необходимости скорейшего возвращения. Комитас был вынужден напомнить святым отцам, что Манташев обещал ему в случае необходимости четыре года содержания, но что сам он думает уложиться в три.
Отношение к студенту во все времена неизменно: практически мало кто смотрит на него, как на будущее общества (даже тот, кто теоретически этого не отрицает). И с этой точки зрения студент — лишь потребитель материальных благ, расточитель, если не сказать больше. На самом же деле жизнь его очень часто полна тревог и лишений.
О жизни студента, занимающего небольшую комнатку на улице Кох, никто в точности ничего не знал. В установленный день получали плату домохозяйка и владелец рояля, органист и преподаватель пения, не говоря уж о Рихарде Шмидте. В магазине нот и музыкальной литературы для него всегда оставляли нужные книги, и он щедро платил за них. В дешевом кафе, которое он посещал всего один раз в день, приходилось выбирать самую простую еду, хотя, рассчитываясь надо было оставлять чаевые. Много денег уходило на посещение концертов и спектаклей, ибо не всегда удавалось проникнуть в зал без билета. Жизнь с безжалостной требовательностью поглощала его скудные средства, не оставляя ни одной копейки, которую он мог бы потратить в свое удовольствие. Между тем, в Эчмиадзине считали, будто он слишком расточителен. Это было тем более несправедливо, что сам он принимал лишения как должное: ведь все эти жертвы нужны были для того, чтобы он вернулся на родину обогащенный знаниями, а не праздными жизненными удовольствиями.
"An den Wassern zu Babel"
Студент из Армении опоздал на занятие. Это случилось впервые, но аккуратный и предельно пунктуальный Рихард Шмидт, постаравшись не обидеть студента, сделал ему замечание и попросил объяснений.
Не так-то легко было Комитасу рассказать о причине своего опоздания. После напряженных утренних занятий ему сделалось дурно, он упал и остался лежать на полу до тех пор, пока сознание не вернулось к нему и предметы, окружавшие его, не приняли прежние очертания.
В этот день он написал о случившемся инспектору семинарии Геворкян Костаняну: «Я постоянно ипытываю материальные затруднения и часто болею, питаюсь плохо, работаю много, исхудал и ослаб — думаю, дело мое плохо. Премного благодарен Вам: присланные в прошлый раз сто рублей покрыли большую часть моих долгов… часто приходится экономить на питании, чтобы выкроить плату за обучение. Еще раз обращаюсь с просьбой: распорядитесь, если возможно, стипендию мою высылать в начале месяца — очень стеснен в средствах, предстоят большие расходы».
Рихард Шмидт, конечно же, об этом ничего не узнал. Он взял протянутые ему ноты, на которых было выведено по-немецки: «An den Wassern zu Babel». Еще стоя взяв несколько аккордов, профессор вначале про себя, потом вслух начал напевать мелодию. Волнение охватило его — сел, расположил на пюпитре ноты… Возвышенная, величественная мелодия звучала несколько раз. Он представил ее в исполнении хора и уже не смог сдержать восторга:
— Я знаю около десяти сочинений, написанных на эту тему. Принадлежат они известным европейским композиторам. Но ни одному из них не удалось добиться такого органичного единства слова и музыки. Пожалуй, впервые в этой трагедии звучит величие, которое делает печаль песни жизнеутверждающей и светлой.
Молодой композитор ничего не ответил. Он лишь подумал о возможном ответе. Известно ли господину профессору, что на его родине, в Армении, произошла страшная резня, более коварная и жестокая, чем та, которой подвергли евреев древние вавилоняне. Султан Гамид потопил в крови народ Западной Армении, находящейся под властью Турции, организовав поголовное уничтожение армян в областях Сасун, Муш, Киликия, Зейтун и в городе Константинополе. И эта песня — крик крови, крови сотен тысяч невинных жертв геноцида. Он не мог, подобно другим композиторам, смотреть на страдания евреев со стороны — в трагедии этого древнего народа он видел сегодняшнюю горькую судьбу армян. Но несмотря на весь ужас свершившегося, он не теряет надежды, что настанет день радости и счастья и для его поверженного, исстрадавшегося народа.
Опоздание своего ученика профессор отнес за счет работы над песней, так понравившейся ему, но все же не простил его. Посмотрев на студента с немым укором, он вдруг впервые за весь год обратил внимание на то, что смуглое лицо южанина как-то поблекло, лишилось ярких красок, черные, выразительные глаза зашали, на бледном, как пергамент, лице неестественно выступили скулы.
Причины этой перемены он не знал и решил выяснить ее. Наскоро поручив студенту несколько новых упражнений, отпустил его. Еще раз извинившись за опоздание, Комитас попрощался и вышел.
Профессор торопливо оделся и, ста раясь остаться незамеченным, последовал за ним.
Комитас шел, низко опустив голову, медленной, неуверенной походкой усталого человека. Зашел в нотный магазин, потом — в дешевое кафе. Очень скоро вышел оттуда и направился к дому. Не успел он зайти к себе, как из открытого окна сразу же послышались звуки рояля и пения.
Профессор наугад постучался в дверь на третьем этаже, и когда открывшая ему женщина назвалась хозяйкой дома, он, представившись, чтобы не вызвать излишних подозрений, стал расспрашивать о своем ученике — о привычках, поведении, распорядке дня. Хозяйка ничего предосудителыного за постояльцем не замечала, говорила о нем с неизменным уважением. Плату вносит аккуратно, в комнате всегда порядок, чистота, ничем ее не беспокоит. Только целыми днями играет и поет. Женщины к нему не ходят. По воскресеньям навещают соотечественники, и тогда он опять поет и играет — для них. Словом, в нем не признаешь азиата — даже не каждый европеец может похвастать таким поведением и манерами.
Хозяйка оказалась женщиной словоохотливой, любезной и профессор не заметил, как наступил вечер. За все это время песня и звуки рояля, доносившиеся с четвертого этажа, не смолкли ни на минуту. Об отдыхе и еде не могло быть и речи.
Профессор, уже начинавший понимать ситуацию, попрощался с хозяйкой и поднялся наверх. Нажал кнопку звонка.
Дверь открылась и показалось удивленное лицо Комитаса:
— Профессор, вы?.. Здесь?..
Шмидт не ответил. Вошел, окинул быстрым взглядом всю обстановку, открытый рояль, ноты, разложенные на столе и стульях, и сердито сказал:
— Безобразие, вы платите мне такие деньги, а сами сидите без куска хлеба? С этого дня не возьму с вас ни пфеннига! Вы же обрекли себя на неминуемую гибель! Я запрещаю вам платить, понимаете? Запрещаю! После этого в неделю три раза вы мой гость. Будете являться точно в обеденный час. И без опозданий.
В оперу и на концерты будем ходить вместе. Вот так-то.
Комитас молчал, не находя слов, чтобы выразить свою благодарность. Он много слышал о сдержанности немцев, об их холодности, безразличии к личным проблемам друг друга — заботам, трудностям, болезням, — и вот теперь такая неожиданность.
Ему было очень неловко из-за того, что он не в состоянии предложить профессору хотя бы чашку кофе. Заметив смущение ученика, Шмидт торопливо попрощался и вышел. А Комитас, оставшись один, в который уже раз не смог сдержать слез и, чтобы хоть как-то успокоиться, запел песню, услышанную впервые в исполнении Арменака Шахмурадяна. Арменаку, такому же сироте, как и он, было в то время около двенадцати лет. Мальчик пел, а у него, взрослого уже человека, на глаза наворачивались слезы: ведь и с годами сирота не перестает чувствовать себя сиротой.
Дрозд сказал горлице:
Отчего ты льешь горькие слезы,
Что текут, вливаются в ручейки?
Сказала горлица дрозду:
Прошла весна, наступила осень,
Иссякла вода в родниках, Увяли цветы,
Умолкли голоса куропаток,
Что же мне делать с моими птенцами?
(перевод подстрочный)
Что стало с Арменаком? До них дошли сведения, что Арменака Шахмурадяна, Фаноса Терлемезяна и многих других молодых армян из Западной Армении в Тифлисе по приказу русского царя бросили в Метехскую тюрьму, чтобы потом выдать кровожадному султану. Что же дальше? Неужели опять будут раскачиваться виселицы в Турции?
Студент и лектор
На второй год пребывания в консерватории Комитас, будучи студентом, уже читал лекции. Приобретенные им за год знания оказались настолько глубоки и основательны, что профессор Шмидт и другие педагоги сочли возможным доверить Комитасу преподавание курса теории музыки на подготовительном отделении.
Наряду с консерваторскими занятиями Комитас в эти годы посещал лекции по истории, философии, истории музыки в Берлинском Королевском университете. Здесь у него были любимые профессора, которые в свою очередь любили и знали его — Беллерман, Фридлендер, Флейшер. Оскар Флейшер был известнейший музыковед. Крупный специалист по музыкальному наследию народов мира, он был во многом смелым и глубоким исследователем. Но он считал, что малые народы не имеют своей оригинальной музыки, что они переняли музыку у больших народов и исказили ее. Относительно армянской музыки и армянских хазов он придерживался того же мнения, — армяне не имеют самобытной музыки, а хазы переняли у византийцев. Меткие вопросы Комитаса смущали профессора Флейшера, убеждали его в том, что он не достаточно глубоко знает армянскую музыкальную культуру. Но все же окончательно переубедить его было делом нелегким. В Берлине Комитас убедился, что борьба, которую ведут государства во всем мире, идет и в сфере культуры. И что малые народы подавляются не только оружием, но и наступлением на их культуру.
Проблема сохранения национально-культурных свойств в искусстве не менее остро стояла и у народов с могучими культурными традициями. Не так ли надо понимать прения, которые развернулись среди музыкантов в конце прошлого века вокруг творчества Верди и Вагнера, двух корифеев оперного искусства, которых дали миру немецкий и итальянский народы? По пути кого из них пойдет мировая оперная музыка. По пути Верди или Вагнера? Мнения разделились не только среди немцев, которые, кстати сказать, не сразу признали творчество Вагнера, но и среди итальянцев. В этих прениях не принимали участия лишь сами композиторы. Верди даже не был знаком с некоторыми операми Вагнера и совершенно самостоятельно пришел в «Аиде», «Отелло» и «Фальстаф» к результатам, которые явились содержанием вагнеровской оперной реформы. О разнице между немецкой и итальянской музыкой Верди в свое время говорил: «Наша музыка в отличие от немецкой, которая своими симфониями может жить в залах и квартетами в небольших помещениях, наша музыка, говорю я, живет главным образом в театре». Каждый из них, безусловно, опирался на традиции своей национальной музыкальной культуры, продолжая и развивая эти традиции. И если для Вагнера это были традиции инструментальной музыки, симфонизма, то для Верди это был театрализованный вокал. Для Комитаса вывод был ясен — нет всемирной музыки как таковой, есть лишь национальная музыка. Всемирным мы называем только музыкальный опыт народов, который не может не принять во внимание ни один прогрессивный композитор. Величие Вагнера и Верди именно в том, что они, сохраняя в своей музыке национальное своеобразие, сумели реализовать и музыкальный опыт других народов. Оба они великие композиторы — один для немецкого народа, другой для итальянского. Они оба являются для своих наций создателями национальной музыки, а для остальных народов они создали школу. И в первую очередь это школа для малых народов, среди которых был и армянский.
Став очевидцем борьбы, которая здесь, в Европе, велась вокруг вопроса самобытности национальных культур, Комитас утвердился в своем решении посвятить свои знания служению народной музыке. С записями песен, сделанными в Вагаршапате, он не раcставался и здесь. И вот теперь, применив свои знания, он попытался сделать музыкальную обработку армянских народных песен. Испытывая глубокое волнение и сомнения, он показал свои опыты профессору Шмидту. Немецкого музыканта песни заинтересовали, но он категорически был против новаторских приемов, которые, по его мнению, были чужды европейским принципам гармонии. Cпор их свелся к одному — самобытна ли армянская песня и может ли она иметь свои нормы гармонии? Профессор не соглашался с этим, потому что это противоречило нормам и принципам, сторонником которых он был. Доводы ли Комитаса или его песни переубедили профессора? Но наступил день, и Комитас услышал от него долгожданные слова:
— Вы на правильном пути, продолжайте утверждать ваш национальный стиль, руководствуясь нормами современной музыки. И, делая это, не забывайте, что истинный художник не должен быть рабом этих законов. Нормы служат художнику лишь путеводителем. Не произведения рождаются законом, а законы рождаются произведением…
Это, по существу, означало признание самобытности армянской музыки. Этот крайне важный разговор Комитас хотел бы достойно отпраздновать, однако у него не нашлось не только несколько марок, но и ни одного пфеннига…
Он прямо из консерватории отправился искать своих земляков… Но его поиски ни к чему не привели — никого дома не было. Обратная дорога лежала через городской парк. Он шел, глядя себе под ноги. Вдруг он увидел валявшуюся на земле монету в полмарки. Подняв монету, он стал думать, как бы ее потратить. Поесть — на нее не поешь. Можно купить лотерейный билет, который продается в парке. Он так и сделал и, записав у кассира номер своего билета и свой адрес, пошел домой. Дома он работал допоздна и лег спать голодным. Наутро его ждал сюрприз. Комитас у раскрытого окна делал гимнастику, когда в комнату вошел почтальон. Он вместе со свежими газетами вручил Комитасу выигранные им в лотерею сто марок. Это была огромная сумма. Теперь он мог зайти в любое кафе и магазин, мог смело проходить мимо сапожной лавки. Полуодетый бросился он к инструменту и сыграл на нем победный «Марш зейтунцев», после чего, забыв о завтраке, с головой ушел в работу.
Студент читает лекцию, слушают его профессора
Годы учебы подходили к концу. Но для Комитаса то было необычное время. За один год пребывания в Германии он успевал сделать столько, сколько иные в консерватории не делали за шесть лет. Громадный талант и исключительные знания сделали его известным в музыкальных кругах Берлина, а его преданность музыке была общеизвестна. Подтверждением этому стало и то, что он, будучи специалистом по армянской музыке, выбрал материалом для своей дипломной работы курдскую песню. Несколько неожиданное для многих это его решение объяснялось следующим. Даже самые осведомленные берлинские музыковеды имели очень слабое представление о музыке этого народа, издревле занимающегося скотоводством, усматривая в ней арабские либо персидские истоки. Комитас был знаком с музыкой курдов по первоисточникам, и он обнаружил в ней много общего с армянской музыкой, что позволяло ему утверждать о взаимовлиянии армянской и курдской музыки. Наслышанные о таланте, и знаниях Комитаса, на защиту его диплома пришли известные специалисты по истории музыки. Защита, которая прошла как лекция-концерт, заставила многих поверить в самобытность курдской народной песни.
Но главная неожиданность была впереди.
Тогда же, в 1899 году, в Берлине было основано Международное музыкальное общество. Новоорганизованное общество, многие члены которого знали Комитаса по дипломной работе, пригласили его выступить с лекцией для членов общества.
Первую публичную лекцию Комитас посвятил армянской духовной и светской музыке. Блестящее владение немецким языком, своеобразное чувство музыки, яркий ораторский талант, умение убеждать словом обеспечили лекции небывалый успех. Исключительно выразительным было и его исполнительское мастерство. Все три года своей учебы он брал платные уроки пения у немецких и итальянских педагогов, чтобы близко познакомиться с этими крупнейшими школами певческого искусства. Теперь же он демонстрировал созданную им армянскую школу пения, которая поразила слушателей своими высокими достоинствами. Свои идеи об армянской светской и духовной музыке он иллюстрировал пением и тогда со сцены звучал его бархатный, выразительный, богатый оттенками голос. Многие из присутствующих впервые знакомились с армянской свирелью — срингом и она их очень заинтересовала. Маленькая деревянная дудочка после лекции переходила из рук в руки. Ничего необычного в ней не было, но по выразительности она могла поспорить с человеческим голосом.
Оскар Флейшер, который был всегда в курсе всех музыкальных событий в мире, по поводу лекции Комитаса сказал:
— Лекция об армянской светской и духовной музыке, прочитанная Комитасом в помещении Международного музыкального общества, никогда не забудется. Такая лекция читается в Берлине впервые, возможно, такой лекции и в Париже еще не слышали.
Через месяц лекцию повторили. На этот раз слушали ее не только члены общества. В зале находилась видные представители музыкальной общественности, любители музыки. Слухи об исключительной одаренности Комитаса получили еще одно подтверждение. Первыми среди многочисленных его поздравителей были его педагог Рихард Шмидт, профессор истории музьики Оскар Флейшер, Макс Зайферт, Беллерман, Фрид лендер и другие. Восторженно приветствовали Комитаса после лекции студенты соотечественники. Среди поздравителей был и распорядитель берлинского оперного театра, который сделал Комитасу очень лестное предложение:
— Вот баритон, который может принести славу моему олерному театру. Господин Комитас, я вам предлагаю контракт и высокий гонорар.
Не сомневаясь, что Предложение будет принято, он протянул ему руку. Для Комитаcа это была приятная неожиданность. Он пожал протянутую ему руку, но сказал, не колеблясь:
Я премного благодарен вашему театру, в котором прошел прекрасную школу. Я никогда не забуду эти годы. Но должен отказаться от вашего предложения, потому что своим искусством я должен служить только одной цели — ознакомить музыкальный мир с песнями моего народа и доказать, что армянский народ с древнейших времен имел и имеет свою собственную песню.
Распорядитель оперного театра отступил не сразу, он обратился за помощью к профессору Шмидту, но услышал от него такой ответ:
О, вы плохо знаете моего лучшего ученика! Это одержимый человек, он готов пролить кровь за каждую ноту, я уже не говорю, как он отстаивает свои убеждения.
Международное музыкальное общество было бы вернее назвать всеевропейским, ибо со всего Востока не было ни одного представителя. Этот пробел решили восполнить. На первом же заседаний была названа наиболее достойная и соответствующая кандидатура — Комитас.
Победа и расставание
Немецкие газеты опубликовали пространные сообщения о лекциях Комитаса. А полученные им за эти дни два письма растрогали его до слез. В первом письме, прибывшем в роскошном официальном конверте, витыми готическими буквами было надписано следующее:
«Берлин, 16 июля 1899 г.
Многоуважаемый господин священник.
Считаю своим долгом от имени Международного музыкального общества выразить Вам благодарность за то любезное отношение и глубокое понимание целей нашего общества, которое проявили Вы, согласившись прочитать лекции об армянской музыке. Благодаря Вашим глубокосодержательным лекциям мы получили возможность познакомиться с музыкой, которая до настоящего времени нам была почти недоступна и которая нам, жителям Запада, может быть во многом поучительна. Работа, которую Вы провели, значительна, и я выражу общее мнение всех, кто слышал Ваши лекции — а среди них были ученые с мировым именем, — если скажу, что Ваши старания не напрасны. Вы современной науке сослужите бесценную службу, если опубликуете Ваши работы, и если в этом деле я смогу оказать Вам какую-либо помощь, то сделаю это с большой для себя радостью.
С глубочайшим уважением, преданный Вам Оскар Флейшер
Председатель Международного музыкального общества, заведующий кафедрой музыки Берлинского Королевского университета».
Трудно было сказать, что испытал Комитас после прочтения этого письма. Было л;и это чувство ученого, беспристрастно констатирующего решение сложной задачи? Или он торжествовал в душе победу? Или испытывал гордость за свой народ? Что бы то ни было, он мог быть доволен — в споре с таким противником, как Оскар Флейшер, он победил, и оружием его победы была беспристрастная наука.
Через три дня он получил еще одно письмо, прибывшее в официальном конверте. По содержанию оно очень походило на письмо Флейшера. Подпись под письмом была ему знакома — доктор Макс Зайферт, секретарь берлинского отделения Международного музыкального общества, профессор кафедры истории музыки Имперского университета. Особенно запечатлелись слова, которые автор не посчитал лишним подчеркнуть: «Вы дали нам возможность близко познакомиться с величественными творениями совершенно от нас далекой и высокоразвитой цивилизации… Ваше искусство ведения лекции и совершенное искусство пения… оказались в состоянии поразить нас и оно не сотрется в памяти всех Ваших слушателей».
Эта высокая оценка подтвердилась на деле. Международное музыкальное общество избрало Комитаса своим членом. Так он оказался в числе основателей этого общества. Это была огромная победа. Покинутый всеми армянский народ, чьим представителем он был, и его песня впервые получили международное признание. Но сколько ему предстоит еще сделать, чтобы доказать всему миру, что армянский народ имеет свою самобытную песню и музыку, которая родилась вместе с ним, никому не принадлежит, создана им самим…
Пребывание Комитаса в Берлине подходило к концу. Он вместе с любимым профессором составлял план дальнейшей работы на родине. Теперь он спешит как можно быстрее попасть домой.
Настал день расставания. В доме у Рихарда Шмидта собрались на прощальный ужин. Рюмка в руках у профессора чуть подрагивала, выдавая его волнение.
— Представляя Комитаса на выпускном празднике в Гамбурге, я с гордостью говорил: Комитас — уже сейчас мастер, и я горжусь им. Чувствую, что буду жить в его делах. Ныне за этим прощальным столом хочу добавить: он вернется домой, и Европа потеряет в его лице великого композитора, великого певца, великого музыканта. Но взамен его родина найдет в его лице истинного первооткрывателя, прокладывающего новые пути в музыке, за которым рано или поздно пойдут все живущие там народы. В добрый путь, любимый Комитас…
Глава 3 ПОЛОВИНА ПУТИ
Свирель
Прекрасный вид открывался из Бюракана на Араратcкую долину. В дымке жарких солнечных лучей лежала равнинная земля.
На своей даче, в прохладной тени старого тутового дерева сидел католикос Хримян Айрик — он писал стихи, время от времени поднимая глаза на простирающуюся перед ним равнину. Углубленному в свое занятие седовласому католикосу вдруг показалось, что он наяву слышит мелодии к своим стихам. «Воображение разыгралось» — отложив в сторону свои записи, подумал он и окликнул девочек, гонящихся за бабочкой. Девочки — это были его внучатые племянницы — подбежали к нему.
— Уже полчаса я слышу звуки музыки, песни. Может, мне это кажется?
Девочки прислушались. Действительно доносилось пение, и можно было даже определить откуда. Девочки сорвались и побежали, поднялись на пригорок. Отсюда с вершины им открылось необыкновенное зрелище — внизу, по узкой и каменистой деревенской улице тащилась в гору необычная подвода. На ней было пианино, рядом — какие-то люди. Среди них дети узнали своего отца, потом разглядели и остальных. Это были художники Фанос Терлемезян и Егише Тадевосян, и Комитас, который, сидя перед открытым пианино, играл и пел любимую песню католикоса.
Утром рано встанем,
Пожнем щедрые дары полей,
Будем веселиться и петь
Наши сельские песни…
Вечером, умиротворенные,
Мы возвратимся домой
И за столом будем
Продолжать веселиться и петь.
Окружив странную повозку, веселой оравой шли рядом с ней деревенские дети. К ним понемногу присоединялись и взрослые — крестьяне и крестьянки… Услышав о приезде своего племянника Хорена и Комитаса, вышел им навстречу Хримян Айрик. Два достойнейших мужа — две щедрые души — встретившись, крепко расцеловались. Обнимая Комитаса за плечи, Айрик подвел его к тахте, усадил рядом с собой и, улыбаясь сказал:
— Не зря Айрик испытывает к тебе особую любовь и благоволенье. Сегодня ты выполнил свое обещание. Хоть не скоро, но сполна… Вернулся с победой… Я знаю как трудно бывает иногда сдержать данное слово, но ты эти трудности одолел… Обещать и выполнить обещанное — это ли не путь к добродетели?
Сказав, он поднял глаза на своего воспитанника и уже озабоченно продолжал:
Худой ты стал, как общипанная птица. Рассказывай, как там было. Может быть, тебе немка приглянулась, так привез бы ее с собой… Простили бы… Трудно было с деньгами? Потратил бы деньги, которые тебе Хорен дал на пианино. Пианино не дороже твоего здоровья…
Комитас, зная, что патриарх предпочитает говорить на западноармянском наречии, и отвечал ему на нем:
Хотелось бы мне в добродетели быть достойным его святейшества и доказать это на деле… Я и деньги Хорена эфенди сохранил и в своем деле добился успеха. Даруй вам господь долгую жизнь, а общипанная птица тут скоро оперится… Вдали от отечества все мне там чуждым казалось…
Пока они беседовали, Хорен, Фанос и Егише с помощью деревенских ребят перетащили пианино во двор. И Комитас, не заставив себя просить, сел за инструмент. Он играл и пел старинные и новые песни. Крестьяне сначала с недоумением разглядывали черный сундук на бронзовых лапах, но прониклись к нему уважением, услышав исполненные на нем свои песни. Музыка зажгла людей — задвигались они и растянулись в цепочку, вскинулись и сплелись их руки, качнулись сбитые в ряд плечи влево… потом вправо… Ряд танцующих, топнув ногой, тронулся с места, дробя песок под ногами и вздымая пыль, дразня и маня одетого европейцем молодого священника. Комитас оставив инструмент, присоединился к танцующим. Перехватив у ведущего цветастый платок, он запел и сам повел танец. Это был танец трехлетней его разлуки с отечеством. Танцевал он задорно, притоптывая ногами, прямя спину, двигая плечами…
Целую неделю продолжалось веселье на даче католикоса. Деревенские музыканты, славившиеся своим искусством вырезать свирели, преподнесли молодому священнику очень ценный для него подарок — свирель. Она была вырезана из абрикосового дерева, которое считалось лучшим для этой цели. Комитас обещал сохранить подарок, а для первого исполнения выбрал соответствующую песню — "Цирани цар" («Абрикосовое дерево»).
Пастуший шашлык
Буйные предосенние краски покрыли склоны и вершины Арагаца. Небо было чистое и ясное. Воздух был прозрачен, как родниковая вода. Слегка подернутые голубизной, четко вырисовывались дали. Небольшая группа поднимающихся в гору людей не раз останавливалась, захваченная красотой окружающей природы. Впереди всех шел Комитас. В пути он то играл на свирели, то подражая голосам разных птиц прятался, готовясь очередной веселой шуткой разыграть одного из путников. Встречая на пути родник, он доставал свирель и сзывал на водопой своих друзей.
И о чудо! Разбредшаяся по склону отара овец, покинув своего пастуха, потянулась на зов комитасовской свирели. Вскоре овцы уже окружили путников, которые возвышались островом в этом море блеющих овец. Увидев, что не может справиться со своим стадом, подошел к ним и пастух. Велико было его удивление, когда он увидел и своих волкодавов, разлегшихся у ног незнакомца. Пастух в изумлении остановился и стоял так, опираясь на посох, пока Комитас не кончил свою игру.
Вааллах, если захочешь, ты уведешь у меня стадо. Кто ты?
На вопрос пастуха, говорящего на курдском языке, Комитас тоже ответил по-курдски.
Ты курд? — обрадовался пастух.
Нет.
Йезид?
Нет.
Ты знаешь наш язык, ваши песни, кто же ты?
Я армянин.
Радости пастуха не было предела. Он позвал своих товарищей, рассказал им об удивительном случае, и они вместе решили устроить щедрое угощение в честь музыканта и его спутников. Зарезали несколько баранов, разделали мясо, нарезав его на мелкие куски и, завернув в теплые еще шкуры, сложили их в неглубокой яме, засыпали землей и сверху разложили костер. Для костра они принесли из оврага заготовленные заранее сухие ветки и развели огонь.
Теперь поднимемся на вершину Алагяза, — сказал йезид, подняв на плечо дорожный мешок одного из путников.
Худой и подвижный, Комитас раньше всех добрался до места. Поднявшись высоко, насколько позволило ему отсутствие специальных альпинистских снаряжений, он, осилив крутой подъем на одну из скал, замер на ее вершине. И отсюда, подобно Огану-Горлану из «Давида Сасунского», запел:
Армения, страна бетованная,
Ты колыбель рода людского,
Ты исконная моя родина,
Армения, Армения, Армения!
Егиште Тадевосян и Фанос Терлемезян работали над своими холстами. Женщины занялись приготовлением завтрака, а остальные вместе с детьми спустились к озеру…
Вечером путники под звуки проникновенной мелодии шаракана наблюдали красочное зрелище заката.
Долину постепенно окутывало мраком. Где-то рядом, то здесь, то там раздавались голоса ночных птиц. Комитас, имитируя птичий диалог, дразнил птиц, заставляя их петь. Повеяло прохладой. Ночь вступала в свои права. В темноте вразнобой блеяли овцы и ветер доносил смешанный запах молока и трав. Спустя немного над черной громадой горы пробился рог луны и в высвеченном лунным светом небе заметно потускнели звезды. Комитас достал свирель. Он сыграл, а затем и спел «Луснакн ануш, овн ануш». Меж тем, пастухи развели маленький огонь рядом с потухшим уже костром. Разбросав теплую еще золу, они в горячей земле откопали завернутое в шкуры мясо пастушьего шашлыка.
Торжественное блюдо — чобан-шашлык по достоинству оценили и мужчины и женщины. Ужин закончился песнями и музыкой. Теперь уже пастухи играли на комитасоаской свирели и пели курдские песни.
Было далеко за полночь, когда пастухи, проводив своих неожиданных и приятных гостей до Бюракана, расстались с ними.
Снова в своей стихии
Комитас теперь преподавал музыку в Геворкяновской семинарии. Здесь он впервые в программу музыкального обучения, наряду с принятой до этого новой армянской системой нотной записи, ввел европейскую нотопись. Из учащихся разных классов он организовал семинарский хор, с которым разучивал переложенные им на четыре голоса армянские народные песни. Для соборного хора он сделал многоголосную обработку литургии, не приняв обработку Екмаляна, о которой он писал в своей статье, вышедшей в Берлине. Мечтой его, было установить в соборе орган.
Католикос освободил Комитаса от церковной службы, чтобы он мог свободно заниматься своим любимым делом. Только в дни церковных праздников он должен был руководить хором и следить за чтением псалтыря: и молитвенника. Но случай убедил католикоса, что Комитаса надо освободить и от этих обязанностей.
На празднике св. Геворка Комитас так проникновенно пел в литургии, что растроганный католикос велел пригласить его к обеду. Комитаса долго искали, но не нашли. Католикос был недоволен. Объявился Комитас лишь вечером. В сумерках заметили, как он в рясе и в клобуке лазает через стену и отвели его к католикосу.
Куда ты пропал, не дал мне насладиться куском хлеба?
Комитас преклонил перед ним колено, но вместо того, чтобы повиниться, посмотрел на него своими ясными глазами и не скрывая радости сказал:
Знали бы вы, ваше святейшество, что за сокровища я нашел и принес с собой!
Церковный праздник вылился в настоящее гулянье. Люди понаехали отовсюду — тут были армяне из Васпуракана, из Ерзинка, из Хоя, из Араратской долины, из Ахалкалака и даже из Нового Нахичевана. Приехали они все в народных костюмах, со своей музыкой, со своими песнями и танцами. Просторный монастырский двор напоминал место для гуляний. До позднего вечера Комитас, устроившись на крыше одного из подсобных монастырских помещений, записывал все, что слышал. Теперь он с кипою этих записей в руках ждал, что скажет католикос.
— Спой, я послушаю,
Комитас, не прибегая к своим записям, спел подряд все песни, спел легко, ни разу не сбившись, словно пел их не в первый раз. От недовольства католикоса не осталось и следа. Он обнял Комитаса, поцеловал его в лоб и велел в дни народных празднеств заниматься лишь записью песен.
***
Вагаршапатский лес был излюбленным местом прогулок Комитаса. Сюда он приходил один и подолгу гулял, наслаждаясь безмятежностью окружающей природы. Любил он приходить сюда и вместе со своими учениками. Они здесь репетировали, пели, беседовали, играли в разные игры, в которых принимал участие и Комитас.
Был месяц май. Комитас бродил один в лесу, собирая лепестки дикой розы и наполняя ими небольшой бумажный кулечек. Он стоял перед разросшимся кустом, когда услышал едва различимый звук шагов. Должно быть, кто-то прятался за деревом.
Эй, выставь уши или подай голос, и я назову тебя, — сказал Комитас, глядя в ту сторону.
Прячущийся издал неопределенный звук.
Ясно, это ты, зокланд Манук, а литературное имя твое Варсам.
Смеясь, вышел из-за дерева Манук Абегян.
Хотел напугать тебя, но слух тебя и на этот раз не подвел.
Давнишние друзья вместе стали собирать лепестки дикорастущей розы. Я кладу два-три лепестка в чай и усталость как рукой снимает. Попробуй как-нибудь сам, — советовал Мануку Комитас.
Разговор постепенно перешел на серьезные темы. Комитас заговорил о народных четверостишиях.
Они неудобны для песен, неполнота какая-то чувствуется в них. Споешь один куплет, а что дальше делать? Для песни это мало, для песни надо не менее двух-трех куплетов.
Я думаю, что впечатление незавершенности создается от того, что мы имеем дело с их искаженными текстами. Было бы очень хорошо, если мы смогли издать сборник подлинных народных песен. Часто на одну и ту же мелодию поют и полный и неполный текст. Если суметь восстановить подлинный и лучший текст, то незавершенности не будет.
Комитасу эта идея понравилась. Впереди были летние каникулы. Надо разъезжающихся на каникулы учащихся снабдить тетрадями, чтобы они записали у себя в селах песни. Осенью они привезли бы свои записи.
Так и сделали.
Каждую осень учащиеся семинарии привозили с собой сотни песен. Так, за несколько лет набралось свыше 25.000 песен. Комитас и Манук Абегян упорно трудились над ними около двух-трех лет, классифицируя и редактируя их. В итоге они собрали 1300 четверостиший с разными вариантами. Друзья собирались издать сборник под названием «Тысяча и одна песня». Комитас хотел опубликовать их отдельными сборниками. Но из отредактированных ими 150 песен удалось опубликовать два сборника по 50 песен. Это были трудовые, обрядовые и лирические песни.
«Аида» в семинарии
Семинарский хор и оркестр готовились к публичному концерту. Задолго до предстоящего в Эчмиадзине концерта слух о нем распространился среди жителей Эриванской губернии. Все любители музыки спешили в Эчмиадзин на концерт в Геворкяновской семинарии.
Программа первого отделения целиком состояла из армянских народных песен в многоголосной обработке Комитаса. Слушатели впервые имели возможность услышать армянские песни в таком исполнении. Во втором отделении концерта прозвучали произведения европейских классиков. Комитас немало потрудился и осуществил постановку «Сцены в храме» из оперы Верди «Аида»… В оркестре звучит причудливая мелодия священного танца. На сцене ритуал освящения меча Радамеса, сопровождаемый призывами верховного жреца. Звучит хор жрецов, просящих богов даровать египетским воинам победу. Торжественный обряд в храме близится к концу — мощно нарастая, звучит музыка хора и оркестра, к ней присоединяется молитва жрецов, которая обращена к небесам…
Имя Комитаса снова у всех на устах. Все просят его повторить концерт в Эривани.
Наняв повозки, комитановокий хор отправился на свой первый выездной концерт.
Концерт состоялся в театре Джанполадяна. Успех был огромный. Восхищение эриванцев проявилось и в практическом подходе к делу — с Комитасом были начаты переговоры о создании смешанного мужского и женского хора. Деятельный музыкант и здесь дал свое согласие.
А впереди было еще более серьезное испытание. Ожидались концерты в Тифлисе. Город с большим армянским населением, Тифлис был и крупным центром армянской культуры. И только здесь дело Комитаса могло получить истинную оценку.
А впереди было еще более серьезное испытание. Ожидались концерты в Тифлисе. Город с большим армянским населением, Тифлис был и крупным центром армянской культуры. И только здесь дело Комитаса могло получить истинную оценку.
Княгиня Мариам Туманян, давнишний друг и покровитель Ованнеса Туманяна, не могла не заинтересоваться судьбой Комитаса. Она от многих близких ей людей слышала лестные отзывы о церковном музыканте и уже имела с ним переписку. В частности, в письмах своих она советовала ему написать оперу по поэме Туманяна «Ануш», к чему Комитас отнесся с большим воодушевлением. И вот теперь она от имени «Общества армянских женщин» пригласила Комитаса с его хором в Тифлис.
Комитас принял приглашение. Было это накануне грозных событий первой русской революции. Повсеместно в народных массах зрело недовольство царским режимом, которое особенно усилилось после русско-японской войны. Чтобы расколоть революционное единение народов Российской империи, царизм шел на разжигание между ними межнациональной вражды. Особенно острый острый характер принимали волнения на этой почве в Закавказье. В Баку уже начались столкновения между армянами и азербайджанцами, То же самое могло произойти и в Тифлисе.
Битва песней
Тифлис.
По Головинскому проспекту, мимо дворца наместника Воронцова-Дашкова по направлению к театральному зданию Армянского артистического общества стройной колонной движется не отряд солдат — это идет хор Комитаса, состоящий из 60 учащихся семинарии, в возрасте от 10 до 17 лет. Накануне они в этом театре провели репетицию. Сегодня многоярусный зал театра переполнен, раздвинуты тяжелые бархатные занавеси на сцене. Партер и ложи первого яруса заняли местная аристократия, состоятельные буржуа и элита интеллигенции. В зале находятся представители музыкальной общественности, корреспонденты и редакторы газет и журналов. Здесь люди и других национальностей — евреи, русские, грузины, азербайджанцы. На балконах верхних ярусов собрался в основном бедный люд — студенты-армяне и служащие. Хор выстроился на сцене полукругом. В черной сутане священника выходит хормейстер. По залу прокатывается шепот. Все повторяют имя столь необычного церковного музыканта. Комитас скромно кланяется залу и поворачивается лицом к хору. Он поднимает руки и показывает хору вступление, и когда зал смолкает, слышится четырехголосное тихое пение, которое постепенно обретает силу и мощь. За «Айр мер» следует «Ов зарманали», «Сурб-сурб», «Аллилуйя», «Цнца, зартнир». Первое отделение, в котором исполнялись исключительно духовные песнопения в многоголосной обработке, заканчивается бурными овациями. Не смолкают аплодисменты в галерке, отсюда в зал летят открытки — на белых квадратиках бумаги красивыми буквами написано «Комитас». Это постаралась молодежь из Нерсисяновской семинарии и городской гимназии. Партер и ложи проявляют сдержанность. Но и здесь постененно разгораются споры, которые затем перекидываются в галереи театрального фойе. Профессиональный спор возник и среди музыкантов. Некоторые находят, что на комитасовских обработках сказывается влияние католической церковной музыки. Упоминается и фуга, в связи с чем называется и имя протестанта Баха.
Второе отделение, программа которого целиком состояла из народных крестьянских песен, должно было послужить поводом для еще более бурных споров.
На сцене все прекрасно сознают свою задачу и миссию. Одинаково ответственно относятся к своим обязанностям и хор, и солисты.
Перед роялем сидит Комитас, он аккомпанирует своему ученику Ваану Тер- Аракеляну. Звучит полная горести и грусти песня «Антуни». Девятнадцатилетний солист с таким чувством исполняет трагическую песню скитальца, что зал замирает. Очнувшись, зал аплодисментами провожает певца, который занимает свое место в хоре. Комитас остается сидеть у рояля. Пальцы его перебирают клавиши, и он начинает петь. Он поет и эти волшебные звуки открывают перед слушателями трепетный мир его души. Пение завораживает слушателей. Зал приумолк, окаменел. Комитас впервые поет во весь голос в таком огромном зале. Люди впервые слышат такой переворачивающий душу голос. Гипнотическое состояние не сразу, но уступает место редким хлопкам, которые раздаются то здесь, то там, и вскоре напряженный до предела зал разряжается аплодисментами. Комитасу устраивают овацию.
На сцену и за кулисы прорываются его поклонники. В числе первых поздравителей подходит к нему Ованнес Туманян.
— Хотел бы я быть Комитасом, если бы не сутана твоя.
Дорогой Ованнес, сутана не мешает мне быть Комитасом.
Туманян поздравил хористов, а двух самых маленьких первого ряда обнял и расцеловал, от Комитаса Туманян уже знал о мужественном поведении Варана Тер-Аракдяна во время армяно-турецких столкновений и, знакомясь с ним, сказал:
Так кто же ты, парень, орел или соловей? И то, и другое. Да и как же иначе? Народ, порождающий хитроватых лисиц и трусливых зайцев, не выживает. Нам нужны молодцы с львиным сердцем и с орлиной смелостью. Так ведь? — обратился он к окружающим его хористам.
— Так! В один голос ответили они.
После концерта Туманян пригласил Комитаса и Вааяа к себе домой.
Расходились по домам и слушатели тифлисского концерта; одни уходили радостные и счастливые, другие — тая в сердце злобу, которая завтра в газетах выльется в утверждение о влиянии Баха и Вагнера, были и третьи, которые воротили нос от армянской крестьянской песни.
После трех запрограммированных концертов комитасовский хор должен был возвратиться в Вагаршапат. Но началась забастовка закавказских железнодорожников и группа смогла выехать из Тифлиса лишь через десять дней.
Несмотря на одержанную в Тифлисе победу, Комитаса по возвращении тревожило, что многие не приняли его песен и даже ругали их. А может, так и должно быть? Воспитанные на песнях Кара-Мурзы и Екмаляна, они не могли сразу воспринять его. Что бы там не было, надо разобраться и в потоке обычной брани выделить голоса умных и серьезных оппонентов. Если знания и вкус его в какой-то мере изменили ему, значит, он сам дал повод для этих выступлений. Но покамест он не мог согласиться с тем, что песни его претерпели чужеродное влияние.
Напряженные годы студенческих занятий остались позади, но их сменила не менее, а даже более напряженная пора творчества. Дало о себе знать переутомление, Комитас заболел и слег в постель. А надо было торопиться, надо было спешить. Нужно найти ключ к прочтению хазов. Ведь многое в этом направлении им уже сделано. Вот ждут его присланные из Токата и Кесарии новые книги хазов, которые во многом помогут ему в этом деле. И это не все. Многочисленные поклонники ждут, когда он закончит работу над начатыми операми «Вардан», «Сасунские безумцы», «Издержки вежливости», «Ануш». Но прежде многое надо еще сделать в исследовании народных песен. Без завершения этой работы, без выяснения истоков народного музыкального языка и стиля нельзя приступить к такому серьезному и большому делу, как опера. Иначе повторятся прежние ошибки. И искать истоки он должен в народной крестьянской песне, ибо в ней отражается душа народа, а, значит, язык и стиль национальной музыки. Словно заколдованный, он не мог вырваться из круга этих вопросов.
А тут еще врачи требуют, чтобы он прервал, хотя бы на время, свою работу. Хотя бы на время летних каникул, иначе не трудно предположить, какие последствия его ждут.
34 песни за 3 часа
Товарищ Комитаса по семинарии архимандрит Ерванд давно уже приглашал его провести лето в Ариче. В селе этом находился прославленный монастырь, видевший много празднеств на своем веку.
Комитас приехал в село на праздник вардавара. На праздник съехалось множество паломников из окрестных сел и даже из отдаленных армянских провинций. Это был красочный мир народных костюмов, музыки и песни, который заставил Комитаса забыть о своей болезни. об усталости и советах врачей. Он весь день провел среди этих людей, прислушиваясь к словам и мелодии песен, стараясь запомнить движения танцующих. Это была его стихия. Только одно ему не нравилось и он заговорил об этом с архимандритом Ервандом.
— Мне это больше напоминает гулянье, чем паломничество. А зурну эту я не выношу. В народе говорят, что песня зурны сладка издали. По мне же, лучше, чтобы ее не было вообще! Проклятый ревущий звук любую стену пробьет. Она здесь забивает все инструменты. Ты ведь заметил, что народ плохих музыкантов называет зурначи — значит, есть в том смысл. Да, не исчез истинный вкус. Полагают, что зурну к нам завезли татары во времена Ленг-Тимура. Не наш этот инструмент и хочется, чтобы народ скорее это понял и вернулся к свирели, к древнему, исконно армянскому инструменту.
Через день после праздника брат архимандрита Ерванда (об этом его просил Комитас) собрал во дворе монастыря деревенских девушек на хоровод. Многолетние исследования Комитаса привели его к убеждению, что источником происхождения армянской песни является
деревня, а в деревне ее хранителями являются женщины и девушки. Мужское население, общаясь с «внешним миром», сталкиваясь в городах с песнями ашугов, легко поддается влиянию и искажает армянскую песню. В то время как женщины не слышат инородных песен и не поют их. Они и есть настоящие хранители армянской песни. Чтобы не смущать девушек, Комитас заранее взобрался на крышу монастырской гостиницы и там приготовился записывать. Вначале их пришло четверо. Они сплели руки за спинами и начали танец. Сначала молча, равномерно переступая вправо, дважды описали круг. Потом одна из них, молоденькая девушка в цветастом платье, запела:
Аман Телло, Телло,
Сирун Телло, Телло.
Она, по-видимому, танцевала и пела лучше остальных, и потому, естественно, возглавила хоровод. Группа повторила за ней этот куплет. Она продолжала петь дальше, уже несколько изменив текст:
Аман Телло, Телло джан…
К пахарям в поле с хлебом ходила…
Девушки в точности повторили за ней слова. А она продолжала придумывать все новые строчки:
Милого встретила и возвратилась,
Аман Телло, Телло джан…
Хоровод прибавил в темпе, теперь лица танцующих выражали истинное вдохновение. И это отразилось на мелодии песни, которая в своем развитии претерпела определенную трансформацию и теперь звучала несколько иначе. Ритм песни обозначился четче и звучал он теперь быстрее, подстать ритму танца. Комитас у себя отметил уже восьмое изменение в мелодии песни, когда к танцующим, не прерывая танца, присоединилась новая группа девушек. С прибытием новой группы сменилась и ведущая. Произошло это само собой, ибо среди присутствующих теперь она лучше всех танцевала и пела. А прежняя вместе со всеми начала подпевать ей. Теперь тон задавала новая ведущая. Она была чуть постарше, пела на тон выше и повела хоровод поживее. Комитас бесконечно обрадовался, увидев приближающуюся новую группу девушек. С приходом каждой новой группы все более расширялись возможности хоровода, и каждый раз все более достойный лидер возглавлял хоровод. Каждая из них знала сотни песен. Идущую из глубин веков эту песенную традицию они впитали с молоком матери, и она жила в них инстинктом. Как бы новы не были слова и мелодии, предлагаемые ведущей, они в точности, тут же воспроизводили их. Особенно радовался Комитас тому, что хоровод проходит без сопровождения музыки, не говоря уже о зурне. Слова, мелодия, ритм — все воспринималось четко и не смазанно. Листов с записанными на них армянскими нотными знаками становилось 126 все больше. Он едва успевал их складывать рядом под камень. Двадцать новых песен он уже записал, а конца им не было. Он был воодушевлен не меньше танцующих и едва сдерживался, чтобы не спрыгнуть к ним вниз и не смешаться с ними. В шагах двадцати от хоровода стояла подбоченившись светловолосая девушка — чувствовалось, что она увлечена танцем. Заметив девушку, танцующие позвали ее в круг. Она отнекивалась, но несколько девушек, подбежав, насильно втащили ее в круг. Это была лучшая певунья села. Воодушевление танцующих достигло кульминации. У девушки был звонкий и красивый полос. Свыше трех часов продолжали девушки танцевать и петь. Прославленная певунья не раз импровизируя изменяла мелодию.
После окончания Комитас сосчитал свои листы. Он записал тридцать четыре песни, которые родились на его глазах. Он подошел к девушкам и попросил каждую спеть первую мелодию. Никто ее не помнил. Все спели последнюю. А автором песни они назвали последнюю ведущую, светловолосую девушку, которую звали Цахик.
Глава 4 НА ПЕРЕПУТЬЕ
Париж и Клод Дебюсси
На этот раз Комитас въехал в Париж с парадного входа. Пять лет назад, в 1901 году, после своего блестящего выступления на завершившейся в Берлине Всемирной конференции по духовной музыке, он на короткое время посетил Париж. Непродолжительное знакомство с городом убедило его в том, что столица европейской культуры живет бурной музыкальной жизнью и что именно в этом городе можно полнее ощутить биение пульса времени. В тогдашний свой приезд ограничился встречами с местными армянами. А за эти пять лет им была вырастала большая программа, осуществить которую он намеревался теперь.
В Париже в начале века продолжают жить славные традиции Бальзака и Гюго, Давида и Делакруа, Бизе и Берлиоза. Не забыты Коммуна и «Марсельеза», «Песни хлеба» и «Интернационал.» Но теперь наряду с романтическим образом великих бунтарей типическим стал и образ индивидуума, мечтающего об «изысканных путешествиях» и о башнях из слоновой кости. В поэзии теперь властвуют имена Теофила Готье и Поля Верлена, в драматургии — Мориса Метерлинка. Рядом с именами живописцев импрессионистов Мане, Моне, Ренуара и Писсаро называются имена музыкантов-импрессионистов — Дебюсси, Сати и Равеля. Центральными событиями музыкальной жизни продолжают оставаться роскошные постановки оперных спектаклей в Гранд Опера и в Опера-Комик с участием первоклассных певцов и дирижеров. Соответственно, высока и репутация обеих парижских консерваторий и Высшей школы профессионального пения.
Париж еще в 1889 г. во время Всемирной выставки имел возможность ознакомиться с музыкой Востока — арабской, индийской, китайской, что не замедлило отразиться на творчестве французских композиторов.
В 1906 году, в музыкальном мире Парижа господствовало имя Клода Дебюсси. Пожалуй, из новейших французских композиторов он один не утратил связи с великими традициями искусства прошлого столетия, и его творчество посвоему, но активно противостояло тенденции прозаизирования личности. Живописец звуками, он создавал совершенные музыкальные полотна. И хотя творчество его в Европе получало противоречивые оценки, среди много численных его поклонников раздавались голоса, объявлявшие: «Снимите шляпу, господа, перед вами гений». И все же путь этот был критическим для европейской музыки — оторванная от народных своих истоков, она рано или поздно должна была зайти в тупик. Во всяком случае, так думал приехавший в Париж Комитас, девизом творчества которого было: «Народ — величайший в мире творец, идите и учитесь у него».
Как же примет избалованная всякого рода музыкальными событиями французская публика неизвестного ему композитора из незнакомой ему страны?
Большой интерес у Комитаса вызвало творчество Дебюсси и Равеля. Оба эти композитора как в малых, так и в 'больших формах проявляли исключительный мелодический дар, умели ясным и простым языком отразить природу живого, переменчивого чувства, создавая в музыке удивительно искренний и безмятежный образ. Это и пленило в их произведениях Комитаса-певца, музыканта и композитора. Он внимательно просмотрел произведения Клода Дебюсси, все — маленькие фортепианные пьесы, живописные песни, симфонический эскиз «Море», знаменитую «Бергамскую сюиту», многочисленные маленькие шедевры и единственную оперу «Пелеас и Мелисанда».
Он в свободное время много играет Дебюсси. Играет он также произведения Габриеля Форе и Мориса Равеля.
Тонкое и выразительное искусство Дебюсси помогло Комитасу по-новому посмотреть на свое творчество и освободиться от некоторой, идущей от немцев сдержанности.
Благодаря Маргарите Бабаян состоялось знакомство Комитаса с Дебюсси. Встречи этой оказалось достаточно, чтобы они почувствовали друг к другу дружеское расположение, Огромный интерес проявил к искусству Комитаса знаменитый музыковед и дирижер, зять Маргариты Бабаян — Луи Лалуа. Немало возможностей знать творчество Комитаса, быть знакомым с его идеями имел и Ромен Роллан, который, как и Комитас, являлся почетным членом «Кавказского общества».
Осуществлять свою парижскую программу Комитас начал с организации хора. К работе он привлек тридцать человек, среди которых были не только певцы-армяне. В качестве солистов он пригласил Арменака Шахмурадяна, который тогда посещал «Школу пения» Венсана д'Энди и Мугуняна, который был известен в Париже как обладатель прекрасного лирического тенора. Сам президент Франции Лабе приглашал Мугуняна к себе давать концерты. Комитас готовился с хором исполнять не только народные песни, но и духовные армянские песнопения. Ежедневные многочасовые репетиции с хором отнимали у Комитаса много сил.
Серый кошелек
После репетиции Комитас торопился. Он был приглашен на обед к родителям Маргариты Бабаян. Но выйдя на улицу, он, чтобы согнать с себя усталость, решил добираться пешком. Он шел, и память о студенческих днях заставляла его то и дело смотреть себе под ноги. На тротуаре у киоска валялся маленький кошелек. Он посмотрел по сторонам, но угадать хозяина в этой многолюдной толпе было невозможно. Тогда он нагнулся, поднял кошелек. Он был старенький, потертый, и в нем было всего десять франков. Да, в те далекие берлинские дни эта ничтожная сумма могла бы осчастливить его. Любопытно, кто его потерял? Бедные студенты кошельков при себе не держат. Хозяйкой его может быть рабочая женщина, для которой десять франков большая сумма. Комитас снова оглядел прохожих, никто по-прежнему не проявлял признаков беспокойства. Тогда он решил подождать до тех пор, пока объявится хозяйка. Он купил дневные газеты и успел просмотреть их все. Теперь он стал напевать грузинские песни, которые записывал на репетиции хора грузинских студентов. Так прошло несколько часов и, наконец он заметил девушку, которая шла по направлению к нему, внимательно смотря под ноги прохожих. Когда девушка поравнялась с ним, он спросил:
Мадемуазель, вы что-то потеряли?
Да, мосье, — ответила девушка. — Я потеряла кошелек.
А какой он с виду? И что там было?
— О, мосье, — улыбаясь своей догадке, воскликнула девушка, — неужто вы его нашли? Он кожаный, серого цвета, потертый, рядом с пуговицей чуть порвано. В нем всего десять франков. Окажите мне милость, верните.
Вот он, возьмите. Только в следующий раз, если будете терять, постарайтесь скорее спохватиться. Вы у меня отняли ровно четыре часа.
Девушка сердечно пожала незнакомому господину руку, поблагодарила, и уходя, без конца оглядывалась.
Комитас довольный, но и страшно голодный, спешил теперь к Бабаянам, мысленно представляя милую обстановку столовой комнаты, где его не раз угощали обедом родители Маргариты.
Вскоре он стоял у двери и нажимал на кнопку звонка. Дверь открыла Маргарита и с упреком посмотрела на него. Комитас виновато улыбнулся:
— Прости за опоздание, Марго джан. Пройдем в дом, расскажу что случилось.
Гениальный священник Комитас
Чтобы иметь полное представление о французской музыковедческой науке, Комитас посещал лекции в Высшей школе социального образования, где выступали известные музыковеды — Ромен Роллан, Анри Экспер, Андре Пиро, Луи Лалуа и другие. Когда концертная программа хора была готова, — к этому времени Комитас в достаточной мере овладел французским языком, — состоялась его первая лекция-концерт.
Концерт должен был дать музыкальной общественности Парижа первое представление об армянской народной песне. В переполненном зале находились Клод Дебюсси, Ромен Роллан, Луи Лалуа, Венсан д'Энди, Альфред Круазе и много других известнейших музыковедов и музыкантов. Слушатели овациями встречают каждое выступление хора и солистов.
Объявляют номер Комитаса — сейчас он на сцене олицетворяет весь свой народ. Приготовления к концерту отняли у него много сил и об этом все прекрасно знают в хоре. Знают, что и голос у него охрип, — что же может сделать стакан теплого чая? Как он споет? Но вот он выходит на сцену — в черной до пят сутане, в капюшоне, который низко закрывает лоб, и только на груди светлым пятном выделяется серебрянный ки: не изменил ли ему голос. Они знают, что Комитас на репетициях работал в поте лица, не щадя ни себя, ни своего голоса.
Комитас медлит, тревога возрастает…
Мягкий, трепетный голос скорби, идущий из глубины души… Так может петь лишь душа, познавшая и горе и радость.
Со сцены публика в зале казалась массой окаменевших тел с неподвижными лицами и широко раскрытыми глазами. Комитас чувствовал, как гипнотическое состояние публики передается ему. Ничего подобного он ранее не переживал. Но вдруг оцепенение покинуло публику, овацией и цветами приветствовала она необычного исполнителя. На сцену поднимались знакомые и незнакомые люди, они пожимали ему руку, благодарили, поздравляли, а многие шли, чтобы просто сблизи взглянуть на человека столь необыкновенного обаяния.
Зал приутих, когда на сцену поднялся кумир парижской публики Клод Дебюсси. Комитас пошел ему навстречу, но Дебюсси, опережая его, пошел быстрее и, дойдя до Комитаса, стал перед ним на колени. Он приложился губами к подолу комитасовской сутаны, а потом, обращаясь к нему, громко сказал: — Отец Комитас, я склоняю голову перед вашим музыкальным гением.
Затем, повернувшись к залу, он, словно поясняя публике свою мысль, сказал:
— Если Комитас создал бы только «Антуни», этого было бы достаточно, чтобы считать его великим музыкантом.
— Два больших музыканта обнялись и провожаемые аплодисментами, покинули сцену.
После этого парижане были свидетелями еще нескольких концертов и лекций Комитаса, которые прозвучали в Сорбонне, в «Сельскохозяйственном павильоне», в новой армянской церкви, которая находилась на улице Жан-Гужуна, и в помещении «Армянского общества». С восхищением писали об этих концертах парижские газеты: «Надо было бы обладать языком Бурго Дюкудре, чтобы описать народные и церковные песни, привезенные отцом Комитасом из Армении» ("Le mercure musical" музыкальный журнал-обозрение). «Комитас своими двумя концертами показал нам букет пленительных мелодий, сохранивших аромат родных краев, восхитив нас своей гармонизацией этих мелодий, свидетельствующих о высоком мастерстве и гении его же, Комитаса».
Профессор Сорбоннского университета Луи Лалуа стал инициатором организаций международного фестиваля русской, армянской, французской и греческой народной песни и танца. Комитас со своим хором дал два концерта в фонд «Кавказского общества», оказывающего материальную помощь нуждающимся студентам кавказцам. Армянский клуб «Масис» и русские музыаканты организовали комитасовские вечера — концерты. Комитас, имя которого было теперь известно всему Парижу, стал уже авторитетом как для своих соотечественников, так и для представителей других народов.
«Грешник» Комитас
Приезду Комитаса в Париж очень обрадовался художник Кюркчян. С Комитасом Кюркчян познакомился еще в Берлине, где слушал его знаменитую лекцию, и с тех пор горячо привязался к нему. Он мечтал написать портрет Комитаса. И когда в 1905 году армянская церковь в Париже заказала ему написать изображение Иоанна Крестителя, он задумал писать его с Комитаса. Кюркчян считал, что настало уже время вывесить портрет Комитаса в церкви, среди изображения святых.
Он заканчивал работу над портретом, когда к нему зашел Комитас. Кюркчян подвел его к картине. Глаза Комитаса на картине с мольбою были обращены к небу, непокрытую его голову озаряли небесные лучи. Не забыл художник нарисовать нимб. Комитас бросил взгляд на портрет, и лицо его потемнело от гнева:
— Сейчас же сотри с холста этого грешного Комитаса.
Кюркчян не хотел верить слышанному. Портрет одобрен заказчиком, за него выдана двойная плата. И все же уважение к Комитасу, его искреннее чувство негодования заставили художника взяться за мастихин. Он чуть не плача начал соскабливать с холста не высохшие еще краски. Чувствуя как переживает за картину Кюркчян, Комитас обнял его за плечи и сказал:
— Прошу тебя, не обижайся. Я знаю, ты делал это с любовью, но, связав меня с небесами, ты убил тем самым меня, ты оторвал меня от родной земли, от моего народа… — Комитас вздохнул, помолчал и потом добавил: — А я не знаю ничего более святого, чем душа моего народа…
В 1907 году в Швейцарии организовав новый хор, Комитас выступил с лекциями и концертами в Цюрихе, Лозанне, Берне, Женеве. По поводу его концерта в Лозанне швейцарские газеты писали: «Армения, как и Швейцария, страна гор и долин, однако армяне, вдохновленные своей природой, творят чудеса, в то время как мы…"
Дорога странствующего музыканта привела Комитаса в Италию. Он приехал в Венецию, где выступил с концертом и лекцией. Здесь же он не долгое время работал над книгами хазов в хранилище древних армянских рукописей, на острове Св. Лазаря.
На этот раз Комитас возвращался в Вагаршапат, заслужив широкое признание мировой музыкальной общественности.
Скучные будни монастырской жизни не могли помешать Комитасу в осуществлении его замыслов, но все же временами им овладевало тягостное чувство одиночества. Длившаяся больше года поездка по городам и странам Европы позволила ему выполнить часть намеченной програмы. В Париже Комитас издал свой первый сборник «Армянская лира», куда вошли двенадцать песен. Этими концертами он осуществил давнишнее свое желание — познакомить европейцев с армянской песней. Тогда же он получил возможность ознакомиться с новейшими музыкальными течениями и их представителями. И чем глубже он знакомился с ними, тем сильнее проявлялась в нем жажда нового.
И в Эчмиадзине его ждала работа — опять хор, оркестр, работа над хазами, собирание народных песен, их исследование и обработка. Но во всем этом он один, один, и вокруг него пустота. В минуту усталости и душевной опустошенности он получил из Парижа письмо от Маргариты Бабаян и тут же сел писать ответ: «Как обрадовало меня твое письмо. Действительно, я давно не писал ничего ни тебе, ни моим друзьям, которые хотя и находятся далеко, но очень близки мне. И голова устала, и душа, я стал неспокоен, терпение мое иссякло. Представь, живешь в тумане и жаждешь увидеть яркий свет, вознестись, вознестись высоко-высоко, жить где-то рядом с палящим солнцем, но не находишь дороги и задыхаешься в этом поганом воздухе. Нет человека, перед которым можно было открыть сердце и от которого можно было услышать слово разумное: как сыч, сижу с утра до вечера за своим столом и пишу, пишу… Настает время отдыха, хочу кому-нибудь спеть или сыграть написанное и не нахожу никого. Выхожу из комнаты и, как тигр один расхаживаю в саду или у себя на веранде. Удивляюсь, как я до сих пор не сошел с ума в атмосфере такой затхлости. То хочется бежать куда-то, то хочется запереться отшельником и трудиться, но что же я тоща делаю, если не тружусь?.. Хочу, чтобы было иначе, хочу жить только с музыкой, чтобы ничто меня не мутило, мысль мою не путало, душу не смущало бы и совесть мою не убило… Но я не отчаиваюсь, продолжаю работать, много вещей написал, многое сделал…»
Атмосфера в Эчмиадзине стала еще более невыносимой после смерти Хримяна Айрика. Приутихшие на время противники Комитаса вновь стали плести против него интриги. И очень скоро сумели враждебно настроить против него новоизбранного католикоса Измирляна. Сначала это отразилось на жаловании Комитаса. Если светскому педагогу, приглашенному со стороны, было положено три тысячи рублей в год, то Комитасу, как преподавателю музыки в семинарии, платили в десять раз меньше. Кроме этого, он получал жалование архимандрита, что составляло приблизительно такую же сумму. Это посчитали достаточным и урезали ему преподавательское жалование. Такое оскорбительное решение послужило поводом, чтобы Комитас написал отречение.
«Святейшему католикосу всех армян Маттеосу II.
Двадцать лет я состою в братии престольного св. Эчмиадзина. Вступил в нее с целью служения. В течение двадцати лет окружающие не давали мне делать то, что я мог бы делать, ибо вокруг себя я видел только козни и интриги. Нервы мои сдали, далее терпеть все это нет у меня сил. Ищу покоя — не нахожу; жажду честно работать — встречаю препятствия; пытаюсь держаться в стороне — заткнуть уши, чтобы не слышать; закрыть глаза, чтобы не видеть; сдерживаю себя, чтобы не впасть в соблазн; обуздываю чувства, чтобы не гневаться — но не могу. Я человек и не могу так более. Совесть моя гибнет, энергия иссякает, жизнь уходит, и только сомнение свивает гнездо в глубине моего существа.
Если Вашему Святейшеству угодно меня не потерять, а найти, со слезами умоляю отпустить меня из св. Эчмиадзина и послать в Севанскую обитель отшельником: я потерял двадцать лет, дайте же мне возможность в оставшиеся годы спокойно работать над результатами моих исследований, что будет более достойным моим служением многострадальной армянской церкви и науке.
Вашего Святейшества слуга и сын вардапет Комитас, монах св. Эчмиадзина».
Разгневанный католикос к великой радости отцов церкви не удостоил Комитаса ответа. После этого Комитаса начали откровенно травить.
Условия пребывания Комитаса в Эчмиадзине стали невыносимы. На каждом шагу оскорбления, интриги.
В эти трудные для него дни он получил от Манташева в подарок рояль. Вечером поздравить его пришли друзья. Он сварил им кофе, они посидели. Потом он играл и пел, и проводив их, долго стоял на веранде. Да, ему уже сорок лет. Европейский композитор в его возрасте сменил бог знает сколько инструментов, а он приобретает свой первый инструмент, получает его теперь, когда силы уже на исходе… Сколько лет подряд он день и ночь, запершись в холодном классе семинарии, закутав ноги пледом, просиживал за роялем при тусклом свете свечей. Он глазам своим не верил, что в его комнате стоит рояль, что теперь в любую минуту, днем или ночью, он может сесть за рояль и играть, играть без конца. Непонятное чувство охватило его, горло сжалось: «Вот и у меня стало как у людей». Он плотно притворил окна и двери в комнате, чтобы никому не мешать, и сел за инструмент, — погладил клавиши, черные блестящие бока рояля, прошептал какие-то слова и начал играть… всю ночь напролет он играл и пел.
Теперь уже осуществились давнишние его мечты — у него был дом, работа, инструмент. Все было, но не было условий, позволяющих ему целиком посвятить себя работе. Основать консерваторию в Закавказье оказалось делом безнадежным и нереальным. Богатые промышленники Тифлиса и Баку и слышать не хотели об этом. В Эчмиадзине из кожи лезли вон, чтобы обуздать «непокорного» вардапета. Его уход из монастыря послужил бы еще большим поводом для травли. Армянские богатеи покровительствовать ему не собирались, а бедный и бесправный народ едва мог прокормить и содержать бродячих ашугов, а никак не музыканта с такими высокими целями.
Комитас искал место, где мог бы развернуть более интенсивную деятельность. Им, как ему казалось, мог стать Константинополь. В Константинополе, этом крупном культурном центре западных армян армянская песня, можно сказать, переживала процесс «отуречивания». Пропаганда армянской народной песни должна была способствовать укреплению национального самосознания тамошних армян. Константинополь тесно общался с Европой, и, наконец, оттуда было легче поддерживать связь с зарубежными армянскими колониями. При возможности он организовал бы там хор, может быть, удалось бы основать консерваторию. Решение было принято.
Под предлогом посещения родных мест Комитас оставил Вагаршапат.
Глава 5 НЕОКОНЧЕННЫЙ ПУТЬ
Вместе с художником Фаносом Терлемезяном Комитас поселился в Константинополе на улице Банкалты-Шитак. Терлемезян недавно вернулся из Парижа, а Комитас решил навсегда обосноваться в Константинополе. Два старых друга сняли трехэтажный дом. Комнаты на первом этаже были отведены под столовую и кухню, причем окна кухни выходили в сад, где росли роскошные цветы. Большую комнату с примыкавшим к ней балконом на втором этаже занял Комитас. Ее он оборудовал под гостиную и кабинет. Сюда он перенес рояль и фисгармонию. Здесь же он устроил знаменитый свой угол подарков. В небольшом застекленном шкафу хранились подарки, полученные им в разное время от почитателей его искусства. Тут были самые разнообразные вещи — редкие книги и рукописи, изящная чернильница, золотая и серебряная ручки и т. п. В бархатном роскошном альбоме с любовью хранил он портреты дорогих ему людей, здесь были и Хримян Айрик, и Хачатур Абовян, Маштоц, Микаел Налбандян, Чайковский, Дебююси, Айвазовский, Раффи, Акоп Паронян, Маргарита Бабаян. И, конечно же, были здесь и портреты его любимых учеников — Ваана Тер-Аракеляна, Арменака Шахмурадяна и многих других. Были в альбоме портреты поэтов и писателей, которых он лично знал — Варужана, Сиаманто, Зопраба. Ованнеса Туманяна, Ерванда Отяна, здесь же фотографии хоров, с которыми он работал, и еще хранилось в альбоме изображение Вардана Зоравара. Он с любовью хранил эти вещи и аккуратно каждый день снимал с них пыль. Пол в комнате был покрыт великолепным армянским ковром, под стенами стояли обитые бархатом кушетки; дополняли обстановку картины — пейзажи Терлемезяна, Егише Тадевосяна и других художников. На том же этаже, в двух маленьких комнатах хранились работы Терлемезяна. А третий этаж Тер-лемезян целиком занял под мастерскую.
Друзья весь день работали, а в условленный час встречались и совершали дальние прогулки к берегам Босфора и Мраморного моря. Терлемезян готовился к предстоящей всемирной выставке. Комитас был занят вопросами организации хора. Им обоим в ближайшем будущем предстояло выдержать экзамен перед общественностью. И поэтому оба они работали энергично, не покладая рук.
В организованный хор «Гусан», в состав которого вошли триста человек, Комитас набрал мальчиков и девушек — учащихся армянских семинарий, педагогов, и способных детей из школ этого региона. Отбор был произведен со всей строгостью, и в хор попали только те, у которых были и хорошие голоса, и отличные музыкальные данные. Репетиции проводились в основном у Комитаса дома. Комитас тщательно работал над каждым номером программы. Он напевал им все восемь голосов, подробно останавливался на звучании песни, объяснял им слова и выражения в тексте, анализировал содержание песни. Когда программа была целиком готова, как солдаты у хорошего военачальника; каждый хорист знал свою роль и место в предстоящем выступлении. Репетиции эти походили и на лекцию, и на концерт, и на устный рассказ о народе, родившем эти песни. Еще задолго до концерта мероприятие Комитаса вызвало большой интерес у общественности. Все с нетерпением ждали концерта. Наконец, в газетах появились объявления о концерте, который должен был состояться в Пти-Шане. Билеты были распроданы заранее. Зал едва вместил ничтожную часть всех желающих попасть на концерт. Публика волновалась. С назначенного часа прошло уже пятнадцать минут, а занавес все не открывался. По залу прошел слух, что концерт отменяется. Кем? Турецким правительством? Нет. Армянской церковью. И действительно, на сцене за занавесом происходило следующее. Комитас собирался уже начинать, когда к нему подошел человек духовного звания и, протянув ему запечатанный конверт, потребовал незамедлительно вскрыть его. Неуместное появление священнослужителя вызывало у Комитаса подозрение.
— Что, запрещаете концерт?
— Да, святой отец, патриарх запрещает ваш концерт.
Комитас торопливо вскрыл конверт. На скрепленном печатью листе он прочитал: «Милостивый брат Комитас, ур. Согомонян.
Ваше преподобие, к сожалению, должны Вас уведомить, что противоречит священному закону и канону нашей церкви исполнение церковной литургии на светской сцене, каковым является исполнение на сцене Пти-Шана. Посему, во избежания соблазна, запрещаем исполнение части I объявленной Вами программы и одобряем исполнение второй части во удовлетворение почитателей Вашего бесподобного пения.
Остаюсь преданный Вам патриарх
Гевонд, ур. Дурян.»
Ученики Комитаса впервые видели своего вардапета таким возмущенным. Читая письмо, он краснел, а после лицо его побелело от гнева, губы задрожали. Минутная вспышка гнева прошла, и он, обуздав свои чувства, спокойно произнес:
— Хотите провалить мое дело, оскандалить меня? Если собирались запретить, почему не сделали этого раньше? Афиши за месяц уже расклеены в городе. Скажите там у себя, что я никаких патриархов не знаю. У меня есть разрешение католикоса.
Комитас достал из кармана камертон и направился к хору. Аплодисменты, обычно венчающие концерт, раздались на этот раз в начале, когда на сцене подняли занавес. Это была большая победа Комитаса.
Знаменитый концертный зал не видел еще такого успеха.
Восторженно отзывались о концерте и константинопольские газеты, и не только армянские, но и итальянские, греческие, французские и даже турецкие. Армянская песня была у всех на устах. Каждый концерт завершался праздником. В зале творилось нечто невообразимое. После концерта «волшебного» вардапета на улице обычно ждала карета, забитая цветами. Карету провожала толпа его поклонников. Видя любовь и восторженное отношение своих поклонников, Комитас однажды сказал:
— Я чувствую, что умирать буду счастливым… что на могиле моей всегда будут лежать любимые мои цветы…
«Черт побери!» Но кого?..
В Константинополе очень многие теперь знали трехэтажный дом на улице Балканты-Шитак. Дом этот стал истинным храмом музыки. Сюда приходили греческие музыковеды поговорить с Комитасом о византийских невмах (хазах), заходили к нему итальянские, немецкие и французские композиторы и дирижеры. Турецкие музыковеды и композиторы советовались с ним об основании турецкой консерватории и оперного театра. Его лекции и концерты многим армянам открыли глаза на духовное богатство своего народа, чьи песни в Константинополе теперь пели и армянин, и турок, и славянин, и грек, и итальянец.
Часто заезжали теперь на улицу Банкалты кареты. Останавливаясь у дома, где жил Комитас, гости, не выходя из Кареты, спрашивали Комитаса, и по ответу слуги, старика Геворка, либо поднимались наверх, либо отъезжали. Разные приходили люди, и каждый со своими привычками. К примеру, заместитель министра внутренних дел Османской империи француз Гьюмбер, обычно поднимаясь к Комитасу, пел ту из его песен, которую выучил в этот день.
На этот раз перед домом остановилась золоченная карета церемониймейстера императорского двора Исмаил-бея. Разодетый придворный приехал смотреть работы Фаноса Терлемезяна. Терлемезян провел его в свою мастерскую и после того, как гость осмотрел работы, спросил:
— Может, его превосходительство хотел бы встретиться с Комитасом?
Почел бы это за честь, если не помешаю.
Терлемезян постучал в дверь кабинета. Оттуда раздался голос Комитаса:
Hereine.
Терлемезян толкнул дверь и пригласил гостя войти. Комитас сидел перед роялем. Он встал навстречу гостю. Комитас попросил старика Геворка сварить им кофе. Исмаил-бей говорил о наслаждении, которое испытал, побывав на концертах Комитаса. Он сам учился во Франции и слышал многих известнейших музыкантов, но подобного чувства не испытывал еще ни разу. Он с завистью вспомнил и о том, что Комитас дает уроки музыки жене и детям наследника турецкого престола. Они выпили кофе и гость, обратясь к Терлемезяну, сказал:
Смею ли я просить Комитаса-эфенди исполнить какую-либо песню?
Комитас в ответ на эту просьбу сел за рояль. После недолгого раздумья он спел на немецком языке серенаду Шуберта. После окончания песни в комнате еще долго царило молчание, до того, присутствующие были взволнованы. Наконец Исм аил-бей сердито кулаком стукнув по столу, встал:
Sapristi (черт побери), восемь веков существует наше государство, а таких артистов и такого храма искусства мы не имеем!
Потом он извинился за несдержанность, поблагодарил за гостеприимство и, вежливо откланявшись, вышел.
Когда золоченная карета отъехала от двери, Терлемезян повернулся к Комитасу. Тот весело улыбнулся ему, они друг друга поняли. Взявшись за руки, друзья начали пританцовывать.
Да опомнитесь вы, спятили что ли, — не то удивляясь им, не то шутя, бросил старый Геворк, который зашел за чашками.
Когда все уселись, разговор зашел о предстоящем концерте Шахмурадяна. Вскоре пришел и сам Арменак. Комитас снова сел за инструмент. Он сыграл Шахмурадяну песню «Айастан». Потом они вместе начали ее разучивать, раз за разом возвращаясь к спетому, кропотливо работали над звучанием песни, В конце Арменак спел ее так, как должен был исполнить на сцене.
Я не сомневаюсь в успехе твоего концерта, Арменак джан, и мечтаю видеть тебя в армянских операх. Вот еще и Ваан окончит консерваторию и у нас будет два великолепных тенора.
Вардапет, вот если бы и вы кончили свою оперу «Вардан», — сказал Варужан.
Сперва мне надо разгадать тайну хазов. Надо сделать все, чтобы выпутать из хазовых оков наши лучшие песни и спасти их от забвения, — он открыл шкаф и достал оттуда папки со своими записями, чтобы удовлетворить любопытство гостей.
Это мои исследования о хазах. В ближайшие два-три года опубликую. А вот запись старинной армянской литургии…
Комитас достал листок из папки и начал свободно петь с листа, словно это были не хазы, а ноты. Им были уже подготовлены три обширных доклада, которые он собирался прочитать в Париже на Международном музыкальном конгрессе 1914 года. Это будет первое научное сообщение об армянских хазах.
Признанный музыкант
К лету 1914 года имя Комитаса было известно во всей Западной Анатолии. После Константинополя последовали концерты в Анабазаре, в Никомедии, в Кутине, Смирне. Его слушали армяне в городах и селах этих провинций. Поистине неутомимый странник, Комитас побывал в Александрии, в Каире и в городах Европы, где проживало много армян.
Из четырехсот участников Парижского конгресса Международного музыкального общества у него был самый яркий доклад. По просьбе участников конгресса Комитас дал концерт в армянской церкви на улице Жан Гужун. В церкви не вместились все желающие, и большая толпа слушателей собралась у открытых дверей. Армянские духовные песни пели Комитас, Арменак Шахмурадян, Мискджян, Маник Берберян, Кавноз в сопровождении великолепного хора.
Вместе со слухами о большом успехе Комитаса в Париже, в Константинополь прибыли пластинки Арменака Шахмурадяна с записью духовных армянских песнопений. «Священную» войну этим пластинкам объявили клерикалы армянской церкви.
Они покупали и уничтожали их. С сатирическими разоблачениями клерикалов выступили деятели армянской культуры: Фанос Терлемезян, Тигран Чекурян, Ерванд Отян, Мелкон Кюрджян и другие. Это заставило константинопольского патриарха снять с них запрет. Армянское население города и пригородов готовилось встретить Комитаса, одержавшего в Париже большую победу.
Это было триумфальное возвращение Комитаса в Константинополь. Задолго до прибытия поезда на вокзале Серкиджи собрались смешанные семинарские хоры из Константинополя и пригородов. Все были празднично одеты; цветы, корзины с цветами, транспаранты, разукрашенные цветами и лентами. Толпа скандировала «Комитас». А когда раздался гудок приближающегося паровоза, грянуло ура. Первым на перрон вышел оркестр молодежного общества Саматии — они играли песню Комитаса «Эс гишер луйс теса» («Этой ночью я увидел свет»). За ними шел отряд спортсменов, которые из пригорода пешком пришли на вокзал. Когда в дверях вагона появился Комитас, над толпой раздались приветственные крики. Спортсмены в белой одежде, встав в шеренгу, пронесли Комитаса над толпой. В воздух летели цветы, Комитаса забросали цветами, его путь на перроне 'был усеян цветами. Над толпой появились голуби. Комитас обнимал своих соотечественников, друзей и родных. Запряженная белыми лошадями, разукрашенная цветами карета ожидала его у входа.
«Господи, помилуй»
Началась первая мировая война.
Комитас с тревогой взирал на происходящее. Душа его мрачнела, словно давясь каким-то предчувствием. Рука с трудом писала о одолевавших его мыслях и чувствах: «…Заблудшееся и смятенное стадо без пастыря… незримые, неудержимые волны мутят глубину многострадального моря нашей жизни.
Атмосфера дышит ядом, целительной силы нет. Разорение и ужас, откровенное насилие…»
История готовила для многострадального армянского народа страшное испытание.
1915 год.
В марте в Константинополе был арестован редактор знаменитого «Всеобщего календаря» Теодик. Встревоженные друзья поспешили к Комитасу. Услышав эту весть, Комитас изменился в лице:
— Началось?..
Он посмотрел в окно, в ту сторону, где находилось армянское кладбище. Друзья поняли его. Они тоже думали о мирных могилах и о надгробных камнях. «Кровавый конец нас ждет, не будет у нас ни могил, ни могильных камней»— думал про себя каждый.
Началось!
* * *
Поздней ночью 11 апреля 1915 года полицейская карета остановилась у ворот комитасовакого дома. Стук в дверь поднял с постели старого Геворка и он, ворча, пошел открывать дверь. Полицейские в дверях, оттолкнув его, бросились к комнате, где горел свет. Старший полицейский постучал в дверь и, получив приглашение, вошел в комнату. Комитас сидел у рояля и при свете свечи что-то записывал на нотных листах.
— Что означает ваш поздний визит, эфенди?
— Тысяча извинений, что отрываем вас от дела. Мы выясним это маленькое недоразумение, если вы соизволите поехать с нами на полчаса в полицейское управление. Работа у нас такая, что по ночам приходится беспокоить людей. Тысяча извинений, Комитас эфенди, что помешали вам работать. Я имел счастье быть на трех ваших концертах.
Когда Комитас оделся, полицейский взял его дружелюбно под руку и проводил к выходу. Старого слугу Комитас успокоил, сказав, что его уводят на полчаса и сами же приведут обратно. «Бедный старик, что будет с тобой? Хорошо, что Фанос находится в Ване. Хотя, кто может поручиться, что в Ване не то же самое? — думал он, направляясь к карете.
Карета остановилась у ворот центральной городской тюрьмы. Комитаса препроводили во внутренний двор тюрьмы, где его тут же окружили знакомые. Сомнения рассеивались и все начинали понимать весь ужас происходящего. Надзиратели приклада разгоняли группы арестантов. Ужас сковал людей. Что будет с их семьями, женами, детьми? Комитаса все знали и искали у него поддержки. Беседовать не разрешалось, и Комитас придумал как быть. Он начал петь и в песне объяснил, что надо составить списки арестованных, может, подкупив стражу, удастся передать списки на волю и там представить их в посольства иностранных государств. Списки будет составлять ва(рдапет Палакян. Надзиратель потребовал прекратить пение. Комитас попробовал завоевать расположение надзирателя турецкой песней — ему это удавалось сделать на своих концертах. Но надзиратель попался дубовый. Удар кулака пришелся по затылку, и в глазах у Комитаса потемнело. Не успел он опомниться как ружейный приклад обрушился ему на челюсть. Новый удар надзирателя повалил его на землю и, если бы не вмешательство арестованных, кончилось бы это очень плохо.
За два часа число арестованных во дворе тюрьмы дошло до двухсот двадцати человек. В основном это были видные представители армянской интеллигенции. Их по спискам посадили в машины. И опять страшная неизвестность. Неужели их утопят в Мраморном море?
Но Мраморное море проехали. Одну часть арестованных повезли в Айяш, а другую в Энкюри. Из Энкюри их на сорока четырех подводах довезли до станции Галайджик. Среди арестованных было пять священников, которых усадили на одну подводу. По дороге на Комитаса временами находило помутнение. Деревья на обочине дороги виделись ему призраками, разбойно протягивающими к нему когтистые лапы. Он все просил вард апета Палакяна оградить его молитвой.
Арестованных поместили в холодных и сырых подвалах Чангрийских казарм. Чангри была маленькая деревушка, населенная преимущественно армянами. Здешние армяне, как и кутинские, говорили только на турецком языке. В прошлом вардапет Палакян был в этих краях настоятелем и теперь через жителей деревни сумел достать Часослов, и Комитас по ночам совершал для арестованных богослужение. Ночью в скорбной тишине казематов раздавалась его молитва «Господи, помилуй»:
Пресвятая троица,
Ниспошли на землю мир,
Исцеление больным,
Явись моему народу армянскому.
Господи, помилуй нас, помилуй нас,
Христос спаситель, помилуй нас.
Понемногу к Комитасу вернулось самообладание. Чтобы как-то приободрить соотечественников, он в эти тяжелые дни организовал из арестантов хор. Но ряды хористов с каждым днем редели. Их уводили по два-три человека под предлогом якобы ожидающего их суда. Пришла очередь Даниела Варужана, Рубена Севака, с ними и еще троих. Друзья на всякий случай снабдили их деньгами. Они долго прощались с Ко- митасом…
Первой весть о начавшейся резне принесла в Чангри тринадцатилетняя девочка, которая чудом осталась жива, прикрытая трупами матери и сестер. Хозяин подводы, на котором повезли Варужана и Севака, в свою очередь рассказал, как курды, устроившие засаду на дороге в Галайджик, напали устроившие засаду на дороге в Галайджик, напали на арестованных, раздели их догола и, зарубили саблями, камнями размозжили им головы… До Чангри стали доходить слухи о повсеместном избиении армян. Садовник-турок, у которого часто бывали в гостях Комитас и Палакян, рассказывал им подробности о резне, которые слышал от своего сына.
Весть о смерти друзей, об избиении беззащитных людей потрясла Комитаса. Повсюду ему мерещились трупы и порубленные людские тела.
Спасшиеся от ареста друзья Комитаса благодаря вмешательству иностранных посольств сумели добиться приказа об его освобождении.
Комитаса доставили в Константинополь. Его состояние было близко к помешательству.
***
В эти трагичные дни Комитас искал спасение в музыке. Он написал новую молитву — «Господи, помилуй». Все, кто имел счастье ее услышать, были потрясены. Текстом для своей молитвы он избрал слова стихотворения Сиаманто «Навасардская (новогодняя) молитва богине Анаит». Он в искусстве искал силы, чтобы противостоять оголтелой пляске погромщиков — и создал крупное фортепианное произведение «Мушский танец». Пропали эти произведения, пропали многотомные книги его исследований хазовых записей, пропали большинство из записанных им 3000–4000 песен…
Наверное, он впервые в жизни не сдержал своего слова. Он не раз говорил:
— Мы, спасшиеся, должны жить за двоих — за себя и за павших. Чтобы сны и мечты павших претворились, чтобы память о них была бы жива. Это великое народное бедствие требует от нас исключительной энергии и терпения — горе тому, кто проявит нетерпение и малодушие.
В эти дни он ни дома, ни на улице не имел покоя: везде его находили жены и дети погибших. Все пытались узнать что-нибудь о своих родных. Как сказать им правду? А как утаить? Он неделями не возвращался домой, скрываясь у знакомых. Он боялся и полицейских. Врач Баграм Торгомян, который спасся вместе с Комитасом, отвез его к своим друзьям, надеясь, что новая обстановка поможет Комитасу немного отойти. Здесь он прожил три месяца и сначала все шло хорошо. Он играл с детьми, разучивал с ними новые песни и танцы, иногда пел. Пробовал писать песни. Но однажды, схватив детей, с которыми был на прогулке, за руки, бегом приволок их домой, утверждая, что спас детей от турок. На третий день он потерялся, его весь день искали, и только вечером обнаружила его служанка в темной комнате лежащим на полу. Когда она вошла туда с заженной свечой, он встал, задул свечу и снова лег на пол…
Ваграм Торгомян был вынужден поместить Комитаса в клинику для душевнобольных в Шишле. Это закрытая больница находилась за городом.
Торгомяну сказали, что болезнь Комитаса неизлечима, хотя жить он сможет еще долго.
В 1919 году друзья Комитаса перевезли его в Париж. Вначале он содержался в больнице Виль-Эврар, потом его перевели в Виль-Жуиф. В больницу к нему приходили друзья и знакомые — французы и армяне, константинопольские друзья. Посетителям не разрешалось с ним встречаться и они удовлетворялись сообщениями врачей.
— Он в общем спокоен, — рассказывали врачи, — если не видит своих прежних знакомых. Встреча с ними приводит его в сильное волнение. С незнакомыми он, наоборот, всегда спокоен и мягок, их присутствие не тревожит его. Но вообще он предпочитает оставаться один. Аппетит у него хороший. Иногда гуляет в саду, об одежде заботится и держит ее в чистоте. В последнее время иногда поет.
Вечный странник
В 1921 году Фанос Терлемезян посетил Комитаса в Париже. Врачи предупредили Терлемезина, что говорить с Комитасом надо о темах, которые его не тревожат. И еще лечащий врач попросил художника по возможности запомнить всю беседу.
Комитас лежал на тахте. Он сразу узнал Терлемезяна н вскочил с места. Спустя шесть лет после разлуки друзья увиделись. Они обнялись. Комитас похудел. Оглядев Терлемезяна с головы до ног, он потрепал его ласково по щеке и сказал:
Дай я тебя побью, дай я тебя побью.
Потом он принес имеющийся в комнате единственный стул и попросил Фаноса сесть. Они долго молча смотрели друг другу в глаза. Нарушил молчание Терлемезян.
Комитас джан, — сказал он, — знаю я, ты разочаровался в людях, ты прав, я тоже скорблю о них, но нельзя же заживо хоронить себя. Мы все с нетерпением ждем тебя.
В ожидании ответа он пристально смотрел на Комитаса. А тот, неизвестно — искал ответа или не мог собратьсяс мыслями. Чтобы вновь овладеть его вниманием, Фанос начал рассказывать ему о Босфоре, о Мраморном море, о его родном городе Кутине. Вспомнил о том, как поднимались на Арагац, как вместе были в Чораванке, в гостях у вождя местных курдов. Видя, что Комитас не проявляет интереса, он предложил ему поехать на Севан.
Что мне там делать?
Отказался Комитас и выйти в сад погулять. Потом они заговорили о жизни и смерти.
Смерти не существует, — сказал Комитас, но тут же, открыв дверь комнаты, добавил — Если сие не есть могила, так что же?
И вновь надолго замолчал. Чтобы не тревожить Комитаса, Фанос встал.
Не буду докучать тебе, Комитас джан, я пойду.
Коли пришел, так оставайся. Куда же ты уходишь? — оказал больной, насильно усаживая его.
Фанос начал ему рассказывать об одном общем их знакомом, который приехал в Париж, чтобы учиться на актера.
Нет, ненужное это искусство. Агафангел говорит — свиньи, барахтаясь в луже, думают, что принимают ванну.
Комитас джан, знаешь, что в Париж приехали учиться твои ученики — Мигран Тумаджян, Айк Семерджян, Вардан Саргсян и Барсег Кананян.
Молодцы, это было мое требование, молодцы они. Скажи, Фанос джан, живут ли мои песни?
Да, и в них — твое бессмертие.
Пусть вечно живет мой народ, в его памяти я всегда буду жить.
Глаза Комитаса засверкали, губы задрожали… Фаносу показалось, что он собирается запеть.
Поешь? — спросил Фанос.
Да.
Спой для меня что-нибудь.
Сейчас я спою очень тихо и только для себя.
Потом быстро подошел к Фаносу и, взяв его за руку, потащил к двери.
Там есть огромная пропасть, я боюсь в нее упасть.
Он отпустил руку Фаноса и, подойдя к двери, уткнулся в стекло лбом и долго так стоял. На вопросы Фаноса он больше не отвечал. Художник встал, чтобы уйти.
До свидания, Комитас, родной. Я еще приду.
Оставьте меня в покое, — сердито сказал Комитас, — у меня есть свои дела. Вернувшись, ты меня здесь не найдешь, я странник.
Да, ты вечный странник, — пробормотал его друг, и чувствуя тяжесть в ногах, с трудом пошел к выходу.
Всеармянский дирижер
Чем дальше, тем все меньше ощущал Комитас свою связь с внешним миром, все реже узнавал своих знакомых, забывал их имена; он постепенно забывал прошлое. Посетившего его Арменака Шахмурадяна он узнал только тогда, когда Арменак спел песню «Армения, страна обетованная», которую Комитас очень любил в его исполнении — тогда он смог только выговорить: «мой Арменак». Маргариту Бабаян он попросил остаться, ухаживать за ним и вылечить его, но в следующую же минуту ее не узнал. «Серенаду» Шуберта, которую он так проникновенно исполнял, теперь не хотел и слушать.
Двадцать лет его болезнь боролась со спартански закаленным телом, которое до этого не знало больничной койки.
Комитас доживал последние дни. Ему было шестьдесят шесть лет, из которых он в сознании прожил сорок шесть. Глаза его запали, выдались скулы, тонкая и прозрачная кожа на лице напоминала пергамент. Силы покидали его, сознание иногда прояснялось, хотя говорить он не мог.
В ушах звенела мелодия родной ему песни. Он видел луг, освещенный лучами яркого солнца, и горное озеро, на берегу которого две женщины прямо на траве накрывают стол, детей, собирающих цветы… Двое невдалеке склонились над холстами, а один, взобравшись на вершину скалы, поет:
Армения, страна обетованная,
Ты колыбель рода людского,
Ты исконная моя родина,
Армения, Армения, Армения!
Песня раскачивает головки цветов. Поющий вскидывает руки и послушно замирают головы. Сотни глаз обращены на дирижера. Перед тем, как взмахнуть палочкой, он спрашивает:
Многие из моего хора пали на пути к вершине. Сколько вас осталось?
Нас триста человек, — отвечала группа.
Мало!
Три тысячи!
Мало!
Три миллиона!
Мало!
Пять миллионов!
Все до единого здесь? Никого не осталось?
Грандиозный хор выстроился на Араратской равнине полукругом, а сам он остался стоять на вершине. Отсюда, с вершины хорошо виден всеармянский хор, и голос дирижера, перекрывая огромное расстояние, доходил до всех.
Я вам детально объяснил песню «Сипанские храбрецы». Вздох. Все вместе. С богом!
Пятимиллионный хор в одно дыхание, в один голос запел песню, сотрясая ущелья и горы.
Почему они так страстно вооружаются,
Нетерпеливо седлают рвущихся в бег коней,
Ярким огнем полыхают их храбрые сердца. Стремительно проходят облака,
Как порывистый ветер с Сипана.
Они несутся вниз Враг в поле,
Это он разжигает в них неизбывную месть,
Месть, месть, месть, их месть, их месть!
Голос хора звучит теперь издали. И теперь он идет по цветущей живописной равнине. Голос хора доносится уже с вершины. Он поднимается, опускается и вновь поднимается на более высокую вершину. Здесь когда-то был Абовян. Хор стоит на вершине. Все поют, протянув руки к диску луны.
— Мы дети солнца, языческие дети солнца, — раздался голос дирижера, и он запел языческую песню о восходе солнца, которую нашел в хазовых книгах. Он пел так проникновенно, что затемненная часть луны осветилась, засверкала, как солнце. И прекрасна, неповторима была песня, прекрасен был мир, залитый яркими, горячими лучами солнца.
Теперь можно спокойно вздохнуть… вздох…
Медленно опускались его руки на грудь, чтобы успокоиться на белом саване.
У его смертного одра собрались Арменак Шахмурадян, Маргарита Бабаян, Аршак Чопанян, его друзья и близкие.
Это было 23 октября 1935 года.
Тело Комитаса забальзамировали в стеклянном гробу и похоронили в склепе армянской церкви. Через год останки были перевезены в Ереван и захоронены в городском пантеоне.
Вечный странник в родной земле нашел последнее пристанище.

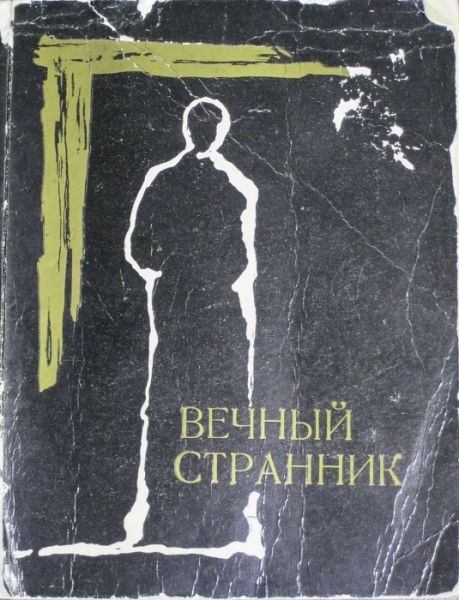

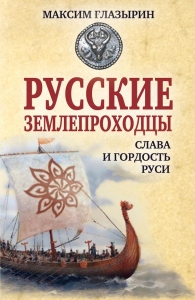

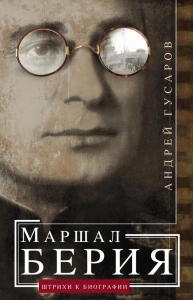

Комментарии к книге «Вечный странник», Вартан Липаратович Вартанян
Всего 0 комментариев