ХРИСТИАН ВОЛЬФ
и
ФИЛОСОФИЯ В РОССИИ
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ
ХРИСТИАН ВОЛЬФ И ФИЛОСОФИЯ В РОССИИ
Издательство
Русского Христианского гуманитарного института
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
2001
Издание осуществлено при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ), проект 99—03—16124
Руководитель проекта кандидат философских наук А. В. Панибратцев Редактор-составитель издания доктор философских наук В. А. Жучков
Христиан Вольф и философия в России. — СПб.: РХГИ, 2001. — 400 с.
В книге исследуется малоизвестный этап в истории отечественной философии, связанный с влиянием идей немецкого философа Христиана Вольфа на философскую, научную и просветительскую мысль в России, выясняется их роль и значение для общего хода и характера социокультурного развития страны в XVIII—начале XIX вв. Детальный анализ вольфианской метафизики позволяет сделать вывод об односторонности ее распространенных оценок как «плоской» и «скудоумной» и по-новому осмыслить ее место в истории философской мысли Нового времени и в утверждении идей Просвещения в Европе и России. В работе дается с некоторыми сокращениями первый перевод основного труда Вольфа «Метафизика» («Разумные мысли о Боге, мире и душе человека, а также о всех вещах вообще»), приводится библиография работ Вольфа (на языке оригинала и в русском переводе), а также отечественных и зарубежных исследований вольфианской философии.
Для преподавателей, студентов и читателей, интересующихся историей русской и западноевропейской философии.
ISBN 5—88812—136—3
© Коллектив авторов, 2001 © РХГИ, 2001
ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
Читатели, интересующиеся идейно-философскими связями русской философии с философской мыслью зарубежных стран, по-видимому, заметили, что в последние годы Институт философии РАН выпустил в свет несколько специальных работ на эту тему. Если вышедший в свет в 1974 г. сборник статей «Гегель и философия в России» долгое время оставался единичной работой в этом роде, то в 90-е гг. истекшего столетия сотрудники института подготовили своеобразную серию работ с единой по сути установкой на углубленный анализ русско-немецких философских связей, оказавших наиболее существенное влияние на развитие философии в России как составной части общеевропейского философского процесса. В серию вошли работы: «Кант и философия в России» (М., 1994), «Философия Шеллинга в России» (СПб., 1998), «Фридрих Ницше и философия в России» (СПб., 1999), «Философия Фихте в России» (СПб., 2000). И вот теперь читатели имеют возможность познакомиться еще с одним трудом из этой серии: «Христиан Вольф и философия в России».
Как и предыдущие работы, данная книга преследует двоякого рода цели: она направлена на исследование как общих или глобальных задач историко-философской науки, так и более частных, конкретных и специфических вопросов истории отечественной философской мысли. В качестве составной части реализуемого в последние годы в Институте философии РАН общего проекта «Россия—Восток—Запад» предлагаемый труд призван всесторонне исследовать и определить место и значение отечественной философии в общем процессе развития мировой философской мысли, а также конкретно и углубленно проанализировать многообразные идейно-философские связи русских мыслителей с философским наследием крупнейших европейских, прежде всего немецких, философов. Особое внимание при этом уделяется изучению сложных и неоднозначных процессов восприятия и усвоения, способов интерпретации, ассимиляции и реализации, а нередко и критического неприятия или отторжения русскими мыслителями идей классиков мировой философии.
Конкретной и непосредственной целью данной работы является исследование важнейшего, однако во многом забытого и еще не достаточно осмысленного и адекватно оцененного этапа в истории отечественной философской и научной мысли, а именно столетнего периода от эпохи реформ Петра Великого до первых десятилетий XIX в. В книге представлены обширные и малоизвестные материалы о деятельности многочисленных учеников и последователей философии Вольфа в России, дается анализ значения и влияния его идей на отечественную философскую, научную и просветительскую мысль, на общий ход и характер социокультурного развития страны в XVIII—начале XIX в.
Другой, впрочем, непосредственно связанной с предыдущей и не менее важной, задачей является устранение существенного пробела в изучении философского наследия самого Христиана Вольфа в отечественной историко-философской науке, причем как до, так и после 1917 г. Мы надеемся, что проделанный в книге детальный анализ философии Вольфа и его учеников позволит читателю сделать вывод об ошибочности и односторонности ее распространенных оценок как «плоской», «скудоумной» и по-новому осмыслить как ее действительное и весьма важное место в истории философской мысли Нового времени, так и ее огромную роль для формирования и утверждения идей Просвещения в различных европейских странах. Думается также, что сравнительный анализ исторических судеб вольфианства в Германии и Западной Европе с историей его возникновения и развития в России позволят читателю существенно расширить и скорректировать свои представления об этом важной периоде отечественной истории.
При решении этих задач прежде всего необходимо было ознакомить читателя с практически неизвестными трудами русских ученых и философов XVIII— начала XIX вв., большинство из которых не переиздавалось с момента их публикации, а иные по сей день хранятся в архивах в виде рукописных тестов. Для подготовки нашего издания такого рода архивно-историографическая работа, связанная с обнаружением и кропотливой обработкой этих многочисленных и малодоступных материалов, имела особенно важное значение, поскольку в данном случае речь во многом идет о восстановлении исторической правды, о воссоздании адекватной, основанной на действительных фактах и документах реальной картины зарождения и развития вольфианства в России. Тщательный анализ и всестороннее осмысление указанных материалов было тем более важной задачей нашей книги, что ее авторы стремились не только устранить существенный пробел в отечественной историографии, но и преодолеть те крайне поверхностные, во многом спорные и ошибочные, предвзятые и даже искаженные представления и оценки весьма важного и принципиального периода в истории России и в истории ее философской мысли, которые в силу разных обстоятельств и причин возникли в позднейшей литературе и вплоть до наших дней имеют довольно широкое хождение.
В представленных исследованиях их авторы пытались поставить и осветить достаточно широкий круг вопросов: какими историческими причинами было вызвано и в силу каких исторических потребностей стало возможным появление русского вольфианства, каковы те хронологические рамки, в которых имело место влияние идей Вольфа на русскую философскую мысль, существовало ли вольфианство в России как достаточно значительное и относительно самостоятельное философское течение, сопоставимое с другими более поздними течениями в русской философии, (таких как, например, русское гегельянство и шел-лингианство, позитивизм и неокантианство, антропологический материализм и марксизм и т. п.), каковой была действительная роль вольфианства в процессе формирования и развития отечественной философии и академической науки, культуры и системы образования в стране, наконец, чем были обусловлены упадок и последующее его схождение с арены общественной и социокультурной жизни в России в начале XIX столетия и т. д.
По поводу всех этих вопросов у историков русской философской мысли нет сколько-нибудь единого, определенного, а главное, основанного на реальных фактах и документах мнения: некоторые из них считают вольфианство одним из значительных и важных философских течений в России XVIII в., которое сыграло заметную и в целом позитивную роль в истории ее общественно-политической и духовной жизни, способствовало становлению и развитию просвещения, науки и образования в стране, ее приобщению к ценностям европейской культуры и цивилизации. Однако большинство других исследователей отнюдь не разделяют такую оценку роли вольфианства в России, видя в нем всего лишь привнесенную извне и искусственно навязанную российскому обществу идеологию или официальную философию, которая сказалась на процессах становления отечественной культуры, философской и научной мысли преимущественно негативно и даже стала тормозом для их самостоятельного развития.
Показательно, что такого рода негативно-пренебрежительные оценки русского вольфианства разделялись многими отечественными исследователями, причем весьма разных поколений и занимавших весьма разные, а порой и принципиально противоположные философские и мировоззренческие позиции: революционной демократии и славянофильства, марксизма и народничества, позитивизма и религиозной философии и т. п. Но особое усердие в этом отношении проявляли и проявляют те, кто рассматривает не только вольфианскую, но и западную философию в целом, как нечто принципиально чуждое для России и российского менталитета, несовместимое со спецификой русского национального мышления и т. п. Согласно таким установкам русское вольфианство понимается как всего лишь наносное, исторически случайное явление, продукт незрелого и скоротечного увлечения немецким рационалистическим идеализмом или принципами и установками западноевропейской философии вообще, а потому быстро отторгнутое и ушедшее в забвение. Не вдаваясь здесь в полемику с такой точкой зрения (ее детальный критический анализ читатель найдет на страницах данной книги), отметим лишь ее существенную ограниченность и односторонность как в методологическом, так и в мировоззренческом отношении. Во всяком случае, многие пробелы и искажения в изучении не только русского вольфианства, но и других течений отечественной и зарубежной философской мысли были предопределены именно такого рода узкими и предвзятыми методологическими установками. Мы уже не говорим об опасности возрождения некоторых тенденций негативного и даже враждебного отношения к европейской философии, к ценностям и нормам западной цивилизации вообще, которые в последние годы нередко приходят на смену догматическому марксизму. В этой связи вопросы, связанные с исследованием темы русского вольфи-анства, выходят за рамки сугубо академической историко-философской науки, но обретают достаточно важное историко-культурное значение и весьма актуальное идеологическое звучание.
Следует, впрочем, отметить, что определенная недооценка наследия Вольфа и его относительно слабая разработанность до недавнего времени были характерны и для западной историографии. Более того, исторические судьбы воль-фианства в России в каком-то смысле повторяли весьма непростую судьбу вольфианства в Германии и Западной Европе, где оно также сыграло неоднозначную роль в развитии философской мысли эпохи Просвещения, что, в свою очередь, было прямым результатом двойственности и непоследовательности философского учения Вольфа, глубокой и внутренней противоречивости его идей. Поэтому в предлагаемой книге мы уделили большое внимание непосредственному анализу и объективному изложению этих идей, дабы читатель смог получить максимально полное и адекватное представление как об их содержании, так и значении для развития европейской философии XVIII в.
С одной стороны, именно Вольф стал одним из родоначальников просветительского движения как в Германии, так и во многих странах Европы: его философия внесла огромный вклад в распространение принципов научного мышления, стала синонимом мировоззрения, направленного на прогрессивные преобразования во всех сферах общественно-политической жизни и культуры, на преодоление отживших феодальных и полуфеодальных социально-экономических отношений, религиозных предрассудков и догм и т. д. Но с другой стороны, попытки Вольфа связать традиционную метафизику с задачами нарождающегося просветительского движения и принципами современной ему науки, приспособить основные философские понятия к нуждам обучения и преподавания и использовать их в качестве инструмента достижения всеобщего блага и пользы для людей и т. п. привели к неожиданным и во многом противоположным результатам. Именно вольфовская система метафизики наглядно выявила общую ограниченность, односторонность и внутреннюю противоречивость рационалистической философии Нового времени, причем произошло это вовсе не потому, что Вольф всего лишь упрощенно систематизировал идеи Лейбница, а как закономерный результат самой его попытки «возжечь свет науки» в философии, т. е. прояснить ее понятия и представить их в форме строго последовательной и доказательной системы метафизики, как универсального синтеза всех знаний, накопленных за всю предшествующую историю философского и научного познания.
В итоге этой попытки многие внутренние недостатки традиционной философии стали более наглядными, а главное, были доведены до их логического предела, прежде всего обнаружился догматический характер ее исходных принципов и методов, их внутренняя противоречивость и непригодность для решения основных вопросов философского познания, что, в свою очередь, неизбежно имплицировало необходимость допущения бытия Бога, акта чудесного творения действительного мира и человеческой души, а также предустановленной гармонии между ними. Разумеется, такого рода догматические и теологические постулаты вольфовской метафизики не могли не вступить в глубокий конфликт с основополагающими принципами научного мышления и классического просветительского мировоззрения XVIII в., что и обусловило процесс постепенного разложения вольфовской школы и ее схождения с арены прогрессирующего развития научной, философской и просветительской мысли.
Вместе с тем методологическая несостоятельность, догматизм и внутренняя противоречивость основных принципов вольфовской метафизики стали мощным стимулом для начала процессов осознания общего и глубокого кризиса традиционного философского мышления и необходимости поиска путей его преодоления. Тем самым метафизика Вольфа сыграла роль одной из важных и исторически необходимых предпосылок для появления новых идей и тенденций в философии второй половины XVIII в., прежде всего критической философии Канта, обозначившей начало новой эпохи в истории философской мысли.
Поскольку работы Вольфа на языке оригинала, а также их немногочисленные и весьма устаревшие русскоязычные переводы XVIII в. давно стали библиографической редкостью, мы сочли целесообразным включить в книгу несколько сокращенный перевод его основного труда «Метафизика» или «Разумные мысли о Боге, мире и душе человека, а также о всех вещах вообще», а также небольшие фрагменты из его поздней работы «Первая философия, или онтология». В конце книги приводится также наиболее полная на сегодняшний день библиография работ Вольфа и ряда его учеников (на языке оригинала и в русском переводе), а также отечественных и зарубежных исследований по воль-фианской философии.
В. Ф. Пустарнаков
В. А. Жучков,
В. А. Жучков
МЕТАФИЗИКА ВОЛЬФА И ЕЕ МЕСТО В ИСТОРИИ ФИЛОСОФИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ
§ 1. ВВЕДЕНИЕ
На долю Христиана Вольфа (1679—1754) в истории философской мысли выпала довольно незавидная участь. В историко-философской литературе сложилась устойчивая и отчасти оправданная оценка его философии как плоской, бессодержательной и скучной, всего лишь поверхностно систематизирующей наследие Лейбница в целях ее популяризации, но упростившей и даже исказившей его гениальные идеи и находки. В наиболее резкой форме такая оценка была сформулирована Гегелем, а затем с теми или иными нюансами ее разделяли многие исследователи в XIX—XX ВВ. [23. С. 364—365, 400; 30. Т. 2. С. 141; Т. 20. С. 350, 535; 37. С. 44; 40. С. 80—81 и др.].
Однако с точки зрения популярности и прижизненной славы, какой Вольф пользовался не только в Германии, но и далеко за ее пределами, с ним не может сравниться ни один из современных ему мыслителей, да, пожалуй, и во всей философии века Просвещения. Достаточно сказать, что Вольф был избран членом крупнейших академий в Европе, в том числе и в России, куда его дважды — в 1716 и 1720 гг. — приглашал Петр I. Его работы были положены в основу философского образования даже тех стран Европы, которые намного опережали Германию по уровню социально-экономического и политического развития. Тот же Гегель отмечал «бессмертные заслуги» Вольфа «в деле рассудочного образования немцев», а его выдающуюся роль в распространении идей Просвещения в Германии и других странах признает большинство исследователей, справедливо считая его одним из родоначальников философского
просвещения [21. Т. 1. С. 411; 23. С. 358; 24. С. 74; 33. С. 243; 37. С. 50— 51]. Мы уже не говорим здесь о весьма важной, хотя и далеко не однозначной
роли, которую сыграла философия Вольфа в России, поскольку этот вопрос подробно и всесторонне рассматривается в других материалах данной книги.
Ниже мы остановимся на причинах, по каким философия Вольфа постепенно утратила популярность и влияние на развитие просветительского движения, а во второй половине XVIII в. стала объектом острой критики со стороны его радикальных представителей. Однако для целей нашего исследования более важным представляется вопрос о том месте, роли и значении, какое вольфовская метафизика имела для истории собственно философской мысли века Просвещения и Нового времени в целом. Этот вопрос и по сей день не может считаться изученным и понятым достаточно глубоко, а главное, адекватно, поскольку на его исследовании длительное время негативно сказывались те односторонние и превратные оценки философии Вольфа, о которых говорилось выше и которые только в последние десятилетия стали предметом пристального внимания зарубежных и отечественных исследователей, все более убеждающихся в необходимости их радикального пересмотра [см.: 26, 26а, 32, 37, 39, 41].
Поверхностной, упрощенной, а во многом и неверной представляется прежде всего оценка Вольфа как всего лишь систематизатора Лейбница: на самом деле в своей философии он стремился к универсальному синтезу всей совокупности знаний, уже накопленных в предшествующей истории философского и научного познания, и пытался представить его в форме строго доказательной, «научной» системы метафизики. Идею о необходимости создания такого рода универсальной науки он заимствовал у Лейбница, однако при ее практической реализации он создал систему метафизики, не только существенно отличную от монадологии своего учителя, но и обозначившую весьма важный и необходимый, в определенном смысле новый (а по мнению некоторых исследователей, даже «высший»), этап в истории классической метафизики и рационалистической философии Нового времени вообще [см.: 32. С. 50].
Об этом парадоксальным образом свидетельствует даже тот факт, что уже в середине XVIII в. его метафизика была подвергнута критике отнюдь не за ее отступления или искажения идей Лейбница, а в качестве вполне самостоятельного философского учения, причем критика эта была далека от тех поверхностных нападок, которым подвергалась его метафизика со стороны радикальных французских и многих отечественных просветителей, выступавших против всякой метафизики вообще. Достаточно сказать, что в числе серьезных критиков Вольфа был не кто иной, как Кант, который свою «Критику чистого разума» создавал в значительной мере в качестве опровержения именно догматической метафизики Вольфа и который считал последнего «величайшим из всех догматических философов», ставя именно его, а не Лейбница в один ряд с Платоном и Аристотелем [27. Т. 3. С. 98—99; Т. 6. С. 181—183 и др.].
При некоторой своей преувеличенности, эта кантовская оценка отнюдь не была случайной или произвольной, а главное она имела характер именно философской критики, поскольку под догматизмом Кант имел в виду односторонность и ошибочность основных логико-методологических принципов вольфианской метафизики, ее исходных онтологических и гносеологических установок и т. п. Но еще более показательно то, что свою критику Кант адресует не только и не столько к Вольфу, сколько ко всей предшествующей метафизике, начиная с античности, усматривая в догматизме ее едва ли не родовой признак и коренной порок.
Для Канта, как и для других многочисленных оппонентов Вольфа, его метафизика была прежде всего ярким и наглядным обнаружением некоторых основных недостатков традиционной метафизики вообще, а потому в их критике речь шла не столько о частных ошибках или просчетах вольфианской философии, сколько об общих и принципиальных пороках метафизики как таковой. Для этих критиков метафизика Вольфа сыграла роль своего рода толчка или повода для уяснения и осмысления внутренних источников и глубинных причин их возникновения, а тем самым и для осознания необходимости осуществления радикальной реформы в метафизике, поиска новых путей решения основных вопросов философского познания вообще.
Более того, в последующем анализе мы попытаемся показать, что как в противоречиях самой вольфовской метафизики, так и в полемике вокруг нее нашла отражение некоторая вполне реальная проблемная ситуация, которая к этому времени сложилась и достаточно определенно обозначилась не только в немецкой, но и в европейской философии. С наибольшей полнотой и глубиной сущность этой ситуации была понята и выражена, конечно, Кантом, критическая философия которого была осмыслением именно этой общей проблемной ситуации, закономерной реакцией на объективный запрос вполне конкретного исторического этапа в развитии философии Нового времени и века Просвещения. В целом этот этап можно, на наш взгляд, охарактеризовать как состояние всеобщего и глубокого теоретико-методологического и мировоззренческого кризиса, в котором вполне закономерно, в силу внутренней логики своего развития оказалась философская мысль в середине XVIII столетия.
Волею судеб Вольфу выпала незавидная участь не только быть историческим свидетелем и современником этой драматической эпохи, но и выступить в качестве наиболее заметного представителя, носителя или выразителя этого кризисного состояния. Внешние просчеты и противоречия вольфовской метафизики, лежащие на поверхности недостатки ее состава и структуры, метода обоснования исходных принципов и понятий и общей логики построения ее системы были не более чем симптомами или внешними проявлениями некоторых внутренних и глубинных пороков и противоречий рационалистической метафизики, да и традиционной философии вообще.
Важно, однако, подчеркнуть и понять, что эта печальная судьба выпала Вольфу вовсе не потому, что он был плоским и поверхностным мыслителем, эпигоном и эклектиком, к каковым скорее можно отнести его многочисленных учеников и последователей (хотя такого рода собрание «бездарей» в рамках одной философской школы представляется исторически малоправдоподобным). Вольф стал своеобразным индикатором общего кризиса метафизики именно потому, что он был предельно последовательным ее сторонником, стремился не только развивать ее традиции, но и совместить их с принципами научного знания и просветительского мировоззрения современной ему эпохи.
Поэтому необходимо четко отличать исторически случайную и индивидуальную участь Вольфа от исторически закономерной, объективной судьбы его философской деятельности, сыгравшей весьма значительную, но во многом непонятую и недооцененную роль в истории философской мысли века Просвещения. Именно эту цель мы и преследуем в последующем анализе конкретного содержания вольфовской метафизики, ставя своей непосредственной задачей уяснение того, что ее догматизм и внутренняя противоречивость, вступившие в конфликт с принципами научного познания и просветительского мировоззрения, возникли, с одной стороны, вопреки его сознательному намерению, а с другой — именно благодаря его замыслу построить научно строгую и просветительски ориентированную систему философии.
В предисловии к первому изданию своего главного философского труда «Разумные мысли о Боге, мире, и душе человека, а также о всех вещах вообще» (1719 г.) (в литературе эту работу обычно обозначают как «Метафизика») Вольф заявляет, что главная цель метафизики — достижение счастья людей — не будет достигнута, пока в ней отсутствуют основательные доказательства, ясные, отчетливые и подтверждаемые в опыте понятия о каждой вещи. Поэтому свою задачу он видит в том, чтобы в «обсуждаемых материях», а именно в понятиях о Боге, мире, душе и всех вещах «возжечь свет науки», т. е. сформулировать о них «разумные мысли», основываясь на «ясных опытах» и «хороших выводах» [см. 1.: С. 3—4].
Такого рода установки, как уже отмечалось, отнюдь не были новы для всей философии Нового времени и в целом воспроизводили аналогичную, хотя и не реализованную идею Декарта и Лейбница относительно создания универсальной системы научного знания или всеобщей науки (scientia generalis), которая была бы построена согласно строгим логико-математическим законам и была бы сведена к простейшим и достоверным аналитическим высказываниям или «истинам разума». Вольф активно поддержал эту идею, о чем с одобрением отзывался Лейбниц в переписке со своим юным коллегой. Уже в ранние годы у Вольфа сложилась безоговорочная вера в логический идеал знания и математический метод в качестве наиболее достоверного метода познания, а также способа решения всех метафизических проблем.
Но кроме того, как уже отмечалось, особенность вольфовской философии заключалась в ее подчеркнуто просветительской направленности и до известной степени демократической ориентации, особенно заметной на фоне довольно элитарного характера философской мысли XVII столетия или так называемого «века гениев». В том же предисловии к «Метафизике» Вольф писал, что достижение ясности, строгости и обоснованности ее понятий не должно быть самоцелью, но быть средством просвещения философского разума и человеческого рассудка вообще. Подводя итоги самого плодотворного периода своего творчества, он писал, что всегда стремился к достоверному познанию того, что служит благу человеческого рода, к применению найденных истин для пользы людей, «укрепления» их рассудка, добродетели и т. д. [4. С. 180]. Мысль о том, что философ должен быть «слугой человечества», встречается буквально во всех трудах Вольфа, а общим девизом своей философии он избрал латинское изречение «Ad usum vitae» (для житейской надобности).
Для достижения этих целей Вольф излагал свои «разумные мысли» на родном языке и внес заметный вклад в развитие немецкой философской терминологии и научного языка. Стремясь к ясным и отчетливым определениям понятий, к их максимально простому, понятному и доступному изложению, он пытался сделать их пригодными для применения в педагогической практике, для использования в процессе образования и воспитания. Аналогичные цели, правда уже в общеевропейском масштабе, он преследовал и при написании более поздних латинских вариантов своих работ.
Эти и многие другие особенности вольфовской философии стали одной из причин ее необычайной популярности, однако широкое распространение его трудов, их влияние и авторитет в немецком обществе, приобретшее даже характер крупного социально-культурного события, стало возможным благодаря ее внутреннему соответствию объективным особенностям своего времени, реальным запросам и потребностям той эпохи, которую обозначают как «век Просвещения». Его философия оказалась необычайно созвучной доминирующим настроениям в обществе, вызвала живой и сочувственный отклик в широких слоях просвещенной публики, а вся его философская, научная и педагогическая деятельность стала важным и заметным этапом в развитии просветительской идеологии и практики как в Германии, так и в других странах.
Даже пресловутый педантизм Вольфа, его попытки «демонстративного доказательства» правил и советов для домашнего обихода и «житейской надобности», которые сегодня выглядят забавным казусом в истории философской мысли, собранием тривиальных определений и банальных поучений, его современниками, по-видимому, воспринимались иначе, имели очевидный просветительский смысл. Провозглашенная им вера в силу мышления, его стремление сделать «разумные мысли» единственным мерилом, критерием и судьей всего сущего и основным средством просвещения, образования и воспитания людей, его неустанные усилия внедрить в сознание рядового немца принципы рационального мышления и призывы к самостоятельному применению разума и т. д. — все это, несомненно, имело важное просветительское и социальное значение.
В своих социально-политических воззрениях Вольф был умеренно-консервативным сторонником просвещенной монархии и усиления центральной власти, что в условиях полуфеодальной и раздробленной Германии имело несомненно прогрессивное значение. Менее однозначны были его позиции в вопросе об отношении философии и религии, знания и веры, тем не менее его весьма осторожные и компромиссные подходы к пониманию этого вопроса также имели определенное позитивное значение для реформы школьного и университетского образования в Германии, где церковь и протестантская религиозность традиционно занимали господствующее положение в сфере идеологии. Вольфу принадлежит немалая заслуга в том, что в немецких учебных заведениях вместо канонических религиозных текстов и схоластической философии все большее место стало занимать изучение математики, естественных наук, новой философии. Исследователи отмечают, что к 1740 г. большинство университетских кафедр возглавили ученики и последователи вольфовской философии, стремившиеся превратить университеты в центры просвещения и нового образования, формирования мышления, свободного от религиозной догматики и подчиненного поиску истины [21. Т. 2. С. 398—399].
Во многом благодаря деятельности Вольфа и его учеников с середины XVIII в. в Германии началось заметное оживление общественно-политической и культурной жизни, бурный всплеск философии и публицистики, естественных и гуманитарных наук, педагогической и эстетической мысли, расцвет литературы и искусства, поэзии и музыки и т. д. Не случайно взошедший на прусский престол «философ на троне» Фридрих Великий в 1740 г. пригласил Вольфа в Галле, где устроил ему торжественную встречу как выдающемуся философу -просветителю. Причем для развития просветительского движения в Германии это событие приобрело знаковый характер, поскольку в Галле Вольф вернулся после своего многолетнего пребывания в Марбурге, где он находился в изгнании после своего конфликта с ортодоксальными пиетистами, выступавшими в роли официальных идеологов.
Не без участия сторонников Вольфа во второй половине века в столице Пруссии Берлине сложился мощный центр просветительского движения, объединивший значительную часть ведущих немецких мыслителей, философов, ученых, писателей и публицистов, образовавших довольно влиятельную, хотя и крайне эклектическую школу так называемой «популярной философии». Мы уже не говорим о том, что к концу века Просвещения именно Германия вышла на лидирующие позиции в области философской мысли, именно здесь сложились направления и школы, надолго определившие основные линии последующего развития европейской философии, в чем немалую, хотя и далеко не однозначную, роль сыграла метафизика Вольфа.
Говоря о Вольфе как теоретике и деятеле Просвещения, мы не ставим своей задачей сколько-нибудь полное освещение этого вопроса. Очевидно лишь, что его философское наследие невозможно понять вне контекста немецкого просветительского движения, как и, наоборот, многие особенности и противоречия последнего трудно понять без того влияния, которое оказала на него деятельность Вольфа, его собственно философские разработки. Но куда важнее то обстоятельство, что именно просветительски-практическое отношение к истине и знанию в большой степени способствовало утверждению и даже догматизации многих односторонних и весьма ограниченных представлений об их природе и сущности, а главное, закреплению иллюзии, будто формально-логические и эмпирические формы и способы экспликации, описания и трансляции знания и есть средства для его достижения.
Отношение к знанию как к учебно-педагогическому пособию, к вспомогательному материалу для обучения, орудию или инструменту для образования, средству просвещения и т. д. — все это предъявляло повышенные требования к форме изложения знания, к его логической точности и эмпирической наглядности, к простым и понятным способам его подачи в виде упорядоченной системы понятий и дисциплин и т. п. Однако такого рода просветительски-педагогические установки вели к тому, что реальный познавательно-деятельный контекст возникновения знания подменялся формами и способами экспликации и трансляции уже ставшего знания и готовых истин, превращенных в учебно-педагогический материал и приспособленных к целям преподавания и обучения. Это оборачивалось не только фетишизацией форм и способов выражения и описания, фиксации и сообщения, хранения и передачи имеющихся знаний, но и их незаметным отождествлением со способами их достижения, т. е. с реальным ходом познавательного освоения действительности, а в конечном итоге и со структурой и сущностью самого действительного мира.
Более того, стремление построить метафизику именно как строго дедуктивную и универсальную систему имплицировало необходимость включения в ее состав всех понятий и представлений научного опыта не в том их виде или форме, в какой они выступали в составе последнего, а в их «ясной и отчетливой», т. е. логически препарированной и весьма упрощенной форме. В его системе все эти понятия предстают в виде неких «простых» логических единиц или понятийных атомов, что позволяло использовать их в качестве своего рода кубиков или строительного материала для их «синтетического» присоединения или включения в цепочку дедуктивных построений метафизики, а затем излагать их в форме необходимых следствий, якобы вытекающих из первых ее оснований согласно закону противоречия.
Однако и в этом отношении Вольф далеко не был новатором, но всего лишь довел до логического предела и даже абсурда те установки и принципы, которые уже имели место в новоевропейской философии и лежали в основе гносеологических установок традиционного рационализма и эмпиризма. Как известно, начало философии Нового времени было связано с отказом от теологического мировоззрения и схоластики и переориентацией философской мысли на теоретическое и эмпирическое естествознание, на достижения науки и ее практическую пользу. Однако, по существу, принципы рационалистической и эмпирической философии, возникшие из апелляции к логико-математическим и экспериментально-эмпирическим методам науки, были следствием всего лишь внешней, сторонней и абстрактно-умозрительной рефлексии по поводу уже полученных результатов познавательной деятельности ученых.
Эти принципы приобретались посредством анализа истинного знания как готового, ставшего продукта познания, путем искусственного различения его формальных и содержательных сторон и уяснения внешних признаков, условий и критериев его истинности: логической непротиворечивости, математической доказанности, возможности эмпирического или экспериментального подтверждения, проверки применения и т. п. Указанные параметры и характеристики научного знания играли для философов Нового времени роль идеала или образца, каким они стремились следовать в своих философских учениях, однако таким образцом для подражания и предметом заимствования для них становились не реальные методы научного познания или способы достижения знания и обретения истины, а всего лишь формы фиксации и экспликации этого истинного знания, его выражения с помощью логических законов и понятий, строгих и точных математических формул, наглядных чувственных представлений, эмпирических пояснений и описаний и т. д.
В такого рода подходе к научному знанию не было особой беды ни для реальной практики научного познания, ни для самой философии. Все приключения последней, ее тупики и противоречия начинались только там и тогда, где и когда все указанные моменты, формы, понятия и представления, заимствованные из анализа имеющегося научного знания, философия начинала применять к решению своих собственных проблем, использовать для обоснования своих исходных метафизических, гносеологических и онтологических принципов. А именно: основным пороком как рационалистической, так и эмпирической философии Нового времени было то, что формы и способы экспликации и трансляции знания она неправомерно экстраполировала на понятия объекта и субъекта вообще и на познавательное отношение между ними.
В силу этого не только рациональные, логико-понятийные и абстрактные формы и структуры этого знания, но также и формы его непосредственной чувственной данности, способы его наглядно-эмпирического представления стали не только гипостазироваться и экстраполироваться на познаваемый объект, но и отождествляться со структурой и сущностью как самого познаваемого объекта или предметного мира, так и познающего субъекта, человеческой души и ее способностей. Вследствие этого и отношение между субъектом и объектом, человеческой душой и физическим миром и т. п. обретало характер некоего изначального параллелизма или гармонии друг с другом, зеркального подобия, соответствия или совпадения идей или понятий, ощущений или представлений с вещами физического, телесного и протяженного мира. При таком подходе проблема познания оказывалась предрешенной либо редуцированной к постулатам физического влияния, психофизического параллелизма, предустановленной гармонии или совпадения атрибутов мышления и протяжения в единой субстанции или Боге.
Собственно говоря, именно эти процедуры, приемы или методы экстраполяции и гипостазирования понятий, подмены и смешения научных представлений и философских категорий, перенесения форм и свойств знания на способы познания у на структуру и сущность познаваемого объекта и познающего субъекта и т. п. и составляли сущность того принципиального недостатка традиционной философии, который Гегель и Энгельс крайне неточно определили как формально-рассудочный или метафизический способ мышления, а Кант обозначил более широким, хотя и тоже не вполне адекватным, понятием «догматизм».
Под этим понятием Кант понимал не только отождествление тех или иных знаний с объектом и субъектом познания как таковыми, существующими вне знания, т. е. «в себе» или самих по себе, но и попытку их понимания и осмысления, объяснения и обоснования с помощью самих же этих знаний, т. е. тех или иных конкретных, ограниченных и относительно истинных понятий и представлений. Эти попытки в конечном итоге и приводили либо к абсолютизации и догматизации такого рода знаний (например, механической картины мира или представления о субъекте как «tabula rasa» или «пучке восприятий»), либо к допущению понятий или сущностей, лежащих за пределами всякого знания, логически недоказуемых и в опыте никак не данных и не подтверждаемых, т. е.
к догматическим постулатам мыслящей или протяженной субстанции, высшего разума, простой и бессмертной души, а в конце концов Бога.
Вольф в силу подчеркнутой просветительской направленности своей философии все эти процедуры или приемы всего лишь воспроизвел, четко, логически последовательно и даже педантично прописал, но тем самым сделал максимально наглядными и очевидными внутреннюю противоречивость и догматизм традиционной философии, по существу, обнаружив принципиальную несостоятельность ее методологических подходов и теоретических принципов, обозначив, таким образом, ситуацию ее глубокого кризиса и поставив на повестку дня вопрос о необходимости его преодоления.
В предисловии к первому изданию «Метафизики» Вольф говорит, что исходит из того, как будто он ничего еще не знает об обсуждаемых вещах, и лишь благодаря размышлениям о них, последовательному и постепенному рассмотрению, без скачков (ибо природа не делает скачков) приобретает отчетливое и основательное знание о важнейших истинах философии, связанных в одну цепь доказательств. Здесь он в сжатой форме высказывает предельно рассудочную, логицистскую программу своей метафизики, крайне одностороннюю не только потому, что она отрицает возможность скачков в природе, а знание о ней пытается выразить с помощью аналитически-доказательной связи непротиворечивых понятий. Ошибочным или, выражаясь гегелевским языком, «метафизичным» было убеждение Вольфа в том, что «последовательное и постепенное рассмотрение» вещей и есть процесс их познания или возникновения «разумных мыслей». Правда, употребленная здесь форма сослагательного наклонения «как будто» (als wenn) содержит намек на тайну его системы метафизики как всего лишь внешнего, логического упорядочивания уже известных истин и имеющихся понятий, взятых вне процесса их познавательного происхождения, изъятых из их предметно-практического генезиса, а потому и отчужденных от действительного, бесконечно многогранного и вечно развивающегося предметного мира.
Но, как бы там ни было, Вольф своей философской системой всемерно содействовал укреплению догматической иллюзии, будто абстрактно-логическая и конкретно-эмпирическая формы и способы существования знания совпадают со способами и формами существования действительного мира и его позна-ния. Это и привело к возникновению того феномена, который впоследствии был назван механистической картиной мира или метафизическим мировоззрением, согласно которым мир предстает в виде некоего конечного, ставшего, неизменного и окаменевшего образования, по существу совпадающего с системой логически упорядоченных метафизических категорий, теоретических понятий и эмпирических представлений или примеров. Поэтому именно вольфовская метафизика является наиболее точным адресатом высказывания Маркса о том, что метафизик «понимает вещи навыворот и видит в действительных отношениях лишь воплощение тех принципов, тех категорий, которые дремали... в недрах безличного разума человечества», а на деле он «лишь систематически перестраивает и располагает, согласно своему абсолютному методу, те мысли, которые имеются в голове у всех людей» [30. Т. 4. С. 133].
Наглядным подтверждением сказанному могут служить весьма любопытные совпадения между отдельными главами работы «Подробное сообщение о собственных сочинениях, изданных на немецком языке» [см.: 4, 1-е изд. в 1726 г.], где Вольф попытался подвести итоги первого и, пожалуй, самого продуктивного периода своего творчества. Показательным здесь является то, что те установки и принципы, на которые указывает Вольф как на методы решения философских проблем или способы достижения и обоснования основных понятий своей метафизики, оказываются идентичными со способами ее учебного изложения (LehrArt) или правилами написания (Schrieb-Art), а также почти буквально совпадающими с теми педагогическими предписаниями или методиками, которые он рекомендует для чтения своих сочинений и для изучения философии или мудрости вообще [см.: 4. Гл. 2—5, 15].
Философ-ученый выступает здесь в роли не столько Исследователя или Учителя, сколько преподавателя, типичного Gelehrter’a, стремящегося лишь к точному определению и последовательному изложению понятий, а читатель — в роли прилежного записывающего ученика, зубрилы или Studiosus a. Впрочем, в «Метафизике» и других работах Вольф прямо говорит, что для него не важно о каких истинах идет речь — найденных самостоятельно или обнаруженных другими и уже всем известных; свою задачу он видит не в открытии новых истин, а в прояснении тех, которые существуют уже давно, однако в смутной и беспорядочной форме и без основательных доказательств [4, § 34; 1. С. 5]. По сути дела, Вольф и его ученики занимались не разработкой самостоятельных метафизических учений, а написанием учебников по метафизике, созданием учебных программ по различным отраслям знания, составленных из ясных, отчетливых и определенным образом выстроенных понятий согласно их месту в иерархии метафизических и конкретных дисциплин.
Вольф в данном случае выступал как последовательный и убежденный просветитель, причем особенностью его деятельности было то, что решение задачи просвещения людей или человеческого рассудка он ставил в зависимость от просвещения или прояснения самой философии, от необходимости построения системы метафизики как школьного предмета или учебной дисциплины. И если при решении первой задачи он впадал в несколько наивную просветительскую иллюзию относительно возможности исправления и улучшения человека и общества посредством одного лишь умственного образования и нравственного воспитания, то относительно возможности решения задачи «просвещения метафизики» и ее превращения в строго доказательную и аподиктическую науку, и учебную дисциплину его иллюзии имели характер, который впоследствии Кант определит как состояние метафизической грезы или догматического сна.
Однако парадоксальная заслуга Вольфа состояла в том, что, поставив задачу построить универсальную систему метафизики, «возжечь» в ней свет науки и поставить на службу человечеству, он пришел к прямо противоположному результату. Ему не удалось «синтезировать», найти единство не только между содержательно-противоположными категориями своей философии (возможное и действительное, логически мыслимое и эмпирически данное, психическое и физическое, необходимое и случайное и т. п.), но и между ее методологическими принципами (закон противоречия и достаточного основания). Его заявления относительно ясности и отчетливости в понятиях и принципах, обоснованности и строгой доказательности связи между ними, его претензии на создание целостной и универсальной системы философского знания, построенной на основании единого и точного метода, во многом оказались не более чем декларацией о намерениях, выполненной крайне искусственным и внешним образом, с многочисленными огрехами и нестыковками как логического, так и содержательного порядка.
Более того, с присущей ему педантичной последовательностью и основательностью Вольф невольно и даже вопреки своему исходному замыслу прописал и обнаружил факт принципиальной невозможности создания такого рода рационалистической системы метафизики, удивительной несовместимости принципа ее формально-логического единства, непротиворечивости и строгой обоснованности всех ее понятий и ее притязаний на универсально-синтетическое объяснение и познание всего сущего. На самом деле решение этой задачи оказалось иллюзорным, поскольку достигалось только за счет догматически принятых постулатов о бытии Бога как высшего разума, творца действительного мира и «автора» предустановленной гармонии между миром и человеческой душой, т. е. на сверх- или вне-разумных основаниях, т. е. не только противоречащих принципам рационального мышления, данным науки и опыта, но по существу имеющих теологический характер, в силу чего под вопросом оказалась не только ее теоретическая и познавательная значимость, но и практическая, просветительская, образовательно-воспитательная функция.
К анализу этой фундаментальной противоречивости философии Вольфа мы вернемся в последующем изложении, однако именно эта противоречивость и позволила ему, вопреки своему замыслу и сознательному намерению, зафиксировать в качестве предмета, проблемного поля некоторую фундаментальную ситуацию, не разрешимую в рамках всей традиционной метафизики и философии вообще. Этим он и обозначил русло исследовательских поисков, в которых двигалась последующая философская мысль, причем не только в Германии и не только в форме борьбы между сторонниками и противниками вольфианской метафизики, но и в других европейских странах и в составе иных философских традиций и направлений.
§ 2. ОБЩАЯ СТРУКТУРА ВОЛЬФОВСКОЙ ФИЛОСОФИИ
Согласно собственным указаниям Вольфа, знакомство с его философией целесообразно начинать с рассмотрения ее общей схемы, поскольку, как уже отмечалось, именно систематику, последовательность и порядок расположения всех частей и понятий он ставил во главу угла своей философии. Он постоянно подчеркивает, что его работы «нужно читать целиком, если их хотят понять», так как в них все упорядочено, каждое последующее связано с предшествующим, одно существует ради другого и связано друг с другом, аналогично частям человеческого тела [4, § 49, 78, 223; 1, § 368—370].
Общая структура философии Вольфа связана с традиционным, идущим от Аристотеля различением способности познания и желания, чему соответствует ее деление на теоретическую часть (учение об истине) и практическую (учение о благе и пользе). В каждой из этих частей, в свою очередь, различается высшая или рациональная часть, куда входят дисциплины, основанные на разуме и априорных понятиях, и низшая или эмпирическая часть, куда входят науки основанные на опыте и апостериорных понятиях и имеющие прикладное или экспериментальное значение. В состав теоретической части философии как рациональной или чисто понятийной науки (reine Begriffswissenschaft) о всех возможных вещах или о том, как и почему они возможны [4, § 3, 5], Вольф включает прежде всего метафизику или «главную науку» (Haupt-Wissenschaft). Последняя, в свою очередь, делится на первую философию (philosophia prima, metaphysica generalis) или онтологию, науку об основаниях или основную науку (GrundWissenschaft), а также на более частные или специальные части метафизики (metaphysica specialis): рациональную космологию или учение о мире вообще, рациональную и эмпирическую психологию или пневматику (науку о душе человека и духе вообще) и естественную или рациональную теологию (учение о Боге, его бытии и свойствах).
Включение Вольфом в состав метафизики, т. е. рациональной науки, эмпирической психологии породило серьезные дискуссии и разногласия среди его сторонников, которые в последующей эволюции вольфианства привели к возникновению двух противоположных тенденций, в одной из которых усиливались элементы эмпирико-психологического субъективизма, а в другой — рационально-онтологического объективизма. Как мы увидим далее, противоборство этих тенденций имело место и у самого Вольфа, особенно в позднем периоде его творчества, когда он в латинской «Онтологии» отказался от доказательства тезиса о «нашем существовании», которому была посвящена первая глава его немецкой «Метафизики».
Правда, само различение рациональной и эмпирической психологии проводилось Вольфом достаточно условно и не очень корректно, тем не менее включение последней в состав чисто рациональных, метафизических дисциплин не было случайностью, поскольку, как мы увидим далее, именно в эмпирической психологии и в очевидном внутреннем опыте души он только и мог найти необходимые условия и предпосылки для обоснования первых принципов метафизики вообще, в том числе и онтологии.
Впрочем, как уже отмечалось, отсутствие строгости и определенности в различении и субординации теоретических и эмпирических частей и понятий было характерной чертой философии Вольфа в целом. Например, физику как эмпирическую или прикладную часть рациональной космологии он, в отличие от эмпирической психологии, не включает в состав метафизики, однако внутри самой рациональной космологии он обсуждает целый ряд понятий явно эмпирического или конкретно-научного характера, не говоря уже о многочисленных примерах и иллюстрациях, заимствованных из опыта или почерпнутых из собственных трудов или работ других авторов по различным отраслям естественнонаучного знания. По сути дела, с помощью этих примеров Вольф не только пытается найти эмпирическое подтверждение истинности или познавательной значимости своих «чистых» и «априорных» понятий о мире, но порой и единственное достаточное основание для логически необходимого, дедуктивного построения своей рациональной космологии, да и философии в целом как науки о всего лишь возможном.
Показательно в этой связи и то, что в состав физики или эмпирического учения о связи тел в природе Вольф включает не только механику, объясняющую различные виды материальных пространственно-временных тел, свойства и формы их механического движения, с помощью действующих или порождающих причин, но и телеологию, рассматривающую мир с точки зрения конечных или целевых причин. Механическому или причинному объяснению природы посвящены «Разумные мысли о действиях природы» [см. 6], а также целый ряд работ по астрономии, географии, геологии, минералогии, оптике и т. д. и по экспериментально-прикладным наукам (строительное и военное искусство, фортификация, диоптрика, прикладная математика, медицина и т. п.) (Versuche, dadurch zu genauer Erkenntnis der Natur und Kunst der Weg gebahnet wird. T. I—III. 1721—1722). Телеологическое объяснение природы дается в «Разумных мыслях о целях природных вещей» [см. 7], а также в работе, посвященной объяснению живой или органической природы, вопросам физиологии людей, животных и растений (Vernünfftige Gedanken von dem Gebrauche der Theile in Menschen, Thieren und Pflanzen. Physiologie, 1725). Включая эту работу в состав физических наук, Вольф пытался показать недостаточность принципа механического объяснения мира и необходимость использования принципа целей и целесообразности для понимания специфики органической природы. Эта идея, заостренно прозвучавшая уже у Лейбница, получила свое дальнейшее развитие в «Критике способности суждения» Канта.
Однако в попытке Вольфа дополнить механическое объяснение мира его пониманием с точки зрения конечных причин или целей Бога, а также вытекающей отсюда пользы и блага для человека, имело место не только сближение механического и телеологического подходов, но и характерное для всей его философии неправомерное совмещение научного мышления и просветительского мировоззрения с теологией. Он явно смешивает просветительское отношение к научному знанию как средству достижения пользы и блага для людей с теологической трактовкой знания как всего лишь средства постижения Бога, обнаружения в мире его совершенства и мудрых целей, высшей из которых оказывается не земное благо, а «знание» божественной благодати [1, § 1028; 4, § 10]. В результате такого «синтеза» науки и теологии Вольф оказался в весьма двусмысленном положении: со стороны ортодоксальных теологов он был обвинен в атеизме и фатализме, его учение было объявлено противным учению церкви и Святого Писания, а сам он был изгнан из Галле. Включение же в состав физики учения о целевых причинах привело к неизбежному конфликту его метафизики с принципами науки и просвещения, представители которых справедливо обвинили ее в плоском телеологизме.
В практической философии, основанной на анализе способности желания и воли и посвященной учению о благе и пользе, Вольф также различает чистую или рациональную и эмпирическую или прикладную части. К первой он относит естественное право как науку о всеобщих основаниях морали, политики и права, которая в качестве отдельных дисциплин включает в себя этику или философию морали (рассматривающую правила морали, как принципы свободного применения человеком законов природы для достижения добродетели и счастья) [см. 8], политику и право (посвященные анализу общественной жизни людей, а также учению о государстве, праве и законах гражданского общества) [см. 9] и экономику (где рассматриваются хозяйственные связи и отношения между людьми). В эмпирической части практической философии рассматриваются конкретные правила и формы деятельности и поведения людей в различных сферах его индивидуальной и общественной жизни — семейной, хозяйственно-экономической, социально-политической и т. д.
Мы не будем здесь специально останавливаться на практической части вольфовской философии, а также на эмпирических или прикладных дисциплинах его философии, которым он посвятил огромное число работ. В содержательном плане они носят преимущественно заимствованный или вторичный характер и представляют исключительно исторический интерес, а главное, мало что добавляют к основным принципам и установкам, выработанным Вольфом в метафизике, анализом которой мы в основном и ограничим рамки нашего исследования. Следует, впрочем, отметить, что именно эти работы, посвященные конкретным дисциплинам, хотя и не отличались оригинальностью и новизной, однако пользовалась наибольшей популярностью и сыграли весьма важную роль в распространении идей просвещения и научного образования не только в Германии, но и далеко за ее пределами, в том числе и в России, о чем читатель сможет получить достаточно полное представление из других материалов данной книги.
Особое место в составе вольфовской систематики занимает логика: он предпосылает ее метафизике в качестве необходимой пропедевтики, в ней, а также в математике он усматривает образец научности и надежного применения рассудка, ищет достоверные методы и принципы философского познания и построения системы метафизики [4, § 25]. Правда, что касается математики, то хотя Вольф и посвятил ей целый ряд специальных работ, тем не менее в самой «Метафизике» его апелляции к математическому методу и геометрическим доказательствам оставались преимущественно словесными и, в отличие от логики, практически никак не проявлялись даже во внешней форме ее построения.
Логика же действительно пронизывает все части и разделы его метафизики, исполняя функцию ее конституирующего и системообразующего фактора и во многом играет роль ее общетеоретического и методологического фундамента. Не случайно именно трудами по логике начинались циклы работ как немецкого, так и латинского периодов его творчества, причем в этих работах Вольф не ограничивался рассмотрением лишь традиционных логических вопросов, но стремился выработать в них своеобразную программу своей будущей метафизики и философской системы в целом [см. 5 и 5а]. Поэтому в последующем изложении нам так или иначе придется обращаться к проблемам логики и к тем многообразным теоретико-методологическим функциям, которые выполняют ее принципы и законы в различных частях «Метафизики» и в разных узловых моментах ее систематического построения.
Вместе с тем и в составе логики как самостоятельной дисциплины или науки о принципах и законах человеческого мышления Вольф также различает теоретическую и прикладную части: первая исследует общие логические формы мышления — понятия, суждения и умозаключения, вторая рассматривает эти формы в качестве способов или инструментов познания, связанных с данными чувств и опыта либо направленных на открытие истины или ее «изобретение» (ars inveniendi). Следует отметить, что многие понятия и вопросы, входящие в компетенцию формальной логики, Вольф не только рассматривает в составе онтологии, рациональной и эмпирической психологии и т. д., но и включает в логику многие конкретные и содержательные понятия — эмпирические представления, метафизические, онтологические и даже теологические принципы, далеко выходящие за пределы собственно логической проблематики. В то же время при обсуждении как самых общих вопросов метафизики, так и вполне конкретных вопросов и понятий частных или специальных дисциплин Вольф постоянно, зачастую назойливо и явно избыточно апеллирует к логическим правилам и понятиям, не говоря уже о том, что он дает спекулятивно-метафизическое истолкование логическим законам противоречия и логического основания, наделяя их онтологическим статусом первых оснований познания и бытия.
Необходимо, однако, учитывать то обстоятельство, что одной из причин такого рода смешения и неправомерной подмены эмпирических и логических понятий и принципов в значительной степени было натуралистическое и психологическое понимание самой логики, ее сращенность с обыденным или естественным языком, что было характерно для всей докантовской философии Нового времени. Напомним в этой связи, что понимание логики как общей науки о формах и правилах мышления, не имеющих отношения к его содержанию и служащих всего лишь необходимым, но недостаточным условием для его познавательного применения, впервые удалось осознать и четко выразить только Канту [см.: 27.
Т. 3. С. 82—83,111—113,154—161, 229—231 и др.].
Как мы увидим далее, именно непонимание формального характера логики, позволяло Вольфу включать в состав ее законов и принципов содержательные моменты, а главное, наделять их метафизическим или эмпирическим значением и применять их в качестве первых метафизических или онтологических принципов бытия и познания, отождествлять логические связи и отношения понятий с эмпирическими и реальными связями и отношениями вещей и т. п. Все это и было причиной возникновения многих догматических постулатов и внутренних противоречий в составе вольфовской метафизики, порождало иллюзорные и просто ошибочные трактовки соотношения возможного и действительного, рационально мыслимого и чувственно данного, необходимого и случайного, психического и физического, простого и составного и т. п.
Оценивая вольфовскую систематизацию наук в целом, нужно сказать, что, вопреки его заверениям относительно ее строгой упорядоченности, доказательности и полноте, его система оказалась довольно случайной и произвольной, путанной и сумбурной, а границы между ее отдельными частями — весьма зыбкими и расплывчатыми. Как нам станет ясно далее, эти внешние просчеты и недостатки вольфовской систематики, по существу, были лишь отражением методологической непоследовательности и общего эклектического характера его философии, в которой рациональные и эмпирические понятия и принципы сочетаются лишь внешним, искусственным и случайным образом, постоянно пересекаясь и даже смешиваясь друг с другом, но отнюдь не образуя искомого единства формальной строгости и обоснованности системы и ее содержательной полноты.
Вольфу не удалось осознать принципиальную неразрешимость поставленной задачи, как и действительные причины, по каким его попытки построения логически строгой и эмпирически универсальной системы метафизического знания оборачивались усилением в ней элементов догматизма и эклектики, а также все более очевидных противоречий с принципами научного знания и просветительского мировоззрения. Однако, как уже говорилось, сама неудача этих попыток имела важное эвристическое значение для дальнейшего развития философской мысли, для переосмысления основных теоретических установок и методологических принципов философского познания вообще. Необходимость такого переосмысления касалась прежде всего важнейшей части вольфовской метафизики, а именно учения о первых основаниях познания и всех вещей вообще или онтологии.
§ 3. ПЕРВЫЕ ОСНОВАНИЯ МЕТАФИЗИКИ. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
«Основной наукой» в системе вольфовской метафизики, а по сути ее истоком, ядром и «тайной» является онтология, или первая философия, хотя оба эти понятия Вольф начинает использовать лишь в поздних работах, да и то под влиянием своих учеников и комментаторов Тюммига и Бильфингера [см.: 4, § 68]. Вольф определяет онтологию как «всеобщее рассмотрение вещей», как «основную науку» или «науку об основаниях», т. е. о том, что присуще или лежит в основе «сущего как такового» или «вообще», определения которого могут быть применены ко всем вещам вообще, т. е. к миру, душе и даже к Богу [3, § 1;
4, § 4; 5, § 14].
В этих определениях предмета онтологии как сущего Вольф следует аристотелевскому определению первой философии как науки о «сущем как сущем», как общего знания «самостоятельно существующего» или о его первых началах и причинах [18. T. 1. С. 67—69, 119, 181—182, 276]. Обращаясь к указанным понятиям, Вольф пытался реализовать идею Лейбница о необходимости «синтеза» старой метафизики и новой науки, античной и современной философии [см.: 28. T. 1. С. 92—93; Т. 2. С. 71—72 и др.], а тем самым найти новые пути обнаружения и способы обоснования первых принципов или начал метафизики, которые, по его мнению, до сих пор существуют в смутной и беспорядочной форме. Поэтому свою основную задачу (и заслугу) Вольф видел прежде всего в достижении логической ясности и отчетливости основных понятий метафизики, их обоснованности и доказательности достоверности и т. п.у и именно этим объясняется то подчеркнутое логико-методологическое значение и теоретико-познавательная функция, которыми он наделяет свое учение о первых принципах метафизики.
Как в ранних, так и в поздних работах он постоянно повторяет, что рассматривает онтологию не как учение о вещах (Dinge-Lehre), а именно как «науку об основаниях», поскольку в ней разъясняются всеобщие основания или первые понятия, которыми мы пользуемся во всех науках и которые служат источником высшей достоверности всякого познания [4 § 17, 193; 3, § 1—3]. Именно в онтологии даются принципы различения предметных областей всех других метафизических дисциплин — космологии, психологии и теологии, а также их необходимой систематической связи, т. е. основные условия и предпосылки превращения метафизики в строгую и доказательную науку, а именно — в единую и универсальную систему человеческого знания, построенную согласно демонстративному методу и опирающуюся на несомненный опыт [1, § 8—10; 2, § 3, 4, 25; 3, § 2—6, 9, 24, 70]. Собственно говоря, само словосочетание «разумные мысли
о...», каковое входит в заглавие «Метафизики» и большинства других работ Вольфа раннего или немецкоязычного периода, и есть указание на такого рода — научный — характер его философии, что было для него синонимом логической ясности и отчетливости, точности и обоснованности всех ее понятий, т. е. правильности самой формы их мыслимости в соответствии с законами и принципами логики.
Тем не менее, наряду с этими установками и вопреки им, в его определениях основных понятий онтологии, их предмета и функций бросается в глаза очевидная двойственность и даже противоречивость, что обнаруживается даже в заголовке «Метафизики» и особенно ее второй главы, где Вольф рассматривает ее исходные принципы: «О первых основаниях нашего познания и всех вещах вообще» (курсив наш. — В. Ж.). Тем самым он указывает как бы на двоякое содержание или двоякий предмет первых оснований своей метафизики: они одновременно выступают принципами как познания, так и «вещей вообще» (Dinge überhaupt), т. е. бытия как такового или сущего самого по себе или вообще (обозначаемого терминами: Sein, etwas, ens per se, entis in genere и t. n.).
Иначе говоря, предпосылая логику метафизике, а логическую форму или «разумность» мыслей всякому их содержанию и любым предметам или «вещам», Вольф сохраняет за понятием «вещей вообще» некоторую автономию, самостоятельность или независимость от «разумных мыслей» о них, от «первых оснований» их «познания». Еще более удивительно, что в поздних работах в качестве «основной науки» метафизики оказывается онтология, где в роли первых принципов метафизики выступают не основания познания вещей или формы и законы их логической мыслимости, а понятия сущего вообще, бытия как такового или «вещей вообще». Другими словами, здесь речь идет уже не об автономии понятия вещей от принципов их познания, а, напротив, о зависимости познания от сущего, «разумных мыслей о всех вещах вообще» от самих этих вещей, т. е. от бытия «Бога, мира и человеческой души».
В силу этого вполне может сложиться впечатление, что в искомом «синтезе» новой науки и «древней философии» Вольф в конечном итоге склоняется к последней, а взамен своей изначальной логико-методологической установки на прояснение философских понятий и построение доказательной системы метафизики отдает предпочтение если не средневековой схоластической онтологии, то тем традиционным онтологическим подходам, в которых отсутствовало сколько-нибудь четкое различение категорий познания и бытия или имело место синкретическое смешение мысли о сущем и сущего как такового. Во всяком случае, из многочисленных вольфовских определений первых принципов метафизики трудно понять, о каких же принципах идет речь — познания или бытия — и чем, собственно говоря, является онтология— «основной наукой» о бытии и сущем или о первых основаниях познания?
Однако именно у Вольфа как типичного представителя новой философии, и особенно позднего этапа ее рационалистической ветви, указанные категории (прежде всего категория сущего, бытия или существования) заметно утратили присущую им многозначность и расплывчатость и если не стали более ясными и отчетливыми, то более наглядными стали трудности их однозначного и адекватного определения. Более того, в процессе последовательного рассмотрения в составе метафизической системы соотношение этих категорий все больше обретало характер очевидной дилеммы и форму явно выраженной логико-методологической и гносеологической проблемы. Иначе говоря, в рационалистической метафизике Вольфа эти категории начали выступать именно как противоположные по своему содержанию понятия, а потому и вопрос об их соотношении, о возможности их связи и единства, а также о том, какое именно из них является «первым основанием» другого, приобрел значение принципиальной проблемы или того, что впоследствии получит определение основного вопроса философии.
Напомним в этой связи, что в предисловии к «Метафизике» Вольф дает довольно точную классификацию традиционных философских направлений или школ, причем в ее основу кладет как раз способ решения вопроса о соотношении категорий мышления и бытия. Но что особенно важно, в отличие от других рационалистов Нового времени, в том числе Декарта и Лейбница, в вольфов-ской философии эта проблема обнаружила некоторую странную природу и сущность, а именно способность воспроизводиться и вновь обнаруживать свою внутреннюю противоречивость, вопреки всем попыткам ее решения и преодоления, которые Вольф столь же постоянно, сколь и тщетно предпринимает на протяжении всего хода построения своей метафизической системы.
Собственно говоря, именно эти настойчивые попытки решить указанную проблему, причем попытки, предпринимаемые не спорадически и случайно, а вполне осознанно и весьма последовательно, и были тем новым, оригинальным и эвристически значимым словом Вольфа в истории философии, которое не позволяет видеть в нем всего лишь поверхностного эклектика и систематизатора Лейбница. Ниже мы остановимся на конкретном содержании этих попыток, но пока отметим, что именно в них Вольфу удалось если не понять и адекватно сформулировать, то как-то обозначить вполне реальное и инвариантное содержание некоторой исходной и основной проблемы философского познания, во всяком случае, поставить ее в форме вопроса о соотношении таких категорий его метафизики, как возможное и действительное, сущность и существование, мыслимое и эмпирически данное, психическое и физическое, рациональное и чувственное и т. д. и т. п. Напомним в этой связи, что определяя сущность и основной порок всей традиционной метафизики понятием «догматизм», Кант понимал под ним попытку создания онтологии «без предварительной критики способности самого чистого разума». Иными словами, до или прежде учения о бытии и его первых основаниях необходимо уяснить вопрос о возможности понятия о бытии или, говоря словами Канта, «осведомиться о правах разума» на свои принципы чистого познания из философских понятий и о «способе, каким он дошел до них» [27. Т. 3. С. 99].
Показательно, однако, что свои «Разумные мысли» Вольф начинает не с онтологии и даже не с учения о первых основаниях нашего познания всех вещей вообще, а с доказательства нашего существования или с вопроса: «Как мы познаем, что мы существуем, и чем это знание для нас полезно». Именно так сформулирован заголовок первой главы вольфовской «Метафизики», к анализу которой мы и переходим.
§ 4. ДОКАЗАТЕЛЬСТВО «НАШЕГО СУЩЕСТВОВАНИЯ»
В этой главе Вольф пытается логически обосновать, геометрически или демонстративно доказать картезианский тезис «cogito, ergo sum», а точнее, представить его в форме развернутого силлогизма:
«Кто сознает себя и другие вещи, тот существует;
Мы сознаем себя и другие вещи;
Следовательно, мы есть (существуем) (Also sind wir)» [1, § 6].
Посредством этого доказательства Вольф пытается решить или наметить решение целого комплекса как содержательных, так и методологических задач своей «Метафизики». И первой среди этих задач следует выделить его стремление посредством самой силлогической формы рассуждения подчеркнуть, что в основе положения: «я существую» или «мы есть» лежит именно логическое доказательство, что оно основано на законах логики и принципах рационального мышления. Иначе говоря, критерием истинности этого положения должна служить непротиворечивость и подтверждаемая данными опыта демонстративная доказательность логической дедукции, а потому Вольф и пытается придать этому тезису форму необходимого вывода из посылок силлогизма.
Легко заметить, что такая постановка вопроса принципиально отличается от его трактовки не только у Декарта, но и у Лейбница. Согласно первому, положение: «я мыслю, следовательно, существую» признается истинным вследствие «духовного постижения», «простого умозрения», т. е. в качестве «само собой разумеющегося», но вовсе не выводится из «предварительного силлогизма». Равным образом и тезис: «Все то, что мыслит, есть или существует», согласно Декарту, является не понятием, образующим содержание большей посылки силлогизма, а непосредственной данностью «собственного опыта», свидетельствующего о том, что без существования мыслящей вещи нельзя мыслить [25. Т. 2. С. 28, 113, 137, 448]. Таким образом, «я мыслю» является хотя и «первичным и достовернейшим», «очевидным и несомненным», «сопряженным с мыслью» положением, но тем не менее оказывается не понятием, обладающим признаками логической ясности и отчетливости, а представлением или «взором ума», «духовным постижением» или «озарением разума», т. е. результатом интеллектуального созерцания или интуиции, в которой мышление совпадает с восприятием, а мысли — с действиями воли, воображения или чувств [25. T. 1. С. 86,
102—111, 269, 316—317; Т. 2. С. 28, 32, 49,117,127,150—151, 352].
Иначе говоря, картезианское cogito вовсе не является собственно логическим высказыванием или формой логического мышления, но неким духовным актом или действием «я», которое не является субъектом всего лишь рассудочного мышления, а непосредственная очевидность сознания которого отнюдь не совпадает с логическим тождеством самосознания. Понятие «я» у Декарта — это хотя и «мыслящая вещь», однако способами или модусами ее мышления оказываются не только и не столько логические суждения или понятия, сколько чувства и желания, а средством преодоления сомнения в собственном существовании служат не логические критерии различения истины и лжи, а самоочевидность интеллектуального созерцания, «естественный свет» разума, источником которого оказывается Бог. В конечном итоге только Бог как бесконечная, высшая, всемогущая, а главное разумная и творящая субстанция, оказывается у Декарта первичным источником реального существования нас самих и вещей вне нас и единственным основанием доказательства этого существования [см.:
25. Т. 2. С. 29—43].
Лейбниц также относил положение: «я мыслю» к первоначальным и достоверным, даже вечным и абсолютным истинам, однако относительно того — является ли оно истиной разума, основанной на непосредственности идей и мыслимой согласно принципу тождества, или истиной факта, основанной на непосредственности чувств и восприятий, — его позиция оставалась не вполне определенной. Он исходил из различения, с одной стороны, существования «самого по себе» или в «порядке природы», которое является первичным по отношению к наличествующим вещам и обладает характером логически возможных и необходимых истин, а с другой — существования «в порядке нашего познания», которое основывается на «признании того факта, что мы мыслим и обладаем чувствами». Последнее он относил к ясным и отчетливым, очевидным и достоверным первоначальным данным непосредственного внутреннего чувства и опыта, т. е. к истинам «для нас» или истинам факта, «утверждающим о реальном существовании вещей», включая, однако, в состав таких истин и понятие: «я
мыслю» [28. T. 1. С. 152; Т. 2. С. 374; Т. 3. С. 103—104,110,124,175, 268].
Вместе с тем Лейбниц подчеркивает, что внутренний опыт и чувство показывают нам лишь то, что есть и что обыкновенно бывает в отдельных случаях, но не то, что так должно быть или что не может быть иначе, т. е. не дают необходимых и аподиктически достоверных знаний [28. Т. 3. С. 376—377].
Поэтому в качестве истины факта положение: «я мыслю» не может дать достоверного познания тождества нашей личности или постоянства существования мыслящего «я», а потому оно должно составлять «предмет одного лишь ума» и относиться к числу априорных и умопостигаемых истин, познаваемых естественным светом разума и обеспечивающих их необходимую логическую достоверность [28. Т. 3. С. 373—376]. Однако при всех таких своих преимуществах истины разума (к каковым относится и положение: «я мыслю») остаются всего лишь тождественными или аналитическими высказываниями, предикаты которых лишь повторяют содержание субъекта (А есть А) и не сообщают ничего нового [28. Т. 2. С. 369]. Стало быть, положение: «я мыслю, следовательно, я существую» не может быть доказательством существования при помощи мышления, «так как мыслить и быть мыслящим, — считает Лейбниц, — это одно и то же; а сказать: “я есть мыслящий” — все равно что сказать: “я есть, я существую”» [28. Т. 2. С. 419—420].
Возможно, для избежания такой трактовки этого тезиса как необходимой, но аналитически тождественной истины разума Лейбниц считает, что этот тезис следует дополнить тезисом: «я мыслю разнообразное» или «я имею различные мысли». Ведь для того, чтобы мыслить — необходимы чувства, ибо только они доставляют материал для размышления, а отсюда следует, что «я существую» не только в качестве мыслящего себя, но и в качестве испытывающего на себе разнообразные воздействия, т. е. наше существование дается наряду или вместе с существованием «нечто, отличного от нас». Таким образом, существование мыслящего «я» оказывается не только истиной разума, но и данностью опыта или истиной факта [28. Т. 2. С. 374; Т. 3. С. 112,175, 268—272, 378].
Впрочем, подчеркивает Лейбниц, от мыслимого мною многообразия и признания нашей способности испытывать воздействия извне вовсе не следует доказательства вещей вне нас, т. е. нельзя заключать к реальному существованию тел и материи, поскольку ничто не мешает тому, чтобы нашему уму представлялись «хорошо упорядоченные сновидения». Следовательно, такого рода эмпирическое подтверждение нашего существования вовсе не является гарантом нашего реального существования, т. е. необходимой связи между «я» и существованием. Эту связь может видеть только Бог, а потому только он и может знать, почему я существую, и только он является «последним основанием вещей» или причиной существующего вообще [28. T. 1. С. 283; т. 2. С. 298, 420; Т. 3. С. 379].
Таким образом, как Декарт, так и Лейбниц для решения проблемы существования нашего «я» и вещей вне нас апеллируют к понятию Бога, а к логическим доказательствам и данным опыта прибегают скорее лишь для того, чтобы показать их сомнительность или недостаточность для его обоснования. Вслед за Декартом и Лейбницем Вольф считает положение: «я мыслю» несомненным опытом [1, § 7] и также включает в него помимо сознания самого себя сознание «других вещей», однако, в отличие от своих великих предшественников, он пытается этот тезис обосновать посредством демонстративного или геометрического доказательства и представить в качестве вывода из посылок силлогизма. Только таким образом, считает он, тезис «мы есть» может обрести статус достоверной и необходимой истины разума, которая позволяет не только знать нечто возможное и происходящее (т. е. то, «что есть»), но и указывает основания, почему это возможно и происходит на самом деле (т. е. почему «так должно быть» и «не может быть иначе») [1, § 2—3, 8; ср.: 28. Т. 3, 376].
Более того, пользу своего доказательства Вольф усматривает в том, что оно дает возможность столь же безболезненно доказывать достоверность и всех других важных истин, достичь достоверного познания Бога, души, мира и всех вещей вообще, включая знание и о том, что все они (в том числе и Бог) — существуют [1, § 4]. И хотя, как мы увидим далее, такого рода претензии оказались беспочвенными, тем не менее нельзя не обратить внимания и на то, что Вольф строит свою аргументацию совершенно иначе, нежели Декарт и Лейбниц. А именно: в своем доказательстве «нашего существования», как и в дальнейшем построении своей системы, он пытается опираться прежде всего на законы логики и данные опыта, а не на изначально принятый постулат о бытии Бога, к доказательству которого он обращается лишь в заключительной главе «Метафизики», которой он завершает построение ее системы.
Анализ вольфовского доказательства целесообразно начать с более «простой» нижней посылки: «Мы сознаем себя и другие вещи» [1, § 7], в которой нет утверждения о существовании и содержание которой Вольф склонен считать некоторой несомненной истиной нашего внутреннего опыта. Правда, в качестве фактической истины данное положение не обладает никакой логической необходимостью, т. е. при ее отрицании противоречия не возникает, а следовательно, логически возможным оказывается противоположное утверждение, а именно — «мы не сознаем себя и другие вещи». Поэтому Вольф прибегает и к другой формулировке нижней посылки: «Мы знаем непротиворечиво (erfahren unwidersprechlich), что мы сознаем себя и другие вещи» [1, § 5], тем самым пытаясь придать ей характер необходимой истины разума. Ведь только в таком случае в этом положении по закону противоречия была бы исключена возможность противоположного положения: «мы не сознаем себя», а следовательно, и возможность вывода: «мы не существуем».
Однако непротиворечивость в данном случае не может означать внутренней логической необходимости положения о «нашем сознании», но всего лишь указывает на то, что мы не можем одновременно и в одном и том же смысле сознавать и не сознавать самих себя, но само по себе последнее положение является столь же непротиворечивым, как и первое. Но следовательно, вопрос об истинности каждого из этих противоположных утверждений вновь должен быть решен посредством нашего внутреннего опыта, а оба они оказываются не чем иным, как случайными истинами факта, в силу чего и вывод силлогизма оказывается всего лишь эмпирически случайным положением, а не достоверным и необходимым доказательством «нашего существования».
Таким образом, поскольку нижняя посылка не может быть отнесена ни к необходимым истинам разума, ни к случайным истинам факта, Вольф обращается к весьма оригинальному способу обоснования ее истинности. В этом отношении весьма показательно то, что в своем доказательстве «нашего существования» Вольф не пользуется понятием мышления (Denken), но предпочитает говорить исключительно о «нашем сознании» (Bewusstsein), причем делает он это именно для того, чтобы избежать тупиковой дилеммы отнесения этого положения к истинам разума или истинам факта. Дело в том, что в отличие от мышления, которое подчинено закону противоречия как необходимому условию его истинности, понятие сознания допускает такое свое состояние, как сомнение, к которому этот закон в форме принципа исключенного третьего неприменим.
Сомнение же в собственном самосознании оказывается всего лишь «отпиранием» или «нежеланием признавать» это сознание самих себя, а следовательно, состоянием самого этого сознания, одним из способов его существования, а потому не эмпирической и случайной истиной факта, а достоверным и необходимым положением, которое не подлежит логическому отрицанию по закону противоречия и потому не может «не быть». В этой связи показательны терминологические различения, которые Вольф использует для противопоставления логического отрицания и сомнения как «отпирания» или «нежелания признавать» собственное сознание: для обозначения первого он использует глагол «verneinen», а во втором случае глагол «leugnen» [cp.: 1, § 1—2 и И]. Соответственно, и в отрицании «существования» нашего сознания он также усматривает не логическое противоречие, а действие «вопреки собственному убеждению или совести» (wider sein besser Wissen), заявляя, что «не было еще под солнцем такого человека», который отрицал бы (geleugnet) наличие у нас такого сознания, либо делать это может лишь тот, кто полностью лишился (beraubt) своих чувств и рассудка (Sinnen, Verstandes) [1, § 1—2]. С помощью такого рода аргументов Вольф и пытается доказать несомненность и достоверность нижней посылки силлогизма, правда, не как логически необходимой истины разума, но в качестве своеобразной необходимой истины факта, данной, однако, не в случайном опыте индивидуального субъекта, а в некоем всеобщем и общезначимом опыте разумных людей.
И в этом случае мы сталкиваемся с еще одним принципиальным отличием вольфовского доказательства нашего сознания самих себя от декартовского метода преодоления сомнения. Впрочем, на первый взгляд может показаться, что для решения вопроса об истинности нижней посылки силлогизма Вольф пытается апеллировать к картезианскому критерию истинности как несомненной ясности и самоочевидности, являющихся исключительно внутренним состоянием и достоянием «я», т. е. индивидуального субъекта, его мышления, самосознания, интеллектуальной интуиции, внутреннего опыта и т. п. Однако Вольф этого не делает не только по причине принципиально иного понимания критериев истины, но и потому, что в отличие от Декарта он в качестве субъекта мышления или сознания использует в своем доказательстве не понятие «я», а понятие «мы» или «нашего сознания», т. е. сознания некоего неопределенно-множественного субъекта или коллективного опыта людей, к самосознанию или к внутреннему и индивидуальному опыту которых .апеллировать уже никак нельзя.
Обращение к понятиям «мы», «наш» или «сознающего некто» больше отвечало общему — объективистско-логицистскому духу вольфианской метафизики, в которой он ориентировался не на отдельного субъекта или индивида, а на некое безличное и абстрактное сознание или мышление, предметом которого выступает всеобщий опыт, включающий в себя совокупность всех научных знаний, эмпирических понятий или обыденных представлений о мире и «всех вещах вообще». Такая установка Вольфа изначально исключала не только картезианский принцип «cogito» или самосознания субъекта, но и лейбницеанское учение о монадах как индивидуально-неповторимых, качественно различных субстанциях. По той же причине у Вольфа практически отсутствует понятие врожденных идей как бессознательных состояний монады и источника ее внутренней активности, стремления к саморазвитию. Их место у Вольфа занимают всеобщие и необходимые принципы сущего, возможного и действительного мира, которые и образуют структуру и сущность как телесного мира, так и «нашей» души, безликой и лишенной внутренней спонтанности.
Здесь Вольф действительно предстает как довольно плоский мыслитель, заметно упростивший и обеднивший идеи Лейбница, в чем мы еще более убедимся при рассмотрении его эмпирического и рационального учения о душе. Однако нельзя не видеть и того, что в данном случае в философском и методологическом отношении Вольф мыслит вполне корректно и последовательно, поскольку ставит вопрос об универсальной сущности души, инвариантной структуре ее способностей, а всеобщих и необходимых законах человеческого познания. Но, кроме того, следует обратить внимание и на то, что Вольф не просто старается дать последовательную систематизацию душевных способностей, но и в отличие от Лейбница и особенно Декарта, стремится к более точному различению душевных способностей и определению специфики каждой из них, в первую очередь к уяснению рассудка как способности мышления, подчиненного исключительно законам логики.
Однако с наибольшими трудностями в своем доказательстве Вольф сталкивается тогда, когда он приступает к решению вопроса о существовании «нашего сознания», а также к понятию «других вещей», которые мы сознаем наряду и вместе с сознанием «нас самих». Тезис о существовании Вольф вводит в содержание верхней посылки, формулировка которой в буквальном переводе гласит: «Кто (есть) является сознающим себя и другие вещи, тот (есть) существует» (Wer sich seiner und anderer Dinge bewusst ist, der ist) [1, § 6].
Показательно, что здесь он дает иную формулировку понятия сознающего субъекта, заменяя хотя и не.индивидуально-психологическое, но явно эмпирическое понятие «мы» на еще более неопределенное и абстрактное понятие «кто» (Wer) или «тот, кто» (deijenige) [1, § 5, 6], под которым может подразумеваться не только «наше» человеческое сознание, но и, как мы увидим далее, сознание более высокого существа, а именно Бога. Отказ от понятия «мы» позволяет Вольфу считать верхнюю посылку не истиной факта, основанной на «нашем» опыте, а основоположением, т. е. своего рода аксиомой или истиной разума, которая может быть принята без всякого доказательства, но только благодаря пониманию содержащихся здесь слов [1, § 7]. Однако в качестве необходимой истины разума эта посылка опять же оказывается не чем иным, как аналитически-тождественным и даже тавтологическим высказыванием типа «А естъА», а именно: «кто сознает себя, тот и существует (есть) в качестве сознающего».
Поэтому в пятом параграфе Вольф дает иную формулировку этой посылки: «Для нас очевидно, что тот, кто (который) сознает себя и другие вещи, тот
существует» (Es ist uns klar, daß derjenige ist, der sich seiner und anderer Dinge bewusst ist) [1, § 5]. Такая формулировка позволяет избежать его явной тавто-логичности, поскольку утверждение о существовании обретает здесь видимость эмпирической констатации или фактической истины опыта, правда, не внутреннего опыта самого сознающего «некто», а «очевидного для нас» факта внешнего опыта. Таким образом, существование оказывается не аналитически-тожде-ственным пояснением понятия субъекта высказывания посредством логической связки «есть», а как бы независимым от «нашего сознания» «очевидным» фактом внешнего опыта относительно существования сознания «некто» или «другого».
Однако обе эти формулировки верхней посылки отнюдь не решают вопроса относительного реального существования «нас» или «некто» и не могут служить основанием для доказательства вывода «мы есть (существуем)». В первой из них существование остается логическим предикатом аналитического суждения, во второй — фактом хотя и внешнего, но тем не менее — «нашего» и «очевидного для нас», т. е. субъективного (хотя и не индивидуального) опыта. При замене понятие «я» на понятие «мы» или даже неопределенного «некто», выступающего в качестве предмета «нашего» внешнего опыта, Вольфу в лучшем случае удается преодолеть солипсизм «странной секты эгоистов», как он называл субъективных идеалистов, признававших существование одного лишь индивидуального сознания «я», но отнюдь не субъективность сознания или внутреннего опыта коллективного «мы» или абстрактного «некто» [1, § 2].
Таким образом, как логический, так и эмпирический способы доказательства «нашего существования» и решения на его основе онтологического вопроса о первых основаниях бытия или «всех вещей вообще» не достигают цели и оказываются совершенно несостоятельными. Более того, несостоятельным оказывается решение вопроса не только о существовании или о бытии вообще, но и о первых основаниях познания, т. е. о существовании сознания как такового, неважно — идет ли речь о сознании индивидуального «я», коллективного «мы» или абстрактно-всеобщего «некто».
Собственно говоря, именно подспудное понимание этого рокового обстоятельства и заставляет Вольфа обращаться в своем доказательстве к понятию «других вещей», которые мы сознаем наряду с сознанием нас самих, как вспомогательному аргументу, призванному дополнить и усилить доказательство существования нашего сознания. В данном случае Вольф пытается внушить читателю обманчивую иллюзию (да разделяет ее и сам) относительно того, что с помощью понятия «других вещей» можно преодолеть субъективизм и идеализм понятия «нашего существования», т. е. каким-то образом превратить существование сознания в нечто объективное, в реальный предикат, а тем самым и решить основной онтологический вопрос о существовании вообще или как таковом.
Впрочем, включение понятия «других вещей» в содержание обеих посылок силлогизма будет иметь весьма важное значение для всего последующего построения системы метафизики, поскольку такого рода «дополнение» позволяет Вольфу изначально обозначить или задать тот содержательный контекст, в рам-
ках которого она и будет разрабатываться, т. е. определить предметную область таких частей метафизики, как космология и психология или учения о мире и душе. Более того, включение в «наше сознание» понятия «других вещей» выполняет роль своего рода негласной установки или указания на возможность включения в состав «разумных мыслей» любого эмпирического материала и даже всего содержания исторического опыта и научного знания, благодаря чему его философия только и могла бы претендовать на статус полной и универсальной системы метафизического знания или «разумных мыслей о всех вещах вообще».
Включая в содержание обеих посылок силлогизма сознание не только «нас самих», но и сознание «других вещей», Вольф на первый взгляд всего лишь повторяет точку зрения Лейбница о необходимости дополнения картезианского тезиса: «я мыслю» положением: «я мыслю разнообразное» или «я имею различные мысли». Однако, как мы видели, Лейбниц специально подчеркивал, что под «разнообразным» он имеет в виду именно феномены сознания, его внутреннее содержание, хотя и свидетельствующее о способности чувств испытывать воздействия извне, но вовсе не свидетельствующее о реальности вещей вне нас и не являющее доказательством их существования [см.: 28. Т. 2. С. 298 и др.].
Вольф же говорит не о «различных мыслях» и даже не о мыслимом разнообразии, а именно о «других вещах», которые хотя и сознаются нами, но все же в качестве чего-то отличного от сознания «нас самих», оставляя, впрочем, открытым вопрос об их онтологическом статусе. Ведь главный вопрос заключается в том, о каких «других вещах» идет речь — о тех, которые мы сознаем вместе с сознанием самих себя и потому остающихся, как у Лейбница, всего лишь феноменами сознания или фактами внутреннего опыта, либо о вещах, которые существуют сами по себе, вне и независимо от нашего сознания, а следовательно, и наряду с существованием «нас самих»?
В попытках ответить на этот принципиальный вопрос Вольф прибегает к ряду показательных, хотя и довольно невнятных добавлений и пояснений. В частности, в комментарии к верхней посылке, которую он считает нетребующим доказательства основоположением, Вольф к аргументу об «очевидном» существовании «нас самих» добавляет невозможность сомнения в том, что вещь «определенным образом существует», поскольку мы «знаем» и «каждый видит», что «если отдельные вещи должны существовать... то они и могут существовать» [1, § 7].
Вся эта аргументация поражает своей расплывчатостью и беспомощностью, и ее трудно отнести к разряду не только логической, но и эмпирической, хотя крайне неопределенный оборот: «существовать определенным (или достоверным) способом или образом» (auf eine gewisse Art und Weise ist), вероятно, призван придать его рассуждениям относительно существования вещей видимость логической доказательности, а глаголы «не сомневаемся», «видим» и «знаем» — их эмпирической очевидности и непосредственности. Не случайно в следующем параграфе Вольф без тени смущения заявляет, что это доказательство существования вещей обладает такой же достоверностью как и демонстративное доказательство существования нас самих [1, § 8].
33
2 Зак. 042
Однако особенно показательным является использование Вольфом в этих рассуждениях модальных глаголов «мочь» (können), «хотеть» (или «желать» — wollen) и «долженствовать» (sollen). Так, в частности, весьма странно звучат его заявления о том, что в существовании вещи никто не «хочет сомневаться» (wer wollte zweifeln), или «если отдельные вещи должны существовать (sein sollen), то они и могут (sein können) существовать не иначе как определенным образом» [1, § 7]. Глагол «мочь» встречается у Вольфа довольно часто, поскольку, как мы видели, свою философию он и определяет как науку о возможном. Что же касается глаголов «хотеть», «желать» и «долженствовать», то они применяются, как правило, в практических частях метафизики, т. е. там, где речь идет о воле человека и его нравственной ответственности, но прежде всего в учении о Боге, где рассматривается его способность свободно выбирать и желать «лучший мир» и творить его в качестве действительного [см.: 1, § 980—988, 1007— 1008 и др.].
Разумеется, у «нашего сознания» или у человеческой воли Вольф не мог допустить такой чудесной способности творить действительный мир, однако весьма красноречивым является уже само обращение к понятиям воления и долженствования в главе, посвященной доказательству «нашего существования». По сути дела, такая апелляция к практическим понятиям косвенно свидетельствовала о недостаточности теоретических аргументов для решения вопроса о «нашем существовании», и было призвано дополнить их деонтическими аргументами, т. е. включить в «нейтральные» аподиктические и ассерторические утверждения о существовании мотивы волевого желания или практического долженствования. Но тем самым обнаруживается, что в основе вольфов-ского доказательства существования лежит практически-волевое полагание, а точнее догматическое постулирование бытия, которое должно быть, т. е., по существу, смешение понятия сущего и должного или незаконное превращение должного в сущее, желаемого в существующее и т. п. Более того, как мы увидим далее, именно такого рода постулирование лежит в основе всей его системы метафизики и составляет ее догматическую сущность.
Впрочем, в первой главе указанные мотивы всего лишь намечены и тщательно замаскированы силлогической формой доказательства «нашего существования», хотя, по сути дела, в своем выводе Вольф отнюдь не разъясняет или конкретизирует содержание посылок силлогизма, а всего лишь выдергивает термины «мы» и «есть» из их содержательного контекста в составе посылок и превращает в некое самодовлеющее и метафизически абсолютное утверждение «мы есть». В этом выводе понятие существования, которое было всего лишь логическим предикатом высказывания о существовании сознания или эмпирической констатацией факта внутреннего опыта, превращается в догматический постулат о «нашем существовании» вообще, в котором местоимение «мы» позволяет трактовать понятие существования в предельно широком смысле, т. е. относить его не только к нашему сознанию, но и к телу и даже к «другим вещам».
Следует также обратить внимание на довольно странную грамматическую конструкцию, с помощью которой Вольф формулирует свой вывод, который буквально гласит: «Итак, есть мы» (Also sind wir). Такого рода грамматические странности или неточности вообще характерны для языка вольфовской метафизики, которые были, конечно, во многом следствием общей грамматической незрелости старонемецкого языка, сложностей процесса становления его литературной, научной и философской формы. Показательно, однако, что различного рода неточные и неясные высказывания, крайне неопределенные и даже двусмысленные формулировки встречаются у Вольфа чаще всего именно в тех местах его «Метафизики», где речь заходит об определении ее наиболее принципиальных и важных понятий или решении наиболее сложных ее проблем.
Придав тезису о «нашем существовании» видимость необходимого вывода из посылок силлогизма, Вольф только ловко скрывает или маскирует тот факт, что в его основе лежит всего лишь незаконная подмена и эклектическое смешение различных значений и функций понятия «существования», превращение логического предиката в аналитическом высказывании или эмпирической констатации факта опыта в догматический постулат о существовании или наделение логической утвердительной связки «есть» значением субъективного утверждения бытия, его метафизическим или онтологическим полаганием.
Однако в первой главе он всячески пытается создать видимость, будто в несомненной достоверности его тезиса о «нашем существовании», который якобы доказан демонстративно-геометрическим методом, объединяются все признаки истинного знания, а «все, что доказано геометрическим способом, столь же достоверно, как и то, что мы существуем» [1, § 8]. В своем доказательстве он даже усматривает образец или пример для подражания в геометрии, достоверность истин которой достижима лишь в том случае, если они будут доказываться тем же способом, каким он доказал наше существование [1, § 9], а пользу его видит в том, что в нем «дается именно то, что необходимо для осуществления нашего намерения достичь несомненно достоверного естественного познания Бога и души, а также мира и всех вещей вообще», т. е. решения основной задачи его «Разумных мыслей.,.» [1. § 4].
Тем не менее, вопреки этим широковещательным заявлениям, Вольф в более поздней «Онтологии» исключил доказательство «нашего существования» из состава метафизики, усомнившись, видимо, в его «полезности». В каком-то смысле оно оказалось даже «вредным», поскольку в нем слишком заметно, даже наивно и обнаженно, проступали эклектические черты и догматический характер тех приемов и методов, с помощью которых будет создаваться вся система метафизики, а потому первая глава представляла слишком откровенную модель или прообраз всей действительной логики ее построения. Возможно, отчасти именно по этой причине Вольф от этой главы и отказался, а мы же, напротив, сочли целесообразным столь детально остановиться на ее анализе.
Однако важнейшей причиной для последующего отказа Вольфа от доказательства «нашего существования» был, разумеется, его ярко выраженный субъективный и эмпирико-психологический характер, то чрезмерно большое место, какое в нем занимают понятия внутреннего опыта и самосознания. Кроме того, в этом силлогическом доказательстве немалую роль играют признаки ясности, непосредственной очевидности и субъективной достоверности, т. е. те картезианские критерии истинности, от которых Вольф вслед за Лейбницем как раз и стремился избавиться в пользу исключительно логического понимания этих критериев, основанного на законах логики и формально правильного мышления.
Самым же главным недостатком первой главы было для Вольфа то, что в ней понятие существования было слишком тесно привязано к понятию «мы» и «нашего сознания», в силу чего понятия мышления и «других вещей» выступали в качестве субъективно-психологической и эмпирической данности, а их отношение друг к другу обретало характер гносеологической проблемы. Все это вступало в явное противоречие с общими установками рационалистической метафизики Вольфа, согласно которым все ее категории должны рассматриваться с точки зрения принципа противоречия или логической возможности, который и играет роль первого основания всей системы метафизики.
Впрочем, как мы увидим далее, полностью избавиться от гносеологических, эмпирических и субъективно-психологических подходов и понятий Вольфу не удалось не только в общем составе своей системы метафизики, но и в онтологии, т. е. в «основной науке» или учении о «первых принципах познания и всех вещах вообще». Более того, эмпирические и психологические понятия и подходы не только продолжали занимать важное место и играть важную роль в его последующих метафизических построениях, но и породили острые дискуссии среди его сторонников, во многом определившие всю последующую эволюцию как его собственных воззрений, так и судьбу вольфианства в целом.
Ниже мы более подробно остановимся на этом вопросе, но сразу отметим, что эта эволюция имела характер противоборства двух противоположных тенденций, одна из которых развивалась в сторону устранения из вольфианской метафизики психологических и субъективистских моментов и усиления в ней именно онтологических, объективистских и логико-рационалистических мотивов. Об этом свидетельствует, в частности, и сам факт появления в составе метафизики онтологии как «основной науки», а также то, что в его поздней «Онтологии» на первый план выдвинулся принцип «сущего как такового» или «вообще», полностью вытеснивший и заменивший собой понятия сознания и «нашего существования» как первых оснований метафизики.
Другая же тенденция, напротив, выразилась в факте заметного роста интереса именно к эмпирической психологии, увеличения ее удельного веса в работах ряда последователей Вольфа и соответственно оттеснения принципов онтологии на второй план. Указанная тенденция во многом была связана с общими процессами развития просветительского движения, научного знания и т. п., а также с все более заметным отставанием от них школьной метафизики, ее явного несоответствия реальным потребностям и задачам времени. Однако усиление эмпирических и психологических тенденций в составе вольфианства ни в коей мере не устраняло внутренних противоречий в учении о «первых принципах нашего познания и всех вещей вообще», к анализу которых мы и переходим.
§ 5. ЗАКОН ПРОТИВОРЕЧИЯ КАК «ПЕРВЫЙ ПРИНЦИП ПОЗНАНИЯ И ВСЕХ ВЕЩЕЙ ВООБЩЕ»
Вопрос о первых основаниях своей метафизики Вольф рассматриваёт во второй главе «Разумных мыслей...». Таковыми он считает законы противоречия и достаточного основания, связывая первый с именем Аристотеля, а второй — с Лейбницем, усматривая свою заслугу лишь в том, что сделал их более ясными и отчетливыми [4, § 69, 71; 3, § 23]. На самом деле Вольф не только «проясняет» эти законы как собственно логические, но пытается обосновать в качестве именно «первых принципов» всей системы метафизики.
Как известно, логический закон противоречия гласит, что относительно понятия субъекта любого суждения нельзя одновременно и утверждать и отрицать один и тот же предикат в одном и том же отношении или при тех же самых условиях. При любых формулировках этот закон означает запрет противоречия в качестве необходимого условия, без выполнения которого невозможна никакая логически правильная форма мысли, понятия или высказывания. Без выполнения это требования они не могут иметь в себе никакого познавательного содержания, да и вообще перестают быть способами фиксации и экспликации, хранения или трансляции любого знания. Однако к самому познавательному содержанию или к предмету этого знания закон противоречия никакого отношения иметь не может, он не является даже формой мысли или понятия, а всего лишь безусловным и необходимым условием ее правильности, а потому и условием возможности логического мышления и самой логики как науки о его формах.
Вольф, однако, дает более широкую и расплывчатую формулировку принципа противоречия: «Нечто не может одновременно быть и также не быть» (Es kann etwas nicht zugleich sein und auch nicht sein) [1, § 10]. Аналогичная формулировка имела место уже у Аристотеля, также считавшего, что самым «достоверным из всех начал» является утверждение: «не может одно и то же быть и не быть в одно и то же время» [18. T. 1. С. 126, 279]. Общим в этих формулировках является то, что в них остается совершенно неясным, что именно подразумевается под «нечто» или «одно и то же», которое «не может быть и не быть»: собственное существование понятия или мысли, мыслимое в них бытие или даже бытие вне мысли о нем. Исходя именно из такой крайне невнятной формулировки закона противоречия Вольф и пытается прояснить его сущность и сделать «первым принципом» своей философии.
Показательно, что к рассмотрению этого принципа Вольф переходит после доказательства «нашего существования» в первой главе, где было дано доказательство «нашего существования», а точнее, даже существовование «нашего сознания». И именно в таком «субъективном» значении Вольф и использует понятие существования для предварительной формулировки общего принципа противоречия: «невозможно, чтобы мы могли мыслить себя так, что мы одновременно должны быть сознающими и не сознающими себя» (bewusst sein und auch nicht bewusst sein) [1, § 10].
И лишь конкретизируя эту формулировку далее, Вольф утверждает: «То же самое мы обнаруживаем и во всех других случаях, <а именно>, невозможно, чтобы мы мыслили так, чтобы нечто не существовало бы, тогда как оно существует (daß etwas nicht sei, indem es ist)». Но, поскольку в первой главе уже «доказано», что «мы существуем», заменив понятия «мы», «кто» или «некто» (wir, wer, derjenige) на понятия «что» или «нечто» (was, etwas), Вольф превращает утверждение «мы есть сознающие» (sind bewusst) в утверждение «быть сознающими» (bewusst sein), где «sein» как часть понятия «сознания» (Bewusstsein) превращается в обозначение понятия «бытия» (Sein). Тем самым от утверждения «мы есть» или «некто, сознающий себя, существует» он переходит к утверждению «нечто есть (существует)» и использует это положение для общей формулировки принципа противоречия, относящейся к неопределенному существованию вообще, а не только «нашего сознания».
Не вдаваясь здесь в специальный логико-грамматический анализ вольфов-ского языка (этот вопрос заслуживает того, чтобы стать темой специального исследования), следует отметить весьма любопытные превращения, которые претерпевает в этих рассуждениях немецкое слово sein. В обеих посылках силлогизма Вольф применяет его исключительно в качестве связки «есть» (ist или sind): «мы есть сознающие». В выводе же это слово употребляется уже не как связка, а в качестве утверждения или полагания существования субъекта: «мы есть» (точнее — есть мы) [1, § 6]. В следующей главе это sein выступает в виде самостоятельной части грамматически весьма неясного и труднопереводимого словосочетания «должны быть себе сознающими себя» (uns unserer sollten bewusst sein), т. e. — именно в раздельном написании двух частей составного слова «Bewusstsein» (сознание) [1, § 10].
В окончательной же формулировке закона противоречия sein употребляется уже исключительно в значении «бытия», правда, не в качестве предиката или субъекта высказывания, а части составного глагола «может... быть» (kann... sein), отрицающего возможность одновременно утверждения и отрицания существования «нечто». Таким образом, как и положение «мы существуем», принцип противоречия у Вольфа формулируется в логически неполной или неправильной форме, а именно в форме суждения, в котором отсутствует предикат, а существование как абстрактное утверждение: «быть», которое не может одновременно «не быть».
Возможно, такая странная и логически неполная конструкция самой формулировки закона противоречия была вызвана тем, что Вольф понимал неправомерность использования понятия существования или бытия (Sein) в качестве логического предиката, точнее, его содержательную пустоту по отношению к субъекту высказывания: к содержанию последнего предикат существования ничего не добавляет, но и ничего не отнимает. Важнее, однако, то, что в процессе построения системы метафизики он весьма активно пользуется семантической и смысловой неоднозначностью, а также грамматической многофункциональностью немецкого слова sein, причем так, что далеко не всегда можно четко определить — служит ли оно логической связкой (ist), выступает ли в качестве «простого» утверждения или полагания понятия субъекта в логически неполном высказывании «нечто (или некто) есть», либо в качестве существительного Sein, служащего для обозначения собственно понятия существования.
Во всяком случае, превращение положения «мы существуем» в утверждение «нечто существует» имеет весьма принципиальное значение для осуществляемой Вольфом процедуры онтологизации логики. Вместо эмпирически-содер-жательного понятия «мы» или «нашего сознания» в роли субъекта высказывания теперь выступает крайне неопределенное и бессодержательное «нечто» (etwas), относительно которого одновременно утверждается и отрицается его существование, т. е. имеет место противоречие. Далее выясняется, что термином «нечто» может обозначаться как «вещь» (Sache), так и «слово» (Wort), важно лишь, чтобы в качестве субъекта высказывания они рассматривались одинаковым способом или в одинаковом значении, поскольку только в этом случае можно судить о противоречивости или непротиворечивости, т. е. логической правильности этого высказывания [1, § 11].
Принцип противоречия как необходимое условие правильности или неправильности логической формы высказывания Вольф рассматривает как условие логической возможности или невозможности высказывания: то, что содержит в себе противоречие, подчеркивает он (например, понятие железного дерева или фигуры из двух прямых), является логически невозможным, и, напротив, то, что не содержит противоречия, — возможным [1, § 12; 3, § 27—30, 79, 83 и др.}. Показательно, что в своем сближении непротиворечивости с возможным Вольф использует категорию возможного в весьма неопределенном значении, во всяком случае, порой трудно понять, идет ли у него речь о возможном вообще или возможном только логически, т. е. с точки зрения одной лишь правильности формы понятия или высказывания.
Отождествлять отсутствие или наличие противоречия с возможным или невозможным допустимо только в последнем случае, а именно, когда в силу нарушения своей логической формы любое понятие, мысль или высказывание действительно лишаются своей функции или сущности. В этом случае они действительно перестают быть логически возможными в силу неправильности своей логической формы, однако отнюдь не перестают быть возможными вообще и даже существовать в качестве психологически действительных фактов опыта, т. е. в виде неправильных, противоречивых и, следовательно, логически невозможных мыслей или высказываний, конкретные примеры каковых приводит и сам Вольф.
Такого рода «незаметное» (умышленное или непреднамеренное) смешение логически возможного и возможного вообще и сближение или даже отождествление непротиворечивости именно с последним оказывается весьма существенным для следующего шага онтологизации логики. Все, что возможно, утверждает Вольф, мы называем «вещью» (Ding) [1, § 16]. Как мы видели, в первой главе этим термином он обозначал понятие «других вещей», которые мы сознаем наряду с сознанием самих себя. В § 11 под «вещью» (правда, обозначенной термином — «Sache») он подразумевал «нечто», существование которого хотя и не может одновременно утверждаться и отрицаться, но которое тем не менее именно существует в качестве «вещи» или «слова», причем независимо от того, что о нем утверждается или отрицается. Теперь же понятие «вещи» приобретает принципиально иное значение: она оказывается синонимом логически возможного, т. е. одной лишь непротиворечивости или правильности логической формы понятия или высказывания, причем совершенно независимо от их содержания и даже от того, что оно может быть выражено в форме отрицания, (например, «вещь не существует»).
Правда, определяя возможное как «вещь», Вольф делает оговорку о том, что не имеет значения существует ли она в действительности (es mag wirklich sein) или нет, в любом случае она остается «вещью» [1, § 16]. Однако в данном случае он переходит к оппозиции категорий возможного и действительного существования, опять же не уточнив статус категории возможного, т. е. идет ли речь только о логически возможном как непротиворечивом и формально правильном или о возможном вообще. Соответственно, вопрос о существовании возможного, определенного как «вещь», оказывается поставленным в крайне невнятной форме и приобретает весьма двусмысленное содержание.
В отличие от «вещи» (Sache) как «нечто» [1, § 1], «вещь» в данном случае определяется как возможное исключительно в логическом смысле, т. е. оказывается синонимом только непротиворечивого или логически правильного понятия. Иначе говоря, если в первом случае вещь признается существующей в качестве возможной вообще, т. е. независимо от того, является ли она субъектом высказывания, то теперь ее существование оказывается целиком и полностью обусловленным ее логической непротиворечивостью, т. е. логически правильной формой высказывания, в котором утверждается ее существование. Таким образом, существование оказывается теперь синонимом одной лишь логической возможности высказывания.
Еще более определенно Вольф формулирует эту установку в «Онтологии», где утверждает, что невозможное не может существовать именно потому, что Оно противоречиво, и соответственно, наоборот, — возможное может существовать, поскольку не содержит в себе противоречия, т. е. напрямую ставит существование в зависимость от принципа противоречия [cp.: 1, § 12; 3, § 83, 132— 133]. Таким образом, отсутствие противоречия как негативное и формальное условие понятия или мысли, их внутренней возможности как логической правильности трактуется как положительное, внешнее, а по существу уже содержательное и внелогическое условие существования не только этих понятий и мыслей, но и всех вещей вообще [1, § 12—13, 16; 2, § 6; 3, § 71—76, 79, 85, 134—135].
Исходя из такого универсального значения закона противоречия, Вольф делает вывод о том, что противоречивое понятие является безусловно невозможным и бессмысленным понятием, «ничто» (nichts, nihil), невозможной вещью или не-вещью (Unding) (что, впрочем, в немецком языке и означает «бессмыслицу», «вздор» «нелепость» и т. п.), которое не может существовать, является полной противоположностью существования и из которого не может возникнуть никакое существование или «нечто» [1, § 28; 3, § 58, 61—67, 99].
В отличие от «ничто», «нечто» существовать может, однако для этого одной лишь его непротиворечивости недостаточно, равно как и от возможности нечто нельзя делать вывод, что оно существует или может существовать [1, § 13; 3, § 133]. Для этого к непротиворечивости и возможности «нечто» должно быть привнесено что-то большее, благодаря чему возможное получит свое «осуществление» (Erfüllung) [1, § 14]. Осуществление возможного Вольф называет действительностью, а его возможность связывает с Богом, очевидно, однако, что фактически он признает невозможность прямого и непосредственного заключения от непротиворечивости и логической возможности к существованию вообще, причем не только к действительному, но и к существованию логически возможного понятия. Понятие возможного трактуется здесь в весьма широком и неопределенном смысле, во всяком случае, оно не сводится исключительно к логически возможному. Столь же неопределенное значение обретает здесь и понятие существования: это еще не действительное существование, но уже и не вполне логическое, каковое утверждается в тавтологическом суждении «А есть
А».
Показательно в этой связи, что, определив возможное как вещь, Вольф тут же довольно неожиданно начинает обсуждать вопрос о возможности принимать (halten) невозможное за возможное и называть последнее вещью. Для избежания этого недоразумения он проводит различие между «истинной вещью» (wahres Ding) или вещью, возможной «на самом деле» (in der Tat), и вещью, всего лишь воображаемой или иллюзорной (Scheinding): последняя «на самом деле» является невозможной вещью, но лишь по ошибке принимается нами за вещь и называется таковой [1, § 16]. Однако признание такого рода субъективной иллюзии оказывается совершенно ничем не обоснованным, а точнее, включением в сугубо логический анализ элементов психологизма, некоей субъективности, для которой противоречивые по форме или логически невозможные понятия выступают... как нечто действительно существующее. Ведь для того, чтобы принять за возможное невозможное, последнее должно само каким-то образом существовать, т. е. быть хотя и логической бессмыслицей, но не ничто, а... нечто, т. е. вполне возможными, существующими «на самом деле», в действительности.
Разумеется, главным здесь является понятие «истинной вещи», которая возможна «на самом деле», т. е. существует в действительности, и которая принципиально отличается от понятия «вещи», которая существует только в возможности и которой существование всего лишь «не противоречит» [1, § 12, 15; 3, § 134]. Существование последней имеет исключительно логический характер и является возможным только логически или, по собственному определению Вольфа, возможным в «широком» и «внутреннем» смысле, т. е. относящимся к существованию понятия «вещи вообще». Существование же «истинной вещи» и является возможным «в этом мире», т. е. возможным не только логически, но и в «узком» или «внешнем» смысле, т. е. относится к действительно существующим вещам [2, § 6]. Последнее, согласно Вольфу, не должно противоречить понятию «вещи вообще», поскольку от действительности всегда можно «беспрепятственно» заключать к возможности [1, § 15], однако на самом деле этот вопрос остается открытым, во всяком случае, для такого заключения требуется какое-то дополнительное основание, позволяющее к этому понятию «вещи вообще» присоединить внешний предикат действительной вещи. Соответственно и для заключения от понятия «нечто» или «вещи» к действительной вещи требуется нечто большее, а именно — «осуществление» возможного в действительное [1, § 14].
С логической точки зрения принципиальное различие между этими понятиями возможности и существования можно сформулировать как различие между, с одной стороны, логической возможностью понятия, в котором существование мыслится как его же собственный, логический, т. е. внутренний и аналитический предикат, а с другой — познавательной возможностью понятия, в котором существование мыслится в качестве «дополнительного», внешнего и синтетически присоединенного предиката. Собственно говоря, во втором случае речь идет уже не о логической проблеме, а о гносеологической, где понятия возможности и существования обретают принципиально иной смысл, выступают в значении не чисто логических понятий, а категорий философии, онтологии или теории познания.
Вольф же, как мы поймем из дальнейших рассуждений, пытается решать эту проблему в рамках логики, посредством не вполне корректного различения, а точнее — смешения различных значений понятий возможности, существования, а также апелляции к закону достаточного основания, который он под видом второго «первого основания» нашего познания пытается совместить с принципом противоречия, однако, как мы увидим далее, постоянно наталкиваясь на невозможность решения этой задачи. Другой вариант ее решения Вольф пытался найти с помощью принципа «осуществления» возможного «нечто» в действительное, т. е., по существу, признавая возможность выведения предиката, который аналитически в понятии «нечто» не содержится, а потому выводится из него... с явным нарушением закона противоречия. По сути дела, такой вариант противоречивой «дедукции» действительной вещи из понятия, или нечто из ничто, Вольф фактически и допускает в виде чудесного акта творения Богом действительного мира. В аналогичном направлении двигалась его мысль и в его латинской «Онтологии», поэтому целесообразно кратко остановиться на специфике последней работы.
Как уже отмечалось, в ней Вольф отказался от того доказательства «нашего существования», да и вообще от апелляции к понятию «сознания себя и других вещей», чему была посвящена первая глава его «Метафизики». Вызвано это было критикой со стороны ряда его учеников, но прежде всего его собственной неудовлетворенностью заметным эмпирико-психологическим и субъективистским характером тезиса о «мы есть (существуем)». Ведь последний хотя и доказывается демонстративно-геометрическим способом посредством силлогизма, но тем не менее понятие существования вводится в систему метафизики до и раньше рассмотрения «первых» и «высших» оснований «нашего познания и всех вещей вообще», прежде всего до принципа противоречия и вытекающих из него основных категорий его метафизики — возможного, вещи и т. п.
Помимо признания неправомерности эмпирико-психологического обоснования понятия существования Вольф вынужден был согласиться и с теми своими учениками, которые указывали и на определенную методологическую непоследовательность другого важнейшего принципа его «Метафизики», а именно закона достаточного основания. Способ его включения в состав ее «первых принципов», а также способ применения его как в качестве метода введения в состав дедуктивной системы большинства ее основных понятий, так и в качестве предпосылки и источника всех их предметных определений, т. е. любого их познавательного содержания, имели, как будет видно из дальнейшего, явно выраженный эмпирический характер. В силу этого его «Метафизика» теряла характер строго доказательной и единой системы философского знания и приобретала заметные черты методологического эклектизма и содержательного дуализма.
Для преодоления этих недостатков своей «Метафизики» Вольф в «Онтологии» отказывается не только от эмпирико-психологического обоснования «нашего существования», но и от эмпирико-дуалистического понимания закона достаточного основания и в поисках достижения методологического и теоретического единства системы и пытается вывести закон достаточного основания из принципа противоречия, а тем самым превратить последний в первый и единственный принцип всякого существования — логически-возможного и эмпирически-действительного. По существу, эта тенденция просматривается и в «Разумных мыслях...», однако ее проведение столкнулось с значительными трудностями, которые в «Онтологии» Вольф и пытается преодолеть посредством более последовательного проведения принципа онтологизации логики или рационалистической объективации ее законов, прежде всего принципа противоречия как основания существования.
Для решения этой проблемы Вольф обращается не к мыслящему сознанию, а к неким понятиям, которые обладают статусом некоей онтологической объективности, сущего как такового или «вообще» (Seiende in généré, ens gua ens) и вместе с тем «показывают» или представляют вещи «объективно», как они есть в себе или сами по себе (а se, Sache selbst, von sich). Под этим сущим вообще имеются в виду не просто непротиворечивые и возможные, т. е. логически мыслимые понятия, но некая от них обособленная и самостоятельно существующая мыслимость, наделенная значением особого рода бытия, которое хотя и не существует в действительности (existiert), но некоторым образом существует, есть
(ist) [3, § 89—93,133—134].
При всей невнятности этого определения понятия сущего как такового или бытия вообще его основной особенностью было то, что его сущность бытия не сводится здесь к одной лишь логической непротиворечивости его понятия, но напротив, состоит в имманентной «возможности или непротиворечивости к существованию» самого его понятия [3, § 133]. Вместе с тем в качестве онтологического основания «всех вещей вообще» сущее не сводится и к достаточному основанию их существования. Сущее изначально обладает некоей «эйдетической диспозицией» или «онтологической предрасположенностью» как к потенциальному и актуальному существованию вещей в возможных мирах, так и к их осуществлению в «нашем» действительном мире. Именно в этом и заключается способность сущего не только «показывать» вещи «объективно», но и наделять их самих собственной «предрасположенностью» или «непротиворечивостью» к возможному и действительному существованию [3, § 79, 126, 133, 146].
По сути дела в понятии «эйдетической диспозиции» объединяются и даже отождествляются как необходимые и достаточные основания существования «всех вещей», так и причины их «осуществления» в действительном мире, а потому понятие сущего и выступает одновременно как логическим основанием познания, так и его достаточным основанием, а в целом обретает статус «объективного» основания существования всех вещей вообще. Именно таким путем Вольф и пытался в своей «Онтологии» решить ту задачу, которая никак не удавалась ему в «Разумных мыслях...» — превратить закон противоречия и логику вообще из формальных и внутренних условий правильного и потому возможного мышления в положительное, содержательное, а главное, онтологически объективное условие не только существования понятий и мыслей, но и их осуществления и существования в качестве вещей действительного мира
[см.: 1, § 12—13,16; 2, § 6; 3, § 71—76, 79, 83,134—133].
Нетрудно заметить, что мысль Вольфа в данном случае двигалась в направлении более последовательного рационалистического монизма и объективного идеализма, в ряде моментов сходного с традициями неоплатонизма, однако наиболее близким источником этой тенденции были, несомненно, некоторые идеи монадологии Лейбница. Речь идет прежде всего о его идее, согласно которой «все возможное стремится к существованию», а природа возможности или сущности состоит в «требовании» или «наклонности» к существованию. Понятие «сущего» (ens) Лейбниц также определяет в качестве того, «понятие чего содержит в себе нечто положительное» и может быть понято как возможное и непротиворечивое, когда его понятие окажется «полностью развернутым» и когда «вещь действительно будет существовать» [28. T. 1. С. 234; Т. 3. С. 110, 123, 268 и др.].
Тем не менее Вольф остался достаточно далек от этих идей Лейбница и его учения о монадах как «дремлющих», но потенциально содержащих в себе склонность к бесконечному саморазвитию и совершенствованию субстанциях. Для его рационализма принципиально чуждыми были идеи не только традиционного неоплатонизма, натуралистического или мистического пантеизма, но и сколько-нибудь последовательного объективно-идеалистического монизма. Впрочем, как нам представляется, именно Вольф во многом подготовил почву для последующего утверждения идей абсолютного тождества мышления и бытия и принципа панлогизма у Гегеля и других представителей будущего немецкого классического идеализма.
Утверждению этих тенденций у Вольфа воспрепятствовал не только формально-логический или «рассудочно-метафизический» характер его рационализма, но и его приверженность к принципам и идеалам научности Нового времени и века Просвещения, для которых идея опоры на данные опыта, эмпирического подтверждения всех понятий выступала в качестве важнейшего условия достоверности научного знания. Во многом именно по этим причинам ни у Вольфа, ни у его учеников тенденция рационалистического и монистического онтологизма не получила сколько-нибудь последовательного и окончательного завершения и скорее была даже вытеснена противоположной тенденцией, а именно — усилением эмпирических, психологических и дуалистических мотивов.
§ 6. ЗАКОН ДОСТАТОЧНОГО ОСНОВАНИЯ
К анализу закона достаточного основания Вольф обращается практически сразу после того, как он поставил вопрос о существовании и действительности «вещи» или «нечто», для решения которого оказалось явно недостаточным одной лишь непротиворечивости и логической возможности этого понятия [1, § 13— 16]. Посредством закона противоречия решить этот вопрос оказалось невозможным, а потому Вольф вводит закон достаточного основания в состав второй главы «Разумных мыслей...», где решается вопрос «О первых основаниях нашего познания и всех вещах вообще», и таким образом этот закон выступает в роли как бы второго или дополнительного «первого основания».
Этот закон Вольф формулирует следующим образом: «Поскольку невозможно, чтобы из ничто могло возникнуть нечто, все, что существует, должно иметь достаточное основание, почему оно существует, т. е. всегда должно быть нечто, из чего можно понять, почему оно может стать действительным» [1, §30]. Закон этот Вольф заимствует у Лейбница, считавшего его «великим началом разумности», поскольку без достаточного основания «ничего не совершается» и «ничего не бывает», именно оно является условием существования нечто» действительных и случайных вещей, а также возможности фактических истин, хотя само по себе оно имеет основание в необходимом существе или последней причине вещей, т. е. в Боге [28. T. 1. С. 408; Т. 3. С. 140; Т. 4. С. 157,429, 441 и ДР.].
По сути, этот закон всего лишь воспроизводит традиционный принцип метафизики: «ничто не может возникнуть из ничего», и в такой абстрактной формулировке он представляется чем-то вполне банальным и тривиальным. Однако именно у Вольфа, превратившего этот закон в универсальный способ построения своей системы, обнаруживается его весьма сложный и неоднозначный гносеологический состав, почему он и стал предметом серьезного обсуждения во всей немецкой философии вплоть до Канта.
Следует заметить, что все формулировки закона достаточного основания, как и их пояснения, даваемые Вольфом всего лишь в двух параграфах, при всей своей лаконичности и абстрактности, отличаются крайней невнятностью и двойственностью (что вообще характерно для тех разделов «Метафизики», где речь идет о ее наиболее важных и принципиальных вопросах). Показательно, например, такое пояснение этого закона: «Если вещь А содержит в себе нечто, из чего можно понять, почему есть В, будь оно чем-то в А или вне А, то тогда <это> нечто, которое можно найти в А, называют основанием (Grund) В. Сама же <вещь> А называется причиной (Ursache) В, относительно которой говорят, что она основана в А. Таким образом, основанием является то, посредством чего можно понять, почему нечто существует, а причина есть вещь, которая содержит в себе основание другой <вещи>» [1, § 29].
Из этих формулировок, как и иллюстрирующих их эмпирических примеров, трудно понять — идет ли в них речь о «вещи» как понятии о «нечто» или о действительной вещи, о логическом основании первого или о реальной причине второй, является ли причина основанием «осуществления» возможного или позволяет всего лишь «понять», почему действительная вещь существует и т. п. Источник такого рода неясностей и двусмысленностей вряд ли можно свести к языковой неряшливости или субъективной непоследовательности мышления Вольфа. Напротив, именно потому, что он пытается последовательно придерживаться своих логико-рационалистических теоретических и методологических установок, при их конкретном применении он волей или неволей наталкивается на «сопротивление материала», на вполне реальные трудности не только существа самой обсуждаемой им проблемы, но даже и ее адекватной формулировки.
Впрочем, из этих определений ясно одно, а именно, что для того, чтобы «вещь» как возможное существовала, недостаточно, чтобы она была «нечто», т. е. всего лишь противоположностью «ничто» как невозможности в силу его противоречивости. Ведь «нечто», согласно закону противоречия, «может быть», но может и «не быть»; «вещь» же в отличие от «нечто» возможна не в силу одной лишь своей непротиворечивости, но в силу того, что она уже «есть», утверждена в своем существовании. Однако здесь возникает вопрос: идет ли здесь речь об основании как заключении от уже действительно существующей вещи к ее сущности, т. е. к ее основанию как логической возможности, которое «должно быть», или, напротив, об основании как заключении от сущности вещи или ее логической возможности к ее действительности или к тому, «из чего можно понять, почему нечто может стать действительным», т. е. «осуществиться» в действительную вещь.
Из этих формулировок Вольфа трудно понять, а где, собственно, следует искать «достаточное основание»: в действительном существовании как основании познания его возможности и сущности или, наоборот, в возможности и сущности как основании существования действительности. На самом деле в первом случае речь идет о необходимости создания, построения или обретения понятия о вещи, существующей в действительности, уже найденной в опыте или данной в чувственности и т. п., во втором — о подтверждении или проверке истинности или познавательной значимости уже имеющейся, заранее выдвинутой гипотезы или предварительного понятия с помощью опыта или эксперимента и т. п. Разумеется, в первом случае имеется в виду отнюдь не заключение от действительности к логически возможному понятию, а о познавательной деятельности, направленной на освоение субъектом объекта познания, во втором — отнюдь не о «творении» действительного мира посредством понятия, а исключительно о создании истинного, предметно значимого понятия или знания о действительном мире.
Но именно здесь Вольф и оказывается в логически неразрешимой, тупиковой ситуации, выход из которой угрожает либо нарушением закона противоречия, либо логическим кругом и даже тавтологичностью самого закона достаточного основания. Выход из этого тупика Вольф, как и Лейбниц, находит в конечном итоге в «естественной теологии», т. е. за пределами логики, где все эти проблемы «решаются» с помощью акта творения действительного мира на основании его возможного понятия. И не случайно, ставя вопрос о переходе от возможного к существующему и к действительности как «осуществлению» возможного, который и составляет содержание закона достаточного основания, он заранее информирует читателя о том, что окончательное решение этого вопроса будет дано в заключительной главе его «Метафизики», где излагается учение о Боге [1, § 14]. Впрочем, Вольфу следует по меньшей мере отдать должное, поскольку к помощи Бога он прибегает все-таки в завершающей части своей системы (где, правда, тоже не находит удовлетворительного решения этого вопроса), а до этого предпринимает поистине героические усилия для его решения в рамках «первых принципов», т. е. закона противоречия и достаточного основания.
Показательно, что еще до формулировки закона достаточного основания, призванного обосновать существование «вещи», Вольф начинает подробно рассуждать о множестве «вещей», рассматриваемых с точки зрения их вполне конкретных пространственных свойств (сходства, различия, величины, сравнения частей и целого в их составе и т. п.) [1, § 17—27]. Иначе говоря, от абстрактной и неопределенной, всего лишь возможной «вещи вообще» он сразу переходит к рассмотрению уже не только возможных, но и действительных вещей, т. е. еще до решения вопроса об основании их существования, в результате чего обоснованное существует... раньше и до того, как найдено его основание. Между прочим, как мы видели, такого рода круг в доказательстве допускает и сама формулировка закона достаточного основания, согласно которой «все, что существует, должно иметь достаточное основание, почему он существует», т. е. сначала констатируется факт существования, а затем подыскивается его основание [1,
§ 29—30].
Следует, однако, обратить внимание на то обстоятельство, что, хотя в формулировке закона речь идет об основаниях действительного существования вещей, о причинах, по каким они существуют, этот вопрос как онтологический вопрос об их бытии «на самом деле» в нем и не обсуждается. И дело не только в том, что основанием реального существования вещей в конечном итоге является воля Бога, но и в том, что творение Богом мира, его «осуществление» или «приведение» к действительности из всего лишь возможного Вольф справедливо считает чудесным актом, который осуществляется «сразу» и относительно которого он постоянно напоминает, что этот акт «невозможно понять и разумно объяснить».
По сути дела в этом законе речь идет об основаниях «вещей» не как реально существующих вещах объективного мира, т. е. о вещах самих по себе, а об основаниях вещей, действительность которых есть всего лишь реализованная или «осуществленная» Богом их возможность. Но, что особенно важно, в результате божественного творения эти вещи «даются» нам уже как некоторые «осуществленные» эмпирические представления и даже действительные понятия вещей, т. е. как нечто такое, что уже известно и понято, и речь идет о переходе не от понятия к вещи, а от абстрактного понятия «вещи вообще» к эмпирически данным и конкретным понятиям же вещей «нашего мира».
Впрочем, и при таком уточнении этот закон может показаться излишним, поскольку «известно», что Бог не только творит вещи действительного мира, но и обладает их понятиями в своем логически возможном и общем понятии возможного мира, причем в составе последнего они даны во всем многообразии и богатстве их конкретных, т. е. эмпирических или действительных признаков, свойств, качеств и т. д., правда, все они мыслятся Богом «сразу» и аналитически. Однако человек, в силу несовершенства своего рассудка, для обретения сколько-нибудь полного или максимально приближающегося к этому божественному понятию о мире должен опираться на какие-то дополнительные источники своего знания о действительном мире, и вопрос заключается лишь в том, чтобы найти достаточные основания для пополнения и расширения своих понятий о мире и всех его вещах.
«Лукавство» вольфовского обращения к эмпирическим понятиям вещей, а также многочисленные примеры и иллюстрации, которыми он сопровождает каждый шаг своего строительства системы метафизики, состояло в том, что все это создавало видимость, будто вопрос о возникновении и существовании не только действительных вещей, но и понятий о них уже решен. Поэтому для расширения наших знаний о мире мы должны всего лишь помыслить или сделать предметом своего рассудка те понятия вещей и их свойств, которые якобы даны нам уже в опыте, где мы их обнаруживаем или находим, лишь «обратив на них внимание». Причем, поскольку эмпирические «вещи» действительного мира даются нам уже в виде четко обозначенных, определенных и сведенных к своей простейшей логической форме понятий, некоторых логических «атомов» или «простых вещей», они в качестве предикатов могут быть достаточно легко и без противоречий синтетически подведены или включены в понятие «вещи вообще».
А так как «вещь» есть понятие, возможное и существующее в силу одной лишь своей непротиворечивости, то оно представляет собой как бы «чистую» логическую форму мышления о всех возможных вещах вообще, и потому кажется вполне возможным включить все эти найденные в опыте предикаты в пустой объем этого понятия, т. е. сделать их собственным достоянием или содержанием понятия о возможном, а тем самым «синтетически» доставить ему или вложить в него то содержание, которое уже относится к действительному миру и его вещам. После этого все эти эмпирически найденные понятия о действительных вещах, но уже ставшие собственным содержанием и внутренними предикатами понятия «вещи вообще» могут быть представлены в качестве логически возможных, причем как уже вполне определенные по своему содержанию, а потому и позволяющие «прояснить», а точнее, содержательно конкретизировать абстрактное понятие «вещи». А уже будучи представленными в качестве содержательно определенных, но внутренних или аналитически мыслимых предикатов понятия «вещи», они легко могут быть систематически упорядочены и изложены в форме их дедуктивной связи, зависимости или следования друг из друга, оставаясь, разумеется, в рамках понятия «вещи».
Сам Вольф вполне искренне разделял эту иллюзию и нисколько не сомневался в правомерности такого совмещения логического, дедуктивно-аналитического и эмпирического, индуктивно-синтетического методов приобретения или обнаружения всех понятий своей метафизики и построения из них дедуктивно-доказательной системы «разумных мыслей». Но именно поэтому она фактически оказывалась всего лишь систематически упорядоченным изложением уже известных и данных в обыденном или научном опыте понятий и представлений, а вся его метафизика — эклектическим, крайне скучным и плоским школьным компендиумом различных дисциплин.
В таком качестве она до поры до времени могла выполнять роль достаточно содержательного и не вполне бесполезного учебника, своего рода пособия для «непросвещенных», однако в качестве собственно метафизики, т. е. универсальной философской науки «о всех вещах», ее недостаток заключался в том, что она почему-то постоянно нуждалась в своем содержательном пополнении, в необходимости включать в ее состав все новые «разумные мысли». А потому воль-фовская философия постепенно превратилась в бесконечную погоню за постоянно расширяющимися и вновь возникающими знаниями, результатом чего и стало ее вырождение в беспредметное словотворчество, в поверхностную и эклектическую, плоскую и бессодержательную схоластику, ставшую объектом острой и язвительной критики, и эклектическую популярную философию позднего немецкого просвещения. Однако такая печальная внешняя судьба воль-фианской метафизики по существу была следствием ограниченности и противоречивости самих исходных ее оснований или «первых принципов познания и всех вещей вообще».
В самом деле, как мы видели, посредством закона противоречия Вольф определил «вещь» вообще как возможное, т. е. как «нечто», которое «есть» и не может одновременно «не быть», а потому и возникнуть из «ничто», но еще не определил, чем, собственно, является это «нечто» или «вещь», в каком качестве или статусе они существуют. Если в качестве утверждения о ее существовании, то она существует лишь в качестве понятия, основанием существования которого является всего лишь его логическая возможность, т. е. невозможность одновременного его отрицания. Правда, при этом остается открытым вопрос об основании самой возможности, а точнее, способности полагания существования «нечто», а соответственно и о возникновении противоречия как одновременного утверждения и отрицания «нечто», т. е. о возникновении самого понятия «ничто» как логической невозможности.
Если же «вещь» рассматривается как «нечто», существующее независимо от его утверждения или отрицания, т. е. как действительная, данная нам в опыте вещь, то для ее наличного существования требуется найти основание, которое было бы реальной причиной, по какой вещь существует. Однако крайняя абстрактность и двойственность как понятий «нечто» или «вещи», так и самой формулировки закона достаточного основания затушевывает или даже скрывает тот факт, что понятие основания выступает у Вольфа в принципиально различных значениях и функциях и на самом деле служит решению двух принципиально разных вопросов. Иначе говоря, неразличенность и даже смешение понятий «основания» и «причины» (Grund, ratio или Ursache, causa) препятствует пониманию того, что в первом случае речь идет не о причинах действительной вещи, а об основании ее познания, понимания, т. е. о создании, обнаружении или приобретении о ней понятия. Во втором — понятие «осуществления» уводит в сторону от вопроса о том, каким образом логически возможное понятие может обладать определенным предметным содержанием и обрести познавательное значение, т. с. стать понятием о действительном мире или истинным знанием о его вещах* их реальных свойствах, связях и отношениях.
Но здесь-то и выясняется, что предлагаемое Вольфом решение этих вопросов оказывается иллюзорным или мнимым, а законы противоречия и достаточного основания не могут служить основаниями для их действительного решения. Дело в том, что осуществляемое им «синтетическое расширение» логически возможного понятия предикатами действительных вещей принципиально неосуществимо, а применяемый им метод «дополнения» принципа противоречия законом достаточного основания ведет к противоречиям внутри каждого из этих «первых оснований познания». А весь фокус этого приема или метода построения Вольфом своей системы заключается в том, что его применение представляется непротиворечивым, правдоподобным и допустимым только потому, что оно осуществляется им исключительно в рамках уже имеющегося знания, т. е. уже полученного или достигнутого (впрочем, неизвестно каким образом), данного нам в обыденном или научном опыте единства, соответствия и даже относительного совпадения мыслимого понятия и действительных вещей, логически возможного и эмпирически данного и т. п.
Собственно говоря, в данном случае Вольф опирается на такую особенность истинного знания, которая заключается в том, что оно является специфическим единством противоположностей, а именно объективного содержания и субъективной формы, чувственного способа данности1 предмета и его мыслимости посредством логических понятий и т. п. И как раз это непосредственное единство предметного содержание знания с его понятийной или логической формой и является источником стойкой иллюзии не только обыденного, но и некритического философского сознания относительно их полного совпадения или даже тождества. Здесь не место вдаваться в анализ длительной историко-философской судьбы этой иллюзии'. Для нас важно то, что именно у Вольфа она приобрела значение не только важнейшего теоретического принципа, но и основного методологического приема, с помощью которого он осуществляет все «строительство» своей системы.
Суть этого приема заключатся в том, что, с одной стороны, в непротиворечиво мыслимом и логически возможном понятии он обнаруживает «сущность» действительного, «правильный порядок» его существования, а также «основание», по какому оно «осуществилось» или стало действительным. С другой же стороны, в действительном или эмпирически данном он обнаруживает «основание» познавательной содержательности или предметной значимости, т. е. «действительности» как объективной истинности логически возможного и мыслимого. На самом деле здесь имеет место неизбежный противоречивый скачок между противоположными понятиями, неправомерный переход от возможного к действительному, от непротиворечиво мыслимого к эмпирически данному и обратно и т. д. и т. п., однако все эти нестыковки или противоречия Вольф «преодолевает» путем «незаметной» подмены терминологически сходных, но принципиально различных по смыслу и содержанию понятий.
Именно таким путем он без видимых противоречий включает в состав логически возможных понятий предикаты, относящиеся к действительным вещам, и представляет их в качестве внутренних предикатов, т. е. таких, которые якобы уже изначально и аналитически в этом понятии мыслились. Соответственно логический анализ этих понятий, уточнение и разъяснение связей и отношений между.внутренними предикатами понятия он выдает за дедуктивное обоснование связей и отношений, существующих между эмпирически данными или действительными вещами. Однако такого рода «обоснование» оказывается не чем иным, как тавтологией или аналитическим пояснением уже имеющегося понятия, не выходящим за пределы мыслимого в нем содержания. Для того же, чтобы оно могло на самом деле играть роль основания, по какому существуют действительные вещи и по какому можно понять, почему они стали действительными, нужно признать, что либо возможное понятие и действительные вещи уже изначально находились в соответствии или «гармонировали» друг с другом, либо допустить возможность понятия к «самоосуществлению», т. е. к его противоречивому выходу за пределы самого себя, а по сути — к его превращению в то, что одновременно «есть» и «не есть».
Такого рода неправомерное заключение от возможного к действительному, от непротиворечиво мыслимого к эмпирически данному, т. е. находящемуся за пределами содержания логически возможного понятия, оказывается всего лишь «оборачиванием» столь же неправомерного заключения от действительного к возможному, от эмпирически данного к мыслимому. Ведь если внешние предикаты не содержатся в составе внутренних, то их включение в состав последних неизбежно вступает в противоречие с образуемым ими понятием, поскольку оно оказывается содержащим в себе то, что в нем... не содержалось. Тем самым оно превращается в другое понятие, т. е. оказывается если не отрицанием, то не вполне тем понятием «нечто», которое мыслилось как возможное или то, что «может быть» согласно закону противоречия.
«Синтетическое» присоединение, индуктивно-эмпирическое подведение или включение внешних предикатов в состав внутренних предикатов понятия может быть осуществлено без противоречия только в том случае, если первые уже имели место, содержались в составе вторых. Но в таком случае действительно существующее (обосновываемое) опять же всего лишь тавтологически воспроизводит логически возможное (свое основание), а последнее ничего не обосновывает и не позволяет понять, почему возможное «стало действительным», иначе говоря, закон достаточного основания оказывается всего-навсего... бессодержательной тавтологией.
Таким образом, весь процесс вольфовского построения системы метафизики представляет собой постоянное кругообразное или челночное движение между логически мыслимым и эмпирически данным, возможным и действительным и т. п., а точнее, балансирование между Сциллой нарушения закона противоречия и «правильной» дедуктивной логикой ее обоснования, с одной стороны, и Харибдой ее полной бессодержательности и даже тавтологичности, с другой. Создавать для читателя иллюзию познавательной достоверности и убедительности своей системы, равно как и самому разделять иллюзию относительно ее непротиворечивости и содержательности, ему удается только благодаря тому, что он изначально исходит из догматически принятого постулата о действительном мире как «осуществленном» Богом на основании возможного понятия об этом мире. А попросту говоря, его система универсального философского знания о «всех вещах вообще» имеет видимость познавательного правдоподобия и доказательности только в той мере и до тех пор, пока она остается в рамках познанного, всего лишь систематического анализа уже имеющего знания.
Впрочем, и в этих пределах Вольфу приходится сталкиваться с значительными трудностями совмещения противоположных понятий, категорий и принципов своей системы, и, как уже говорилось, для их «преодоления» он активно использует двусмысленность понятий «существования» и «вещи», «возможное» и «действительное» и т. п. Более того, иногда он даже специально подчеркивает двойственное значение, например, «широкого» и «узкого» понятия возможности, посредством которых он различал «внутреннюю», или собственно логическую возможность, и возможность «внешнюю», относящуюся к действительным вещам [2, § 6]. Последнюю он называл также относительной необходимостью, т. е. такой, которая допускает случайность в существовании и причинных связях вещей и выражает относительное несовершенство действительного мира, но в то же время свидетельствует о его свободном выборе Богом и позволяющей избежать фатализма или абсолютной метафизической необходимости в понимании его творения.
Именно в такого рода — относительной — необходимости существования действительных вещей Вольф преимущественно и усматривал достаточные основания для их познания, и именно поэтому его рассуждения чаще всего носят характер не систематического построения, а довольно случайного набора эмпирических понятий о тех или иных конкретных свойствах или признаках найденных в опыте вещей. Более того, в значительной своей части, особенно там, где речь идет об относительно конкретных определениях свойств телесного мира или о человеческой душе как предметах эмпирической космологии и психологии, дедуктивная форма построения системы сводится к абстрактным и формальным, логическим комментариям эмпирических примеров или иллюстраций, которыми буквально кишит его «Метафизика».
Такой чрезмерно выраженный эмпиризм вольфовской философии, превращающий ее всего лишь в систематизированный перечень случайных истин факта, а главное, ставящий под угрозу ее строго доказательный характер, не мог не вызвать резкую критику со стороны некоторых его учеников. Хотя, как уже отмечалось, эта черта метафизики Вольфа отнюдь не была выражением всего лишь его излишней склонности к «ясным опытам» или к эмпиризму вообще: только таким путем он мог избавиться от ее явной тавтологичности и создать видимость эмпирической содержательности, предметно-познавательной значимости своей системы.
Тем не менее последователи и ученики Вольфа вполне справедливо усмотрели в его апелляции к закону достаточного основания нарушение логической строгости и доказательности его построений, методологического и теоретического монизма системы. Да и сам Вольф отнюдь не случайно предпринял в «Онтологии» попытку обосновать закон достаточного основания с помощью закона противоречия, даже свести первый ко второму, причем сделал он это не столько под влиянием критики оппонентов, сколько понимая реальную опасность, какой эмпирическая трактовка этого закона угрожает всей дедуктивной логике его системы. Стремясь избежать этой угрозы, он указывал, что закон достаточного основания хотя и может быть абстрагирован от частных примеров опыта, однако он должен быть принят без доказательства, как аксиома, которая не противоречит опыту. Более того, в качестве универсального принципа он может быть выведен и из природы нашего духа, которому он присущ столь же первоначально, как и закон противоречия [3, § 72—73].
При этом он рассуждает следующим образом: если нечто есть, то должно быть положено (gesetzt werden muss) нечто, из чего можно усмотреть, почему оно скорее есть, нежели нет. Если же имеется (es gibt) нечто (А ), которое есть (ist) без достаточного основания, то в качестве такового должно быть положено ничто (nichts, nihil). Следовательно, А есть, поскольку есть ничто, а это противоречит определению ничто как отрицания нечто. С другой стороны, если нет одновременного полагания бытия и не бытия, т. е. ничто, то нет достаточного основания, почему бы не существовать чему-либо возможному, а так как без достаточного основания ничего не может быть, то возможное может существовать. Отсюда делается вывод, что «нечто» как достаточное основание существует необходимым образом, а сам закон достаточного основания обретает статус аналитически необходимой истины, т. е. принципа, якобы доказанного из закона противоречия [3, § 38—61, 66—70, 133].
Однако такого рода доказательства имеют исключительно схоластический характер и, по сути, превращают закон достаточного основания в сугубо умозрительный принцип, что, собственно, в какой-то мере и отвечало общей тенденции «Онтологии», где роль этого закона была сведена к минимуму. В ней, как мы уже видели, вопрос об эмпирическом содержании понятий и их превращении из логически возможных в действительные, т. е. в познавательно значимые, решался с точки зрения их «эйдетической диспозиции» или «онтологической предрасположенности» к действительности, внутреннего стремления к «осуществлению» или «имманентной непротиворечивости» к существованию [3, § 70, 133—134]. Тем самым логическая возможность понятия обретает значение «бытия» или онтологический статус «сущего вообще», которое играет роль некоего умопостигаемого или сверхчувственного основания всякого существования вообще или существования «всего», т. е. и логически возможных понятий, и действительно существующих вещей, правда, при сохранении примата первых по отношению ко вторым.
Собственно говоря, таким «бытием» или «сущим» у Вольфа и является Бог как самостоятельно существующая сущность, «полагающая» своим бесконечным рассудком понятия всех возможных миров и приводящая своей волей к действительности «лучший» из них. Правда, в «Разумных мыслях...» понятие Бога и акты его мышления и творения были отнесены как бы на задворки системы, а ее основная задача заключалась в «научном» обосновании универсального философского знания с помощью «хороших выводов» и «ясных опытов», т. е. в прояснении или анализе эмпирического содержания действительного мира с точки зрения его формальной структуры как логически возможного мира. В «Онтологии» же вопросы, связанные с понятием Бога, его бытием как самостоятельной сущности, служащей основанием существования и возможного, и действительного мира, выдвигаются на первый план, становятся собственным или имманентным предметом самой онтологии как науки об основаниях или первых принципах метафизики.
Впрочем, мы уже отмечали, что эта тенденция не получила у Вольфа сколько-нибудь последовательного развития и завершения. Однако само ее возникновение в составе его рационалистической метафизики — крайне показательно с точки зрения уяснения несостоятельности «первых принципов» его системы, да и традиционной метафизики вообще.
§ 7. ОБЩИЕ КАТЕГОРИИ МЕТАФИЗИКИ И УЧЕНИЕ О МИРЕ
Переходя к анализу дальнейших построений Вольфа, необходимо отметить, что все они является не чем иным, как конкретизацией «первых принципов» его «Метафизики», точнее, их применением для включения всех ее содержательных категорий и понятий в состав универсальной системы философского знания. Поэтому мы остановимся лишь на некоторых, наиболее важных категориях или узловых проблемах вольфовской системы, в которых наиболее наглядно обнаруживаются внутренние противоречия их обоснования или попыток решения посредством «первых принципов нашего познания и всех вещей вообще».
Как уже говорилось, вся система метафизики строится Вольфом с точки зрения некоего абстрактного субъекта, мыслителя-метафизика, который имея перед глазами некоторое обобщенно-идеализированное представление о «всех вещах» или сущем, пытается проанализировать его состав, логическую структуру и сущность и реконструировать в виде последовательной, дедуктивно-доказательной системы. По существу, вся эта система метафизики представляет собой анализ мыслимого Богом понятия возможного мира, а мыслитель-метафизик выступает в роли своего рода комментатора этого понятия, стремящегося донести и прояснить для читателя его содержание и смысл, т. е. в качестве как бы посредника между Богом и не вполне просвещенным читателем.
Собственно говоря, в своем доказательстве «нашего существования» в первой главе «Разумных мыслей...» Вольф в каком-то смысле обосновал существование... самого себя как автора системы метафизики, который «сознает самого себя и другие вещи», т. е. обладает знанием всего содержания понятия возможного мира и который существует так же, как существует «Тот», который «сознает себя и другие вещи» и каковым в конечном итоге оказывается сам Бог (что, впрочем, выясняется и «достоверно» доказывается только в заключительной главе «Метафизики») [1, § 4—6].
Непосредственную дедукцию или демонстративное доказательство основных категорий Вольф начинает с понятий «нечто» и вещи», которые были определены им в «первом принципе нашего познания», т. е. в принципе противоречия. Определяя «вещь» как непротиворечивое и потому возможное понятие, Вольф делает незаметный, но очень существенный скачок от ее определения как «всего возможного» или того, что «может быть на самом деле» [1, § 16], к ее определению именно как понятия. Дело в том, что в принципе противоречия возможное определялось как «нечто», которое «может быть» при условии отсутствия одновременного отрицания «нечто», т. е. его возможность ставилась в зависимость от утверждающего или отрицающего акта, полагающего «нечто» в качестве того, что «есть», а именно, от некоторой мыслительной процедуры или действия, которое не может противоречить самому себе [1, § 10]. Иначе говоря, слово «есть» или «может быть» (kann sein) означает существование не как состояние, а как мыслительный акт, утверждающий бытие как полагание неопределенного « нечто ».
В определении же «вещи» как возможного речь идет уже о существовании «нечто» как положенного, т. е. как субъекта высказывания «нечто есть существующее», в котором слово «есть» выступает в значении одновременно как логической связки, так и логического предиката тавтологического суждения. Причем предикат существования выступает теперь в качестве существования, однако утверждаемого уже самим субъектом этого суждения, в качестве его внутреннего предиката или свойства, а тем самым в форме уже «положенного», осуществленного мыслительного акта, т. е. мысли или понятия. Непротиворечивость и возможность оказываются уже не внешним условием существования «нечто», а способом его существования в качестве понятия, его собственным содержанием. Но тем самым непротиворечивость и логическая возможность из внешнего условия существования «нечто» превращается в его внутреннее свойство, а само «нечто» наделяется значением «вещи».
В качестве понятия «вещь» выступает уже как то, что возможно «на самом деле» и даже существует, хотя еще и не в действительности, но, главное, обладает определенным внутренним содержанием, некоторыми свойствами или признаками, которые могут служить предметом анализа, определения его состава, уяснения его оснований и всего того, что собственно и составляет предмет формальной логики. Однако логика рассматривает свой предмет в его, так сказать, собственном содержании, т. е. с точки зрения тех форм и правил понятийного мышления, которые действительно существуют и функционируют в процессе мышления, рассуждений и т. п. и которые логик лишь выделяет в качестве специального и самостоятельного предмета исследования. Для логики вопросы о том, что такое мышление вообще, откуда, как и почему возникают его правильные логические формы и законы и т. п., по существу не имеют никакого значения или во всяком случае не являются предметом собственно логики как самостоятельной науки.
Для Вольфа же дело обстоит принципиально иначе. А именно: он превращает некоторые свойства и признаки логической формы понятийного мышления, а также некоторые приемы и способы их логического рассмотрения в предмет умозрительно-метафизического анализа и спекуляции. Рассматривая принцип непротиворечивости в качестве условия возможности «нечто», Вольф преобразует логический закон противоречия и логическую возможность как исключительно логические правила и требования, предъявляемые к правильной форме мышления или рассуждения, в онтологические предпосылки или метафизические основания мышления как такового, обладающего самостоятельным существованием в силу его внутренней возможности. Трансформируя «нечто» в «вещь», Вольф превращает акт мыслительного полагания в способ существования мысли, а понятийную форму мысли — в определение сущности вещи.
Под «сущностью» Вольф понимает первое, что можно мыслить о вещи, т. е. ее возможность, благодаря чему она существует, а знание сущности есть понимание способа, каким она возможна, т. е. определена в своем роде [1, § 32—33]. Из всего этого можно понять, что под сущностью вещи имеется в виду ее мыслимость или возможность мыслить понятие вообще; знание сущности есть знание способа, каким вещь определена в своем роде, т. е. знание общего или родового определения понятия, знание же всего остального на основании сущности есть знание признаков или конкретных предикатов понятия.
Иначе говоря, в определении сущности вещи Вольф вновь воспроизводит общую схему перехода от абстрактной мыслимости понятия или его непротиворечивого и возможного мысленного полагания к его определению как общей понятийной формы, в какой может существовать мысль как таковая, а затем — к внутренним предикатам или видовым признакам понятия. Показательно, однако, что эти общие определения сущности Вольф предваряет рассуждением о некоем многообразии, якобы уже присущем вещи, причем какое-то среди них содержит в себе основание всех остальных; понятие сущности и является таким основанием всего другого, а также позволяет понять, почему оно есть в вещи.
Другими словами, вычленив из логической формы абстрактно мыслимого, но уже существующего понятия некоторые его составные логические элементы или признаки его формы, Вольф пытается представить эти элементы как бы в обратном порядке, т. е. как переход от оснований к следствиям или от абстрактной возможности или мыслимости понятия к его внутренним родовым и видовым определениям. В результате сущностью вещи оказывается внешняя возможность понятия, его внутреннее родовое определение как его собственная сущность, которая, в свою очередь, играет роль основания для его видовых определений. В результате сущностью самого существования понятия, его формы и мыслимого в нем содержания оказывается его же логическая возможность или непротиворечивость, однако получившая статус онтологического основания существования вещи и ее признаков.
Аналогичным образом Вольф «дедуцирует» и другие определения сущности вещи: необходимость, вечность и неизменность, причем делается это все тем же способом определения от противного, т. е. от того, чем сущность вещи не может быть согласно закону противоречия. Небытие вещи противоречит бытию, а значит невозможно, а поскольку невозможное противоположно необходимому, вещь необходима; необходимое не может не быть, следовательно, иметь начало или конец, меняться или отделяться от сущности вещи или передаваться другим и т. д., а стало быть, сущность вечна, неизменна [1, § 36—44].
Собственно говоря, во всех этих определениях сущности Вольф фиксирует некоторые вполне реальные особенности логической формы мышления, которая действительно обладает или должна обладать признаками необходимости, неизменности, вневременности и, конечно, непротиворечивости. Для любого знания, стремящегося быть точным и однозначным, все эти «метафизические свойства» имеют безусловный характер, а их нарушение означало бы разрушение формы всякого знания, его ликвидацию или превращение в «ничто». Другое дело, что все эти необходимые признаки логической формы знания, понятия или правильного рассуждения Вольф превращает в определения «онтологической» сущности «вещей» или сущего вообще, причем аналитически выводимые из самой этой сущности как возможности. Разумеется, что в этом случае логическая форма знания из способа фиксации, выражения и возможности трансляции всякого предметного содержания знания, полученного в процессе познавательной деятельности субъекта приобретает мистифицированную форму определения самого этого содержания, да и объекта познания или «вещей» как таковых.
Следующим этапом построения системы является обращение к «самим вещам», достаточным основанием для чего служит уже использованная в доказательстве нашего существования нижняя посылка силлогизма, согласно которой «мы сознаем себя и другие вещи». Исключив из этого положения понятие «нашего сознания», Вольф говорит уже только о «других вещах», притом в качестве таких, которые мы «находим» во множестве вне нас, причем отличных не только от нас, но и друг от друга [1, § 45]. Порядок их нахождения вне нас и расположения вне друг друга и образует, согласно Вольфу, пространство, изменение их положения в пространстве — движение, порядок следования друг за другом — время, а граница протяженности каждой вещи — соответственно — ее объем и фигуру [1, § 46, 51—57].
Таким образом дедуцируются основные категории пространственно-временного мира, которые якобы аналитически содержатся в самой сущности «вещей», а их обнаружение в нашем непосредственном опыте в качестве вещей, данных «вне нас» со всеми их пространственно-временными свойствами, служит лишь эмпирическим подтверждением или иллюстрацией достоверности и истинности их метафизического обоснования. Вряд ли стоит говорить, что в данном случае используется тот же прием «оборачивания», точнее, переворачивания действительного способа обоснования этих понятий, в котором общие понятия и представления обыденного опыта наделяются статусом метафизических категорий и выдаются за вечные и неизменные характеристики пространственно-временного мира.
Впрочем, если в данном случае метафизическое выведение категорий имеет иллюзию правдоподобия, поскольку опирается на действительный факт удивительного (и — заметим — в рамках традиционных гносеологических концепций необъяснимого) соответствия или «сообразования» общих понятий теоретического естествознания с наглядными представлениями обыденного опыта, то при обосновании понятий «простых вещей» Вольф вынужден покинуть «надежную почву» научного и обыденного опыта.
Иллюзия правдоподобия в какой-то мере сохраняется в его анализе понятия частей, из которых состоят все вещи и которые мы можем в них обнаруживать, различая их по фигурам и величинам, способам соединения в составе сложных вещей. Способ упорядоченности или связи этих частей образует сущность сложных вещей, а также служит «основанием» их изменений, возникновения, исчезновения и т. д. [1, § 51, 64, 79]. Вольф, разумеется, понимает неосуществимость выведения всего качественного многообразия сложных вещей из общего определения их сущности, для этого ему пришлось бы включать в состав своей метафизики все данные современной ему физики, химии и других наук о природе (что, впрочем, он попытался сделать в своих «Разумных мыслях...» о «действиях природы», о «целях естественных вещей» и других трудах «естественнонаучного» цикла).
Поэтому, как и во всех других случаях, в которых он сталкивается, с одной стороны, с бесконечным объемом эмпирического многообразия мира, а с другой — с отсутствием достаточных научных представлений об этом богатстве его свойств, он апеллирует к понятию случайности вещей действительного мира. Случайность и является тем признаком, который свидетельствует то ли об «объективном» несовершенстве, о временном и изменчивом характере самого этого мира, который в качестве творения Бога каким-то странным образом оказывается не вполне «адекватным» мыслимому понятию возможного мира и его возможным вещам, то ли о «субъективном» несовершенстве и ограниченности нашего человеческого рассудка, не способного в отличие от Бога достичь адекватного, т. е. полного и аналитически мыслимого понятия возможного мира.
Однако списать все это бесконечное многообразие действительного мира на счет его несовершенства было несправедливо по отношению, во-первых, к «творящей» способности Бога, а во-вторых, к самой метафизике, претендующей на роль посредника между Богом и человеком и призванной просвещать «наш» ограниченный рассудок с помощью «разумных мыслей» о «всех вещах». Поэтому, отказываясь или до поры до времени откладывая решение задачи объяснения и обоснования всего многообразия сложных вещей с помощью закона достаточного основания, Вольф берется за задачу обнаружения «простых вещей», составляющих онтологическое основание всего сложного или составного.
Здесь он сталкивается с древним, возникшим со времен Фалеса, вопросом о первоначале или «первом кирпичике» всего мироздания, однако Вольф ставит его в форме вопроса о переходе от логической возможности, необходимой сущности или родового понятия вещи к действительным, эмпирически данным, пространственно-временным и изменчивым вещам. По способу постановки и решения этого вопроса Вольф отчасти следует Лейбницу, который пытался обосновать переход от идеальных «метафизических точек» или бестелесных монад к протяженным телам путем противопоставления последних как сложных вещей — простым, лишенным протяженности, делимости, фигуры, величины, движения и всех других эмпирических признаков, но обладающим признаками необходимости, неизменности, вечности и т. п.
Соотношение между простыми и сложными вещами Вольф, как и Лейбниц (не используя, впрочем, понятия о бесконечно малых), пытается представить в форме «незаметного» количественного различия между частью сложной вещи и простой вещью и постепенного перехода от одного к другому. Последнюю он рассматривает в качестве некоторого логического предела бесконечного деления сложных вещей на все более мелкие частицы, вплоть до «самых» элементарных и «простых». Таким образом, у Вольфа здесь имеет место незаконная подмена эмпирического понятия «части» понятием «простого», полученного путем всего лишь отрицания того, что присуще составным вещам (делимости, величины и т. п.), а потому указание на то, чем последние не являются, оказывается единственным определением «простого» [1, § 75—83; 2, § 36].
Столь же иллюзорной оказывается и попытка представить некоторый результат процесса расчленения сложных вещей на части в качестве «простой вещи», что опять же является всего лишь неправомерным скачком от эмпирических вещей к метафизическому понятию «простой вещи». Последние по существу являются эквивалентами мыслимого, логически возможного понятия «вещи», однако теперь это понятие берется во множественном числе и выступает в виде более «конкретного» достаточного основания составных вещей. Впрочем, Вольф понимает недостаточность такого способа выведения «простых вещей» из сложных и исключительно негативного их определения и указывает на необходимость их «позитивного» знания.
Для этого он, с одной стороны, пытается изобразить соотношение между простыми и сложными вещами в виде ряда переходных ступеней и достаточно сложного процесса их опосредований, а также подчеркивает, что простые вещи нельзя познать посредством чувств, получить и понять посредством расчленения сложного (как бы забывая, что именно таким путем он фактически и пришел к их понятию). С другой же стороны, он ссылается на то, что в отличие от сложных вещей, которые возникают постепенно, благодаря различным способам соединения частей, их перемещению в пространстве, изменению во времени и т. п., простые вещи возникают «сразу» (auf einmal), как то, чего не было, не могут прекратить своего существования путем разложения на части, а сам процесс их возникновения как и уничтожения нельзя «понять и разумно объяснить» [1,
§ 83—103].
Именно к такого рода аргументу о невозможности «понимания» и «разумного объяснения» (begreifen und verständlich erklären) Вольф прибегает во всех тех случаях, когда ему не хватает эмпирического материала в качестве достаточного основания для сколько-нибудь оправданного перехода к собственно метафизическим категориям своей философии и правдоподобного обоснования их возможности. Между тем в таких случаях на помощь закону достаточного основания приходит принцип противоречия, т. е. логическая возможность непротиворечиво мыслить (фактически — домысливать) некие абстрактные понятия или метафизические сущности, лежащие в основании всего действительного мира. Подлинным же основанием этой возможности оказывается понятие возможного мира, т. е. бесконечный рассудок Бога.
Существенным моментом в понимании Вольфом «простых вещей» является то, что, наделяя это всего лишь логически возможное понятие онтологическим статусом существования, он оставляет открытым вопрос об их субстанциальной сущности, подчеркивая, что они не могут быть причислены ни к материально-телесной, ни к психической природе. Они оказываются неким промежуточным звеном, «средним термином» между «вещью» как всего лишь возможным, непротиворечивым понятием и телами и душами как таковыми, т. е. сложными вещами внешнего и внутреннего опыта, выступая по отношению к последним в качестве необходимого основания. Именно в этом Вольф усматривает отличие своего понятия «простых вещей» от монады у Лейбница, которая, по его мнению, совпадает с понятием представляющей души и потому не может служить всеобщим основанием для всего сложного — как душ, так и тел [1, § 598; 2, § 27; 4, § 73—75].
Исходя из этого он утверждает, что его точка зрения опровергает как идеализм, так и материализм, представленный у атомистов и сторонников корпускулярной теории, как не имеющие под собой никакого достаточного основания [1, § 77, 86, 598; 4, § 75, 209, 598]. Заметим, что вопреки этим заявлениям самого Вольфа некоторые отечественные и зарубежные исследователи считают его учение о «простых вещах» выражением чуть ли не материалистического атомизма [см.: 22. С. 235; 37. С. 37; 43. С. 19]. Впрочем, подобные трактовки вольфовского понятия «простой вещи» вполне объяснимы по причине крайне эклектического его характера, где представления, заимствованные из опыта, а точнее, из принципов естественнонаучного и вполне материалистического объяснения мира, мирно уживаются с метафизическими сущностями и субстанциями.
На самом же деле понятие «простой вещи» является у Вольфа всего лишь логически возможным понятием вещи вообще, которое в соответствии с конкретным содержательным контекстом в составе его системы наделяется значением достаточного основания либо сложных вещей телесного мира, либо человеческих душ. В этом, собственно говоря, и заключается принципиальное отличие вольфовской метафизики от монадологии Лейбница: понятие последнего о монаде как живой и деятельной субстанции Вольф превращает в некий логический атом, «нейтральный» по отношению к тому содержанию, которое рассматривается в тех или иных разделах его системы — в космологии или в эмпирической или рациональной психологии. И надо сказать, что хотя Вольф действительно упростил гениальные догадки и прозрения своего великого учителя, тем не менее в своем дедуктивном построении системы метафизики он был более последователен.
Во всяком случае, в своем конструировании картины телесного мира Вольф избегает тех сложностей, с которыми столкнулся Лейбниц при обосновании перехода от живых и представляющих, но замкнутых в себе монад к понятию телесного мира как «хорошо обоснованного феномена». Вольф же для решения этой задачи «обнаруживает» в «простых вещах» такой их признак, как наличие в них чего-то длящегося или постоянного (fortclauerendes), которое в составе сложных вещей может изменять степень, величину и другие количественные показатели, но исключительно в рамках одной и неизменной сущности [1, § 87— 88, 101—103]. Кроме того, «простым вещам» наряду с их неизменностью, не-уничтожимостью, их постоянно сохраняющимся количеством Вольф приписывает конечный и разнокачественный характер [1, § 109—112]. Все это и позволяет ему с относительной легкостью конструировать модель телесной природы по образцу механико-математической картины мира.
Причем, что особенно важно, все указанные признаки «простых вещей» удивительно хорошо «ложатся» как на формально-логические характеристики понятий о возможных вещах (конечность объема, качественная неизменность содержания и т. д.), так и на содержательные характеристики эмпирических вещей (относительная неизменность и постоянство, качественное многообразие и т. п.). Это и позволяло Вольфу достаточно легко совмещать логически возможные понятия «вещей» и их внутренние предикаты с внешними предикатами эмпирически данных вещей действительного мира и соответственно изображать последнее не как всего лишь найденное в случайном опыте, а как необходимо мыслимое внутреннее содержание понятия «простой вещи» и аналитически «выводить» все свойства сложных телесных вещей из первых оснований «всех вещей вообще», где они были как бы предзаложены в форме логической возможности.
Наиболее показательным отличием вольфовской рассудочно-механистической картины мира от его понимания у Лейбница как живой, динамически развивающейся и разнокачественной природы может служить понятие субстанции. К этому понятию Вольф приходит путем очередного «синтетического добавления» к «простой вещи» предикатов действия или дела и страдания (Tat, Tun, Leidenschaft), а также силы и способности (Kraft, Vermögen). Сила и действие характеризуют «простую вещь» с точки зрения находящегося в ней самой необходимого источника или основания изменений, субстанция же является определением простой вещи как самостоятельной и существующей для себя вещи, содержащей в себе внутреннее условие, источник или силу для реализации ее возможности или перехода к действительному [1, § 104—105, 114— 127, 584; 2, § 39, 66; 4, § 24, 72]. Страдание же, напротив, характеризует простую вещь со стороны ее случайных изменений, причем их основание находится не в самой вещи, а вне нее, в других вещах. Кроме того, если сила обладает стремлением (Bemühung) нечто сделать, превращать возможное в действительное, то способность есть лишь возможность нечто делать [1, § 126—127].
Весьма показательно, что вопреки собственному утверждению, будто внутренняя сила и действие субстанции являются основаниями перехода от возможного к действительному, подлинным основанием действительности внешних, протяженных тел оказывается именно ее пассивный и ограниченный характер. Всякая субстанция, за исключением Бога, имеет конечный, ограниченный и потому не вполне самостоятельный характер [2, § 39]. Это означает, что каждая субстанция существует и имеет источник своих изменений не только в себе и для себя, но и вне себя, в других вещах, от которых она зависит как в своем существовании, так и в своих изменениях. Иначе говоря, все эти определения протяженного тела (зависимость существования, пассивный и случайный характер изменений и т. д.) характеризуют субстанцию как бы с отрицательной стороны, однако и в данном случае именно эти отрицательные определения и позволяют Вольфу «обосновать» субстанцию с «положительной стороны».
В данном случае ход рассуждений Вольфа повторяет уже знакомый нам прием апелляции к множеству «других» вещей, которые мы находим «вне нас», но существование которых как раз и требуется обосновать. Прием этот в целом заимствован у Лейбница, в его учении о монадах как активных и самодеятельных субстанциях, которые в процессе своего внутреннего развития каким-то образом «сталкиваются» друг с другом, начинают мешать и ограничивать друг друга, а в результате этого и возникает пассивная и протяженная материя [28. T. 1. С. 140]. У Вольфа материя также выступает как нечто пассивное, противостоящее внешнему движению, которое стремится вытеснить тело с занимаемого им места в пространстве, и, таким образом, оказывается характеристикой «простых вещей» и субстанции, ее силы и действия со знаком минус, т. е. чем-то зависимым, существующим через другое, выражающим ограниченный и несовершенный аспект субстанции [1, § 607—610, 622]. Таким образом, к «подлинному и позитивному» определению метафизической субстанции оба мыслителя приходят путем отрицания или «переворачивания» ее «неподлинных» или внешних проявлений и негативных определений.
Однако при всем сходстве способов обоснования и понимания материи и протяженных тел между Вольфом и Лейбницем существуют глубокие различия. Если у последнего субстанция выступает как полная внутренней силы, самодеятельная, стремящаяся к самореализации монада (причем эти характеристики Лейбниц относит ко всему действительному миру как бесконечно развивающемуся и стремящемуся к совершенству как полноте целого), то иная картина имеет место у Вольфа. У него субстанция является не чем иным, как переведенным на онтологический язык обозначением общего или родового понятия «вещи», внутреннее содержание которого мыслится в качестве некоторого предзаданного и весьма ограниченного числа предикатов, а потому и понятие субстанции оказывается у Вольфа крайне бедным и абстрактным, лишенным жизни, внутренней склонности или стремления к саморазвитию и т. д.
Собственно, понятие субстанции выступает у Вольфа в роли достаточного основания для «обоснования», а по сути всего лишь логического выведения внутренних предикатов понятия под видом различных свойств, состояний и изменений эмпирических вещей. Последние оказываются заключенными в границы неизменной сущности понятия с заранее заданным объемом и определенным содержанием, а внутренняя сила и действие субстанции, ее «самостоятельность» и «самодеятельность» «проявляется» в форме логического выведения всех содержащихся в понятии субстанции предикатов. Таким образом, динамичный и живой субстанциализм Лейбница превращается у Вольфа в статичный и сухой логицизм, где место активных и саморазвивающихся монад или «метафизических единиц» заступают «нейтральные» «логические атомы», т. е. логически возможные понятия «простых вещей».
Подобного рода логизация лейбницевского понятия субстанции, отказ от ее понимания как живой и представляющей монады привели Вольфа отнюдь не к «опровержению идеализма», а к явно выраженному дуалистическому противопоставлению души и тела и к крайне упрощенному пониманию принципа предустановленной гармонии, к рассмотрению которых мы обратимся позже. Во всяком случае, вольфовская попытка прояснения и строгога определения понятия субстанции привела к тому, что ее «деятельная» природа оказалась сведенной к аналитическому выведению предикатов понятия субстанции по закону противо^ речия, а вся вольфовская философия приобрела видимость некоей самоисчисляющейся логической системы.
Общий порядок следования ее понятий, правила их выведения из первых оснований познания согласно принципу противоречия и закону достаточного основания образует некий общий1 порядок природы или действительного мира, что и составляет, по Вольфу, его истину или совершенство как единства многообразия. Этот порядок и совершенство он называет трансцендентальной истиной, в которой логическая истина совпадает с объективной, возможность с действительностью, порядок в познании с порядком в изменении вещей, а их общим основанием оказывается некая формальная и универсальная «эйдетическая структура» или рациональные принципы мыслимости, задаваемые принципами противоречия и достаточного основания. А потому трансцендентальная истина оказывается одновременно основанием как вещей, так и познания и позволяет отличить истину от видимости [1, § 142—156; 2, § 42—44; 3, § 472, 493—502].
Таков завершающий вывод вольфовской онтологии или учения о «первых основаниях познания и всех вещах вообще», в которой дана программа содержательного состава учений о внешнем мире (космологии) и о душе (психологии), а также способа их анализа и понимания. Собственно, основные идеи учения о мире или космологии, составляющие содержание 4-й главы «Метафизики» [1, § 540—726], Вольф во многом уже изложил в рассмотренной нами второй главе, да и вообще учение о мире является, пожалуй, наименее интересной ее частью.
Поэтому, не вдаваясь в подробное изложение и анализ рациональной космологии, отметим, что в ней, согласно Вольфу, речь идет о мире как предмете метафизики, т. е. о мире вообще или о том, что относится к его всеобщему познанию, а не о «нашей» вселенной и данных нам в опыте изменениях, происходящих на земле [1, § 540—541]. Последнее он считает предметом другой работы — физики, или «Разумных мыслей о действиях природы» [см. 6], впрочем, как уже отмечалось, различение теоретических и эмпирических или прикладных частей в его философии имеет достаточно условный характер, а главное, эмпирические понятия и ссылки на данные опыта являются непременным атрибутом всех его построений, включая изложение онтологии или основной науки о «первых принципах» познания и всех вещах вообще.
В рациональной космологии «внешний» или телесно-протяженный мир предстает в качестве некоторой единой, логически непротиворечивой системы, где все составные части или «реальные вещи», «обоснованные» в онтологии, выражены в форме однозначно определенных и неизменных в своей сущности понятий, каждое из которых имеет строго фиксированное место и функцию в общей картине мира. Именно в космологии Вольф предпринял наиболее последовательную попытку реализации так называемого логического идеала знания и превращения понятий и принципов современного ему механического естествознания в. плоскую и рассудочную механистическую натурфилософию.
Напомним в этой связи, что если монадология Лейбница была во многом инициирована потребностью преодоления ограниченности именно механистического понимания природы (достаточно вспомнить его критику в адрес понятия субстанции у Декарта и Спинозы), то философия Вольфа стала своего рода апофеозом механицизма, правда, с заметными добавлениями элементов телеоло-
гии. Повторяя в космологии соответствующие выводы онтологии, Вольф утверждает, что истина существует в самом мире, где каждая вещь имеет основание в другой, а способ соединения и изменения вещей и частей мира напоминает порядок правильных и необходимых доказательств в теоремах Евклида или устройства сложного механизма, например часов. Именно этот «правильный» и неизменный логической порядок мира и его механико-математическое устройство отличают истинный мир от грезы и являются одними из «показателей» его действительности [1, § 558—560, 615—617, 631—633].
Однако в этой рационалистической и в известном смысле просветительской «грезе» о разумно устроенном мире две вещи вызывают у Вольфа некоторое «беспокойство» или «затруднение». Первая из них — явное несовершенство реального, эмпирически данного мира, многих его конкретных, чувственно воспринимаемых вещей, частей, событий и т. д., плохо согласующихся друг с другом, отклоняющихся от «правильного порядка» и даже противоречащих ему. В космологии этот вопрос Вольф затрагивает вскользь, ссылаясь на слишком большое многообразие вещей и различия между ними, а его решение откладывает к концу своей системы, ограничиваясь пока ссылками на авторитет Фомы и Лейбница, считавших, что Бог допускает несовершенство частей, чтобы сохранить совершенство целого [1, § 170, 701—710; 2, § 51].
Более существенное затруднение вызывает у Вольфа призрак фатализма — эта неизбежная обратная сторона сближения формальной правильности знания с его истинностью, логически возможного и необходимого с эмпирически действительным и случайным. Возможность преодоления фатализма Вольф связывает с различением закона противоречия и достаточного основания, а также с различением абсолютной, неизбежной необходимости и относительной, условной необходимости природы, «просто» возможного и возможного в этом мире и
Т. д. [1, § 175—176, 563—568, 575—576; 2, § 6—7].
Однако все эти различения, как мы уже видели, имеют смысл только при допущении относительно самостоятельного существования действительного мира и использования его эмпирических признаков в качестве достаточного основания его познания, т. е. в случае дуалистического противопоставления возможного и действительного миров, а также принципа противоречия — закону достаточного основания. Непротиворечивое решение этого вопроса в рамках онтологии или учения о «первых принципах» метафизики Вольфу не удалось, тем более оно оказывается невозможным в космологии. А поэтому окончательный ответ Вольф «отодвигает» в свое учение о Боге, связывая его прежде всего с вопросом о свободном выборе действительного мира, а потому относительно случайном характере его существования как мира в целом. Случайность же внутри действительного мира является, по Вольфу, характеристикой не столько самого этого мира или выражением его несовершенства, сколько проявлением ограниченности и несовершенства человеческого рассудка, его недостаточной способности к различению истины и грез [1, § 142—146, 553—580]. Учение же о рассудке относится уже к компетенции эмпирической и рациональной психологии.
§ 8. ПСИХОЛОГИЯ И ТЕОРИЯ ПОЗНАНИЯ
Учение о душе Вольф разделяет на эмпирическую и рациональную части, соответственно составляющие содержание 3-й и 5-й глав «Метафизики». В первой из них душа рассматривается преимущественно на основе опыта или «исторически», во второй — на основе «первых принципов» познания, т. е. онтологии, а также космологии, а потому Вольф считает ее собственной частью метафизики, каковой эмпирическая психология считаться не может [1, § 191— 1922, § 55; 4, § 79]. Напомним в этой связи, что вопрос о месте, да и вообще о правомерности включения эмпирической психологии в состав метафизики породил острые разногласия среди последователей Вольфа, а в конечном итоге привел к определенному размежеванию между ними: у некоторых она выдвинулась на первый план, у других она целиком вошла в состав рациональной психологии. У самого Вольфа в поздний период творчества заметно усилился интерес к собственно онтологическим основаниям системы метафизики, что, как уже отмечалось, было выражением ее глубокого внутреннего кризиса.
Показательно, что хотя Вольф и не считал эмпирическую психологию собственной частью метафизики, тем не менее он обратился к ее понятиям непосредственно после рассмотрения «первых принципов», т. е. онтологии, и отвел ей самую объемную главу в своей «Метафизике». Более того, как мы видели, к «несомненному» факту внутреннего опыта, т. е. «сознанию себя и других вещей», он обратился уже в первой главе и, собственно, доказательство «нашего существования» использовал в качестве предпосылки своего учения о первых основаниях познания. Строго говоря, все метафизические построения Вольфа в определенной мере представляют собой не что иное, как рационализацию или логическую реконструкцию и систематизацию понятий, данных в мышлении, сознании или во внутреннем опыте некоего абстрактного субъекта-метафизика. Отчасти это признает и сам Вольф, указывая, что все отчетливые понятия и вечные истины, которые лежат в основе логики, морали, политики и т. д., мы познаем на основе самонаблюдения, «обратив внимание на себя» [1, § 191].
В учении о «первых принципах» Вольф использовал именно понятие души для пояснения или иллюстрации понятия «простой вещи» или активной субстанции, которая имеет в себе источник собственных изменений и обладает силой (достаточным основанием) производить действия [1, § 114, 128; 2, § 39]. Правда, в онтологии «простые вещи» трактовались как «нейтральное» субстанциональное основание всего действительного — человеческих душ и протяженных тел, а Лейбниц упрекался в идеализме за сближение понятия субстанции с человеческой душой. В учении о мире Вольф заменяет понятие «простой вещи» понятием «элемента», как более «удобного» для перехода и обоснования понятий «материи», «части» и даже «сложных вещей», т. е. физических, протяженных тел. В психологии же «простая вещь» выступает именно в значении души, причем в эмпирической психологии речь идет о душе как способности сознавать «другие вещи», находящиеся вне нас и воздействующие на нас, а в рациональной — о сознании как способности или силе самостоя-
65
3 'Зак. 642
тельно производить действия, т. е. порождать мысли о вещах вне нас и в нас [1,
§ 192—196, 728—730].
Вспомним, однако, что в онтологии определения субстанции как конечной, пассивной и зависимой от других вещей служили для Вольфа одной из предпосылок ее определения как протяженного тела. И хотя в эмпирической психологии пассивная зависимость души от внешних тел выражается не в ее физических изменениях и пространственном движении, а в качестве способности получать ощущения и т. д., тем не менее указанные «совпадения» в способе обоснования души как предмета эмпирической психологии и тела как предмета космологии оборачиваются глубоким дуализмом и в то же время противоречивостью учения Вольфа о душе.
В эмпирической психологии он, по существу, воспроизводит установки сенсуалистической и эмпирической гносеологии. Источником познания, утверждает он, являются органы чувств, их способность испытывать изменения в результате воздействия на них внешних вещей, протяженных тел. Эти изменения служат основанием ощущений, причем их возникновение и порядок следования всецело зависят от естественного порядка вещей в природе и от положения собственного тела человека в мире (и даже от состояния его здоровья, медицинское улучшение которого способно улучшить и «качество познания») [1, § 219—220, 526— 539, 815—820]. Таким образом, здесь душа рассматривается Вольфом не только как «чистая доска», на которую оказывают физическое влияние или механические воздействия внешние тела; ее деятельность ставится в зависимость от работы нервов и мозга, а последние — от движения некоей тонкой и подвижной материи внутри них, т. е. от физиологических процессов, протекающих в теле согласно законам механики [1, § 815, 820; 4, § 46].
Отметим, что в эмпирической психологии Вольф, хотя и мельком, говорит о различии ощущений как состояний органов чувств, возбуждений тела, и как состояний «мыслей» или души, между которыми существует постоянное соответствие, причем одно невозможно без другого [1, § 222]. В дальнейшем это различение приобретет особое значение, однако пока Вольф продолжает рассуждать в духе эмпирической гносеологии, считая ощущения, наблюдения и созерцания основой познания и напрямую ставя в зависимость от них деятельность воображения, памяти и рассудка, которые создают общие образы и понятия лишь посредством обнаружения сходства и различий между данными в чувствах вещами и их последующего «обдумывания». Рассудок и разум определяются им как способности абстрагирования, т. е. создания общих понятий, а также демонстративного доказательства, в которых используются правила и законы логики, язык и т. д. [1, § 249, 268—286, 364—366, 832—833, 846; 2, § 86, 89—90, 99].
Показательно и то, что, сводя различие между ощущениями и мышлением, чувственностью и рассудком главным образом к количественному различию по степени ясности и отчетливости доставляемых ими представлений о вещах, Вольф ставит «высшую часть» души — рассудок и разум — в зависимость от «низшей» — чувственности и воображения, причем переход от низшей к высшей способности осуществляется без скачка [4, § 92—93]. Кроме того, в эмпирической психологии Вольф рассматривает множество вопросов, традиционно входящих в состав эмпирической гносеологии, таких как различение образного и фигурного познания, наблюдений и экспериментов, научного и обыденного познания, а также дает анализ способности желания, воли, нравственного чувства и чувства удовольствия и т. п.
Однако после такой развернутой эмпирико-психологической трактовки души Вольф переходит к ее собственно метафизическому рассмотрению как «простой вещи» и видит задачу рациональной психологии в определении ее сущности как необходимого основания всего того, что мы узнаем о ней эмпирически. Таким образом, душа выступает теперь не как пассивная и обусловленная внешними воздействиями способность, а как самостоятельная, независимая от тела субстанциальная сущность, имеющая в себе основания всех своих изменений, и как активная сила, способная порождать или продуцировать из себя ясные и отчетливые мысли и понятия [1, § 727—732, 743—748, 755—756; 2, § 6].
При этом если в эмпирической психологии главный акцент делался на чувственной способности души, на анализе ощущений как состояний и изменений тела, то в рациональной психологии на первый план выдвигается различие между «материальными представлениями» вещей и мыслями и ставится вопрос о принципиальной противоположности между душой и телом. Ясное же и отчетливое понимание различия между ощущениями как состоянием органов чувств и ощущениями как внутренними состояниями души он считает основанием сознания. Если первые обусловлены воздействием тел на органы чувств, то вторые осуществляются внутри души, которая путем обдумывания (überdenken) своих представлений противопоставляет их внешним вещам, благодаря памяти это различие удерживает, а благодаря размышлению (nachdenken) это различие сознает. Именно таким путем, считает Вольф, возникает сознание и самосознание как познание отличия себя от внешних вещей, а также мысли и мышление как таковое, которое является исключительным достоянием души, выражением ее сущности, полностью не зависимой от тела и от подвижной материи мозга Г1,
§ 732—741, 732—736].
С точки зрения «первых принципов» метафизики осуществляемое Вольфом обоснование души как предмета рациональной психологии состоит в том, что заимствованные из внутреннего опыта, а точнее даже, из созданных в истории философской мысли представления о душе и ее способностях Вольф рассматривает не как предикаты, присоединенные синтетически к логически возможному понятию души как «простой вещи», а как нечто, якобы имеющее основание в самой сущности души и ее внутренней силе. Причем способы проявления этой силы, ее деятельность рассматриваются Вольфом по образцу все той же аналитической дедукции предикатов из «первых оснований нашего познания», только теперь этим основанием выступает душа, а выводимые предикаты выражают свойства и признаки не вещей внешнего мира, а различных форм человеческой деятельности — ощущений, понятий, желаний и т. п., т. е. чувственных, мыслительных и волевых процессов. Сама же душа теперь представляется как нечто простое, не возникающее естественным путем, но нетленное и бессмертное, точнее — теряющее со своей телесной оболочкой свою ограниченность, но не сущность [1, § 745—750, 926—927].
Следует отметить, что проводимое Вольфом радикальное, даже дуалистическое противопоставление эмпирического понятия души, как способности, связанной с телом и зависимой в своих состояниях от внешних воздействий на органы чувств, с одной стороны, и ее рационалистического понимания как самостоятельной сущности, целиком определяющей свою деятельность своей внутренней силой, с другой, в определенном смысле позволило ему достаточно широко обрисовать общий состав и основные сложности традиционного вопроса о соотношении души и тела. В частности, посредством различения этих двух способов понимания души Вольф, вслед за Лейбницем, обнаруживает некоторые реальные проблемы, связанные с особенностями познавательного образа как особой гносеологической проблемы знания как специфического единства субъективного и объективного, отражающего и отражаемого, а также рефлексивного осознания этого единства как предпосылки и источника самосознания.
Согласно Вольфу, отличие души от тела состоит в том, что хотя в теле и имеют место чувственные впечатления и «материальные представления», тем не менее относительно тела нельзя говорить, будто в нем имеет место различение представляемых им вещей от представляющего тела. Человеческое тело не может сознавать свои движения и представления, а все происходящее в нем не выходит за границы природы, не отличается от работающей машины, а потому ему нельзя приписывать ни самосознания, ни рассудка или разума, которые остаются исключительным достоянием независимой от тела души [1, § 222, 740, 844].
Здесь Вольф в специфической форме нащупывает действительное различие между ощущением как физическим раздражением и физиологическим процессом и ощущением как психическим процессом и элементом познавательной деятельности, имеющей осознанный характер. Ведь в рамках основного гносеологического вопроса мышление или сознание как образ материального мира действительно имеют относительно самостоятельный идеальный характер, противоположный отражаемому бытию и несводимый к своему материальному носителю. Собственно говоря, эта двуединая природа познавательного образа, предметного знания как единства несводимых друг к другу, но в то же время связанных противоположностей была одним из основных камней преткновения для всей философии Нового времени.
Попытки решения этой проблемы неизбежно порождали субстанциальный дуализм или психофизический параллелизм, заставляли прибегать к постоянному или случайному божественному вмешательству, а также к якобы устанавливаемой Богом гармонии между противоположными субстанциями и т. д. Именно с этой традиционной и неразрешимой проблемой сталкивается и Вольф в своем учении о душе как предмете рациональной психологии, и если в плане ее постановки и решения он не внес ничего принципиально нового, то с точки зрения более отчетливой экспликации ее собственно познавательного смысла и специфической природы он действительно сделал известный шаг вперед. В этом смысле определенной заслугой Вольфа было то, что, опираясь на лейбницевское понятие предустановленной гармонии, он хотя и устранил ряд ее диалектических моментов (прежде всего идею бесконечного развития в природе и познании), но, ограничив ее вопросом о соотношении души и тела (а не монад друг к другу), — смог яснее тематизировать ее собственно гносеологическое содержание.
Переходя к обоснованию принципа предустановленной гармонии, Вольф, как бы забывая принятые им самим же в «эмпирической психологии» установки сенсуалистической гносеологии и теории «физического влияния», допускавших возможность перехода от внешних тел к их представлениям в душе, неожиданно утверждает, что душа как простая субстанция могла бы обладать знанием о мире даже в том случае, если бы не существовало никакого мира вне души [1, § 765, 777, 942]. И тем не менее он подчеркивает, что понятие представления предполагает наличие его сходства или подобия (Ähnlichkeit) с существующими в мире вещами. При этом он исходит из того, что, во-первых, отрицание существования всех вещей, за исключением человеческой души или «я», чревато опасностью субъективного идеализма, представителей которого он называет «крайне странной сектой эгоистов» [1, § 2]. Во-вторых, отрицание момента сходства или подобия между представлением и вещью ставит под угрозу собственно познавательное значение первого и позволяет предположить, будто душа способна представлять себе не мир, а нечто совершенно иное, не эти, а другие вещи. Поэтому главной характеристикой представления является то, что оно служит образом (Bild), т. е. обладает сходством с вещью, и только это является основанием ее способности представлять именно этот действительный мир [1, § 769].
Однако каким же образом возможно это сходство, если тело и душа выступают как абсолютно отличные и даже дуалистически противопоставленные друг другу самостоятельные сущности, между которыми нет никакого взаимодействия, а состояния и изменения внутри каждой из них имеют свой собственный источник? Ответ на этот, по признанию самого Вольфа, «трудный вопрос» он, вслед за Лейбницем, находит в предустановленной гармонии или постоянном соответствии (beständige Zusammenstimmung) между телом и душой, которые обеспечивают и гарантируют полное согласие, сходство или подобие между состоянием внешнего мира и представлениями души. Впрочем, основание этого соответствия находится в отличной от этого мира и души сущности — в Боге [1,
§ 760—768, 815—819].
Таким образом, возможность познания, т. е. соответствия, сходства между знанием и его предметом, образом и вещью, оказывается возможным лишь в Боге и благодаря Богу постулатом, внешним и недоказуемым заверением человека в объективной значимости и истинности его познания. По сути дела, предустановленная гармония является всего-навсего констатацией факта соответствия или сходства, имеющихся между образами и вещами, предметами и понятиями, а в конечном итоге — между мыслимым, логически возможным и эмпирически данным или действительным миром, т. е. молчаливым признанием невозможности решения основной гносеологической проблемы в рамках «первых принципов» рационалистической метафизики.
Кроме того, значительно упростив лейбницевское понимание предустановленной гармонии, сведя богатую, разнокачественную и развивающуюся картину мира как своеобразного «хора» монад к весьма плоскому, однозначному соответствию между миром, трактуемым в форме правильно устроенного механизма, и душой, внутренний мир которой, по существу, оказывается системой упорядоченных логических связей и отношений между понятиями, Вольф столкнулся с трудностью, аналогичной той, которая встала перед ним в конце космологии в качестве проблемы случайности и несовершенства мира. Только теперь рациональное учение о душе оборачивается неспособностью объяснить не только источник темных, спутанных представлений, иллюзий и заблуждений, случайных действий души, но и возможность ее свободы. Ведь, будучи совершенно независимой от тела и внешнего мира, душа оказывается целиком и полностью запрограммированной в своей деятельности этой самой гармонией, которую Бог «предустанавливает» относительно ее представлений и знаний о мире, да и всех других ее способностей, в том числе волевых желаний, порядок возникновения и изменения которых также полностью должен соответствовать изначально установленному порядку изменений в мире и в теле [1, § 767, 883—883].
Собственно говоря, с точки зрения предустановленной гармонии оказывается невозможным объяснить источник не только смутных представлений, но и иллюзий, и заблуждений, кроме того, не вполне понятной остается возможность их преодоления, да и сам критерий их отличения от истины. Такого рода неутешительные результаты теории предустановленной гармонии были, по существу, предопределены или заложены в самих онтологических основаниях, «первых принципах» вольфовской метафизики. Однако в учении о душе и предустановленной гармонии эти трудности вышли за пределы сугубо методологических и гносеологических проблем, но приобрели значение мировоззренческих вопросов, связанных с обоснованием возможности нравственной свободы и ответственности человека. Трудности, с которыми столкнулся Вольф при решении этих проблем в «Метафизике», обернулись вполне очевидной угрозой фатализма, что и привело его к серьезному конфликту с официальной церковью и религиозной идеологией.
Мы не имеем возможности специально останавливаться на истоках и содержании этого конфликта, как и на попытках Вольфа решить проблему свободы и нравственной ответственности человека посредством сближения зла и греха с незнанием и неразумием, а также на его упованиях на возможность достижения добра и блага путем просвещения умов, обучения «правильному» пользованию рассудком и познанию законов природы, которые, по его мнению, имеют характер относительной или гипотетической необходимости, а потому не исключают возможность свободы [1, § 492—498, 506, 511—512, 884—885; 4, § 6, 94—95, 135]. Найти последовательный выход из этой мировоззренческой альтернативы Вольфу так и не удалось, как не удалось ему преодолеть трудности и противоречия своей онтологии и других частей системы посредством апелляции к понятию Бога, рассмотрению которого посвящена ее заключительная глава и которую сам Вольф считал «самым важным» в своей философии [4,
§ 9. УЧЕНИЕ О БОГЕ
Обращение Вольфа к понятию Бога отнюдь не было вызвано его стремлением «примирить» знание и веру или поиском компромисса с официальной церковно-религиозной идеологией. Субъективно Вольф стремился к этому, и в его работах буквально на каждом шагу встречаются многословные и довольно лицемерные заверения на этот счет, что, впрочем, не спасло его ни от конфликта с церковью, ни от обвинений в ереси, фатализме и даже атеизме. «Еретичными» же признавались не какие-то частные отступления Вольфа от религиозной догматики, а тот фундаментальный факт, что Бог выступал у него не как библейский творец мира, источник и объект религиозной веры, а именно как философское понятие, которое подлежит рациональному обоснованию и познанию. Ученик Вольфа А. Баумгартен верно определил естественную теологию Вольфа как науку о Боге, поскольку он может быть познан без веры [13, § 598], впрочем, такое определение можно отнести к большинству философов Нового времени.
Оригинальность Вольфа заключалась не в самой попытке рационального понимания и обоснования понятия Бога, и даже не в том, что оно выполняет важные функции в его системе, но прежде всего в том, что в своей «Метафизике» он сделал это с присущим ему логическим педантизмом, стремясь к максимальной последовательности, доказательности и т. д. Но именно поэтому он эксплицировал все сложности, тупики и противоречия, которые неизбежно возникают при такого рода попытках и, что еще более важно, Вольф сделал очевидным тот факт, что понятие Бога, или высшей разумной сущности, оказывается внутренне необходимым атрибутом не только его «Метафизики», но и всей традиционной метафизики, да и любой философской концепции, которая, как и вольфовская, пытается использовать методы научного познания, опираться на законы рационального мышления и данные опыта, претендовать на статус научности и т. д. Реальным результатом этой попытки (самим Вольфом не планируемым и не осознанным, а тем более, не выраженным), оказалось обнаружение даже не столько несостоятельности любых типов доказательства бытия Бога, сколько недостаточности и ограниченности самих исходных принципов и установок традиционной метафизики для решения проблем собственно философского познания.
Показательно, что, в отличие от большинства предшественников, например, Спинозы и отчасти Декарта, понятие Бога появляется у Вольфа только в конце системы, а не в ее начале, что намного облегчило бы ему дедуктивно-аналитическое обоснование и доказательство всех ее понятий. Обращение к понятию Бога диктуется общей и внутренней логикой построения им системы, а способ его введения и обоснования в состав «Метафизики» опосредуется «первыми принципами» и исходными установками, т. е. законами противоречия и достаточного основания, с помощью которых понятие Бога и должно быть доказано.
Свое обоснование понятия Бога Вольф начинает с общих рассуждений. Поскольку все должно иметь основание, почему оно есть, должна существовать вещь, которая, с одной стороны, служила бы достаточным основанием всего существующего, а с другой — сама была бы таким основанием, которое не нуждается ни в каком основании вне себя, но имело бы его в себе. Эту «вещь», имеющую основание в самой себе и, в отличие от всех других вещей, не только существующую необходимо, но и играющую роль первого и единственного основания для всего другого, Вольф называет самостоятельной сущностью (selbstständiges Wesen) [1, § 928—930, 1082; 3, § 299].
Далее Вольф утверждает, что понятию «абсолютно самостоятельной и необходимо существующей сущности» должно быть свойственны такие предикаты, как простота, неизменность, вечность, нетленность, бесконечность и т. п. Все определения этих признаков Вольф, как и в случае обоснования «простых вещей», получает посредством их противопоставления свойствам зависимых, случайных, конечных, сложных и изменчивых вещей эмпирического мира, а потому эта сущность также объявляется «простой вещью». Однако в отличие от тех «обычных» «простых вещей», которые имели место в учении о мире и душе и служили основанием их возможности, «простая вещь» в качестве самостоятельной и необходимо существующей сущности должна служить основанием «всех вещей», как возможных и простых, так и действительно существующих и сложных — телесных, духовных и т. д., а потому она должна быть единственной в своем роде, или уникальной, «простой вещью».
После перечисления всех этих признаков, каким должно удовлетворять понятие такой «простой вещи» в качестве самостоятельной сущности, служащей первым основанием всего сущего, Вольф замечает, что поскольку все они вполне соответствуют тому, «каковым должен бы быть Бог» (Was Gott sei), то эта сущность и есть та, «которую мы обычно называем» (zu nennen pflegen) Богом. А поскольку эта самостоятельная сущность существует необходимо, то следовательно, делает он вывод, Бог есть, существует [1, § 931—947].
В этом доказательстве бытия Бога бросается в глаза тот факт, что Вольф пытается его строить по той же логике и с помощью тех же принципов и оснований, на которых он вел доказательства всех других понятий своей системы. По его форме оно может быть отнесено к космологическому доказательству, которое строится на заключении от эмпирически действительного и случайного мира к его первой и необходимой причине или основанию. Если же отбросить все «глобальные» определения и эпитеты, которыми Вольф обильно снабжает свое доказательство, и проанализировать последнее с точки зрения его логической формы и структуры, то оно оказывается не более чем частным случаем применения закона достаточного основания, согласно которому все, что существует, должно иметь достаточное основание, почему оно существует [1, § 29—
30].
Но, как мы видели, закон достаточного основания служит доказательству лишь случайных или фактических истин, поскольку сам исходит из того, что нечто «есть», уже существует, так или иначе дано, а не только возможно согласно закону противоречия. В данном случае таким данным «нечто» оказывается именно тот мир, который и был представлен в самой вольфовской метафизике, т. е. в рациональной космологии и психологии, правда, пока еще в качестве возможного, хотя и эмпирически достоверного или правдоподобного. Вопрос же о действительности этого мира может и должен быть решен только с помощью Бога как первого и необходимого основания его существования, бытие которого еще только предстоит доказать.
Очевидно, однако, что понятие возможного мира, представленное в учении о мире и душе, не может служить основанием для доказательства бытия Бога как первого основания этого мира. Во-первых, в данном случае можно говорить лишь о необходимости такого основания для данной системы возможного мира, а отнюдь не о существовании Бога как такового, и во-вторых, от необходимости понятия о таком основании нельзя заключать, к тому, что это понятие необходимо существует: «факт» его существования оказывается обусловленным или целиком зависимым от данного понятия мира, а потому остается случайным. Следовательно, осуществляемое согласно закону достаточного основания космологическое доказательство бытия Бога, да и само его понятие оказывается всего лишь возможным, случайным и обусловленным, но никак не необходимым. Поэтому свое космологическое доказательство бытия Бога как основания понятия мира, Вольф вынужден дополнять онтологическим аргументом, в котором логически возможное понятие Бога наделяется предикатом бытия или необходимо существующей и самостоятельной сущности.
Но и в этом доказательстве бытия Бога Вольф сталкивается с той же самой проблемой, которая возникла перед ним в доказательстве «первых принципов» его «Метафизики», а именно: закон противоречия не может служить основанием необходимого существования возможного понятия, а тем более действительного существования его предмета. Точнее сказать, закон противоречия может служить основанием существования «нечто» или Бога только в качестве предикатов аналитически-тождественных суждений: «нечто есть нечто» или «Бог есть Бог», но в этом случае понятие Бога остается всего лишь логически возможным понятием, но отнюдь не «высшим существом» или первоначальной сущностью, якобы содержащей в себе основание своего бытия.
Поэтому и в данном случае единственным и подлинным основанием утверждения о необходимом и самостоятельном существовании Бога оказывается всего лишь потребность мыслителя-метафизика и его убежденность в том, что такая «вещь» или «сущность» должна существовать и служить первым основанием его системы, оправдывая ее существование и создавая видимость ее обоснованности, завершенности, истинности, познавательной значимости и т. д. Но тем самым от логической и познавательной потребности в достижении полного единства системы и завершенности ее обоснования, всего лишь субъективной, Вольф делает неправомерный вывод о его якобы реальном и необходимом существовании, т. е. о самостоятельном бытии Бога. Иначе говоря, всего лишь желаемое и должное превращается у Вольфа в нечто данное и сущее, в объективно существующую и самодостаточную реальность, что на самом деле является не более чем результатом или следствием спекулятивно-умозрительного гипостазирования и онтологизации возможного понятия, т. е. всего лишь догматическим постулатом.
Но таким образом, вся его система метафизики обретает право на свое существование, а следовательно, и на какую-либо онтологическую и гносеологическую значимость только благодаря постулированию понятия Бога. И соответственно, наоборот, его система «разумных мыслей» претендующая на роль строго доказательной и универсальной науки о всех возможных и действительных «вещах вообще», оказывается не чем иным как наукообразной формой «обоснования» необходимости... принятия догматического постулата о бытии Бога.
Однако, Вольф, хотя и осуществляет такой неправомерный скачок, а по сути — логически противоречивое заключение от необходимости, точнее, от потребности в первом основании для своей системы к догматическому постулату: «Бог есть», — тем не менее, он не использует этот постулат для каких-либо заявлений или заверений типа того, что Бог «все знает и все может». С присущим ему логическим фанатизмом он пытается проанализировать внутреннее содержание понятия Бога, определить состав тех его способностей и тех действий, посредством которых он исполняет свои функции творца и разумного устроителя действительного мира.
Вслед за Лейбницем, Вольф наделяет Бога не только самым совершенным, но и бесконечным рассудком или высшим разумом, т. е. способностью мыслить сразу и отчетливо, т. е. одновременно и непротиворечиво, не только тот мир, который представлен в «Метафизике» и дан в «нашем» опыте, но все возможные миры вообще, их неопределенное или бесконечное множество [1, § 952958]. Кроме того, наряду с отчетливым различением этих понятий возможных миров, Бог отчетливо сознает и их отличие от самого себя, благодаря чему он и познает бесконечность своего рассудка [1, § 978-979]. В данном случае Вольф проводит явную аналогию с силлогическим доказательством «нашего существования», которое было дано в первой главе «Метафизики», но делает он это для того, чтобы использовать ее именно для противопоставления «нашего» ограниченного и связанного с опытом рассудка бесконечному рассудку Бога. Главная же особенность последнего заключается именно в том, что он не нуждается ни в каких достаточных, а тем более данных в опыте основаниях для всех мыслимых им понятий возможных миров.
Если «наше» эмпирическое сознание самих себя опосредовано сознанием «других вещей», а представления о последних возникают благодаря тому, что вещи выступали в качестве причины изменений и ощущений в органах чувств, то для бесконечного рассудка Бога подобного рода зависимость от чувственных восприятий или опыта не только отсутствует, но и была бы очевидной нелепостью. Понятия о возможных мирах Бог получает не извне, а производит «посредством своей силы» (Kraft) «из самого себя», а потому он и является самостоятельным основанием или самодостаточным источником их сущности, их «единственным и истинным изобретателем» [1, § 979, 989, 996].
Однако и в данном случае, апеллируя к указанной «силе» бесконечного рассудка Бога, Вольф отнюдь не превращает его способность «изобретения» в источник произвольных фантазий; напротив, он постоянно подчеркивает, что Бог не может мыслить и «изобретать» противоречивые понятия, поскольку это противоречило бы его совершенству [1, § 948—949, 951—955, 967, 975, 988— 989]. Понятия возможных миров производятся и мыслятся им не только как разные и независимые друг от друга, но и как некоторые замкнутые в себе и обладающие конечным объемом понятия, благодаря чему они оказываются непротиворечивыми как в их внешнем отношении друг к другу, так и сами по себе, в своих внутренних свойствах и предикатах.
Однако принципиально новый момент, который Вольф «незаметно» привносит в понятие бесконечного рассудка, заключается в том, что хотя при «изобретении» понятий возможных миров Бог соблюдает или учитывает принцип противоречия, тем не менее, основанием процесса их «изобретения» или производства этот принцип служить нс может. Закон противоречия не запрещает и не исключает возможности мыслить множество понятий возможных миров в качестве внутренних предикатов божественного мышления, однако этот закон не может служить основанием и объяснением самого их возникновения в божественном рассудке, а тем более способности их «изобретать». Бог «производит» эти понятия «посредством своей силы», которая как бы предсуществует в его рассудке и действует в нем до и независимо от логического закона противоречия, согласно которому они мыслятся уже после того, как «изобретены» и произведены в качестве понятий.
Следует отметить, что допущение способности бесконечного рассудка Бога производить и мыслить множество понятий миров оказывается не только излишним, но даже избыточным или «сверхдостаточным» с точки зрения космологического доказательства бытия Бога. Ведь это доказательство строится на основе закона достаточного основания, т. е. заключения от понятия мира, который представлен в самой вольфовской «Метафизике» и является единственным миром, возможным и эмпирически данным миром для нас; да и у самого Вольфа до сих пор речь шла о Боге как первом основании именно этого мира,
Собственно говоря, обращение Вольфа к «производящей» или «изобретающей» силе Бога было не чем иным как допущением или признанием возможности, попыткой обнаружения и обоснования такой способности Бога, применение которой оказывается вне компетенции законов противоречия и достаточного основания, что означало косвенное указание на их внутреннюю недостаточность и ограниченность, а по сути дела, на их неправомочность играть роль «первых принципов» метафизического познания. Ведь применение этой силы осуществляется отнюдь не по форме логического вывода следствий из основания или эмпирического заключения от данных опыта к их понятийному основанию; эта сила проявляется как способность к производяще-изобретающей, продуктивной или полагающей деятельности, т. е. имеет не теоретический, а практический, порождающий или действующий характер.
В традиционной метафизике такая способность обычно ассоциировалась не с мышлением, а с волей и выступала под именем способности желания, однако Вольф усматривает такую способность именно в бесконечном рассудке Бога, а присущую ему силу связывает не со способностью желания, а с мышлением. Божественная сила действует и проявляется именно через рассудок, который посредством своей силы «производит все, что является возможным», оказывается «единственным и истинным изобретателем» всех своих понятий возможных миров, а потому не только «сразу» и отчетливо мыслит эти понятия, но и заранее знает все вещи и события в самих этих мирах, их сущность, будущие состояния
И Т. П. [1, § 947, 952—958, 975—976, 996].
Более того, благодаря действию или проявлению своей силы Бог может мыслить не только все возможные миры, но сознавать и познавать даже и самого себя в качестве самостоятельной сущности [1, § 978—979]. Но что еще более важно, согласно Вольфу, именно посредством этой силы и только благодаря ей, Бог и может существовать в качестве самостоятельной сущности, которая от «всего независима и ни в чем ни от кого не нуждается». Иначе говоря, понятие силы наделяется не только гносеологическим, но и онтологическим статусом или значением самодостаточного, необходимого и действительно первого и высшего основания существования не только всех возможных миров, но и самого Бога как самостоятельной сущности [1, § 929—938, 947].
Таким образом, обращение к понятию силы, ее допущение в качестве подлинного источника не только всех понятий возможных миров, но и даже основания существования самого Бога, означало не что иное, как косвенное указание на недостаточность не только законов противоречия и достаточного основания как «первых принципов» метафизического познания, но и обоих доказательств бытия Бога — как онтологического, так и космологического. Иначе говоря, по существу Вольф признает, что его аргументация относительно понятия Бога как первого основания его системы была несостоятельной, поскольку строилась на заключении о его существовании либо от понятия мира, либо от понятия высшей сущности, но в любом случае — от возможного или случайного понятия, а потому понятие Бога и его существование неизбежно оказывалось всего лишь логически возможным или эмпирически случайным. Для бытия же Бога, его существования как самостоятельной сущности, такой статус, или критерии существования, оказываются явно недостаточными (хотя Вольф иногда совершенно неоправданно отождествляет самостоятельное существование Бога с действительным существованием) [1, § 929]. Существование Бога должно быть отнесено к сфере некоего до- или вне-логического и вне- или сверхчувственного бытия, которое не может быть постигнуто с помощью принципов рационального или эмпирического познания и обосновано посредством законов противоречия и достаточного основания.
Иначе говоря, оба положения Вольфа, а именно, что Бог «как самостоятельная сущность существует благодаря своей собственной силе» и что его бесконечный рассудок способен к «изобретению» понятий, оказываются, по существу, за границами их рационального обоснования и осмысления и непротиворечивого объяснения и выражения. В данном случае речь идет о неких внелогических источниках, или сверхпонятийных предпосылках и источниках, самого логического и понятийного мышления, т. е. о некоей высшей и самостоятельной сущности, абсолютном субъекте или трансцендентном основании, способного посредством своей силы как к полаганию своего собственного бытия, так и к производству всех мыслимых им понятий. Поэтому далеко не случайно, что посвящая этим вопросам немало параграфов своего учения о Боге, Вольф оставляет в них много неясного, недоговоренного и даже противоречивого; но столь же не случайно и то, что, вопреки всем этим очевидным трудностям, он не желает отказываться от понятия бесконечного рассудка, «изобретающего» посредством своей силы множество понятий возможных миров.
Все дело в том, что, как и Лейбниц, Вольф в данном случае сталкивается с очевидной угрозой фатализма, механистического или метафизического детерминизма, а потому оба мыслителя были вынуждены признавать способность Бога «изобретать» и мыслить множество понятий миров. Ведь если бы «наш» сотворенный мир был бы единственно возможным, то тогда Бог, а также акт и результат его творения были бы однозначно привязаны, а по сути — предопределены, к созданию именно этого одного-единственного мира, внутри которого также господствовала бы абсолютная необходимость, исключающая в нем какую-либо случайность и возможность свободы человеческой воли [1, § 990— 996]. Но в таком случае опасность абсолютного детерминизма, или фатализма, отрицание случайности в мире, свободы воли у человека и его нравственной ответственности за свои поступки становится вполне реальной.
Мы уже не говорим о том, что ограничение божественного рассудка способностью мыслить понятие всего лишь одного возможного мира и создавать или «приводить к действительности» лишь этот единственно возможный мир, неизбежно превращает понятие «нашего» эмпирически данного мира в нечто вполне самодостаточное, а человека — в «бездушную» тварь, невменяемую и механическую часть телесного мира, да и само понятие Бога со всеми его атрибутами оказывается чем-то излишним и вовсе не обязательным. Поэтому обвинения в атеизме и последовавшее за ним изгнание из Галле были вызваны отнюдь не «происками врагов» Вольфа, о чем он непрестанно заявлял в своих последующих сочинениях [см., напр., 2, § 193], а вполне реальными импликациями самой его «Метафизики» и его учения о Боге.
Поэтому только допущение в бесконечном рассудке Бога множества понятий возможных миров позволяет Вольфу, во-первых, приписать божественной воле способность свободного выбора одного из их множества, а во-вторых, говорить о случайности этого понятия мира, а главное, самого действительного мира, созданного Богом на основе выбранного им понятия как «лучшего» из возможных [1, § 980—988,1007,1020—1021].
Как мы видели, случайными, согласно вольфовскому определению, являются такие вещи или их понятия, которые допускают непротиворечивую возможность противоположного [1, § 12]. Поэтому допущение множества разных и даже противоположных понятий миров, позволяет Вольфу утверждать, что каждое из этих понятий, включая и то, которое свободно выбирается волей, мыслится Богом без необходимости, т. е. не исключает возможности иных и даже противоположных понятий миров. Поэтому, считает Вольф, в основе действительного мира лежит случайное понятие, а следовательно, и сам этот мир оказывается случайным [1, § 363, 576].
Однако при ближайшем рассмотрении обнаруживается, что и допущение множества понятий возможных миров отнюдь не ведет к преодолению фатализма: во-первых, свободный выбор божественной воли ограничен количеством представленных ей божественным рассудком понятий, причем последние рассматриваются не столько как «изобретенные», а как уже данные и мыслимые рассудком с необходимостью. Вольф нигде не уточняет, сколько именно понятий возможных миров изобретает и мыслит бесконечный рассудок Бога; вопрос же о том, продолжается ли этот процесс «изобретения», или он уже закончен — остается без ответа. И именно этим сугубо логицистская позиция Вольфа отличается от плюралистической и динамической точки зрения Лейбница, у которого этот процесс, а тем более сам акт творения мира Богом как «производящей причиной», мыслится в форме «некоторого рода эманаций», т. е. непрерывного и бесконечного процесса сотворения монад [28. T. 1. С. 138; Т. 3. С. 124, 364, 379; см анализ этого вопроса: 26. С. 108—121].
У Вольфа же процесс «изобретения» Богом понятий возможных миров фактически предстает как законченный или завершенный, а потому и отпадает возможность того, что Бог «изобретет» еще одно понятие мира, которое окажется еще «лучше», чем все изобретенные им до этого. Следовательно, и божественная воля вынуждена иметь дела только с теми понятиями миров, которые уже предоставлены в ее распоряжение рассудком, причем в виде «готовых», завершенных и замкнутых в себе понятий с вполне определенным объемом или количеством внутренних предикатов, признаков или свойств, которые также мыслятся Богом как логически возможные, т. е. с аналитической необходимостью. Более того, свой свободный выбор одного из возможных понятий воля осуществляет не произвольно, по одному лишь субъективному желанию или случайно, но на основании их сравнения и оценки с точки зрения согласованности, упорядоченности, единства многообразия частей или предикатов внутри каждого из них, т. е. с точки зрения их правильной логической формы, которая, по существу, и оказывается единственным критерием их совершенства и основанием избрания одного из них в качестве «лучшего». Никакого другого критерия совершенства у Вольфа просто не существует и существовать не может, поскольку ни о каком содержании понятий других возможных миров мы не знаем (во всяком случае, автор «Метафизики» об этом ничего не говорит, из чего можно сделать вывод, что и «сам Бог» об этом ему ничего не сообщил).
Иначе говоря, свободный выбор воли оказывается обусловленным понятием совершенства, которое по существу выступает у Вольфа как синоним логической необходимости и формального единства, с какими рассудок мыслит понятие возможного мира, аналитически и заранее зная все его «правильное», упорядоченное и согласованное устройство. И хотя он заявляет, что из предварительного знания Богом всех возможных миров не вытекает никакой метафизической необходимости, которая предопределяла бы его выбор «лучшего» из них [1, § 968—971], тем не менее, свобода выбора оказывается не более чем фикцией, а случайность избранного мира — терминологическим лукавством.
В самом деле, выбор воли оказывается свободным и случайным ровно настолько, насколько за ней признается или допускается возможность выбора «худшего» из «лучших» миров или предпочтения «плохого» перед «хорошим». Но такого рода желание вряд ли можно считать проявлением свободы воли, оно скорее является выражением ее неразумия или заблуждения, т. е. ее несовершенства и слабости, что по отношению к совершенной божественной воле недопустимо. А потому, на самом деле, ее «свободный выбор» лучшего мира оказывается не более чем осознанной необходимостью, а ее «охотное желание» или «добровольная склонность» к лучшему — всего лишь вынужденным подчинением совершенству понятия мира, которое в свою очередь оказывается именно «лучшим», т. е. в конечном итоге необходимым, но отнюдь не случайным.
Легко видеть, что все трудности, с которыми здесь сталкивается Вольф, были вызваны самой его трактовкой понятия совершенства, существенно отличной от точки зрения Лейбница. У последнего это понятие было связано с идеей «ми-нимакс», согласно которой, совершенство означало единство или предельную совместимость формальной правильности и простоты понятия мира с его максимальной содержательной полнотой, причем сама эта совместимость трактовалось им динамически, как некоторый универсальный и бесконечный процесс становления. Кроме того, у Лейбница понятие совершенства было тесно связано с понятием внутренней представляющей силы монад или субстанций, с их стремлением к самоосуществлению или полноте своего самовыражения и т. п. Различия же по степеням совершенства он пытался представить в форме развития монад по степени активности их представляющей силы, т. е. качественного перехода от смутного и темного их состояния к ясному и отчетливому или, соответственно, от пассивной неживой материи к живой, или органической, материи, а затем к душам животных и к разумным душам, или духам, людей [28. T. 1.
С. 301, 405, 418].
Такого рода динамическая, деятельная трактовка субстанции и понятия совершенства, позволяла Лейбницу избежать тех непреодолимых трудностей, с которыми столкнулся Вольф, заменив понятие монады на понятие «простых вещей», и по сути лишив их какой-либо внутренней силы, стремления к саморазвитию и т. д. Соответственно, столь же бедным и плоским оказывается у Вольфа и понятие совершенства, которое фактически совпадает у него с неким ставшим, завершенным, раз и навсегда данным понятием мира, понимаемом исключительно с точки зрения его «правильного» и необходимого механикоматематического устройства. Под понятием совершенства он имеет в виду прежде всего формальное, непротиворечивое единство, связность, «чистый» порядок и полную согласованность всего многообразия в мире, который целиком и полностью соответствует тому понятию «лучшего» мира, которое Бог мыслит «сразу» и отчетливо, «заранее» и аналитически зная «в мельчайших частях» все его вещи, их будущие изменения и т. д. и т. п. [1, § 959—972].
Однако исходя из такого сугубо формального понимания совершенства, между множеством понятий миров просто невозможно установить и провести сколько-нибудь существенные различия. С точки зрения сугубо формальных критериев совершенства как внутренней непротиворечивости или согласованности и т. п., все понятия возможных миров оказываются практически неразличимыми и уж во всяком случае логически равноценными или одинаково совершенными (в этом смысле весьма показательно, что для иллюстрации возможности свободного выбора Вольф приводит пример с тремя монетами, из которых мы выбираем ту, которая нам более всего «нравится») [1, § 987]. Поэтому допущение Вольфом множества понятий возможных миров оказывается абсолютно бессодержательным, а по сути дела бесполезным и ничем не обоснованным, не говоря о том, что оно ставит под вопрос продуктивность, да и необходимость самой способности Бога к их «изобретению».
Этот очевидный недостаток в определении совершенства как формального единства многообразного Вольф пытается восполнить признаком наибольшего многообразия согласующихся друг с другом вещей, входящих в состав совершенного понятия, т. е. дополнить критерий совершенства некоторым количественным показателем [1, § 713—715]. Однако в отличие от лейбницевского принципа «минимакс», где совмещение признаков единства и многообразия мыслилось в качестве бесконечного процесса становления, у Вольфа это совмещение приводит к тому, что излишним оказывается само допущение множества понятий миров. В этом случае Бог становится «изобретателем» понятий, которые отличались бы друг от друга только по своему объему или числу входящих в них предикатов; но тогда неизбежно возникает вопрос — почему Бог не может «изобрести» или создать одно, но «самое большое» и «самое совершенное» понятие мира? Ведь именно в этом случае божественный рассудок стал бы действительно бесконечным и абсолютно совершенным.
Более того, в этом случае не было бы нужды прибегать и к помощи воли, вынужденной «свободно» выбирать из возможных всего лишь более совершенный из менее совершенных миров или тот, что «получше» среди менее «хороших». К этому следует добавить, что по отношению к Богу сама постановка вопроса о свободе его воли не вполне корректна, да и не имеющей особого смысла. Ведь в качестве самостоятельной сущности Бог, «существует благодаря собственной силе, от всего независим и ни в чем ни от кого не нуждается» [1, § 947], т. е. по самому своему определению, не может быть ничем детерминирован или обусловлен как в своем мышлении, так и в своем волении: его совершенство не может допускать какого-либо несовпадения, а тем более, противоречия между рассудком и волей, его необходимым мышлением и свободным желанием.
Тем не менее, Вольф отказывает бесконечному рассудку Бога в способности «изобретать» понятие одного, но бесконечного мира, понимая, по всей видимости, логическую невозможность и неизбежную внутреннюю противоречивость такого понятия. Кроме того, он не мог допустить и сближения, а тем более отождествления божественного рассудка и воли, поскольку, как мы увидим далее, подобное сближение повлекло бы за собой отрицание свободы человеческой воли, перед которой, в отличие от божественной воли, вовсе не стоит вопрос о выборе «лучшего» мира. Более того, поскольку все многообразие в действительном мире Бог мыслит с аналитической необходимостью, заранее зная все будущие его события и состояния, то такое необходимое и предварительное знание распространялось бы и на его знания о человеке, а в таком случае свобода воли и нравственная ответственность человека за свой выбор вновь оказались бы под вопросом.
Поэтому Вольф не только сохраняет различие между божественным рассудком и волей, но и рассматривает последнюю как способность свободного выбора, основанием которого является не только логическое совершенство мира, но и другие цели, имеющие преимущественно нравственную направленность и моральное содержание, связанное с представлениями о благе, пользе, добре как желаемыми целями. Иначе говоря, различие между рассудком и волей Бога, как и между способностями мышления и желания у человека, было необходимо Вольфу для того, чтобы перевести рассмотрение вопроса о свободе воли в плоскость практически-нравственных, или ценностных, понятий, а его решение осуществить с помощью понятий о целях и других телеологических принципов.
Что же касается вопроса о случайности божественного выбора, то его решение посредством допущения множества понятий возможных миров оказывается весьма сомнительным: ведь благодаря этому допущению Вольфу в лучшем случае удается показать относительную случайность лишь того понятия мира, которое Бог выбирает как один из множества возможных миров, т. е. без аналитической необходимости, которая исключала бы понятия других возможных миров [1, § 565, 576]. Но на основании случайности этого понятия и сотворенного на его основе действительного мира отнюдь нельзя заключать к случайности внутри этого мира, т. е. к случайности его вещей и событий. Ведь Бог мыслит и знает действительный мир в его мельчайших частях не только отчетливо, сразу и заранее, но и аналитически, т. е. с логической необходимостью, а потому какая-либо случайность внутри действительного мира для его рассудка исключена: все его многообразные, различные и противоположные друг другу вещи и события мыслятся Богом не только без противоречия, но с необходимостью [1, § 964—968].
Проблема случайности оказывается для Вольфа одной из самых главных и трудных проблем всей его метафизики, поскольку она неразрывным образом связана с вопросом об онтологическом статусе действительного мира, т. е. об определении таких его признаков, которые позволяли бы отличить его от всего лишь мыслимого Богом понятия об этом мире как возможном. Ведь последнее хотя мыслится и выбирается Богом случайно, но в своем внутреннем содержании мыслится с необходимостью и при этом как наиболее совершенное, а потому именно понятие случайности служит одним из признаков различения совершенного и несовершенного вообще, а наличие случайности в действительном мире позволяет отличить его от возможного, т. е. оказывается одним из важнейших признаков его действительного существования. Один из парадоксов воль-фовской метафизики в том и состоит, что для признания способности Бога творить действительный мир, его прежде всего необходимо как-то отличить от всего лишь возможного, а решение этого, казалось бы, простого вопроса, как мы увидим далее, оказалось для Вольфа далеко не простым делом.
Для решения вопроса о возникновении действительного мира Вольф вновь апеллирует к понятию божественной силы, которую он теперь определяет как власть или всемогущество (Macht, Allmacht) и которой в отличие от «изобретающей» силы рассудка, приписывает способность творить или создавать мир, т. е. «осуществлять» или «приводить к действительности» «лучшее» из понятий возможных миров [1, § 1020—1021]. Причем сам этот переход от понятия возможного мира к его действительному существованию оказывается логически невозможным, т. е. противоречивым скачком, алогичным актом, а потому, по собственному признанию Вольфа, не только не может быть объяснено разумно, но и является сверхъестественным событием или «подлинным чудом» [1, § 632—
642, 989—991; 3, § 881].
Именно в этом пункте своих построений Вольф вынужден, наконец, признать то, что до этого он стремился всячески скрывать, а именно, допущение возможности нарушения закона противоречия и достаточного основания как первых оснований своей системы. Собственно говоря, такое нарушение имело место и раньше, прежде всего в тезисе о существовании Бога посредством собственной силы и в признании способности бесконечного рассудка к «изобретению» понятий возможных миров. Важно, однако, подчеркнуть то обстоятельство, что в данном случае, как и во всех предыдущих, такое нарушение «первых принципов» метафизического познания оказывается необходимым для построения самой же системы, для решения ее собственных внутренних проблем.
Однако и в этом наиболее уязвимом пункте своих построений Вольф делает постоянные оговорки относительно того, что власть Бога не может порождать то, что противоречит его рассудку и мыслимому им понятию возможного мира, а божественное откровение, «насколько это возможно», должно придерживаться сил природы, избегать «излишних» чудес и т. п. [1, § 1018—1022]. Источником же или гарантом сохранения правильного, непротиворечивого и «естественного» порядка действительного мира Вольф считает «наивысший божественный разум» (allerhöhste Vernunft), который проявляется не только в форме правильного рассудочного мышления, но и как мудрость (Welt-Weisheit) или «полное знание», включающее в себя знание всех оснований и причин превращения возможного мира в действительный [1, § 914, 974, 1036—1037].
Мудрость охватывает собой не только все мыслимое рассудком как возможное, но и свободно желаемое и выбираемое волей; она подчиняет себе даже божественную власть, заставляя ее создавать лишь то, что имеет «хорошее основание» и соответствует правилам мудрости [1, § 972—974]. Эти правила и обеспечивают тот необходимый, разумный и естественный порядок вещей в мире, который напоминает по своему устройству машину и служит предметом строгого математического и естественнонаучного познания, они исключают из мира какие-либо противоречия, а тем более чудеса, сверхъестественные события
И Т. П. [1, § 989—994,1007—1014,1039—1042].
Таким образом, творение мира Богом оказывается некоторым одномоментным актом, благодаря которому и возникает действительный мир, причем в полном соответствии со своим понятием. При этом Бог не создает «нечто» из «ничто», т. е. не вступает в противоречие с понятием возможного мира, но он, по существу, не создает и ничего нового, поскольку ничего не добавляет к содержанию этого изначально мыслимого им понятия: он всего лишь «осуществляет» его, «приводит к действительности», а по сути дела, всего лишь приписывает понятию предикат действительности, или эмпирического существования. Но тем самым власть, или всемогущество, Бога, его способность творить действительный мир оказывается исключительно репродуктивной способностью, своего рода «распечаткой» уже имеющегося негатива или файла, простым уверением в том, что мыслимое и выбранное Богом понятие возможного мира и есть действительный, «наш», эмпирически данный, мир.
Однако при таком понимании творения мира возникает еще один парадокс вольфовской метафизики: ведь по сути дела тезис о творении мира Богом сводится к утверждению о том, что «наш», эмпирически данный мир объявляется «делом рук» Бога, реализацией мыслимого им понятия возможного мира (если не мира, который представлен в самой вольфовской системе). Но подобное знание ничего не добавляет к уже имеющимся научным или эмпирическим знаниям о мире, кроме дополнительных теолого-метафизических сведений о том, что наш мир является копией или воспроизведением некоего «прообраза», т. е. мыслимого Богом понятия мира на экране действительности, «зеркалом» божественного совершенства, откровением его величия и т. д. [1, § 1045]. А подобного рода «дополнительное» знание оказывается не только сомнительным, но и практически бесполезным, излишним, а следовательно, таковым оказывается и понятие Бога со всеми его способностями, оно остается всего лишь теологометафизическим дополнением или «бесплатным приложением» к действительному миру, ничего не добавляющим к имеющимся о нем знаниям — данным опыта, научным или обыденным представлениям — а потому и не имеющим никакой познавательной ценности и значения.
Именно таковой в конечном счете рациональная теология Вольфа и была — ничтожной в своем познавательном значении, излишней и даже посторонней по отношению к реальной действительности и реальной научной и всякой другой человеческой жизнедеятельности. И именно поэтому вопрос о несовершенстве действительного мира, наличия в нем случайности и прочих «недостатков», т. е. всего того, что каким-то образом «отклоняется» от полной упорядоченности, согласованности и единства всех его вещей, частей и событий и т. д., короче, от мыслимого Богом понятия возможного и «лучшего» мира, — этот вопрос оказывается чрезвычайно важным и принципиальным для всей вольфовской метафизики.
Этот весьма болезненный вопрос побудил в свое время его учителя Лейбница написать специальный труд под названием «Теодицея», задача которого заключалась в попытке оправдания Бога за допущенные им в мире несовершенства и беды. Однако у Вольфа этот вопрос возникает в несколько иной и более острой форме, поскольку в отличие от Лейбница, его трактовка понятия совершенства не позволяла ему сколько-нибудь внятно объяснить само происхождение несовершенств в действительном мире. С точки зрения строго доказательных и последовательно обоснованных «разумных мыслей» остается совершенно необъяснимым, почему Бог создает такой действительный мир, в котором встречается столь «много несовершенства, много зла и бед», зачем он их допускает и «приводит к действительности», вступая, тем самым, в очевидное противоречие со своим рассудком и высшим разумом [1, § 1056—1058].
Следует отметить, что у Вольфа с его претензиями на создание строгой и доказательной системы универсального знания о «всех вещах вообще» этот вопрос оказывался не столько вопрошанием к Богу, сколько к... его же собственной системе, причем уже не столько даже в виде вопроса о ее познавательной значимости, сколько сомнения в адекватности «разумных мыслей» действительному миру, всем его вещам как таковым. Показательно и то, что именно при обсуждении вопроса о соотношении «лучшего» из возможных и мыслимых Богом миров, с одной стороны, и несовершенства действительного мира, с другой, у Вольфа наиболее заметно проявляются дуалистические тенденции его метафизики, которые, впрочем, хотя и в менее острой форме, проступали и раньше, в частности в его понимании сущности и возникновения составных вещей, в учении о душе, о предустановленной гармонии и т. д. и т. п.
Теперь же, говоря о том, что в действительном мире Бог все знает «заранее», Вольф вынужден признать, что это знание «не наносит вреда случайности в природе», а именно, вещи и события в природе остаются таковыми, «каковы они суть сами по себе», а Бог с достоверностью знает только условия, при которых они могут существовать или должны случиться [1, § 969—970]. К числу этих условий относятся пространство и время, в которых существуют вещи действительного мира, однако в порядок сосуществования их в пространстве, а также в порядок их следования или изменения во времени Бог не вмешивается, а его предварительное знание не предопределяет естественный ход событий, по отношению к которому его мышление и воля имеют лишь условный, предположительный и предпочтительный характер, выступают как достоверность и уверенность, а отнюдь не как необходимость [1, § 561—579].
Кроме того, Вольф неоднократно указывает на то, что хотя Бог и производит вещи, из которых возникают несовершенства и беды, но происходит это без его участия и какого-либо содействия, а их подлинной причиной является ограниченность самих действительных вещей (что относится и к людям, которые сами препятствуют добру и из сущности воли которых вытекает возможность грешить) [1, § 1056—1061]. Особенно показательны в этом отношении подробные рассуждения Вольфа о многочисленных «затруднениях» в этом вопросе, а также его признания в том, что мира, в котором не было бы ничего злого или противоречащего благу, нигде в действительности не существует, а мы даже не знаем, возможен ли он вообще и может ли Бог его создать своим всемогуществом [1, § 1061].
Подлинный смысл, или подоплека, всех такого рода рассуждений Вольфа заключаются в его косвенном и завуалированном признании того, что действительный, или эмпирически данный, мир существует относительно самостоятельно или отчасти независимо от Бога, т. е. находится в некоторой онтологической рядомположенности или дуалистической противоположности к мыслимому им понятию возможного мира. Данное обстоятельство в какой-то мере «оправдывает» Бога, поскольку он не может нести ответственности за несовершенства действительного мира, самостоятельное и отграниченное существование которого и оказывается подлинным источником его несовершенств, бед и зол. Однако такого рода дуализм в данном случае означает признание бессилия Бога, явной ограниченности его власти и всемогущества, а его «невинность» оборачивается признанием... его несовершенства, а следовательно, вообще ставит под вопрос его необходимое существование. Разумеется, под сомнением оказывается не бытие Бога, а правомерность доказательства его существования в системе воль-фовской метафизики, а следовательно, ее обоснованность да и саму правомерность ее существования в качестве системы философского знания.
§ 10. ТЕЛЕОЛОГИЯ
Для преодоления этого, по сути дела основного тупика своей философии, в котором, с одной стороны, фокусируются, а с другой — вытекают все другие ее внутренние противоречия, Вольф включает в ее состав учение о целях, а в свою трактовку понятия совершенства как преимущественно теоретического и даже логического вносит практически-ценностной или нравственный момент, благодаря которому выбранный и созданный мир должен быть «лучшим» не только с точки зрения формальной согласованности его частей, но и их наибольшей пригодности для человека. Иначе говоря, при телеологическом подходе понимание мира как «правильного», но нейтрального или безразличного по отношению к человеку, «бездушного» механико-математического устройства отходит на второй план, уступая место его пониманию с точки зрения значимости и ценности для человека, его потребностей и целей, желания блага и добра и т. п.
Действительный мир предстает теперь как некое целесообразное образование, в котором все вещи и события оказываются подчиненными не только причинно-следственным, но и целе-средственным или целе-служебным связям и отношениям, где зависимость действий от причин, последующего от предшествующего может и должно быть понято и представлено в обратном порядке, т. е. как отношение средств и целей. При таком рассмотрении само существование и возникновение предшествующих причин оказывается возможным благодаря или ради порождаемых ими действий или будущих последствий, в силу чего эти причины превращаются в средства, которым внутренне присущи некоторые изначально заложенные цели [1, § 1026—1036, 1044—1043]. Именно здесь следует искать источник того крайне примитивного и искусственного телеологизма, который пронизывает все работы Вольфа, буквально кишащими произвольными и наивными рассуждениями о том, что звезды созданы для занятия астрономией и ориентации мореплавателей, земля — для жизни людей, а все в мире — ради пользы и блага человека, для совершенствования его разума и воли и т. п. [1, § 1029—1030; 4 § 187; 7, § 2, 3, 6, 14, 236 и др.].
Однако для того, чтобы эта благостная картина целесообразного устройства мира оказалась хотя бы сколько-нибудь правдоподобной, необходимо было ответить на вопрос: почему в этом мире существует столь много «несовершенств, бед и зол», которые не только не согласуются, но и явно противоречат благу и счастью людей, пользе и «житейской надобности» человека? На эти вопросы Вольф дает давно известный из традиционной метафизики и теологии и столь же лукавый, сколь и иезуитский ответ, согласно которому несовершенства мира объявляются всего лишь видимостью, субъективной иллюзией или заблуждением конечного и ограниченного человеческого рассудка. В отличие от бесконечного рассудка Бога, который не только «изобретает» понятия всех возможных миров, но и заранее, с аналитической необходимостью знает все вещи и события действительного мира, конечный человеческий рассудок, видит в вещах только внешнее, а не «глубинное», познает лишь их ближайшие и непосредственные связи, а потому не достигает отчетливого и полного знания о действительном мире в целом и может заблуждаться относительно совершенства его отдельных
вещей и событий [1, § 936, 962—968, 983,1003,1061—1062].
Иначе говоря, ограниченность рассудка человека, неполнота его знаний и является причиной того, что он принимает отдельные вещи и события в мире за случайные или не согласованные с другими, не видит их внутренней и необходимой связи с отдаленными вещами, не понимает их истинного места, занимаемого ими в мире в целом, который полностью соответствует его мыслимому Богом совершенному понятию. Кроме того, человек принимает многие вещи и события за нечто противоречащее его пользе и благу, что «в действительности» вовсе не так: просто человек не видит их подлинного, скрытого внутри блага, а в силу ограниченности и несовершенства свой воли человек не может постичь, что все беды и зло в мире являются Божьей карой или наказанием за его ошибочные представления о добре, за его злые и греховные поступки, как равным образом и того, что беды являются и средством его воспитания и исправления, «улучшения» его воли и желаний, а потому «на самом деле» они оказываются... благом
и добром [1, § 1009,1047,1056—1058].
После такого рода «просветительских разъяснений», Вольф вполне может утверждать, что действительный мир в целом является вполне и даже наиболее совершенным, все части которого (включая человека), необходимым образом упорядочены и согласованы друг с другом, что в нем нет ничего случайного или «неправильного», т. е. выпадающего из общего порядка или не соответствующего необходимым законам и правилам, а потому он целиком и полностью соответствует тому понятию возможного мира, которое Бог имеет о нем в своем совершенном рассудке. Нет в этом мире ничего противоречащего и божественной воле, которая выбирает это понятие в качестве «наилучшего»: Бог вовсе не стремится содействовать бедам, злу и несчастьям в мире, но всего лишь допускает их для «улучшения» человека, «исправления» его представлений о мире и собственном благе. А потому и все несовершенства, случайности, беды и зло в мире являются вовсе не виной, а, напротив, заслугой Бога, поскольку он допускает их в «высших целях», сообразуясь с исходящим от него высшим благом и стремясь к достижению наибольшего в мире блага для человека.
Правда таким совершенным и благим действительный мир является только с точки зрения Бога (точнее, представляющего его в данном случае Вольфа), причем не столько с точки зрения его понятия о «лучшем» из возможных миров, сколько с точки зрения той цели, какую преследовал Бог при его свободном выборе и того мудрого замысла, ради реализации которого он его сотворил в качестве действительного. В составе этого замысла действительный мир оказывается всего лишь средством для обнаружения Богом совершенства своего рассудка и воли, а его существование предназначено для того, чтобы служить зеркалом откровения Божьей мудрости, его благодати и величия и т. п. Посредством действительного мира Бог достигает «созерцающего познания» своего высшего совершенства, что позволяет ему усмотреть сходство между миром и им самим, а тем самым получать постоянное удовольствие и полное удовлетворение, сверх которого нет ничего, «что он мог бы еще желать» [1, § 1085—1089].
Таким образом, Бог создает мир прежде всего как бы для самого себя, для собственного удовольствия и самоудовлетворения, правда остается непонятным для чего это нужно ему самому, тем более, что «наш» действительный, эмпирически данный мир уж никак не может служить адекватным отражением или сколько-нибудь полным обнаружением или адекватным отражением его совершенства, поскольку является хотя и лучшим, но всего лишь одним из возможных, случайным и включающим в себя много несовершенств и зол, к числу которых относятся и весьма далекие от совершенства люди. Иначе говоря, цель существования действительного мира — быть зеркалом божественного совершенства — не только оказывается вне самого этого мира, но и за пределами ее понимания человеком: содержание или смысл мудрого божественного замысла по поводу сотворения мира остаются непостижимыми и недостижимыми для ограниченного человеческого рассудка. Человеку остается только принять и смириться с тем, что есть, не роптать на несовершенства, которые «встречаются» в мире и верить, что за всеми ними скрывается божья благодать и его мудрый замысел, все они являются обнаружением высшего совершенства Бога, а потому его следует хвалить, почитать и прославлять за это его творение [1, § 1029— 1030,1044—1043,1037—1061,1068; 7, § 6].
Телеология таким образом, оказывается весьма удобным инструментом для спекулятивного решения проблемы несовершенства действительного мира: все случайности, беды и зло, с которыми постоянно сталкивается в нем обычный человек, попросту объявляются иллюзорными или мнимыми, что и служит оправданию Бога и указывает человеку единственно «правильный путь», а именно — сверхразумной в него веры. Однако такого рода «оправдательное объяснение» несовершенства действительного мира не вполне согласуется с общим просветительским и оптимистическим пафосом и духом «Разумных мыслей...» Вольфа, с исходными рационалистическими установками его «Метафизики». Мы уже не говорим о том, что для верующего человека такого рода метафизические оправдания Бога вовсе и не требуются, а для разумного человека, «просвещению» которого, собственно говоря, и были посвящены «Разумные мысли...», такие разъяснения сущности несовершенств и бед в действительном мире вряд ли покажутся сколько-нибудь убедительными.
Поэтому Вольф должен был признать, что действительный мир создается Богом не только для себя, но и для человека, правда уже не только в качестве зеркального отражения своего совершенства, но и мудрого средства для постепенного приобщения к своему мудрому замыслу человека. Целью последнего оказывается постепенное и посильное постижение мира как проявления и воплощения бесконечной справедливости, благосклонности и доброты Бога, стремление к обнаружению его мудрого замысла и величия как совокупности всех его совершенств и т. д. Для этого человек прежде всего должен стремиться к преодолению ограниченности своих знаний о мире и исправлению несовершенства своей злой и греховной воли, неверных представлений о благе и добре, т. е. к достижению максимальной полноты и отчетливости познания и наибольшего нравственного совершенства. Только на пути постепенного самосовершенствования и «споспешествования» мудрому и благому замыслу Бога человек может достичь наибольшей степени удовольствия и удовлетворения, а главное, достичь своей высшей цели, т. е. приобщиться к совершенству, мудрости и величию
самого Бога [см.: 1, § 1013,1029—1030,1044—1045,1056—1062,1084—1089].
Однако всем этим довольно оптимистически и даже просветительски звучащим идеям Вольфа, позволившим ему превратить свои «разумные мысли» в компендиум «разумных советов» о способах достижения пользы и счастья, суждено было остаться не более чем банальными предписаниями или рекомендациями, а по сути — всего лишь благими пожеланиями и пустыми декларациями. И причины такой практически-прикладной ничтожности результатов воль-фианской метафизики, следует искать не в «скудоумии» ее автора, но именно в недостатках самих ее исходных теоретико-методологических установок и телеологического решения вопроса о происхождении несовершенств в мире и человеке, а тем более, о путях и способах их устранения или преодоления.
Несостоятельность вольфовской телеологии заключалась прежде всего в том, что она, как уже говорилось, представляла собой не более чем перевернутое изображение причинно-следственного или детерминистического понимания природы и человека. В самом деле, согласно Вольфу, мудрость Бога заключается в том, что он не делает излишних чудес, но придерживается естественного порядка природы и ее законов, а также естественных путей ее познания [1, § 1014— 1019]. Более того, поскольку мир и все его вещи суть механические устройства, то именно поэтому они могут рассматриваться как целесообразные машины, служить средством для Бога и быть делом его мудрости [1, § 1037—1038]. Однако отказ от чудесного вмешательства Бога в действительный мир означает, что целесообразное и целенаправленное устройство последнего есть не что иное как «перевернутая» каузальная зависимость, ее рассмотрение «задом наперед», в обратной перспективе или последовательности. Но подобное телеологическое рассмотрение мира ровным счетом ничего не изменяет в естественном ходе природы, в способе существования и устройстве вещей и ничего не вносит в способ их познания как случайных или необходимых, несчастных или благих и т. п.
Вольфовская телеология позволяет всего лишь рассматривать причинно-следственные связи вещей и события с точки зрения их места или роли в составе мудрого замысла Бога, и исходя из этого оценивать их как необходимые и благие. Однако помимо того, что для человека остается непостижимым общий замысел Бога, для него оказывается непонятным и то, каким образом знание причин тех или иных событий как бед, позволяет избежать их нежелательных следствий, т. е. изменить порождающие их причины. Однако у Вольфа остается неясным даже то, насколько человек может изменить свои поступки, которые являются источником настигших его бед, т. е. использовать последние в качестве средства самовоспитания и нравственного совершенствования, что и позволило бы ему исправить свое поведение и искупить свою вину в реальности. В контексте божественного замысла мотивация поступка и его свершение человеком остается в ведении и власти Бога, а потому свобода человеческой воли и поведения в конечном итоге остаются иллюзорными.
Даже немногочисленные примеры несчастных или счастливых событий, так или иначе связанных с виной или заслугой человека, которые Вольф приводит для подтверждения своей концепции, скорее служат ее опровержению. В самом деле: в чем состоит заслуга человека, когда он находит кошелек или когда наступает плодородный год, и напротив, в чем состоит его вина, когда он свой кошелек теряет или вдруг наступают неплодородные годы? Пользу или «морально-воспитательное» значение этих событий Вольф усматривает в поощрении внимательности и трудолюбия и в наказании за отсутствие таковых, что должно служить человеку указанием на необходимость исправления этих недостатков [1, § 1002,1060].
Все эти рассуждения по поводу воспитательной «пользы» этих «несчастных случаев» или не случайности неожиданной удачи являются не только пустым, а то и ханжеским морализированием, они показывают абсолютную искусственность и никчемность попыток объяснения несовершенств, бед и несчастий в действительном мире с точки зрения их воспитательного значения и моральной ценности для человека. Вольф пытается отнести их на счет несовершенства и ограниченности человеческой воли, ошибочности ее представлений о подлинном благе, пользе и добре, однако напрашивается вопрос: являются ли последние «делом рук» самого человека, порождением его собственной воли, проявлением ее самостоятельной и независимой от воли Бога свободы, или они являются всего лишь необходимым следствием его природы и сущности, которые созданы Богом, а следовательно, целиком и полностью зависят от воли их Творца? Еще более непонятным остается вопрос о том, являются указанные беды и несчастья следствием злых или неверных представлений человека о добре и пользе (невнимательности, лени и т. п.) и соответствующего им поведения, или Бог планирует и создает эти беды (утрату кошелька и неплодородные годы) специально, предвидя наличие у человека этих «недостатков» и заранее предупреждая его об их опасности? Мы уже не говорим о том, что вне рассмотрения Вольфа остается вопрос о том, в какой мере знание связано с понятием блага и добра, ведь ясное и отчетливое знание конкретных причин потери кошелька или неурожая вовсе не превращает эти события в благо.
У Вольфа все эти вопросы остаются без сколько-нибудь внятного ответа, а это означает, что между возможным, необходимым и совершенным миром и миром действительным, случайным и несовершенным у него сохраняется все тот же дуалистический разрыв, все та же неустранимая онтологическая противоположность. А, следовательно, и его метафизическая теория о возможном мире, в сущности которого заложен некий мудрый божественный замысел, остается совершенно бесполезной как для расширения ограниченных представлений человека о случайных вещах действительного мира, так и для нравственного усовершенствования его представлений о благе и добре и «исправления» его поведения.
К еще более обескураживающим и даже нелепым результатам приводят попытки Вольфа совместить принципы телеологии с принципом предустановленной гармонии. Ведь в этом случае тезис о гармонии или согласии между душой и телом, человеком и внешним миром превращается из способа обсуждения и решения вопроса о познавательном отношении между ними, в провозглашение... «гармонии» между несовершенным и ограниченным человеческим рассудком и столь же несовершенной природой, ее случайными и приносящими человеку несчастья и беды вещами и событиями. Более того, утверждение о такого рода «гармонии» не только делает излишними, но просто обессмысливает телеологическую трактовку случайности как всего лишь следствия несовершенства человеческого рассудка, характеристики ограниченности его знаний о мире, а бед и несчастий как средств наказания или нравственного воспитания человека.
Именно поэтому, обсуждая принцип предустановленной гармонии в составе своих телеологических рассуждений, Вольф вынужден был признать «непостижимость» и «невыразимую мудрость», с какой созданы наши душа и тело и благодаря которой между добровольными желаниями первой и движениями второго существует необходимое соответствие и согласие [1, § 1050—1052]. Более того, даже в заголовок одного из параграфов он выносит предусмотрительное заявление о том, что «мы не можем отбросить предустановленную гармонию по причине ее непонятности», хотя и вынужден согласиться с тем, что она показывает (или делает — «macht») «величие Бога слишком большим» [1,
§ Ю52]. ^
В последнем признании можно уловить скрытый намек Вольфа на то, что посредством включения в рациональную теологию телеологических понятий, ему так и не удалось раскрыть мудрый замысел Бога относительно создания действительного мира, а следовательно и понять причины несовершенства и зла в действительном мире, кроме ссылки на то, что они этому замыслу каким-то образом служат, а поэтому за их допущение Бога винить нельзя, а созданный им мир следует считать «лучшим» из возможных. Единственное, что он смог добиться с помощью телеологии — так это отвести обвинения в атеизме (да и то отчасти), но отнюдь не преодолеть абсолютный механистический детерминизм в понимании действительного мира, равно как и фатализм в решении вопроса о свободе воли. Но это означает, что решение вопроса об отношении возможного и действительного мира, а точнее, об отношении его «Метафизики» к реальному миру, да и вообще о каком либо реальном познавательном содержании и значении его «Разумных мыслей...», которое он надеялся получить путем апелляции к понятию Бога и его мудрому замыслу, так и осталось не достигнутым.
Иначе говоря, своим обращением к понятию Бога Вольф не только эти проблемы не решает, но и делает их более острыми и болезненными, обнаруживая, вопреки своему замыслу, что без допущения понятия Бога они не могут быть решены, а такое допущение требует признания неизбежности чуда, т. е. неизбежности противоречия или возможности... логически невозможного. Это означает, что его попытки найти высшее и первое основание для учения о мире и человеческой душе, для всей своей системы метафизики необходимо приводят к отказу от исходных «первых принципов нашего познания и всех вещей вообще», т. е. законов противоречия и достаточного основания. По отношению к этим законам величие Бога действительно оказывается «слишком большим», причем не настолько, чтобы сколько-нибудь правдоподобно решить основные проблемы его «Метафизики», но вполне достаточным, чтобы поставить под вопрос сами ее исходные основания.
§ 11. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Вольф, как уже неоднократно отмечалось, был весьма далек от понимания того, что реальными результатами его попытки построения строгой и доказательной системы метафизического знания окажутся именно такого рода выводы. В своих «Разумных мыслях...» он стремился к утверждению принципов Разума, Науки и Просвещения, тем не менее, его подлинное место в истории философии XVIII века определяется прежде всего тем, что он вопреки своим намерениям, обнаружил, что философские основания этих принципов оказываются недостаточными, внутренне противоречивыми, а в конечном итоге требуют допущения догматических постулатов и принципов, которые лежат за пределами законов рационального мышления и данных опыта.
Как мы видели, уже в «Метафизике», в ее завершающей главе, решение основных вопросов своей системы Вольф отдает на откуп Бога, его «высшего разума» и мудрого и непостижимого замысла. Бог оказывается единственным философом-мудрецом (Welt-Weiser), а исходное вольфовское определение философии как мировой мудрости или мудрости для мира (Welt-Weisheit) заменяется понятием божественной мудрости (Gott-Weisheit) [1, § 973]. Уже в этих идеях раннего Вольфа можно усмотреть если не отказ, то определенное сомнение в принципах и методах традиционного рационализма, равно как и в основных установках просветительского мировоззрения.
Такого рода сомнения можно уловить и в его утверждениях о непостижимости для человека того божественного замысла, согласно которому Бог допускает несовершенства действительного мира, а также в словах о том, что человек может достичь только «очень небольшой степени» совершенства, которую по сравнению с «высшим», божественным совершенствам можно рассматривать как «ничто». Об этом же свидетельствуют и рассуждения Вольфа о том, что поскольку человеку недоступно созерцающее познание величия Бога как «полной сферы всех его совершенств», то наиболее полное удовлетворение и блаженство ему может доставить лишь почитание Бога, «споспешествование» его совершенству и славе, иначе говоря, приобщение к Богу посредством веры [1,
§ 1029—1030,1044—1043,1037—1061,1068,1084—1089; 7, § 6 ].
Конечно, в этих рассуждениях Вольф далек от мысли о замене или «дополнении» знания верой, а науки — религией, но впоследствии именно такого рода идеи и мировоззренческие импликации его философии стали одной из причин ее размежевания с просветительским движением. Нельзя, однако, не отметить, что в каком-то смысле в метафизике Вольфа и его учеников были не только отражены, но и усилены некоторые особенности идеологии немецкого Просвещения вообще, его несколько прекраснодушный, но в то же время крайне осторожный, компромиссный и примиренческий характер, особенно в решении вопроса о соотношении знания и веры, науки и религии. Со временем же, в ходе эволюции метафизики Вольфа и вольфианцев, такого рода идеи и, особенно, идея «оправдания» Бога за допущенные им несовершенства действительного мира принимала все более отчетливые признаки охранительной идеологии.
Впрочем, говоря о такого рода консервативных моментах вольфовской метафизики, нельзя впадать и в противоположную крайность, как это нередко делалось многими ее исследователями и критиками, склонных принижать или даже отрицать какое-либо просветительское содержание и значение наследия Вольфа. Хотя его сочинения буквально кишат многословными заверениями по поводу того, что его философия не противоречит религиозным истинам Откровения, но направлена на их разумное осмысление и обоснование, а тем самым на служение Богу и т. д. и т. п., тем не менее, нельзя забывать, что из Галле он был изгнан по обвинению именно в атеизме. И, как мы видели выше, внутренняя логика его метафизических построений действительно весьма часто приводила Вольфа к таким выводам, которые весьма трудно было согласовать с основоположениями религиозного мировоззрения.
Мы видели также, что в «Разумных мыслях...» проблема собственно теоди-ции или телеологического оправдания Бога была для него далеко не главной; напротив, в соответствии со своими установками относительно просветительских задач и функций философии, он переносит основной акцент на уяснении той позитивной ценности и пользы, какие все-таки могут иметь для человека осознание несовершенств, бед и зол действительного мира и понимание ограниченности своих способностей и знаний. Это осознание, согласно Вольфу, должно приводить не к сомнению относительно рационального и целесообразного устройства мира, но, напротив, служить стимулом к преодолению ограниченности своих знаний о мире, для стремления к его более полному познанию, т. е. к просвещению своего разума и расширению своих представлений о мире. Наличие в мире бед и зла, считает Вольф, должно «оживлять» разум и волю человека, побуждать к их критической оценке, к исследованию причин их возникновения, а тем самым, и к их посильному устранению и «улучшению» мира и т. д. [1,
§ 1044,1057—1060; 7, § 2—3, 6].
Иначе говоря, симпатии раннего Вольфа были отнюдь не на стороне субъекта, пассивно созерцающего несовершенства мира и находящего утешение в прославлении непостижимого замысла Творца и т. п., его симпатии явно на стороне человека, действующего активно, стремящегося к наиболее полному познанию и «улучшению» как мира, так и самого себя. Конечно, такого рода критически-оптимистическое отношение к «недостаткам» действительного мира и его просветительское убеждение в необходимости усовершенствования мира и самого человека было не более чем прекраснодушной иллюзией, основание которой составляло убеждение в разумном и целесообразном устройстве мира как творения его мудрого «изобретателя» и создателя. Тем не менее, трактовка действительного мира как зеркала Божьего совершенства, при всех его теологических и телеологических передержках, означала для Вольфа прежде всего провозглашение и утверждение принципов научного знания, основанного на «ясных опытах» и «хороших выводах», а также приносимой этим знанием пользы и всеобщего блага.
Именно поэтому теолого-метафизическая концепция оправдания Бога и его мудрого замысла, да и вся философская система Вольфа приобрела достаточно отчетливый характер программы теолого-метафизического обоснования про-светителъского мировоззрения, не лишенную элементов самокритичности и требований активного совершенствования не только человеческого разума и воли, но и окружающей действительности, природы и общества. И именно этим можно объяснить огромную популярность его философии среди многих деятелей Просвещения не только в «отсталой» Германии, но и далеко за ее пределами, а также большое влияние которое она оказала на формирование просветительского мировоззрения в масштабах всей Европы.
Говоря о последующем размежевании вольфианской метафизики с просветительским движением, необходимо учитывать то обстоятельство, что одной из глубинных, хотя и косвенных, причин этого явления была как раз ее претензия на создание единой и универсальной системы философского знания, охватывающего все сферы научного познания. На фоне необычайно бурного развития научного знания в эпоху Просвещения такие претензии оказались не только слишком преувеличенными, но и попросту несостоятельными, и не случайно Вольфу и его последователям пришлось прилагать огромные усилия, дабы поспевать за этим процессом, создавая бесчисленные компендиумы по различным областям знания. При этом становилось все более очевидным и то, что все эти попытки содержательного «расширения» системы метафизического знания, были не чем иным, как вторичным и запоздалым пересказом уже известных знаний, которые были получены в различных областях научного познания. Эти результаты научного познания теоретических, экспериментальных и эмпирических наук всего лишь эклектическим и механическим способом включались в состав общей системы метафизики под именем одной из ее эмпирических или прикладных частей, где они систематизировались и излагались в форме «строго доказанных выводов» из «первых принципов познания всех вещей вообще».
Такого рода практика «развития» вольфианской метафизики на самом деле разоблачала один из ее секретов, а именно тот, что она фактически представляла собой всего лишь упорядоченное и систематизированное изложение данных научного или эмпирического познания. На ранних или первоначальных этапах становления Просвещения, формирования новой системы образования и т. п. такого рода изложение учебного материала могло иметь определенную педагогическую пользу и просветительское значение. Однако на зрелых фазах его развития и особенно на фоне прогрессирующего развития наук, образования, культуры, всех областей общественной жизни подобная «методика» вольфианской метафизики придавала ей облик некоего весьма архаичного и маргинального феномена, очевидного «пережитка прошлого».
Впрочем нельзя не отметить, что среди последователей Вольфа было немало весьма серьезных и оригинальных мыслителей, которые пытались придать вольфианской метафизике более современный вид, приспособить ее к потребностям времени и общественной жизни, привести ее в соответствие с развивающимися науками о природе и человеке. Наиболее интересными и самостоятельными в этом отношении были разработки в области эмпирической психологии, эстетики, теории и истории искусства, которые были осуществлены А. Г. Баумгартеном, Г. Мейером, И. Г. Зульцером и другими представителями вольфианства. Сохраняя верность исходным установкам и общей систематике своего учителя, они значительно больше уделяли внимание конкретным и эмпирическим частям метафизики, касающимся прежде всего проблемы человека, способностей его души и различных форм ее деятельности и т. д. При этом абстрактная и сухая трактовка человека как безликой совокупности способностей заменялась повышенным интересом к исследованию его индивидуальных особенностей, к внутренней жизни отдельной и неповторимой личности.
Основные усилия позднего Вольфа и его учеников были направлены на корректировку и даже на определенный пересмотр именно «первых принципов» метафизики, учение о которых выделилось в особую и самостоятельную дисциплину, в онтологию. Причем основная тенденция этих усилий была связана с явным усилением ее монистических и объективно-идеалистических мотивов. Она выразилась прежде всего в стремлении подчинить закон достаточного основания принципу противоречия, а также придать категории логически возможного статус «сущего в себе» или «вещи вообще», наделенных имманентным стремлением к бытию или «онтологической предрасположенностью» к возможному и действительному существованию [3, § 79, 126, 133, 146 и др.].
Как мы видели выше, трактовка идеи силы как особой онтологической сущности или самодеятельной субстанции отнюдь не была случайным или преходящим моментом в составе вольфовской метафизики. В той или иной форме понятие силы довольно часто встречается и в «Разумных мыслях...», в частности, в понятиях «простых вещей» или субстанций, которые имеют основание своих изменений в самих себе и обладают некоторой внутренне активной и деятельной силой, причем независимо от того, идет ли при этом речь о «простых элементах» внешнего мира или о «простой сущности» человеческой души [1, § 104, 114—121 и др.]. Напомним, что понятие силы имело место уже в первых параграфах «Разумных мыслей...», где речь как раз и шла о «первых принципах» метафизического познания — принципе противоречия и достаточного основания — в саму формулировку которых наряду с категорией возможного неожиданным образом «вклинивались» понятия долженствования, «осуществления» возможного в действительность и т. д. [1, § 14, 29].
Однако вплоть до завершающей главы «Метафизики», т. е. учения о Боге, вопрос об этой внутренней силе «простых вещей», понимаемой как основание составных телесных вещей и человеческой души — предмета рациональной психологии, да и самого мышления согласно законам противоречия и достаточного основания, — оставался практически вне рассмотрения, а точнее, ответ на него сводился к ссылке на Бога как создателя всех возможных и действительных вещей [1, § 14, 89—90]. В учении же о Боге понятие силы занимает центральное место: именно сила лежит в основе существования Бога как самостоятельной сущности, она служит источником деятельности его бесконечного рассудка как «изобретателя» понятий возможных миров, она определяет способность его воли желать и свободно выбирать лучший из возможных миров, но прежде всего она обнаруживается в его способности творить действительный мир, т. е. «осуществлять» чудесный акт превращения возможного в действительное, в котором божественная сила достигает высшей степени — власти или « всемогущества ».
Понятие силы, собственно говоря, составляло внутренний нерв и всей воль-фовской телеологии и учения о мудром божественном замысле, согласно которому творение и существование действительного мира являются не чем иным как его реализацией, т. е. частями некоего целесообразного процесса, направленного на достижение конечной цели. Говоря о «плоском» характере телеологии Вольфа, не следует забывать, что она по существу представляла собой не только теологизированную, но и рационализированную форму изложения лейбнициан-ского представления о мире как процессе саморазвития монад, стремящихся к полноте осуществления своих внутренних потенций или дремлющих сил.
Однако, с теоретико-познавательной и методологической точки зрения наибольший интерес представляет использование Вольфом понятия силы в учении о бесконечном рассудке Бога, способном из самого себя, т. е. по сути дела «из ничего» «порождать», «производить» или «изобретать» понятия о возможных мирах. В данном случае нас не должно смущать то обстоятельство, что Вольф отказывает человеку в обладании такой способностью, но приписывает ее исключительно Богу; важнее то, что он делает это с необходимостью, следуя внутренней логике своих построений.
Принципиальным моментом является здесь то, что по сути дела Вольф вполне определенно указывает на вторичный, производный характер самой логической возможности: понятия множества возможных, т. е. логически непротиворечивых миров должны быть произведены, созданы, положены, т. е. должны быть рассмотрены как нечто такое, что не может быть аналитически выведено из предшествующего понятия по закону противоречия, ни присоединено к нему синтетически на основании опыта, из которого они были бы заимствованы. Вряд ли стоит говорить, что в данном случае речь, по существу, идет о возможности самого логического мышления, самой логики со всеми ее законами и правилами касающихся формальной правильности мысли, понятия и т. п. Применение этих законов становится возможным только после того, как некоторое понятие уже дано, а суждение высказано, осуществлено в форме утвердительной или отрицательной связи между понятиями субъекта и предиката.
Иначе говоря, логическое рассмотрение является всего лишь результатом логической абстракции, т. е. позднейшей рефлексии, которая является необходимым условием существования самой логики как особой и относительно самостоятельной науки о законах мышления, а точнее о формах и правилах языка. Рассмотрение понятий с точки зрения их логической возможности, т. е. непротиворечивости и их правильной формы, абстрагирующееся или отвлекающееся от всякого содержания мысли или высказывания, совершенно правомерно и безусловно необходимо в рамках логики и для любого логического анализа. Однако оно не может решить вопрос о возникновении самой мысли, или высказывания, об их «возможности», которое предшествует всякой их данности и возможности их логического анализа. Этот вопрос не является предметом логики, но именно философии, онтологии, гносеологии, т. е. собственно «метафизическим» вопросом, (безразличным для логики, но отнюдь не «бессмысленным»); причем этот вопрос не только выходит за пределы логики, но должен ей именно предшествовать, поскольку касается возникновения ее предмета, а следовательно,
и самой возможности ее существования и ее применения в качестве самостоятельной дисциплины.
Собственно говоря, именно с этой проблемой Вольф и столкнулся в своем учении о «первых принципах» нашего познания, причем проблема эта возникла у него с такой силой, наглядностью и остротой, какой не было, пожалуй, ни кого из его предшественников. И как это ни парадоксально может показаться на первый взгляд, Вольфу удалось это сделать именно потому, что он был одним из наиболее ортодоксальных логицистов в философии Нового времени, мыслителем, который положил в основу своего обоснования исходных философских принципов и понятий именно логику и именно с помощью ее законов пытался последовательно решать все главные вопросы философии.
Поставив задачу «прояснить» все понятия традиционной философии, сделать их отчетливыми и логически обоснованными, он начал свои рассуждения о «первых принципах нашего познания» с констатации того, что любое понятие — в терминологии Вольфа «нечто» — не может одновременно и в одном и том же отношении «быть» и «не быть» [1, § 10—12]. Указанное «быть» понимается им, однако, исключительно и только в логическом смысле. В случае его противоречивости понятие не может существовать как понятие, оно перестает быть логически возможным или быть понятием как формой мысли, а следовательно, удовлетворять тому необходимому условию, при каком всякое знание только и может существовать: таков единственный способ каким любое понятие или мысль могут «быть».
Однако, как мы видели, у Вольфа тут же четко обнаружилось то банальное обстоятельство, что прежде чем «быть» или «не быть» в качестве логически возможного понятия, «нечто» уже должно быть, т. е. оно должно иметься в наличии в качестве предмета логического анализа и уяснения его логической возможности, т. е. непротиворечивости. Вольф, однако, этот банальный факт «незаметно» обходит стороной, а точнее, используя двусмысленность словечка «быть», пытается выдать его значение утвердительной логической связки за обозначение бытия, действительного существования или данности самого «нечто». И именно этот малоприметный логический ход или словесный трюк сразу превращает логический закон противоречия в принцип метафизики, логику — в онтологию, а его скромную задачу «прояснения» основных понятий философии, в попытку построения собственной системы универсального философского знания.
Однако тут же и с такой же непреложной необходимостью обнаружилось и другое обстоятельство. Для того, чтобы бытие, «нечто» или вещь (т. е. логически возможное) обрело какое-либо конкретное содержание, видимость познавательного отношения к опыту, помимо закона противоречия в состав «первых принципов нашего познания» требуется ввести закон достаточного основания, который Вольф наделяет статусом как бы второго или «дополнительного» «первого принципа». Он вынужден признать, что для существования «нечто» «недостаточно, чтобы оно не содержало в себе ничего противоречащего», необходимо, чтобы к его возможности присоединилось что-то такое, что «позволяет признать, что оно действительно существует теперь, либо существовало раньше
или появится в будущем» [1, § 13]. Иначе говоря, теперь под нечто» и его существованием он имеет в виду не первоначально введенное им в формулировке закона противоречия понятие «нечто», которое не может одновременно «быть» и «не быть», а нечто совершенно другое. И этим «другим нечто» оказывается не что иное как понятия, которые он заимствует из совокупности уже данных, существующих понятий, т. е. из уже имеющегося в его распоряжении содержания научного, философского или обыденного знания, выработанного всем предшествующим развитием общественно-исторической практики человечества.
Правда, уже здесь у Вольфа был намечен и другой путь перехода от всего лишь логической возможности понятия к его действительному существованию в качестве знания. Он заявляет, что «если нечто должно существовать, то кроме возможности к нему должно быть привнесено что-то еще большее, благодаря чему возможное получит свое осуществление. Это осуществление возможного и есть именно то, что мы называем действительностью» [1, § 14]. Однако эта идея получит развитие и станет доминирующей только в позднейшей «Онтологии», в «Метафизике» же рассмотрение этого вопроса он тут же относит к ее завершающей главе, т. е. к учению о чудесном творении Богом действительного мира на основании понятия «лучшего» из возможных миров. И вплоть до этой главы во всех своих последующих рассуждениях к этому вопросу Вольф, по сути дела, более не возвращается, пытаясь решить его с помощью закона достаточного основания.
Выше мы детально рассмотрели приемы, какими Вольф пытается сконструировать всю систему своей «Метафизики» посредством манипулирования законами противоречия и достаточного основания. В данном же случае с теоретической и методологической точки зрения для нас важно еще раз обратить внимание на то, что в качестве достаточных оснований он не просто использует заимствованные в опыте понятия, но изначально рассматривает их в качестве именно понятий, не задаваясь вопросом об их возникновении, о том, каким образом они стали понятиями. Но тем самым он снова подменяет вопрос о возможности любой мысли или понятия, обладающего каким-либо познавательным содержанием, о предмете вопросом об их логической возможности, вопрос же об их содержании он пытается решить с помощью эмпирических понятий, «синтетически» присоединяя их к первым, логически возможным понятиям, как их основаниям. Сами же эти понятия оснований, в свою очередь, также заимствуются из опыта, но уже взятого и понимаемого в форме единого, общего и логически необходимого понятия возможного мира, которое первоначально выступает в виде абстрактного понятия «нечто», «вещи», или сущего, и под которое эмпирические понятия всего лишь логически подводятся, т. е. более или менее правдоподобно, но весьма искусственно подгоняются, а затем излагаются в виде упорядоченной дедуктивной системы знаний о мире, человеческой душе и «всех вещах вообще».
Такое «обоснование» метафизики как универсальной и строгой системы знания Вольфу удается относительно безболезненно осуществлять до тех пор, пока его анализ движется в рамках некоего изначально заданного понятия мира с его заранее известным содержанием, в котором мыслимое и эмпирически
97
I Зпк 642
данное, возможные и действительные вещи, или логические понятия и дедуктивные связи и отношения между ними чувственные предметы с их действительными связями и отношениями в составе опыта совпадают, образуя некоторое единство этих противоположностей.
Собственно говоря, данное обстоятельство и питало иллюзию Вольфа и его последователей относительно возможности построения универсальной и дедуктивно доказанной системы метафизического знания, по сути дела иллюзию возможности достижения абсолютного, исчерпывающего и завершенного знания о мире и всех его вещах. Однако, как мы видели, этот «догматически сон» постоянно прерывался необходимостью объяснить наличие в действительном мире «множества несовершенств и бед», случайности и зла, в чем, по сути дела, и обнаруживался тот «посторонний», но упрямый факт, что реальная эмпирическая действительность существует независимо от универсально-необходимого знания о нем и никак не желает растворяться в абстрактных понятиях метафизики, подстраиваться под понятие «лучшего» из возможных миров, а тем более, укладываться в систему дедуктивно доказанных понятий о нем. С этим «нехорошим» и нежелательным для Вольфа и его учеников фактом волей-неволей приходилось считаться, тем более, что эта реально существующая действительность оказывалась настолько богаче, многообразнее, сложнее любых «разумных мыслей о всех вещах вообще», что вполне резонно возникал вопрос о разумности самих этих «мыслей». По существу, этот был вопрос о том, а имеют ли эти «мысли», да и вся их «строго доказанная» система, какое-либо реальное познавательное значение, вообще какое-либо серьезное отношение к действительному миру и человеческому опыту, а потому, имеет ли она основания притязать на универсальное знание «о всех вещах», а следовательно, и право на существование.
Мы видели, сколько усилий пришлось прикладывать Вольфу и его сторонникам, дабы «справиться» с этим упрямым фактом (точнее, с их обвально растущим объемом), чтобы убедить других, а еще более — самих себя, в том, что их метафизическая конструкция имеет право на жизнь. Убеждать в этом себя им приходилось в первую очередь, поскольку им лучше чем кому-либо было известен и тот факт, что как только в своих построениях они доходят до вопроса о первых основаниях своей системы, они неизбежно наталкиваются на принципиально новые трудности, которые оказываются непреодолимыми в рамках самой системы и неразрешимыми с помощью тех принципов и методов, которые применялись внутри нее.
«Палочкой-выручалочкой» в этих случаях оказывалось понятие Бога, однако мы видели, сколько усилий пришлось затратить Вольфу, чтобы придать этому понятию видимость строго доказанного, а главное — собственного, имманентного системе понятия. Не случайно вопрос о существовании Бога он также пытается решить с помощью закона достаточного основания, как не случайно и то, что при обосновании этого тезиса он ссылается на те параграфы своей «Метафизики», где речь шла именно о ее «первых принципах». Однако вопреки всем своим стараниям и усилиям ему пришлось признавать, что существование Бога зависит только от его собственной силы, что творение мира является «подлинным чудом», а величие Бога является «слишком большим», чтобы понять содержание того «мудрого замысла», согласно которому он выбрал понятие о лучшем из возможных миров и этот мир создал в качестве действительного. Иначе говоря, обращение к понятию Бога оказывается не более чем догматическим постулатом о необходимом существовании самостоятельной сущности, для которого нет никаких ни логических, ни эмпирических оснований, из которых утверждение о существовании Бога могло быть каким-либо образом доказано, либо подтверждено данными опыта.
Однако самым главным результатом вольфовского учения было не столько то, что это понятие является не более чем догматическим постулатом, а то, что в этом учении, т. е. в конце своей системы Вольф обнаруживает, что законы противоречия и достаточного основания могут служить «первыми принципами» метафизики только в случае признания возможности их... нарушения. Иначе говоря, он, вопреки своим сознательным намерениям, приходит к выводу о том, что необходимо признать возможность выведения понятия или заключения к нему без... предшествующего основания, т. е. такого способа его получения, которое не возможно согласно закону противоречия и правил логического следования вывода из посылок.
Именно таковым и является понятие Бога, для доказательства которого нет никаких логически необходимых или эмпирически достаточных оснований, но тем не менее, оно должно быть положено и утверждено в качестве существующего понятия, которое может и должно быть положено в основу всей системы метафизического знания. В данном случае не столь важно то, что содержанием этого понятия служит Бог и что Вольф заимствует этот догматический постулат во всей предшествующей теологической и метафизической традиции. Куда важнее то, что он показал внутреннюю необходимость такого внелогического и внеэмпирического первоначального полагания исходного понятия как обязательной предпосылки, необходимого предварительного условия возможности всякого знания или его системы. Собственно говоря, именно таким путем действует и сам Бог — подлинный философ и мыслитель-метафизик, который не из чего, но исключительно самостоятельно «изобретает», производит или полагает своим бесконечным рассудком понятия всех возможных миров и только при такой предпосылке, на этом основании он может выбирать «лучший» из них и приступать к его творению.
Таким образом, хотя в учении о создании Богом действительного мира у Вольфа речь идет о некоем чудесном акте творения, однако здесь он, по сути дела, обнаруживает то обстоятельство, что переход от возможного к действительному, от одной лишь формы мысли к ее содержанию является таким актом или процедурой, которая не может быть осуществлена ни путем логического вывода, ни путем обращения к данным опыта. Ведь далеко не случайно, в первой главе своей «Метафизики», где рассматриваются «первые принципы» именно «нашего познания» и ставится вполне реальный вопрос о переходе от всего лишь логически возможного понятия к его действительности, об «осуществлении возможного», иными словами, об источниках содержания всей его будущей системы, он апеллирует к учению о Боге, т. е. к ее концу. И соответственно, наоборот, в самом ее конце, где рассматривается понятие Бога и вопрос о творении мира, т. е. о переходе от понятия возможного мира к миру действительному, Вольф ссылается на ее начало, на первые параграфы, в которых обсуждаются «первые основания нашего познания».
Но как мы видели, вплоть до главы о Боге вопрос о переходе от возможного к тому, что «есть», об основаниях понимания того, почему нечто существует, рассматривается Вольфом отнюдь не в контексте идеи об «осуществлении возможного» или о способах, какими «возможное достигает действительности» [1, § 14], но исключительно в рамках закона достаточного основания. Не случайно, здесь же он заявляет о том, что «из одной лишь возможности нечто нельзя делать вывод, что оно существует» [1, § 13], т. е. он отрицает, что от одной лишь формальной правильности понятия можно заключать к его содержанию, к тому, что оно действительно является понятием о том, что существует, и именно этот вопрос он в дальнейшем и пытается решать с помощью закона достаточного основания.
Мы видели, что это решение осуществляется Вольфом исключительно эклектическим способом, путем внешнего, «синтетического» присоединения или механического подведения эмпирических понятий, или предикатов, под всего лишь логически возможные понятия с тем, чтобы представить последние в качестве логических оснований первых, а первые в виде логических следствий или аналитических выводов из вторых. По сути дела, вся эта весьма хитроумная и искусственная процедура применения закона достаточного основания, была не чем иным как попыткой построения содержательной теории или системы метафизического знания с помощью рационалистически и даже логицистски истолкованного метода эмпирической индукции, лежащего в основе традиционного сенсуализма. Следует, впрочем, отметить, что и последний, вплоть до Юма, сам в свою очередь был определенной разновидностью рационализма, а это и позволяло Вольфу без особых затруднений вводить в состав своей системы многие принципы и установки гносеологии Локка и других представителей сенсуализма.
Вопреки своим рационалистическим установкам, иных путей решения вопроса о содержании, или о «действительности», всех и любых понятий своей системы, кроме как опоры на данные опыта (неважно — чувственного, обыденного, научного, метафизического или даже теологического и т. п.), Вольф не знал. Именно поэтому его «строгой и доказательной» системе постоянно угрожала опасность превращения всего лишь в систематизированное изложение или описание этих эмпирических данных, что неизбежно лишало ее статуса единой и завершенной системы универсального метафизического знания, а соответственно, и всех ее притязаний на абсолютную истину.
Строго говоря, от этой угрозы вольфовскую систему не спасает даже понятие Бога как творца действительного мира, поскольку и Бог «приводит к действительности» всего лишь одно из всех понятий возможных миров, а в своем чудесном акте творения не может выходить за пределы мыслимого им понятия и творить все, что угодно. Несмотря на то, что Вольф вынужден признавать «слишком большое» величие Бога и говорить о «непостижимости» его мудрого замысла, Бог в его философии остается существом исключительно рациональным, стремящимся строго следовать законам логики, научного познания и естественного хода вещей. У Вольфа понятие Бога, пожалуй, более чем у кого-либо в истории философии Нового времени, выражает образ не только мудреца или философа, но именно ученого, своего рода научного работника, и именно поэтому во всей его мыслящей, волящей и творящей «деятельности» так наглядно и отчетливо проявились проблемы и трудности, связанные с необходимостью выбора понятия «лучшего» из миров, с признанием случайности и несовершенства действительного мира и даже его относительно самостоятельного и независимого от Бога существования.
Эти проблемы и противоречия в конечном итоге оказались не более чем отражением или выражением проблем и противоречий всей философии Нового времени, связанные именно с их исходными основаниями — понятиями разума и опыта, принципами логического мышления и чувственного познания, соотношением логически правильной формы мысли и ее предметного содержания, или познавательной значимости, логической возможности понятия и его эмпирической «действительности» как способа знания о действительно существующем мире и т. п. По сути дела в своей метафизике Вольф показал, что никакое знание не может быть получено на основании какой-либо одной из этих исходных теоретических или методологических предпосылок традиционной философии, а все попытки объединить или связать их друг с другом, объяснить или понять, вывести или обосновать одни через другие оказываются невозможными или несостоятельными: они неизбежно оборачиваются либо неустранимыми противоречиями, либо непреодолимым дуализмом.
Более того, в своей «Метафизике» Вольф вполне отчетливо прописал и то обстоятельство, что для преодоления всех этих неустранимых противоречий философское мышление Нового времени неизбежно вынуждено было прибегать к понятиям, которые лежали за пределами исходных теоретических и методологических установок любой — рационалистической или эмпирической — философской концепции и имели характер догматически принятых, т. е. никак не обоснованных постулатов. Таковым, разумеется, оказывалось понятие Бога, однако в каждой из указанных концепций это понятие выполняло именно ту функцию и играло именно ту роль, которые от него требовались характером и содержанием неразрешимой в рамках данного учения или направления проблемы. Именно этим объясняется столь различные «образы», какие принимало понятие Бога, например, в учениях английских эмпириков, не говоря уже о «богах» Декарта, Спинозы и Лейбница.
Тем самым Вольф сделал явным то, что в неявной форме лежало в основании всех, особенно рационалистических систем философии Нового времени: во всех них подлинным началом служили не рациональные предпосылки, основанные на понятиях разума и логического мышления, а предпосылки, имеющие сверх- или вне-рациональный характер, хотя при этом и не всегда прямо и непосредственно, связанные с понятием Бога или чуда. Показательно, что в большинстве из них подлинным «первым основанием» в той или иной форме выступала некоторая деятельная способность мышления или сознания, которая обладает силой «производства», создания или полагания нечто такого, что лежит за пределами всякого понятия и предшествует всякой его логической возможности.
У Декарта в качестве такой способности выступало понятие cogito, т. е. сознание или мышление, полагающее актом мысли свое собственное существование, у Спинозы таковой предпосылкой служит понятие Бога или субстанции как причины самого себя, у Лейбница — понятие саморазвивающейся монады, в конечном итоге приводящей к созданию действительного мира как «хорошо обоснованного феномена». Все эти мыслители стремились исходить из понятия разума, опираться на принципы научного, строгого логического или математического мышления, справедливо отказываясь от каких-либо теологических установок средневековой схоластической философии, а тем более от религиозного понятия Бога как первого основания своих рациональных по букве и по духу концепций. Однако в основе всех этих учений всегда и неизменно оказывался некоторый догматический постулат, недоступный рациональному объяснению, логическому определению и доказательству, а тем более, эмпирическому подтверждению и обоснованию.
Во многом аналогичная ситуация имела место и в традиции новоевропейского сенсуализма, пытавшегося опираться исключительно на данные опыта и чувственности, эмпирической психологии или физиологии. Однако всем ведущим его представителям в конечном итоге приходилось апеллировать к понятиям психической или телесной субстанции как источнику ощущений и сущности души, т. е. к тем же, лежащим за пределами опыта, но необходимо предполагаемым и потому догматически постулируемым понятиям, за которыми опять же весьма отчетливо проступало понятие Бога. Даже Юм, отвергший возможность рационального объяснения или обоснования понятий души и тела, равно как и всех общих категорий научного и метафизического познания, вынужден был признать существование определенных, хотя и неизвестных нам сил, лежащих в основе как психологической привычки, благодаря которой эти понятия возникают, так и природных вещей. Мы уже не говорим о том, что он допускал даже существование некоторого «рода предустановленной гармонии между ходом природы и сменой наших идей» [33а. Т. 2. С..37].
Впрочем, основная заслуга Юма состояла как раз в обратном, а именно, он показал, что впечатления и идеи не только не имеют логической природы и не могут быть поняты из каких-либо рационально-метафизических предпосылок, но и что на основе чувственных данных невозможно понять возникновение любых общих, а тем более, универсально-всеобщих понятий метафизики. Его так называемый скептицизм был направлен прежде всего против рационалистического, точнее логицистского объяснения и обоснования возможности научного и философского знания и познания, претендующего на соответствие чувственным данным и даже на обоснование их природы и сущности. В этом смысле Юм поставил ту же задачу, с какой столкнулся и Вольф, только оба мыслителя подошли к ней как бы с разных сторон и пришли к разным выводам: первый — к признанию невозможности обоснования общих понятий и категорий на основе одних лишь чувственных впечатлений и идей (что и принесло ему не вполне заслуженную славу скептика); второй — к признанию необходимости допущения постулатов, которые не могут быть обоснованы в рамках логики и с помощью ее законов (что и принесло ему славу «величайшего из всех догматиков»).
Говоря о явно недооцененных заслугах Вольфа в истории философской мысли Нового времени, следует еще раз подчеркнуть, что главная его заслуга в том и заключалась, что он обнаружил, выявил тот парадоксальный факт, что для всех философских учений основанных на принципах традиционного рационализма оказывается неизбежным обращение к некоторым понятиям, предположениям или постулатам, которые не могут быть объяснены и поняты в рамках самих этих систем или обоснованы с помощью тех же принципов и оснований, методов и законов, с помощью которых они обосновываются сами. Эти понятия не обязательно выступают под именем Бога, однако в конечном итоге они оказываются так или иначе связаны с понятием высшей сущности, которое не может быть доказано с помощью разума, логики и опыта, но тем не менее, предположение о ее существовании оказывается вовсе не уступкой каким-то посторонним соображениям, случайным придатком или необязательным приложением к данной философской системе. Оно оказывается необходимым в качестве «высшего» метатеоретического основания самой этой системы и в силу внутренней ограниченности ее собственных или первоначально принятых оснований, их недостаточности для решения поставленных в ней вопросов философского познания.
Именно такая ситуация четко обозначилась в философии Нового времени к середине XVIII века: эволюция обоих ведущих гносеологических направлений — эмпиризма и рационализма — с неумолимой необходимостью привела их в логический тупик, к состоянию глубокого методологического кризиса. Их базисные основания — опыт и разум — и связанные с ними принципы и методы познания — чувственные данные и логико-математические принципы, посредством которых в них разрабатывались и решались основные вопросы философского познания — оказались явно недостаточными для того, чтобы с их помощью можно было создать сколько-нибудь удовлетворительное учение о познании, мире и человеке, не прибегая к помощи понятий и постулатов, которые соответствовали или хотя бы не противоречили практике и результатам научного познания.
Таким образом, в условиях новой эпохи бурного развития науки, образования, торжества идеалов Разума и Просвещения, в составе основных направлений новоевропейской философии обнаружился глубокий внутренний кризис их собственных теоретико-методологических оснований, непосредственным проявлением которого стали юмовский скептицизм и вольфовский догматизм, оказавшиеся закономерными и во многом завершающими вехами в развитии традиционного эмпиризма и рационализма. К заслугам обоих этих мыслителей и следует отнести тот факт, что эту, по сути дела, тупиковую ситуацию, в котором оказались обе линии философии Нового времени в самый расцвет века Просвещения, они сделали наглядными и очевидными, причем Вольф сделал это хотя и вопреки своим намерениям, но с логической последовательностью немецкого педанта.
К числу определенных его заслуг, как и заслуг его учеников, можно отнести и то, что они прилагали максимум усилий для преодоления и устранения собственных тупиков, внутренних нестыковок и противоречий, которые вновь и вновь возникали в их многочисленных метафизических писаниях, что в конце концов делало еще более сомнительным саму возможность метафизики и правомочность ее существования. Тем не менее, эти попытки заслуживают известного уважения хотя бы потому, что именно в этот период, традиционная метафизика все более теряла какое-либо влияние, становилась объектом презрения весьма поверхностной и вульгарной критики, особенно со стороны французских материалистов и атеистов, дававших ее так называемое «практическое опровержение».
Куда больший интерес представляет та оживленная, острая, а главное, весьма содержательная и принципиальная полемика, которая разгорелась вокруг воль-фианской метафизики среди наиболее серьезных и интересных немецких философов середины — второй половины XVIII века, таких как Крузий, Ламберт, Тетенс, ранний Кант и других. Эти мыслители очень точно уловили и глубоко осмыслили то обстоятельство, что упадок и разложение вольфианства было вызвано не случайными, субъективными и преходящими факторами, а некоторыми фундаментальными и принципиальными причинами, лежащими в самих исходных теоретических и методологических основаниях не только вольфов-ской метафизики, но и всей рационалистической традиции Нового времени. Необходимость осуществления радикальной реформы в метафизике, пересмотра ее исходных и первых оснований, равно как и необходимость поиска новых подходов к решению основных вопросов философского и научного познания и т. д., стали ведущими темами в философских дискуссиях в Германии второй половины века.
Содержание, характер и направление обсуждения этих вопросов было стимулировано именно вольфовской метафизикой, поставившей на повестку дня целый комплекс основополагающих проблем философского познания и высветившей глубокую внутреннюю несостоятельность и противоречивость традиционных способов их решения. И именно этим определяется историческое значение Вольфа в истории философской мысли Нового времени: в его метафизике объективно обозначилась ситуация ее общего и глубокого кризиса, обнаружилась исчерпанность ее теоретико-методологического потенциала и обозначилась необходимость поиска принципиально новых путей дальнейшего развития философского мышления.
Непреходящее значение и заслуга Вольфа в истории философии заключается в той уникальной роли, которую его метафизике суждено было сыграть в общеевропейском процессе развития философской мысли. Самим фактом очевидной неудачи своей метафизики он поставил на повестку дня, высветил проблему правомочности и состоятельности исходных установок, принципов и методов всей традиционной философии Нового времени, сделал ее самостоятельным предметом философской рефлексии, специального и углубленного обсуждения.
Именно поэтому Вольф, как и Юм, являются весьма «знаковыми» фигурами в истории философии Нового времени: их наследие вполне может рассматриваться в качестве итога и завершения развития классического рационализма и эмпиризма, о чем и свидетельствует тот факт, что после этих мыслителей мы уже не встретим сколько-нибудь ярких и значимых, а главное, последовательных представителей указанных направлений. Об этом же свидетельствует и то, что в истории философии второй половины XVIII—начала XIX вв. появляются качественно новые, философские движения, течения и направления, весьма далекие от традиционных классических парадигм или образцов философского мышления Нового времени и даже века Просвещения. Достаточно назвать такие явления философской мысли этого периода как возникновение кантовского критицизма, иррационалистической философии «чувства и веры» Гамана и Якоби, многочисленных представителей романтизма, спекулятивно-диалектического идеализма Фихте, Шеллинга и Гегеля.
Наряду со скептицизмом Юма, метафизика Вольфа стала мощным импульсом и одним из решающих (хотя и во многом и негативно-отталкивающих) факторов для возникновения этих новых течений и тенденций в философской мысли, главным из которых было, конечно, появление критической философии Канта. Именно ему удалось наиболее адекватно и глубоко осмыслить сущность и причины той кризисной ситуации, которая отчетливо и ярко обозначилась у этих мыслителей и из задачи преодоления которой возникла его идея «коперни-канской» революции в философии. К мысли о необходимости осуществления такой революции Кант был «пробужден» Вольфом в не меньшей степени чем Юмом, а его критицизм стал ответом не только на скептицизм последнего, но и догматизм первого.
СПИСОК ЦИТИРУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Wolff Chr. Vernünftige Gedanken von Gott, Der Welt und der Seele des Menschen, Auch allen Dingen überhaupt. Der dritte Auflage. Halle, 1725.
2. Wolff Chr. Der Vernünftige Gedanken von Gott, der Welt und der Seele des Menschen, auch allen Dingen überhaupt, Anderer Theil bestehend in ausführlichen Anmerkungen... Fr./M., 1727.
3. Wolff Chr. Philosopia prima sive Ontologia, methodo scintifica petractata, qua omnis cognitionis humanae principia continentur. Fr. et Lipsiae,1730; (Editio nova, 1736. Gesamm. Werke. Hrsg, und bearbeitet von J. Ecole, J. E. Hoffmann, M. Thomann, H. W. Arndt. II Abt., Lateinische Schriften. Bd. 3. Hildesheim; N.-Y., 1962).
4. Wolff Chr. Ausführliche Nachricht von seinen eigenen Schriften, die er in deutschen Sprache heraugegeben. 2. Auflage, Fr./M., 1733 (Gesamm. Werke. I Abt., Deutsche Schriften. Bd. 9. 1973).
5. Wolff Chr. Vernünftige Gedanken von den Kräfften des menschlichen Verstandes und ihrem richtigen Gebrauche in Erkäntnis der Wahrheit... Halle, 1713.
5a. Вольф Xp. Логика, или Разумные мысли о силах человеческого рассудка и их исправном употреблении в познании правды. СПб., 1765.
6. Wolff Chr. Vernünftige Gedanken von den Würkungen der Natur... Halle, 1723.
7. Wolff Chr. Vernünftige Gedanken von den Absichten der natürlichen Dinge... Halle, 1724.
8. Wolff Chr. Vernünftige Gedanken von der Menschen Thun und Lassen... Halle, 1720.
9. Wolff Chr. Vernünftige Gedanken von dem gesellschafftlichen Leben der Menschen und insonderheit dem gemeinen Wesen... Halle, 1721.
10. Wolff Chr. Psychologia empirica... Fr. et Lipsiae, 1732.
11. Wolff Chr. Psychologia rationalis... Fr. et Lipsiae, 1740.
12. Wolff Chr. Gesammelte kleine philosophische Schriften. Halle, 1736—1740. Bde. I— IV.
13. Baumgarten A. G. Metaphysik. 2. Aufl. Halle, 1766.
14. Baumgarten A. C. Aestetica acromatica. Halle. 1750—1758. Bde. I—II.
15. Meier G. F. Vernunftlehre. Halle, 1752.
16. Meier G. F. Die Metaphysik in vier Theilen. Halle, 1755 —1759.
16a. Meier G. F. Gedanken von Zustand der Seele nachdem Tode. Halle, 1746.
17. Kant’s gesammelte Schriften. Akademie Ausgabe. B.,Lpz.,1900:—1928. Bd. I — XVIII.
18. Аристотель. Соч.: В 4 т. М., 1975—1984.
19. Асмус В. Ф. Немецкая эстетика XVIII века. М., 1962.
20. Баумейстер Хр. Метафизика. 2-е изд. М., 1789.
21. Виндельбанл В. История новой философии в ее связи с общей культурой и отдельными науками. T. 1—2. СПб., 1908.
22. Гайденко П. П. Эволюция понятия науки (XVII—XVIII вв). М., 1987.
23. Гегель Г. В. Ф. Лекции по истории философии // Соч. T. XI. М.; Л., 1935.
24. Гейне Г. К истории религии и философии в Германии // Собр.соч.: В Ют. Т. 6. М., 1958.
25. Декарт Р. Соч.: В 2 т. М., 1989—1994.
26. Жучков В. А. Немецкая философия эпохи раннего Просвещения. М., 1989. 26а. Жучков В. А. Из истории немецкой философии XVIII века (предклассический
период). М., 1996.
27. Кант И. Соч.: В 6 т. М., 1963—1966.
28. Лейбниц Г. В. Соч.: В 4 т. М., 1982—1989.
29. Г. В. Лейбниц и Россия. Материалы Международной конференции. СПБ., 1996.
30. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. T. 1—50. М., 1955—1981.
31. Фишер К. История новой философии. Т. 3. СПб., 1905.
32. Христиан Вольф и русское вольфианство. СПб., 1998.
33. Шпет Г. История как проблема логики. М., 1916.
33а. Юм Д. Соч.: В 2 т. М., 1965—1966.
34. Aufklärung Geschichte Revolution. Studien zur Philosophie der Aufklärung (II). B., 1986.
35. Brockdorf Cay von Die deutschen Aufklärungsphilosophie. München, 1926.
36. Cassirer E. Die deutsche Aufklärung Philosophie. Tübingen, 1932.
37. Christian Wolff als Philosoph der Aufklärung in Deutschland. Wissenschaftliche Beiträge. Halle; Wittenberg, 1980 (T. 37), Halle (Saale).
38. Die Aufklärung in ausgewählten Texten, dargeställt und eingeleitet von Funke. Stuttgart, 1963.
39. Die Philosophie der deutschen Aufklärung. Texte und Darstellungen. Hrsg, von R. Ciafardone. Stuttgart, 1990.
40. Heimsoeth H. Metaphysik der Neuzeit. München; B., 1927.
41. Honnefeider L. Scientia Transcendens: die formale Bestimmung des seiendheit und realität in der Metaphysik des Mittelalter und der Neuzeit. Hamburg, 1990.
42. Scherwatzky R. Deutsche Philosophie von 1500—1800. Lpz., 1925.
43. Zeller E. Geschichte der deutschen Philosophie seit Leibniz. München, 1875.
И. П. Фарман
ИДЕИ НЕМЕЦКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ И ЛОГИЧЕСКИЙ ЯЗЫК ХРИСТИАНА ВОЛЬФА
Одним из веских оснований для «возрождения» Хр. Вольфа может послужить тот факт, что с его деятельностью во многом связано формирование и развитие языка в области философии и науки. Созданный Хр. Вольфом логический язык, под которым в самом общем виде мы будем понимать логические и языковые аспекты его учения во всей их многогранности, на наш взгляд, весьма важен для определения места и значения этого философа, как одного из выдающихся зачинателей немецкого Просвещения. Ведь, как известно, в просветительских проектах в числе главных проблем, решение которых должно было способствовать разумной организации жизни, ставились и проблемы языка, рассматриваемые в широком социально-культурном контексте; в определенных общественно-исторических условиях они превращались в задачу первостепенной важности, как это было в Германии, и время показало, что они до сих пор не утратили своей актуальности. Поэтому в своем обращении к Хр. Вольфу мы исходим из большого интереса к проблемам языка в современных философских концепциях, а поскольку эти проблемы по своей постановке и дискурсу восходят еще к просветительским и тем самым как бы продолжают, по словам Ю. Хабермаса, «незавершенный проект модерна», имеет смысл перекинуть мост между эпохами и выявить преемственность в трактовке некоторых языковых проблем. Разумеется, каждая их них имеет свою специфику, обусловленную социально-культурным контекстом своего времени, и поэтому в такого рода «диалоге культур» важно не только выявление каких-то общих, вернее, сходных тенденций, но и воссоздание самого этого контекста и этой специфики.
Мы обращаемся к историческому опыту одной из переломных эпох в развитии культуры Германии, каким было раннее немецкое Просвещение, что дает весьма богатый материал для исследования генезиса функций языка, и, чтобы «диалог» не воспринимался как односторонний, выбираем для рассмотрения прежде всего широко обсуждаемые в современных философских концепциях языковые проблемы. В принципе отбора материала как раз и проявится «другая сторона», хотя, разумеется, мы постараемся избежать осовременивания прошлого.
Современную постановку проблем языка (например, у Ю. Хабермаса) коротко можно свести к следующему: 1) язык как средство общения и образования следует очистить от чуждых ему искажений и напластований, тогда он сможет эффективно выполнять свою важнейшую коммуникативную роль; 2) необходима критическая рефлексия по отношению к содержанию понятий и средствам их трактовки; 3) учитывая то, что понятия и ценностные категории исторически развиваются и изменяются, нужно дать им современную интерпретацию; 4) для достижения понимания следует опереться на опыт естественных коммуникаций, использовать ресурсы естественного разговорного языка, а также обратиться к разного рода текстам, не только научным, но и художественным и т. д. с целью активизации восприятия, придания ему творческого характера. Широко обсуждается также идея духовной эмансипации путем создания так называемых свободных ассоциаций общественности, «литературнообразованной общественности» и др., которые стали бы своего рода творческими союзами, способными выработать новые смыслы (цели), могущие послужить ориентирами как для развития общества, так и самого человека1.
Предлагаемый экскурс к идеям немецкого Просвещения и логическому языку Хр. Вольфа, на наш взгляд, даст возможность обоснованно судить о правомерности обращения к языку для решения нелингвистических проблем и рассмотрения его в качестве средства «социальной терапии» (Э. Фромм), иначе говоря, в качестве действенного и эффективного средства рационализации, а главное — гуманизации современной жизни.
Для наших целей важно напомнить значения термина «Просвещение», который в широком смысле понимается как просвещение народа, приобщение народных масс к культуре, наукам, искусству, освобождение сознания народа от религиозных и других предрассудков, иначе — как просвещение «ума». Другое значение термина, закрепившееся за ним как за историческим этапом, определяется как умственное движение, развернувшееся в период борьбы буржуазии с феодализмом и направленное на ликвидацию крепостничества, его социальноэкономических норм, политических учреждений, его идеологии и культуры, когда все общественные вопросы сводились к борьбе с крепостным правом и его остатками. Таким образом, просветительское движение охватывало важнейшие стороны социальной жизни, что было вызвано исторической необходимостью, так как Германия в то время (XVII в.), по известной характеристике Ф. Энгельса, представляла собой глухую провинцию Европы: экономическому упадку сопутствовал упадок культуры; нищая страна, деспотизм амбициозных князей, темнота народа; все было скверно, не было образования, средств воздействия на умы масс, свободы печати, общественного мнения; корни филистерства были настолько глубоки, что ощущались спустя века.
Однако уже XVIII в. выдвинул таких гигантов, как Лессинг, Гете, Шиллер, Винкельман, движение «Sturm und Drang», музыку Моцарта, Бетховена, которые вышли за национальные рамки и вошли в мировую культуру. Одной из важнейших движущих сил этого культурного процесса и особенностью немецкого Просвещения, обусловленного исторической обстановкой, стало создание единого немецкого языка. Борьба за национальное объединение осуществлялась не только «железом и кровью», но и путем создания из областных диалектов раздробленной страны единого языка и литературы в общенациональном значении. Это было одной из важнейших идей и особенностей немецкого Просвещения. «Отцом новой немецкой литературы» (Н. Г. Чернышевский) называют Лессинга, но до него задачи создания национального языка, его упорядочения и унификации решали многие его предшественники (С. Брант, Э. Роттердамский, И. Рейхлин, У. фон Гуттен, Т. Мурнер — на него ссылается Лессинг, и др.). Существовали школы писателей, пишущих на немецком языке, кружки гуманистов (например, эрфуртских, создавших «Письма темных людей», которые охотно читали в эпоху Просвещения, и др.).
Однако слава основателя культурной консолидации Германии, которая в условиях XVI в. была возможна лишь в форме религии, религиозного воспитания и образования, досталась М. Лютеру с его непревзойденным переводом Библии. Осуществленная им литературная реформа достигла цели — через Библию придала немецкому языку и литературе национальный характер и тем самым способствовала национальному единению. Серьезные реформаторские идеи внес выдающийся грамматик И. Г. Шоттель, предпринявший попытку нормализации немецкого литературного языка на основе языка Лютера. И конечно, сами писатели, поэты и философы много сделали для того, чтобы меткий образный слог был одновременно и языком здравого смысла, правды и мудрости. Среди обновивших литературу — М. Опиц и П. Флеминг, Ф. Ло-гау, А. Грифиус, Р. Каниц, И. М. Мошерош, X. Рейтер; Г. Гриммельсгаузен со своим «Симплициссимусом» (1668), в котором отразилась целая эпоха и ее язык; Б. Нейкирх, которым зачитывался И.-В. Гете; X. Вейзе — создатель слова «политик», означающего человека, овладевшего наукой жизни; а также Я. Беме, по прозвищу «тевтонский философ», большой и оригинальный мастер слова, писавший свои произведения по-немецки, проявивший большой интерес к значению слов, знаковой форме выражения, символической трактовке предметов и т. д.
Просветительские идеи, связанные с развитием языка, осуществляли не только выдающиеся деятели, но и формирующаяся просвещенная общественность, ставшая важнейшим проводником этих идей. Так, защиту немецкого языка от засилья иностранных (господствующими были латинский и французский) продолжили языковые общества, из которых первое и самое влиятельное «Плодоносное общество» («Fruchtbringende Gesellschaft») просуществовало почти 50 лет (Веймар, 1617—62). Обновлению и развитию немецкого языка во многом способствовали также разного рода объединения литературно-образованной общественности. Это были Первая (М. Опиц «Аристарх, или О презрении к немецкому языку» и др.) и Вторая («высокого барокко» — Д. Лоэнштейн, X. Г. Гофман-свальдау и др.) силезские школы поэтов, другие кружки гуманистов. В 1622 г. естествоиспытатель и философ, ученый энциклопедических знаний И. Юнг, выступивший с идеями возрождения наук и объединения для совместной деятельности ученых, основал в Ростоке первое немецкое общество, поставившее своей целью «находить истины из разума и опыта, освободить науки от софистики и умножить их при помощи новых открытий» 2.
Примерно в 1670-х гг. выступило новое поколение писателей-классицистов, известное под названием «школа разума», ратовавшее за воплощение разумного и естественного и за соответствующие понятийные средства выражения (оппозиция стилю барокко). С этой школой связано появление в 1682 г. в Лейпциге первого периодического научно-литературного журнала «Acta eruditorum» («Ученые записки», в духе французского «Журнала ученых» — «Journal des Savants»), созданного О. Менке и посвященного главным образом точным наукам. В 1684 г. Г. В. Лейбниц опубликовал в нем свои работы по дифференциальному исчислению «Размышления о познании, истине и идеях», а позднее и другие философские работы, принесшие ему широкую известность как математику и философу. Журнал издавался на латинском языке, но его значение состояло в том, что с ним связано начало периода выявления мнений интеллигенции, ее стремления к организации и диалогу.
Все вышеизложенное свидетельствует о том, что когда в 1700 г. было создано Берлинское научное общество (впоследствии Прусская академия наук), связанное с именем Г. В. Лейбница, то в нем не случайно в числе главных ставилась задача поддержания чистоты немецкого языка и научной постановки его изучения. С этого времени начинается поворот к новому этапу в развитии немецкого языка как языка философии и науки. Оценить значимость такой просвещенческой направленности помогает тот исторический факт, что в Германии XVII в. еще не существовало философского языка, независимого от языка теологии. Богословская проблематика в свою очередь включалась в философскую и тем самым обогащалась новыми смыслами. Лейбниц был именно таким философом, у которого за теологическими понятиями нужно видеть философские и переводить его слова с языка теологии на язык рациональной философии.
Но новое заключалось не только в этом. Одной из важных просветительских идей была борьба со схоластикой, начатая еще до Лейбница и способствовавшая развитию рационального подхода в самых разных областях. Самой видной фигурой в этом плане был Якоб Томазий (1622—1684) — филолог и математик, профессор Лейпцигского университета, когда там учился Лейбниц, который дает своему первому преподавателю философии характеристику только в превосходных степенях: «человек основательной учености», знаменитейший автор отличных «Таблиц практической философии», на которые он сам ссылается, и других «блестящих трудов»; знаток Аристотеля, древних и современных философов, издатель античных ученых (в частности, филологических работ И. Камерария и П. Мануция). Я. Томазий, «украшение отечества», по словам Лейбница, известен также как один из его корреспондентов. Однако и для него языком науки была еще латынь, и только его сын, Христиан Томазий, проявил смелость, выступил с чтением лекций на немецком языке, и эту инициативу активно поддержали другие ученые.
Г. В. Лейбниц также отдавал должное латыни, считая, что написанное на ней не устареет и через много столетий. Однако он понимал, что она уже не отвечает запросам времени и насущным жизненным потребностям, в том числе связанным с развитием языка, поскольку немецкий язык, в отличие от итальянского и французского, «бесконечно далек от латыни». В передовых странах Европы латинский язык уже все больше уступал место их национальным языкам. Поэтому Лейбниц задумал реформу философии и языка, которая касалась бы не только принципов философского мышления, но и способов изложения и стиля.
Здесь нет возможности осветить все связанные с этой реформой вопросы3. Отметим лишь главное. Одна из основных мыслей Лейбница-реформатора состояла в том, что истинные принципы и истинный метод философствования должны соответствовать предмету, природе вещей, существу дела и освобождаться от схоластики и ее языка — латыни. Лейбниц резко выступил против именно современной ему схоластики, считая, что она стоит много ниже своих предшественников по остроте мысли4. Объясняя причины этой, казалось бы, несоответствующей времени резкой критики, исследователи указывали, что она была направлена против эпигонов схоластики, многочисленных и влиятельных «ретроградов», заполнивших европейские университеты и служивших главным препятствием для развития знаний: «оставаясь слепыми к свету важнейших открытий и во всем уступая своим средневековым учителям, они тащат науку назад, на путь умозрений и терминологических споров»5. В Германии, отмечал Лейбниц, схоластическая философия оказалась прочнее, не говоря о других причинах, именно потому, что там гораздо позднее начала развиваться философия на немецком языке. Таким образом, борьба со схоластикой была большой культурно-исторической задачей Просвещения.
Далее Лейбниц неоднократно высказывал мысль о том, что не видит принципиальной разницы с точки зрения использования языка в обыденной жизни и в философии. Развивая свой метод реформирования философии и логики, Лейбниц стремился создать чистый, адекватный способ выражения, который коротко можно изложить так: 1) не существует вещей, которые не могут быть выражены в общеупотребительных терминах; 2) поскольку принципиальной разницы между философией и нефилософией нет, у обеих одни и те же представления, они могут пользоваться одним и тем же языком; 3) таким языком должен стать естественный, общедоступный язык; 4) существуют три достоинства речи: ясность, истинность и изящество; причем ясны должны быть и конструкции и понятия (дефиниции); 5) без необходимости следует избегать технических терминов и пользоваться общеизвестными словами, за исключением точных наук, в которых нужно создавать новые наименования, исходя из потребностей жизни, и др.
Характеризуя философский стиль, Г. В. Лейбниц писал, что «философским делает стиль исключительно ясность изложения, полная понятность слов и предложений. Философская речь не терпит ничего не значащего, бессмысленного, пустого или темного слова. Обычное, естественное выражение всегда популярно, тогда как техническое создано искусственно и известно только посвященным . Философия должна избегать, насколько возможно, искусственных выражений. Ей лучше всего говорить ясно, определенно и конкретно, остерегаясь троп и абстракций, “haecceitâtes” и “hoccitates” схоластических философастеров. Популярные выражения всегда самые понятные и ясные, а они существуют только в живом национальном языке. Латинская фраза зачастую скрывает неясность; она представляет собой маску, а не выражение; вот почему на диспутах часто случается, что противника, прячущегося за слова, принуждают говорить на национальном языке. Его заставляют снять маску и показать, кто он такой» 6.
Итак, одно из основных требований Лейбница — постоянно искать ясности в словах и пользы в вещах. Без ясности не может быть действительно истинного суждения, а без осознания пользы — никакого открытия. Ошибки большинства людей, по убеждению Лейбница, — прямой результат неясности слов и бесцельности их опыта. (Отрицать справедливость таких соображений нет никаких оснований, они актуально звучат и в самых современных эмансипационных проектах, что свидетельствует о трудности их практического осуществления.)
Активно выступая за употребление немецкого языка, Г. В. Лейбниц высказывает получившее затем широкое признание соображение о философском предназначении немецкого языка, о том, что «из всех европейских языков ни один так не пригоден для философии, как немецкий» 1. Сейчас это общепризнанно, а тогда это было очень смелым заявлением, в условиях, когда французское влияние было весьма велико, а немецкий язык находился в столь жалком состоянии, что возникла опасность его гибели. Исходя из такой обстановки, Лейбниц требовал созыва немецких ученых, которые взяли бы спасение немецкого языка, его своеобразия и богатства в свои руки.
Г. В. Лейбниц внес большой вклад в развитие понятийного мышления, особенно в области онтологии, теории познания и логики. Исследователи отмечают, что он создал наиболее полную для своего времени классификацию определений; впервые сформулировал закон достаточного основания, а также принятый в современной логике закон тождества; в его работе «Об искусстве комбинаторики» предвосхищены некоторые моменты современной математической логики8. Лейбницем были разработаны понятия, связанные с разумом, который понимался с помощью соединения многих предикатов: как высший разум, всеобщий разум, естественный, практический, а также как ум, способность к умозаключению. Г. В. Лейбницем была впервые разработана и понятийно выражена высоко оцененная современными языковедами и философами, особенно герменевтического направления, «метафизика индивидуальности» (Х.-Г. Гадамер), под которой понималась индивидуальность проявления духовной силы, связанной с феноменом языка и выступающей как внутреннее языковое сознание9. По словам Ю. Хабермаса, Г. В. Лейбниц утверждал, что каждый индивид есть зеркало мира как целого и предложил «онтологическую модель для индивидуальной субстанции, которая, являясь программой бесконечных, неисчерпаемых в дискурсе обозначений, не поддается полной экспликации»10. Такое понятие представляет собой то, что впоследствии И. Кант назвал Vernunftidee (идея разума)11. Когда говорят, что без Лейбница не было бы Канта, который сыграл определяющую роль в становлении понятийного языка XVIII—XIX вв., надо думать, что имеются в виду и языковые идеи его предшественника.
Коротко коснемся весьма актуального вопроса в современной философии — о коммуникативных функциях языка. Лейбниц характеризует, по его определению, материальную и формальную стороны слов. Говоря о первой, он отмечает, что языки, будучи самым древним памятником человеческого рода, выступают как средство познания культуры и имеют важное значение для исследования происхождения, обычаев и древностей Европы12. Нет ничего более присущего человеку, чем разум, писал Лейбниц, ему дарована также речь, звуки которой выступают в качестве знаков внутренних мыслей, чтобы таким образом сделать их известными другим людям. Возникшая из потребности заставить себя понять других, речь явилась «великим орудием и всеобщей связью общества» 13, а ее коммуникативная роль — главнейшей. Таким образом, можно говорить о двояком употреблении слов: для выражения собственных мыслей и для сообщения наших мыслей другим с помощью слов.
Раскрывая формальную сторону слов, Лейбниц отмечает их многозначность. Считая главной целью разума познание действительности, философ выражает убежденность в необходимости исследования понятийного мышления, в том, что «языки — это поистине лучшее зеркало человеческого духа и что путем тщательного анализа значения слов мы лучше всего могли бы понять действительность разума» 14. Многозначность слов, генезис их значений, знаковый характер языка обусловливают различия в восприятии; поэтому, по словам Лейбница, «главная цель языка заключается в том, чтобы возбудить в душе того, кто меня слушает, идею, сходную с моей» 15, иначе говоря — добиться понимания. Философ ратовал за исследование значений терминов, общих понятий и слов вообще, отмечая, что это редко делается, что в диалогах и спорах смысл их намеренно затемняется («искусство затемнения слов внесло путаницу в два великих регулятора человеческих деяний — религию и правосудие»16).
Для наших целей важно отметить, что в некоторых высказываниях Г. В. Лейбница явно ощутим социальный подтекст, в частности, его убежденность в том, что исследовательская работа в области языка может оказать влияние на социально-культурную практику: тогда «путь к знанию и, может быть, к миру стал бы гораздо более открытым для людей», — отмечал философ17. Таким образом, под коммуникативной функцией языка имеется в виду не просто понимание, но и способность к мотивации, которая может вызвать определенные социальные действия. Такая трактовка языка у Лейбница не развернута, но важно уже то, что она намечена и близка современной.
Идеи Лейбница были подхвачены философским движением, среди участников которого были профессора университета в Галле — Самуил Пуффендорф (1632—1694), Христиан Томазий (1635—1728) и Христиан Вольф (1679— 1754).
С. Пуфендорф — историограф и юрист, выступил как защитник естественного права, подвергший критике систему государственного устройства того времени и указавший на необходимость социально-политических и правовых преобразований; известен также своими размышлениями о культуре, суть которой связывалась им с отношением к природе, но в целом понималась широко и вполне современно — как охватывающая все стороны деятельности человека.
X. Томазий, сын Я. Томазия, о котором говорилось выше, — один из основателей университета в Галле, в 1688 г. выпустил ученый журнал на немецком языке, «тоже первый в своем роде» 18, в котором сотрудничали Лейбниц и Христиан Вольф. Будучи одним из первых и деятельнейших защитников прав и интересов естественного, здравого человеческого ума, а также употребления естественного немецкого языка, в том числе и в научной области, за свою многолетнюю преподавательскую деятельность X. Томазий создал рационалистическую школу правоведения, активно полемизировавшую с пиетистической богословской школой. Он отделяет философию от богословия, придавая ей характер «мудрости». Его лекции, впервые читавшиеся на немецком языке, привлекали огромную аудиторию и были поистине просветительским событием. Уже одного этого имени достаточно, чтобы считать, что солнце века Просвещения взошло, отмечал К. Фишер19.
Хр. Вольф — один из непосредственных учеников и корреспондентов Лейбница — вошел в историю философии как его последователь, призванный перевести на немецкий язык, систематизировать и распространить учение Лейбница, что он и осуществил, создав систему, получившую название «лейбнице -вольфовской» философии и изложенную им в серии учебников, которые были хорошо составлены и главное — написаны на правильном и чистом немецком языке (1712—1726); затем он написал серию тех же книг по-латыни (1728— 1753)20.
Хр. Вольф продолжил развитие многих из затронутых здесь просветительских идей, в частности связанных с развитием языка. Ему принадлежит историческая заслуга интерпретации работ Лейбница, заложивших основы той философии, без которой были бы невозможны критические рационалистические системы И. Канта и Г. В. Ф. Гегеля. Не случайно исследователи философии Канта всегда отмечают значение для него философии Хр. Вольфа, особенно в ранний период, когда можно говорить о влиянии Лейбница и вольфовских «первых оснований математических наук» на Канта, по образованию математика.
Характеристика первого периода деятельности Хр. Вольфа связывается с той задачей, которую, по словам К. Фишера, ставит ему история философии: «изложение на немецком языке и систематизирование лейбницевской философии, такое систематизирование, которое имеет в виду включение в нее дуалистического учения Декарта и демонстративного способа Спинозы и претендует на значение универсальной системы, превосходящей по своей оригинальности и обширности даже систему Лейбница»; поэтому Хр. Вольф был недоволен, когда его философию называли «лейбнице-вольфовской» 21. Для таких претензий у Хр. Вольфа были основания.
В плане рассматриваемых нами проблем главное состоит в том, что Хр. Вольфом был разработан, по сути, новый логический язык, посредством которого и была создана его знаменитая система. Понятие «логический язык» мы употребляем в современном значении и понимаем под ним прежде всего систему методов членения универсума, посредством которых осуществляется процесс познания и выражаются его результаты. Основное назначение этих методов не сводится к разработке понятийного аппарата и не ограничивается понятийной фиксацией; они носят общий характер в плане как познаваемых явлений, так и использования их в процессе получения знаний. Понимаемый таким образом логический язык полифункционален и общезначим. Предпринятый нами экскурс, хотя бы отчасти, дает представление о формировании и развитии такого языка как социокультурного феномена, вобравшего в себя и обобщившего многие слагаемые познавательного, ценностного и характерного для эпохи Просвещения проективно-конструктивного отношения к миру.
Образ познания, созданный Хр. Вольфом с помощью его логического языка, используемого в самых разных областях знания, был содержательно многоаспектным и весьма впечатляющим. Достаточно сказать, что Хр. Вольф как естествоиспытатель и философ занимался широким кругом научных проблем: писал по вопросам математики, физики, метеорологии, ботаники, физиологии, а также по всем разделам философии и права — логике, онтологии, психологии, этике; разработал такие области практической философии, как мораль и политика, естественное и международное право. Место Хр. Вольфа в немецкой культуре определяется тем, что он пытался синтезировать все научное знание того времени с точки зрения телеологического рационалистического мировоззрения. Все его работы, начиная с «Разумных мыслей о силах человеческого рассудка...» (1712), носят названия, начинающиеся со слов: «Разумные мысли о...» (ср. с заголовками глав в «Новых опытах» Лейбница), — о силах человеческого ума и правильном применении их к познанию истины; о Боге, мире и душе человека, а также о всех вещах вообще; о всех деяниях людей — для споспешествования их счастью; об общественной жизни людей; о действиях природы; о целях естественных вещей; наконец, о частях человека, животных и растений (1725). К сожалению, эти работы содержательно у нас не исследованы, но уже сами названия их свидетельствуют о том, что это была, в сущности, всеохватывающая система, содержащая обширные знания и к тому же затрагивающая область практической и даже шире — социальной философии.
Все работы Хр. Вольфа этого периода написаны на немецком языке. Вслед за X. Томазием также на родном языке он читал лекции по естественной и рациональной теологии, отстаивая права человеческого разума в делах веры. Его «философские чтения» привлекали огромное число слушателей. Как философ X. Вольф был приверженцем исторического подхода к пониманию философии и много сделал для искоренения устаревших, догматических правил ее преподавания, заменив схоластические компендиумы на такие учебные руководства, в которых большое внимание уделялось практической стороне вопросов, языковой ясности, понятийному мышлению. Его учебники по метафизике и морали неоднократно переиздавались и служили основой университетского образования вплоть до появления «критической философии» Канта22.
Наибольшую известность получила логическая система Хр. Вольфа («Разумные мысли о силах человеческого ума и правильном применении их к познанию истины», «Сокращения первых оснований математики» и др.), в основе которой лежала строгая систематизация (доходящая до механицизма, как отмечают ее критики), построенная по образцу математики, в соответствии с математическими принципами, истолкованными как требование действовать последовательно и доказательно, так, чтобы каждое следующее положение обусловливалось всеми предыдущими. В этом Хр. Вольф следовал, во-первых, складывающемуся в Новое время отношению к метафизике, когда вся ее традиционная проблематика стала рассматриваться под углом зрения новой науки, а воплощением научности стали считать математическое естествознание. Руководствуясь математической идеей познания, метафизика выдвигает задачу разработать всю свою традиционную проблематику в духе соответствующей строгости и тем самым возвести метафизику также и по содержанию на формальную ступень абсолютной науки. Хр. Вольф разделял эту основную направленность новоевропейской философии на абсолютную достоверность. Во-вторых, он следовал трактовке логики Лейбницем как искусства мыслить, как системы правил суждения на основе доказательств: исследовать все по порядку, не допускать никакого тезиса без доказательств и никакого доказательства, которое не было бы составлено сообразно с правилами логики. Исследователи считают, что Хр. Вольф не столько развил (он не пошел дальше Лейбница), сколько формализовал и схематизировал некоторые принципы, содержащиеся в логике своего учителя, — в частности, требование создавать непрерывные аподиксы (неопровержимые доказательства), подобно тому как это делают математики, рассматривающие предложения так, что «одно вытекает из другого в беспрерывном ряду» 23, — а также присущее Лейбницу стремление к синтезу, «комбинаторике» и математизации знания.
Как известно, у Лейбница еще в ранней юности возникла мысль о том, что понятие можно выразить в числах; для этого нужно создать принципы анализа понятий, в результате которых из каких-то комбинаций возникнут истины. В той мере, в какой эти истины зависят от разума, они будут доступны проверке исчислением. Особенно это касается многозначных понятий, общих терминов и т. д. Лейбниц стремился к построению calcules ratiocinator — исчислению рассуждений, видя в этом критерий однозначности, истинности и понятности.
Лейбниц работал также над программой представления человеческого знания в виде некоего универсального символического языка, непосредственно выражающего мысль, непосредственные понятия вещей, наподобие «иероглифи-ки мыслей, истинной «signatura rerum», которую древние искали в символических числах пифагорейцев и о которой позже бредили кабалисты» 24. Речь шла и о восходящей к Я. Беме идее создания «естественного языка», который должен выражать не наши представления о вещах, а самую природу их: таким был, по преданию, язык первых людей, «lingua adamica», дарованный им непосредственно Богом. Лейбница занимала мысль о языке и новой письменности, которые бы вместо слов, или знаков мысли, выражали бы сами эти мысли; для этого, по его мнению, следует найти простейшие, элементарные понятия и на их основе создать «алфавит мысли» в виде характерных общеупотребительных знаков. По словам Х.-Г. Гадамера, идеал языка, к которому стремился Лейбниц, — это, таким образом, «язык» разума, analysis notionum (анализ понятий), который, исходя из «первых» понятий, вывел бы всю систему истинных понятий, отобразив тем самым все сущее в полном соответствии с божественным разумом» ъ. Иными словами, речь шла об изобретении всемирной письменности.
Эти идеи (идеалы) рациональной комбинаторики, говоря словами Лейбница, остались неосуществленными и, надо думать, не осуществимы вообще, но они являются показательными для складывающейся в то время тенденции к математизации и формализации знания, в том числе философского, которую и продолжил Хр. Вольф, доведя ее, что называется, до логического конца.
Однако в целом, если говорить о применении логического языка Хр. Вольфа к собственно логике (трактовке сферы логического), методологии и философии, следует отметить многие положительные стороны. Система Хр. Вольфа исходила из представления о логике как науке о правильном мышлении, которая рациональна и по форме и по содержанию (материи) и основное назначение которой состоит в выявлении и установлении всеобщих и необходимых законов мышления вообще. В системе выделяются теоретическая логика, предметом которой является разработка и систематизация правил обоснования и умозаключения, и практическая логика как методология познания, определяющая направленность познавательной деятельности и способы познания истины. Второй придается более важное значение в процессе выявления сущностной природы универсума, а также поиска и осмысления правды, но она с необходимостью должна опираться на теоретические логические принципы первой и действовать в единстве с ней, используя ее возможности формализации знания и создания его структуры.
Рациональность системы определялась тем, что она базировалась не только на силе разума, но и на «рациональной психологии», под которой понималось — в отличие от ratio как интеллекта и «чистого разума» — состояние познающего разума и души («учение о душе»), более тесно связанных с опытом. При этом имелись в виду не индивидуальный человеческий разум и душа, которые далеко не всегда могут отчетливо осознавать происходящее и свое состояние, а психологические составляющие видения мира и прежде всего психологическая способность мышления дать объяснение, раскрыть сущность «простой вещи» в ее взаимосвязи со всеобщим; в чем, собственно, и состоит значимость познания26.
Логическая система Хр. Вольфа «учила мыслить» рационально. Это касается прежде всего основной логической процедуры — обоснования: раскрывается ее неоднозначность, сложность поиска достаточных оснований, в силу которых принимаются определенные утверждения (они могут быть относительны или условны). Логические характеристики и логические методы поиска доказательств не всегда могут дать непротиворечивое и полное описание наблюдаемого состояния, ситуации или события. В результате чего нередко оказывается, что процедура обоснования не дает бесспорных, абсолютных критериев для принятия утверждения и должна быть дополнена другими процедурами. При этом оценка знания с точки зрения рациональности, здравого смысла посредством ссылки на признанные авторитеты или устоявшиеся традиции не может соответствовать требованию истины. Отсюда и возникает необходимость в более точных методах, идет речь о приемлемости и применимости математических методов в других областях знания. Это относится в первую очередь к логическим методам анализа научного познания с применением достаточно сильных абстракций и идеализаций, аксиоматически заданных теорий и др. В таком случае познавательная процедура принимает вид математической записи: тезис —» путь обоснования знания (цепь рассуждений) —» доказательство (результат).
Можно говорить и о других интересных аспектах логического языка Хр. Вольфа, в частности связанных с его «Логикой», содержащей дидактические правила использования логики для практической ориентации, рекомендации по культуре чтения текстов, а также богатое серьезными жизненными примерами «научение» толкованию (пониманию) Священного Писания и др.
Логический язык Хр. Вольфа как методология науки связан с формализацией научного знания; прежде всего — это выработка соответствующих средств, создание языка для выражения той или иной теории. На языке современной логики это называется разработкой стандартных форм представления знания. Определенные стандартизированные формы, а также соответствующий язык рассматриваются как ключевые моменты в создании системы, обеспечивающие использование рациональных способов рассуждений, а также объективный подход к анализу их самих. Иными словами, они определяют логическую структуру теорий.
Логический язык Хр. Вольфа используется и как методология рассмотрения и понимания соотношения эмпирического и теоретического, перехода от одной схемы, в которой описываются факты, к другой, более целесообразной. В сфере логического языка Хр. Вольфа оказываются и некоторые семантические вопросы, связанные с так называемым «языковым каркасом» и решаемые при помощи постулатов значения. Наконец, нельзя не отметить и освещение Хр. Вольфом весьма интересной и активно обсуждаемой, начиная с Нового времени и доныне, логики открытий, связанной с именем Лейбница, который, как Ф. Бэкон и Р. Декарт, верил в возможность создания такой логики. В отличие от большого числа сторонников противоположной точки зрения, считающих, что логика и регулярные процедуры здесь неуместны, в логической системе Хр. Вольфа рассматриваются вопросы соотношения творчества, открытия и логических методов поиска доказательств, что в связи с современными дискуссиями27 может представлять научный интерес.
Если учесть, что главной методологической задачей Хр. Вольфа было «создание четкой, ясной, однозначной, дидактически прозрачной системы на основе уже имеющегося теоретического натурфилософского синтеза, а также соответствующего этой системе метода познания истины и метода обучения — вплоть до конкретных методик» 28, то можно сказать, что эта задача была им успешно выполнена.
Что касается применения логических и точных методов к анализу философских проблем, то этот вопрос не только не устарел, но, напротив, приобрел особую актуальность в наши дни (например, в связи с обсуждением процесса всеобщей компьютеризации). Прежде всего отметим, что Хр. Вольфу принадлежит заслуга выделения определенных областей философского познания, о чем уже упоминалось. Он также весьма успешно разрабатывал категориальный аппарат новой философии и явился создателем таких вполне современных терминов, как «дуализм», «монизм»; впервые ввел в научный обиход понятия «онтология», «психология», «телеология» и др.29 В характеристике способов (стиля) философствования Хр. Вольф следовал за Лейбницем, который выделял два метода философствования: акроаматический, требующий доказательства всех положений, и экзотерический,,допускающий разъяснение на примерах и подобиях. Предпочтение отдавалось первому, который состоял из дефиниций, разделений и доказательств и требовал соблюдения строгих правил для высказывания: «в процессе доказательства не употреблять ни одного слова без определения, ни одного предложения без доказательства или без непосредственного чувственного подтверждения»30. Принципы такого метода, перенесенные Лейбницем в философию, были распространены Хр, Вольфом и на другие области знания.
Исследователи обращают внимание на то, что и у Лейбница и у Вольфа речь шла не о том, чтобы уподобить философию математике и перенести математические методы в философию, а о сходстве философских и математических методов «в,том амысле, что правила обоих исходят из одного источника — из истинной логики» 31. Об этом, в частности, свидетельствует и оценка вольфовской логики К. Фйшером: «Фбрмальное образование ума и распространение логической формы на все части знания» явились неоспоримой заслугой Хр. Вольфа по отношению к немецкому Просвещению32.
В классификации наук и методов познания Хр. Вольф отводил философии ведущее место, а из трех выделенных им форм познания — исторической (эмпирической, описательной), математической и философской (теоретической, причинной) — последняя характеризовалась как рациональное знание и необходимая составная часть полного (универсального) знания. А согласно Г. В. Лейбницу, только рациональные истины дают нам познание не случайной действительности, но философской необходимости.
В свете современной постановки языковых проблем, о которой у нас шла речь вначале, отметим, что Хр. Вольф и его школа уделяли большое внимание проблемам интерпретации и последовательно причисляли «всеобщее искусство истолкования» к философии, на том основании, что «в конечном счете все сводится к тому, что познать и проверить истины других можно лишь тогда, когда понимаешь их речь» 33. Хр. Вольф и вольфианцы, к примеру, исследовали некоторые конкретные языковые формы и зависимость семантики логических систем от предпосылок, связанных с интерпретацией таких понятий, как истинность, ложность, рациональность и др.
Стремление к универсализму было характерной чертой просветительской философии, ставящей своей целью все объяснить, стать универсальным образованием, и вольфовская система как своего рода энциклопедическое изложение знаний и, условно говоря, всеобщий язык вполне соответствовала этой направленности и утверждала ее, завоевав всеобщее признание, а логический язык Хр. Вольфа рассматривался в качестве задающего стандарты научности. Вместе с тем известно, что уже в 40-х гг. XVIII в. оценка философии Вольфа существенно изменилась: ее стали называть устарелой и скучной, упрекали в морализаторстве. И дело не только в том, что его метафизика стала отставать от успехов гуманистической мысли, за что она подвергалась критике со стороны французских просветителей. Логический язык Хр. Вольфа практически выливался в методологическое единообразие всех областей научного познания, а оно рушилось под воздействием развивающейся дифференциации знания и социальных факторов, которые в вольфовской системе не учитывались. Но все же в Германии XVIII в. так называемая Лейбнице-вольфовская школа господствовала, и это продолжалось до распространения философии И. Канта34.
В последующие века философия Хр. Вольфа подверглась более резкой критической оценке. В литературе обычно отмечались заслуги Хр. Вольфа как систематизатора научного знания и вместе с тем указывалось, что его системе и методологии в большой степени были присущи схематизм, догматизм и другие негативные формализаторские черты, что Хр. Вольф неадекватно интерпретировал своего великого современника Г. В. Лейбница, не понял его учения о монадах и предустановленной гармонии и др. Стало широко известно высказывание Ф. Энгельса о «плоской телеологии» и «бессодержательности вольфовской метафизики», не признающей противоречий, согласно которой нечто является либо случайным, либо необходимым. Особенно негативно оценивались методологические требования Хр. Вольфа, когда чрезмерно строгая логизация и систематизация приводила к механицизму, построению теории по образцу математики. При определении места Хр. Вольфа в культуре XVIII в. его связывают с так называемым «умственным просвещением», но эта характеристика звучит уже далеко не всегда позитивно35.
Итак, от Лейбница — к Лессингу, от Лейбница — к Канту, а имя Хр. Вольфа, в сущности, выпало. Основная причина все усиливавшегося критически-полемического отношения к его философии состояла, на наш взгляд, в том, что время выдвигало требование большей свободы и критической оценки как существующей реальности, так и научного знания в условиях изменяющегося типа научности и философствования. Судя по высказываниям философов XIX— XX вв., отход от вольфовской системы и попытки ее «расшатать» мотивировались главным образом причинами социально-культурного порядка, в частности, вторжением жесткой рациональной системы (формальной рациональности, если использовать определение М. Вебера) в ранее не подвластные ей области — культуру, личностные сферы индивида и др., что и вызвало соответствующую реакцию, а также, по словам Х.-Г. Гадамера, «необходимость критической защиты от всего того, что в век Просвещения с его лозунгом “разумных мыслей” считалось сущностью гуманности» 36. Особенно категоричным было отрицание предписания философии рассматривать в качестве мерила познания и идеала истинности математическое знание. Если ранее обосновывалась мысль о том, что без математики не проникнуть в основание метафизики, то теперь связь между философией и математическим знанием в принципе отклонялась. Наиболее резко эта тенденция выразилась в экзистенциально-герменевтическом направлении философии XX в. Так, к примеру, М. Хайдеггер отмечал, что самое обязывающее и полное — т. е. нацеленное на целое — познание непременно должно опираться на внутреннюю субстанцию человека, в отличие от математического знания, — «самого пустого» и менее всего связанного с существом человека; истина философствования укоренена в судьбе человеческого присутствия37. Такая ориентация отвечала запросам Нового времени и означала не преодоление метафизики, а «просто утрату способности понимать ту строжайшую логику предельных понятий, на которой почти три тысячелетия стояла
^ ЗА
европейская мысль» .
Однако идеи Просвещения и логический язык Хр. Вольфа, как мы видели, не сводились к такому решению проблемы. Поэтому в заключение посмотрим, насколько предпринятый нами экскурс отвечает на поставленные в начале работы вопросы. На наш взгляд, он дает основание судить о том, что просветительские идеи — это важный этап в развитии научного понимания логики, мышления и языка, в истории логической (теоретической) культуры. Идея о логике как науке о мышлении с его способностью упорядочения мыслей, которые выявляются и отлагаются прежде всего в человеческом языке, достаточно четко была выражена уже на этом этапе и впоследствии была развернута в «Науке логики» Г. В. Ф. Гегеля. Но из изложенного ясно, что и предшественники Лейбница, и он сам, и Хр. Вольф не сводили задачу логики как науки к анализу языка. В их работах ставилась так называемая схоластически-лингвистическая проблема, но их рассуждения, «спор о словах» и их значениях были далеки от лингвистического фетишизма. Логическая форма рассматривалась ими не как форма языка, а как форма некоторой реальности, действительности, посредством которой изыскивается возможность наиболее полного отражения и осмысления самой этой действительности, а также взаимного человеческого понимания.
Работа немецких просветителей не ограничивалась решением научных проблем. Их усилия были направлены также на то, чтобы с помощью ясности и понятности языка сделать доступными свои гуманные цели. «Я имею и кое-какие открытия и новые идеи, которые, возможно, могли бы и значительно увеличить удобства человеческой жизни и просветить умы», — писал Г. В. Лейбниц39. По мере возможностей он их пропагандировал и реализовал. Сходные цели преследовала и практическая философия Хр. Вольфа, и идеи других упомянутых нами философов-просветителей.
В этом же направлении — на «полезное», на «споспешествование отечественным и полезным целям» — осуществлялась деятельность и разного рода просветительских обществ, которые функционировали не только в виде складывающихся институциализированных форм (в Германии конца XVII—начала XVIII в. было четыре университета, Академия образных искусств (1694— 1713) и др.), но и непрофессиональных, которые стали очагами культуры и местом группировки литературно-образованной общественности. Не случайно и Республика ученых, о которой мечтал Лейбниц, мыслилась им не как объединение ученых-специалистов, а как федерация, как сеть просветительских обществ «для споспешествования цивилизации человечества».
В этом процессе просветительства трудно переоценить роль «языковых обществ», работу ученых-литераторов, их борьбу за немецкую литературу, особенно светскую, «человеческую», за философское осмысление действительности с просветительских позиций. Идеи немецкого Просвещения, связанные со значением языка, общения, диалога, воплощенные в богатом философско-литературном наследии, заложили основательную просветительскую культурную традицию. Так что, когда выступили И. X. Готшед, «отец немецкой литературы» Г. Э. Лессинг, теоретик искусства И. И. Винкельман и другие великие, им было что обобщать и развивать.
Исторический опыт показывает, что пройденный ранним Просвещением путь был весьма плодотворным и что успех создавался благодаря не только идеям ученых, но и усилиям и деятельности всей просвещенной общественности, ее стремлению к взаимопониманию и консолидации, а именно это привело к расцвету Просвещения в XVIII в.
Нет сомнения в том, что такой опыт не изжил себя; и, на наш взгляд, современные философы правы, считая возможным использовать его для решения сегодняшних социокультурных проблем и завершения «проекта модерна» как проекта просвещения.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 См.: Хабермас Ю. Модерн — незавершенный проект // Вопросы философии. 1992. № 4; Habermas /. Theorie des kommunikativen Handelns. Bd. 1—2. Frankfurt-am-Main, 1981.
2 Цит. по: Майоров Г. Г. Примечания в кн.: Лейбниц Г. В. Соч.: В 4 т. М., 1984. Т. 3. С. 694.
3 Основные ее идеи, касающиеся языка, рассматриваются в предисловии к переизданию (1670) одной из книг итальянского писателя-гуманиста XVI в. М. Низолия, прославившегося своими грамматическими трудами, а также в работах, ознаменовавших переход от XVII к XVIII в.: «Dissertation sur l’origine des Germains» (1696), «Современные мысли об усовершенствовании немецкого языка» (1697), «Новые опыты о человеческом разумении» (кн. 3-я «О словах», 1703—1704 гг.) и др.
4 Известно, что Лейбниц отмечал интерес средневековой схоластики к формальной логике, с увлечением читал Ф. Суареса и его «Метафизические рассуждения».
5 Лейбниц Г. В. Указ. соч. Т. 3. С. 89, 7.
6 Цит. по: Фишер К. История новой философии. Т. 3: Лейбниц, его жизнь, сочинения и учение. СПб., 1903. С. 69—70.
7 Там же. С. 70.
8 См.: Майоров Г. Г. Лейбниц. Философский энциклопедический словарь. М.,
1983. С. 303.
9 Такой подход получил развитие в трудах создателя современной философии языка В. фон Гумбольдта. См.: Гадамер Х.-Г. Истина и метод: Основы философской герменевтики. М., 1988. С. 509.
10 Хабермас Ю. Понятие индивидуальности // Вопросы философии. 1989. № 2. С. 36.
11 См.: Там же.
12 См.: Лейбнии Г. В. Указ. соч. М., 1983. Т. 2. С. 287, 342.
13 Там же. С. 274, 340.
14 Там же. С. 338, 356.
ь Там же. С. 289.
16 Там же. С. 349.
17 Там же. С. 345.
18 Фишер К. Указ. соч. С. 221. Журнал был рассчитан на широкий круг читателей и назывался «Откровенные, забавные и серьезные, разумные ежемесячные беседы обо всем, преимущественно о новых книгах» (1688—1689).
19 См.: Там же.
20 См.: Там же. С. 629.
21 См.: Там же. С. 636.
22 См.: Майоров Г. Г. Лейбниц. Философский энциклопедический словарь. С. 90.
23 См.: Субботин А. А. Логические труды Лейбница // Лейбниц Г. В. Указ, соч. Т. 3. С. 458.
24 Фишер К. Указ. соч. С. 14.
25 Гадамер Х.-Г. Указ. соч. С. 483.
26 Обстоятельный анализ этих проблем дан Г. Н. Крупниным. См.: Философия Хр. Вольфа в контексте теоретической проблематики Нового времени // Философский век. Альманах — 3. Христиан Вольф и русское вольфианство. СПб., 1988. С. 47—71.
27 См., например: Природа научного открытия. М., 1986, и др.
28 Артемьева Т. В., Микешин М. И. Христиан Вольф и русское вольфианство // Философские науки. 1990. № 1. С. 66.
29 См.: Там же, со ссылкой на работы А. М. Деборина и В. В. Зибена.
30 Лейбниц Г. В. Указ. соч. Т. 3. С. 75—76.
31 Артемьева Т. В., Микешин М. И. Указ. соч. С. 67.
32 Фишер К. Указ. соч. С. 641.
33 Гадамер Х.-Г. Указ. соч. С. 665.
34 Интересно отметить, что упрощенные и даже несколько вульгаризованные философские принципы этой школы (по сравнению с аутентичной метафизикой самого Лейбница) составляли основной предмет преподавания философии и в русских учебных заведениях вплоть до XIX в. (см.: Соколов В. В. Философский синтез Готфрида Лейбница // Лейбниц Г. В. Указ. соч. М., 1982. T. 1. С. 77).
35 Обратимся еще раз к К. Фишеру, который отмечал, что Хр. Вольф был философским руководителем немецкого Просвещения и, следуя по пути, проложенному Лейбницем и X. Томазием, основал первую школу немецкой философии, занимающую видное место в нашей истории национальной литературы: из нее вышли Готшед и наши школьные философы XVIII в. Тем не менее далее следует и другая оценка: «Чтобы составить себе понятие о величии и гении этого переходного периода, нужно брать масштабом никак не Вольфа, не вольфианцев и Николаи, а Лейбница и Лессинга, так как Лейбниц истый отец немецкого просвещения, величайшим из сынов которого является Лессинг»; и далее: «Из всех умов этого века Лессинг правильнее всех воспринял, лучше всех понял и плодотворнее всех применил мысли, порожденные Лейбницем» (Фишер К. Указ. соч. С. 629, 24, 25).
36 Гадамер Х.-Г. Указ. соч. С. 227.
37 См.: Хайдеггер М. Основные понятия метафизики // Вопросы философии. 1989. № 9. С. 127.
38 Бибихин В. В. Предисловие к публикации // Там же. С. 110.
39 Лейбниц Г. В. Указ. соч. Т. 3. С. 433.
В. Ф. Пустарнаков
ФИЛОСОФИЯ ВОЛЬФА И «РУССКАЯ ВОЛЬФИАНА» В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ
Философия Вольфа при его жизни пользовалась огромным успехом. Ее активно «обсуждали» даже при дворе прусского короля, причем первоначально это «обсуждение» закончилось для Вольфа весьма печально. В письмах к маркграфине Софии-Шарлотте Бранденбургской, родственнице короля Фридриха II, Леонард Эйлер так поведал об этой истории. Когда прусский король осведомился об учении Вольфа, работавшего тогда в Галле, то один из придворных (по-видимому, Эйлер имел в виду придворного шута Фридриха Вильгельма I — Гундлинга. — В. П.) сказал королю, что по этой системе все его воины есть не что иное, как машины; и если некоторые из них бегут от службы, то это случается необходимо по их строению и, следовательно, было бы несправедливо наказывать их за это, равно как машину.
Разгневанный король повелел выгнать Вольфа из Галле, угрожая ему виселицей, если он в 24 часа не выедет вон. Вольф уехал в Марбург, где Эйлер с ним встречался и разговаривал, по-видимому, также о вольфовской трактовке учения о предустановленной гармонии, которое, будучи вульгарно истолкованным, послужило поводом для изгнания Вольфа из Галле.
Но фортуна Вольфу улыбнулась, и при новом короле Фридрихе II его репутация также и в Пруссии была восстановлена. Еще при жизни Вольфа о его творчестве было написано с десяток книг, в том числе несколько многотомников [1. С. 541—542]. Даже прусский министр Жан де Шан посвятил изложению системы философии Вольфа трехтомный труд «Cours abrégé de la philosophie wolfienne» («Краткий курс вольфианской философии») [2]. Далеко не о каждом, даже из великих философов, при их жизни писали тома, пусть под названием «Краткий курс», а Вольф такой чести удостоился.
Но у Вольфа были не только почитатели, но и влиятельные противники, даже на уровне Берлинской Королевской академии.
Ежегодно академия предлагала разные конкурсные задачи и присуждала победителям награды в виде медали стоимостью 50 червонцев. В 1748 г. академия предложила вопрос о монадах. На конкурс было представлено множество сочинений, для разбора которых президент академии де Мопертюи назначил комиссию во главе с графом де Дона, который слыл, как счел нужным отметить Эйлер, рассказавший об этом конкурсе, «беспристрастным судьей». Что же решила комиссия? Доказательства в пользу существования монад были найдены слабыми и странными, но угрожавшими «ниспровергнуть» все наши познания. Награда была присуждена сочинению Юсти. Эйлер, противник лей-бнице-вольфовской философии, не без иронии писал, что защитники монад были этим «ужасно огорчены» и «громко вопияли на неправосудие и пристрастие академии», а сам Вольф чуть было не предал «филозофическому проклятию всю академию» [3. Ч. 2. С. 212].
Несмотря на столь громкие события, происходившие вокруг философии Вольфа еще при его жизни, и книги, посвященные его философии, один из его последователей Формей посчитал, что, хотя философия Вольфа наделала много шума, особенно в Германии, она, тем не менее, осталась везде неизвестной. Почему? Немногие-де имели мужество с необходимым вниманием читать многие толстые тома, написанные по геометрическому методу. И Формей взялся представить главное содержание системы Вольфа, изложив ее в четырех, не очень больших, правда, томах [4], под довольно экзотическим названием «La belle Wolfienne», которое можно перевести то ли «Прекрасная Вольфиана», то ли «Вольфианская красавица».
Хотя в Германии историография вольфианской философии началась в конце 30-х гг. XVIII в., в ней еще долго фигурировал тезис о том, что, несмотря на громкий успех, она была, в силу своей исключительной объемности, мало кому известна по существу.
Уж если на родине Вольфа серьезное изучение его философии первоначально оказалось делом столь сложным, то о других странах, в том числе о России, и говорить не приходится: и поэтому есть необходимость повнимательнее присмотреться к теме отечественной историографии вольфианской философии вообще, историографии «русской вольфианы» — в особенности.
Первая отечественная работа по истории философии, в которой была дана обобщающая оценка философии Хр. Вольфа, — это работа профессора Петербургского университета А. И. Галича (1783—1848) «История философских систем, по иностранным руководствам». Впервые в отечественной историографии Вольф предстал суммарно в его положительных и отрицательных, как представлялось русскому автору, качествах. При этом позитивных оказалось не так уж много: «Связность целого, единство методы, порядок, ясность принятых понятий и определенная терминология» [5. С. 73]. Но эти преимущества, по Галичу, «едва ли не перевешиваются значительными погрешностями и недостатками» [Там же. С. 73]. В чем же Вольф «погрешил»? «Он начинал с одного мышления, не уважая в познании того, что принадлежит к форме и что к материи, смотрел на философию как на науку о возможном, признавал начало противоречия за высочайший закон познания, поставлял понятия и определения в головах всякой статьи философской, упуская из виду существенное значение, не представлял признака для познаний умственных и опытных, смешивая совершенно философию и математику. Принятый им способ любомудрствовать затруднял самопознание разума и порождал мнимое проворство в доказывании всего возможного» [Там же. С. 74]. Общий же вывод оказался весьма суровым: «Сей во зло употребленный способ растягивать и одевать пустые понятия произвел, наконец, омерзение к умозрительным, особливо метафизическим изысканиям» [Там же. С. 73].
О русском «вольфианстве» XVIII в. Галич счел нужным не упоминать.
Ничего не сказано о «вольфианстве» в России и в работе автора, примыкавшего к духовно-академической сфере, Ф. Надёжина, в «Очерке истории философии по Рейнгольду» [6]. Да и о самом Вольфе здесь говорится немного — даются краткие сведения из биографии и в одном абзаце излагается «суть» вольфовской концепции: «Вольф первый представил полную энциклопедию философских наук, в чем и состоит его особенная услуга философии. Философию теоретическую он разделил на Логику и Метафизику, последнюю — на Онтологию, Психологию, Космологию и Богословие естественное; Философию практическую на Ифику всеобщую, Ифику в тесном смысле, на Право природы и Политику. Материю для системы Вольф взял у Лейбница, исключая учение о силе представлений в монадах, которые он предпочитал предположением. Посему учение Лейбница потеряло у Вольфа идеалистический характер и превратилось в дуализм» [6. С. 130].
В 1828 г. появилась первая, насколько нам известно, зарубежная работа, претендующая на обобщающую характеристику русской философии. В третьем и пятом томах немецкого энциклопедического лексикона Круга есть рубрика «Russische Philosophie» [7]. Но заметка под названием «Русская философия» оказалась поверхностной, малоинформативной, и, конечно, в ней ничего не было о «русском вольфианстве».
Формально историографию «русского вольфианства» открыл «Энциклопедический лексикон» А. А. Плюшара, в одиннадцатом томе которого, вышедшем в 1838 году, рубрика «Вольф» заканчивалась фразой: «У Вольфа в Марбургском университете учился незабвенный наш Ломоносов», <— и указаны три сочинения Вольфа, переведенные на русский язык в XVIII в. [8. С. 428].
Что же касается философии самого Вольфа, то ее характеристика в «Лексиконе» Плюшара отличается некоторым историзмом, который совсем отсутствовал у Галича и Надёжина: автор статьи рассматривал философию Вольфа в контексте ее столкновения с влиятельными в его время в Германии схоластикой, с одной стороны, пиетизмом и мистикой — с другой: «Ясность и определенность его математических чтений казалось чем-то необыкновенным для Немцев, у которых туманный схоластисм владычествовал еще тогда в полной силе. Поэтому-то и имел такой необыкновенный успех изданный им курс философии, которого система сделалась тотчас образцом для преподавания прочих наук в университетах. Несмотря на этот успех, Галльские профессоры, и особенно богословы, которые все еще держались системы пиэтизма и находили философские истины Вольфа противными своему образу мыслей, вооружились на Вольфа, огласили его противником веры, проповедником вредного учения и явно донесли на него правительству» [Там же. С. 427]. Отмечен в «Лексиконе» и собственно теоретический вклад Вольфа в философию: «Проницательный, неутомимо деятельный ум его обнимал все части философии и хорошо обработал некоторые ее отрасли, именно естественное и народное право. Хотя он не обогатил науки новыми блестящими открытиями или новыми истинами, но ввел в философию строгую, математическую методу и тем самым привел ее в лучший порядок, дал ей большую ясность и более прочные начала. Не он виною, что с течением времени умы слабые употребили во зло и испортили его методу» [Там же]. На сложный вопрос о соотношении вольфианства и лейбницианства автор ответил: «Вольф пользовался для своей философии предположениями и началами Лейбница, но распространил их и дал им большую определенность» [Там же].
Если, по Галичу, отрицательное у Вольфа фактически перевешивает положительное, то в «Лексиконе» Плюшара на первом плане стоят достоинства Вольфа: «Множеством сочинений и своими университетскими чтениями он имел благотворное влияние на свой век, когда всеми умами владели еще пиэтизм и мистика» [Там же].
Чуть-чуть умножилась информация о «русском вольфианстве» в шеститомной «Истории философии» профессора богословия Казанского университета арх. Гавриила (В. Н. Воскресенского), в шестом русском томе которой сообщается, что Аничков в 1760 г. читал метафизику по Винклеру, а в 1782 г. он же снабдил-де свои философские лекции дополнениями к баумейстерской логике, метафизике и космологии [9].
Если уж историко-философские сочинения отечественных авторов первой половины XIX в. почти ничего солидного не сообщили об истории философии в России вообще, о судьбе философии Вольфа в частности, то от иностранцев большего ждать не приходилось. Даже от такого солидного труда, как четырехтомный труд профессора логики и метафизики Queens колледжа в Белфасте Роберта Блекея, вышедшего под многозначительным названием «История мировой философии, включающая мнение всех писателей по умственной науке с древнего периода до настоящего времени». В обьемистом (676 стр.) четвертом томе этого сочинения (1850) две с третью страницы выпали на долю России с упоминанием Максима Грека, Кантемира, Н: Поповского, М. Каче-новского, В. С. Подшивалова, А. Мусина-Пушкина, И. Мартынова, Сидонского, Кедрова [10. T. IV. С. 486—489]. Уж коль скоро в этот странный по составу перечень «русских философов» попали двое из XVIII в., то можно было бы ожидать от автора, что он хоть слово скажет о судьбе Лейбнице-вольфовской философии в России, но ни одного слова сказано не было.
Впрочем, удивляться этому1 не приходится. «Славный» в XVIII в., Вольф в XIX в. стал уже далеким прошлым. Великие имена Канта, Фихте, Шеллинга, Гегеля почти совсем вытеснили некогда громкое имя из философской памяти образованного общества. Правда, нельзя сказать, что Вольфа совсем забыли к середине XIX в. О нем помнили по большей части русские духовно-академические профессора (см. в данной книге статью А. И. Абрамова). Но и в свет-
ской среде имя Вольфа время от времени всплывало, вспоминались и некоторые страницы из истории «российской вольфианы».
В оставшейся неопубликованной статье «Критический взгляд на современные эстетические понятия» (1854) молодой Н. Г. Чернышевский довольно подробно охарактеризовал философскую и эстетическую концепцию Баумгар-тена как «одного из последователей вольфовской философии, господствовавшей в Германии до Канта и некогда распространенной в России учебником Бау-мейстера, по которому преподавалась философия во многих наших учебных заведениях» [И. T. II. С. 128].
По-видимому, Чернышевский различал «первую часть философии» Вольфа, как первую в системе преподавания и изложения, каковой была у него логика (включая многие гносеологические проблемы), и «первую часть» в логике системы, каковой у Вольфа была, конечно, онтология. По мнению Чернышевского, у Вольфа первою частью философии была гносеология — «наука о познавательных силах и законах правильного их действования», и эту часть философии Вольфа он верно называет приготовительной. И именно вольфовскую гносеологическую позицию он сравнивает с баумгартеновской: «Баумгартен находил очень важный пробел в изложении этой приготовительной части философии у Вольфа: разделяя познания на сенситивные (получаемые через чувства) и интеллектуальные (принадлежащие нашему рассудку, обрабатывающему познания, полученные посредством чувств), Вольф говорил только о законах интеллектуального познавания. По мнению Баумгартена, необходимо исследовать сущность и задачи чувственного познавания, и первою частью гносеологии должно быть учение о чувственном познании, которое называет он эстетикою (в переводе с греческого это будет значить «наука о чувстве»). Но с самого же начала в его эстетике вместо простого чувственного познания трактуется о познании прекрасного, корень которого, правда, в чувственном познании, но которое, тем не менее, существенно различно от чувственного познания» [Там же].
Таким образом, Чернышевский не только довольно глубоко проанализировал преемственную логическую связь между позициями Вольфа и Баумгартена, но и констатировал существенное различие между ними. В статье «О поэзии. Сочинения Аристотеля» (1854) эстетические взгляды самого Вольфа Чернышевский оценил высоко: начиная цепочку теоретиков эстетики с Платона и Аристотеля, их принципы он считал имеющими значение «для всех последующих эстетических понятий до Вольфа и Баумгартена или даже до Лессинга и Канта», тогда как «теории Гогарта, Борка и Дидро не имели большого значения, встретив мало сочувствия» [Там же. С. 284].
В работе «Лессинг, его время, его жизнь и деятельность» (1856) Чернышевский поставил в связь с Лейбнице-вольфовской философией литературную деятельность последователей Галлера, которые «без всякой заботы о требованиях поэзии целиком перелагали на стихотворный язык философские трактаты, сохраняя даже ученую систематическую форму в своих виршах, — они просто перефразировали Лейбница и Вольфа, прикрашивая их заимствованиями из Попа и Томсона, — сочиняли стихотворные рассуждения о намерениях божиих при создании вселенной, о законах разума, о прививании коровьей оспы, об искусст-
венном орошении полей, о пользе математических наук для поэта, о том, что произрастанием травы доказывается существование божие, и т. д.» [11. T. IV.
С. 57].
И при всем при этом в глазах воинствующего антиметафизика-материалиста Чернышевского в целом Вольф выступал символом давным-давно устаревшей метафизики. Он упрекал Канта за то, что тот, «восставая против метафизики, сам погружался в нее глубже предшествовавших ему и опровергаемых им немецких философов школы Вольфа» [И. T. II. С. 124].
В 50—70-х гг. XIX в. наиболее полное изложение философской системы Вольфа дал профессор Университета св. Владимира в Киеве С. С. Гогоцкий. Его перу принадлежит пространная статья «Вольф» в его «Философском лексиконе» [1]. Некоторые из вольфианских принципов рассмотрены в его книге «Философия XVII и XVIII веков в сравнении с философиею XIX века...» [13]. В «Критическом обозрении сочинения М. Троицкого “Немецкая философия в текущем столетии...”» [14] Гогоцкий оспаривает трактовку философии Вольфа, данную этим самым видным в университетской среде философом-позитивистом.
Чтобы оттенить суть трактовки системы Вольфа Гогоцким, начнем с более позднего сочинения М. Троицкого. Это — сочинение с длинным названием «Немецкая психология в текущем столетии. Историческое и Критическое исследование, с предварительным очерком успехов психологии с времен Бэкона и Локка» (вышло в 1807 г.). Под огонь буквально беспощадной критики воинствующего противника всякой философской метафизики попало множество философов-метафизиков, в том числе Лейбниц и Вольф.
Отталкиваясь от слов Эйлера из письма к немецкой принцессе о том, что было время, когда система предустановленной гармонии была во всей Германии в таком ходу, что сомневавшиеся в ней считались невеждами и тупицами, Троицкий добавил к ним свою оценку. Мол, время царствования ученика Лейбница, Вольфа, прославилось не только «мистикой монад и предустановленной гармонии», но еще учением об архее и двух духах человека, добром и злом, и другими вымыслами. «Такой духовный мрак, облегавший Германию до половины XVIII столетия и соперничавший с золотыми веками средневековой схоластики и алхимии, начал рассеиваться именно в то время, когда во Франции Кондильяк провозгласил новую эру философии, открытую человечеству Локком» [12. С. 114].
Впрочем, некоторые оценки Троицкого имели вполне рациональный смысл. Так, он не без оснований считал, что «Вольф прибег к компромиссу — между силлогизмом и индукциею, энциклопедиею схоластиков и энциклопедиею Бэкона», но оценил он этот «ход» Вольфа как «неслыханный дуализм в науках», право гражданства двух непримиримых между собою метод и враждебных систем знаний о природе и духе: «Но, увы, гордая комбинация Вольфа окончилась в Германии весьма комическими последствиями. Вольф оставил имя философа за энциклопедиею наук, вычеркнутых Бэконом, как бессмысленный схоластический балласт, накопленный веками невежества; и когда великая истина бэко-новской энциклопедии была сознана в Германии, — к сожалению очень по-
129
5 Зак 642
здно, в последних десятилетиях, и опять не всеми, — то немецкие эмпирики , как они титулуются Вольфом, а с ними и немецкая публика, почувствовали отвращение и стали высказывать явное презрение не к схоластике, — как то было после Бэкона в Англии, — а к философии и к философам!» [Там же. С. 120]. Перед нами наиболее яркий пример оценки и критики системы Вольфа с позитивистских позиций.
Спрашивается, однако, была ли принадлежность к противоположному философскому лагерю основанием для более «благосклонного» отношения к вольфи-анству? Оказывается, была не всегда. Гогоцкий — идеалист, но к вольфовской системе относится более чем сдержанно, если не сказать — негативно, по преимуществу.
Как консервативный в политическом отношении мыслитель, С. С. Гогоцкий счел нужным отметить, что, несмотря на все недостатки, «здравомыслящее, нравственное учение Вольфа отчасти избавило Германию от преобладания французского легкомыслия и материализма XVIII века. Благодаря этому здравомыслию и ясности изложения его философия приобрела себе очень много последователей и была принята за руководство во всех протестантских университетах Германии» [1. С. 539].
Невысоко оценивая Вольфа в целом, Гогоцкий нашел у него, тем не менее, немало достоинств: «Вольф принадлежит к числу второстепенных германских мыслителей: он не отличался оригинальностью взгляда, ни даже особенным углублением заимствованных начал. Несмотря на то, своими сочинениями по части философии он оказал некоторые услуги этой науке. Главная заслуга Вольфа в области философии состоит в том, что он сообщил ей строгую систематическую форму, подробно и последовательно развил ее вопросы, по крайней мере насколько это было возможно по свойству его взгляда на философию, и всем частям ее указал определенное место и определенную задачу. Порядок, в котором Вольф расположил все части философии, не только удерживался во все продолжение ее господства, но, можно сказать, доныне еще с некоторыми переменами кое-где сохраняется, по крайней мере в школьном преподавании» [Там же. С. 529—530]; «Философские творения Вольфа не отличаются оригинальностью, но их влияние было значительно и не без благодетельных последствий. Систематическим развитием начал Лейбница, тщательным и подробным изложением всех частей философии, он сообщил этой науке сциентифический характер и облегчил в будущем труд употребления своей философской системы в учебных заведениях. Этою стройною полнотою своей системы и особенно сведением всех вопросов науки к одному полному составу Вольф оказал немаловажное влияние и на другие науки» [Там же. С. 538].
Что же не устраивало Гогоцкого в системе Вольфа? «Главный недостаток его философии заключается как во взгляде на содержание философии, так и в особенности на метод, внесенный им в философию» [Там же. С. 538]. Вольф критикуется за расширительное понимание предмета философии: «Рассматривая все с рассудочной точки зрения и не замечая, что философия обнимает все предметы исследования не по количеству, но по отношению их к верховным началам бытия и знания, Вольф не разграничивает, как должно, содержание философии от предмета экспериментальных наук» [Там же. С. 538]. Особенно акцентируются недостатки метода Вольфа: «Эта смещенность содержания находится в тесной связи с принятым им методом. Как знаток физико-математических наук, Вольф применил математический метод и к философии. Все развитие содержания философии состоит у него в том, что он полагает в основание логические или формальные аксиомы, применяет их к готовым, случайно образовавшимся, или отвне заимствованным, понятиям и положениям, извлекает из них другие частнейшие положения и доказывает как те, так и другие» [Там же. С. 539]. От «увлечения математическим методом происходит формализм философии Вольфа. Отсюда же объясняется причина, почему философии Вольфа \f его последователей приписывают догматизм или такое направление мыслящего духа, которое в систематическом начертании философии ограничивается только установкою определенных положений, правильными выводами из них и доказательствами, без внимания к внутреннему происхождению этих положений» [Там же. С. 539].
Через много лет в книге «Философия XVII и XVIII веков в сравнении с философиею XIX века...» С. С. Гогоцкий снова возвращается к Вольфу, давая краткую трактовку его некоторых принципов. Наиболее существенные мысли Гогоцкого сводятся к следующему: Вольф считал себя учеником и последователем Лейбница; но он отказался от лейбницевой монадологии; вместе с монадологией испарились и некоторые самые существенные черты миросозерцания Лейбница; отличительной чертой вольфианской философии является метафизический или догматический идеализм, по своему духу близкий к декартовскому, и характерный вульгарным дуализмом, рассматривающим душу и тело как две противоположности и только приспособленные друг к другу субстанции; в психологии у Вольфа господствует дух разобщения между рациональным и эмпирическим; тот же дух разобщения двух сторон человеческого существа выразился в нравственной философии и естественном праве; но особенно резко выразился дух вольфианства в содержании и задачах метафизики; последняя ограничивается общими, формальными определениями понятий или терминов в онтологии, космологии, рациональной психологии, рациональной теологии, «тогда как эмпирическая психология и физика остаются тут же, как что-то совершенно отдельное, только рядом существующее: они, подобно орудию, только внешне приспособлены к внутренней жизни, но своими процессами нисколько с нею не связаны и не подводят к высшим или метафизическим началам. И вышли, с одной стороны, определение общих терминов, без всякой связи заключавшихся в них понятий с законами и процессами наблюдаемого нами космоса, с другой, — сумма экспериментальных знаний, нисколько не завершаемая теми высшими началами, которыми занимается метафизика» [13. С. 32—33].
Неисторичность такой оценки очевидна. Вместо того, чтобы сравнивать философию Вольфа прежде всего с его предшественниками, акцентируя то новое, что он внес в философию, Гогоцкий критикует Вольфа с позиций так называемой научной метафизики второй половины XIX в.
Изложенная трактовка и стала тем исходным пунктом, с которого Гогоцкий раскритиковал взгляды Троицкого на соотношение философии Лейбница и
Вольфа, упрекая его за то, что тот отождествил взгляды Лейбница и Вольфа в монадологии и в учении о предустановленной гармонии, не акцентировал существенные различия между этими философами в этом основном вопросе психологии. Если у Лейбница душа и тело — это не две отдельные субстанции, а как бы два полюса жизни, то Вольф, «отказавшись от монадологии Лейбница, отстал и от самой характеристической черты его философии, и снова остановился на прежнем декартовском, или вульгарно-дуалистическом понятии об отношении души и тела» [14. С. 42]. Увы, в этой критике Гогоцким Троицкого есть свои минусы: у Гогоцкого взгляды Лейбница и Вольфа на монады и на предустановленную гармонию уж слишком противопоставлены. Целиком и полностью Вольф не отказался ни от монадологии, ни от идеи предустановленной гармонии.
В указанном выше первом томе «Философского лексикона» Гогоцкий поместил также заметки о вольфианцах Баумейстере, Баумгартене и Бильфингере.
Что касается Баумейстера, то наиболее значимой является мысль Гогоцкого о том, что тот хотя и был последователем Лейбница и Вольфа, но на учение о предустановленной гармонии (между душой и телом) смотрел как на гипотезу и излагал доказательства как в пользу, так и против нее. Баумгартен, наоборот, за учением Лейбница о монадах и предустановленной гармонии следовал решительнее, чем Вольф. В то же время учение о предустановленной гармонии Баумгартен соединял с учением Аристотеля о физическом влиянии. Не обошел Гогоцкий и эстетику Баумгартена, основные мысли которой заимствованы, по его мнению, из учения Вольфа о нравственности: нравственность основывается на понятии совершенства, а совершенство состоит в соответствии предмета определенной идее или понятию. Понятие нравственного совершенства Баумгартен применяет к идее изящного. Но к такой концепции Баумгартена Гогоцкий относится сугубо критически.
О «русской вольфиане» Гогоцкий упомянул, но бегло. Несколько странно звучит его сообщение о том, что руководство Бильфингера было некогда в употреблении в российских духовных академиях (у Бильфингера такого руководства не было. — В. /7.), а Баумейстера — в духовных семинариях [1. С. 540]. Не очень точным оказался Гогоцкий и тогда, когда написал, что «на русский язык в прошлом столетии переведены некоторые физико-математические сочинения Вольфа [Там же. С. 541]. О переведенной собственно философской работе Вольфа Гогоцкий, видимо, не знал.
Что касается истории рецепции философии Вольфа в России, то, пожалуй, наиболее категоричным оказалось утверждение литературоведа, доктора философии и академика А. В. Никитенко (1804—1877) о том, что в 60—70-х гг. XVIII в. «все немногочисленные русские философские произведения представляют собой не что иное, как подражания или опровержения Лейбнице-Вольфовской философии» [15. С. 396].
Лишь к концу XIX в. отечественная историография приступила к более или менее детальной разборке исторических судеб Лейбнице-вольфовской философии в России.
В 1890 г. вышел русский перевод сочинения Ф. Ибервега — М. Гейнце «История новой философии». В качестве приложения к этому труду в то время начинающий, а в дальнейшем известный библиограф и историк русской философии Я. Колубовский опубликовал раздел «Философия у русских», в котором впервые «русская вольфиана» XVIII в. представлена в нескольких персоналиях. В число вольфианцев Колубовский включил Аничкова и — «как гораздо менее значительного» — Брянцева. С «легкой» руки Колубовского в списке «вольфианцев» появились В. Золотницкий и Я. Козельский. Согласно Колу-бовскому, «прочнее всего в русской школе утвердилось вольфовское направление, господствовавшее в духовных заведениях до самого последнего времени [16. С. 529]. С открытия Московского университета, — утверждал этот автор, — светская философия начинается прямо с вольфианства, которое постепенно прививается и в духовных училищах. Везде были в ходу учебники Бау-мейстера, переведенные и на русский язык... а позже на смену Баумейстера является Винклер...» [Там же. С. 530]
В том же 1890 г. ß. Розанов написал статью о переводной литературе в России. Суммарно влияние школы Вольфа этот автор оценил как незначительное, поскольку-де это влияние «не простиралось на литературу и общество и ограничивалось почти исключительно учебными заведениями, преимущественно средними. Вольф своею тщательною, хотя и не глубокою, обработкою всех частей философии в ряде ученых трудов представил в них богатый запас сведений, из которых долгое время черпали все составители учебных руководств по философии и ее отдельным частям, особенно по логике. Но ни сам Вольф не был глубоким философом, ни переделки его сочинений не могут назваться в строгом смысле изучением философии» [17. С. 8].
Профессор Петербургского университета Александр Введенский в брошюре «Судьбы философии в России» (1898), перепечатанной затем в его «Философских очерках» [18], расширил хронологические рамки влияния вольфианства в России, отметив, что в Московском университете «долгое время (даже еще Брянцевым, занимавшим кафедру до 1821 г.) философия преподавалась по учебникам и в духе вольфианской философии [18. С. 5—6]. Объяснял он этот факт тем, что «первые профессора были приглашены из Германии, а там во всех университетах почти до самого конца XVIII века царствовала вольфианская философия» [Там же. С. 6]. В принципе, А. Введенский признавал, что влияние вольфианства простиралось в основном на учебные заведения: «Самое же преподавание велось не только иностранцами, но даже и первым русским профессором Аничковым, занимавшим кафедру до 1788 г., на латинском языке. Уже по одному этому вольфианская философия не могла успешно распространяться в нашем обществе» [Там же. С. 6]. Но, в отличие от Розанова, Введенский не считал, что философия Вольфа оставалась в русском обществе совершенно неизвестной: «Под ее влиянием появлялись кое-какие книги, составленные даже лицами, не принадлежащими к университету» [Там же. С. 6]. В качестве примера А. Введенский привел книгу Я. Козельского, отметив, на основании слов самого Козельского, что в теоретической ее части он следовал вольфианцу Баумейстеру, а в практической опирался на Монтескье, Гельвеция и Руссо [Там же. С. 6].
Качественно новый элемент в отечественной историографии российской воль-фианы появился в связи с нарастанием в русском обществе с конца 1860-х гг. интереса к философии Лейбница, которое продолжалось в начале XX в. и дало даже основание говорить о лейбницевском направлении в русской философии этих десятилетий [19]. В 1888 г. историк литературы И. Порфирьев включил Лейбница в число мыслителей, философские идеи которых легли якобы в основу трактата Радищева [20. С. 264—265].
Наиболее подробно эту тему развернул один из заметных «лейбницеанцев» конца XIX—начала XX в. университетский профессор философии Е. А. Бобров (1867—1933).
Философию Радищева Бобров изображает как амальгаму: «Если Руссо, Мабли, Рейналь и другие мыслители определили собой одну сторону убеждений Радищева, его взгляды социально-политические, юридические и экономические, то Эрнст Платнер был духовным отцом Радищева на поприще чистой философии, и от Платнера-то Радищев и перенял философию критического индивидуализма, философию Лейбница» [21. T. III. С. 233—234]. При этом у Платнера Бобровым выделяются влияния и Лейбница и Вольфа, вытесненные в дальнейшем (после 1781 г.) влиянием Канта. Ссылаясь на исследования философии учителя Радищева, Бобров утверждает, что в те годы, когда у Платнера учился Радищев, немецкий профессор предпочитал систему Лейбница всем остальным. Ранний труд Платнера «Афоризмы» написан, мол, почти more geometrico, т. е. по образцу Вольфа и Спинозы [Там же. С. 237].
Несмотря на такое представление о философии Платнера, Бобров стремится доказать, что на Радищева шло чисто лейбницеанское, а не вольфианское влияние. Он называет его «лейбницеанием, приверженцем философии Лейбница, и притом лейбницева направления не в уродливой переработке Вольфа, а в его более или менее чистом виде. Трактат А. Н. Радищева “О человеке, о его смертности и бессмертии”, один из самых ранних по времени плодов русской философской мысли, был и одним из первых памятников лейбницевой философии на русском языке» [Там же. С. 232]. «По философскому направлению трактат принадлежит к школе Лейбница»; «Труд Радищева есть первый опыт насаждения в России идей Лейбница (не в вольфовской обработке) и притом в самостоятельном их развитии» [Там же. С. 244].
Если попытки Боброва доказать, что Радищев примкнул к монадологии Лейбница, толкуемой как система «философии критического индивидуализма», представляется искусственной натяжкой Боброва как ученика Тейхмюллера и соответственно склонного к лейбницеанству, некоторые конкретные его параллели между идеями Радищева и Лейбница представляются рациональными и свидетельствуют если не о прямом влиянии Лейбница на Радищева, то, по крайней мере, об усвоении русским мыслителем некоторых лейбницеанских идей, ставших общим достоянием философии XVIII в.
Бобров обратил внимание на такие факты: Лейбница Радищев называет умственным исполином, цитата из Лейбница: «Настоящее чревато будущим» ставится во главу его трактата; Радищев ссылается на закон непрерывности, на мысль Лейбница о том, что «ничто не происходит скоком». Общим с Лейбницем способом доказывать бессмертие души следует считать не сам факт признания бессмертия души (на подобном основании к вольфианцам неправомерно причисляли Золотницкого, Щербатова и др., поскольку у них есть работы на тему бессмертия душ), а признание лейбницевой идеи, согласно которой душа, в отличие от тела, как сложного существа, есть существо простое, а поэтому не может быть уничтожено естественным путем. Такой ход мысли Бобров у Радищева выявил. Не без оснований Бобров выделяет в трактате Радищева другую группу доводов в пользу идеи бессмертия души, которые опираются на «лейбницеву мысль о восхождении постепенности всех существ в мире»: «В человеке, как “микрокосме”, — излагает Бобров рассуждения Радищева, — явны все естественные силы, но есть и одна специфическая сила: мыслительность. Естествоведение учит нас неуничтожаемости силы. Мыслительность, превосходнейшая из всех сил, тем паче не может исчезнуть» [Там же. С. 229]. Убедительно звучат и некоторые замечания Боброва относительно сходства некоторых выражений Радищева и Лейбница: «Уничтожение... Радищев по-лейбницевски понимает как “изъятие из вселенной”», «вся возможность... перешла в действительность пред началом уже времен, то, что будет, уже было в незыблемом порядке» и т. д. [Там же. С. 231].
С Бобровым не согласился П. Милюков. Не называя его по имени, он решил «несколько исправить» его утверждения: «Нет никаких оснований думать, чтобы Радищев был знаком с сочинениями самого Лейбница. Конечно, идеи Лейбница вошли в состав философских воззрений Радищева, — но не в большей степени, чем они вообще входили в состав тогдашних эклектических университетских систем. Известный запас философских идей успел сделаться общим местом университетского философского преподавания: и эти-то идеи усвоены были, прежде всего, кружком Ушакова и Радищева. Лейбницеанские элементы в том числе, — и наши студенты должны были с ним столкнуться, слушали ли они лекции своего профессора Платнера, или учили рекомендованный им учебник («Введение в философию») выдающегося голландского математика С. Гравесанда, или читали только тогда выходившие и производившие фурор произведения Мозеса Мендельсона, Бонне или Галлера. Самые плодотворные и глубокие идеи системы Лейбница (как идея непрерывности, отрицание картезианского дуализма души и тела, лестница постепенно совершенствующихся психофизических организаций) во всех этих книгах уже успели получить дальнейшую обработку и циркулировали большею частью без имени автора. А специфические лейбницевские идеи, наиболее популярные и сомнительные (как «предустановленная гармония» или «наилучший из миров»), фигурировали уже в роли исторических пережитков и никого из молодежи особенно заинтересовать не могли» [22. С. 379]. В противовес Боброву Милюков утверждает, что, разрабатывая идею «бессмертия», «Радищев гораздо больше полагается на своего руководителя Мозеса Мендельсона, и передает основное содержание “Федона” отчасти в сокращенном пересказе, отчасти в буквальном переводе» [Там же.
С. 383].
Весьма категорически прозвучали в начале XX столетия утверждения историка русской общественной и философской мысли Тукалевского о том, что «через Ломоносова же и его ученика Поповского в среду русского общества проникли идеи Лейбница-Вольфовской философии» [23. С. 6], что у Ломоносова есть якобы склонность к идее предустановленной гармонии [24. С. 26].
Единственная в дооктябрьской России женщина-историк русской философии М. В. Безобразова ввела в 1914 г. в оборот забытый труд наиболее близкого к вольфианству русского философа XVIII в. Г. Н. Теплова «Знания, касающиеся вообще до философии для пользы тех, которые о сей материи чужестранных книг читать не могут» (1731) [25].
Если в дооктябрьский период в отечественной историографии накопился солидный фактический материал, позволявший судить о философии самого Вольфа (независимо от того, как тот или иной автор оценивал эту философию), то вопрос об исторических судьбах вольфианства в России оставался открытым. В литературе параллельно продолжалось и накопление фактических ошибок на этот счет. Даже в знаменитом «Энциклопедическом словаре» братьев Гранат о значении Вольфа для России сказаны банальности, да к тому же допущена фактическая ошибка: «Для русской истории имя Вольфа также не безразлично: он много содействовал основанию академии наук и пополнению ее ученого состава. Кроме того, он оказал влияние на теоретические взгляды Ломоносова. Во второй половине XVIII в. многие (?!) философские сочинения Вольфа были переведены на русский язык» [26. Т. И. Стб. 20].
Из рассмотренной выше отечественной литературы, посвященной философии Вольфа, видно, что оттенки в трактовках его философии были, но господствовала, как и на западе Европы, точка зрения, согласно которой Вольф — это продолжатель, систематизатор и вульгаризатор лейбницевой философии, второстепенный немецкий мыслитель.
Но в 1916 г. в своей книге «История как проблема логики» Г. Г. Шпет, открыто противостоя почти всей западноевропейской и русской литературе о Вольфе, нарисовал существенно иной его портрет.
Вольфовская философия отнюдь не ничтожество, а крупная величина; Вольф — «просветитель», но не в смысле французского Просвещения XVIII в.; первый период Просвещения в Германии — это период «умственного» просвещения, период распространения и господства Лейбнице-вольфовской философии, а второй период — период «нравственного» Просвещения — относится ко второй половине XVIII в. и достигает своего апогея в деятельности Лессинга: «Значение Лессинга для Просвещения столько же в его идеях, сочинениях и переписке, сколько и в его осуществленных и неосуществленных планах, например, по объединению церквей и в особенности по созданию Академий наук. “Усовершенствование”, которому подверглась философия Лейбница в руках Вольфа, было прямым развитием идеи Академий, поскольку она становилась предметом университетского академического преподавания. Просвещение, таким образом, действительно, налицо, но его отличие по содержанию от французского Просвещения столь же велико, сколько далеки от просветителей и просвещаемых во Франции профессора немецких университетов и их слушатели» [27. С. 168]. Вольф — выдающийся представитель и завершитель рационализма, образцами которого были также Платон, Стоя и Лейбниц». Если брать немецкое Просвещение в широком смысле этого слова, всю эпоху в целом и искать ее самородных корней, «то они окажутся преимущественно лежащими в вольфовском рационализме». Гегель прав, утверждая, что преимущественно в общем интеллектуальном развитии немцев Вольф приобрел великие, бессмертные заслуги; его можно назвать учителем немцев, он впервые приручил в Германии философствование; логика у Вольфа опирается не только на психологию, но на онтологию. «Самый переход Вольфа от разума (ratio, Vernunft), как способности усмотрения связи общих истин, к разуму (ratio, Grund), как разумному основанию, почему вещи суть и возникают, ясно выражается в его доказательном положении, что философское познание есть познание разумное» [Там же. С. 181]. «В философии Вольфа исчезает присущий Лейбницу аромат платонизма, но зато она вмещает в себя элементы самых разнообразных влияний философской традиции. Хотя и через Лейбница, но в значительной степени мимо него, Вольф завершает философию рационализма, включая в нее предания аристотелизма так же, как и новые влияния бэконизма» [Там же. С. 239—240].
Очень критически отнесся Шпет к западноевропейской литературе о Вольфе: он сделал вывод, что К. Фишер судит о Вольфе и вольфовской философии либо из вторых рук, либо лишь бегло познакомился с ним. О Виндельбанде, Форлендере и других он высказался еще более сурово. Но самое удивительное было в том, что Шпет поставил под вопрос авторитет Канта: «Неправильное понимание вольфовского рационализма... зародилось уже среди учеников Вольфа, но главным виновником того, что это неправильное понимание переходит в историю философии, является Кант, авторитет которого оказывает сильное влияние на историков XIX века, сплошь и рядом рассматривающих философию XVIII века в том освещении, которое ей дано Кантом. Существенными результатами всего этого мы считаем прежде всего искажение вольфовского понятия ratio как разумного основания, исчезнувшего из философии XIX века. Вследствие чего и весь рационализм Вольфа получил ложное истолкование» [Там же. С. 223]. Кант, утверждал Шпет, утратил вольфовское ratio, он вообще не понимал рационализма: «Недостаточно внимательным отношением к философии Вольфа быть может объясняется также неудачное использование Кантом рационалистической терминологии для своих собственных идей. Во всяком случае, в этом пункте Кант не похож на Коперника, который, совершив свое открытие, не стал называть землю солнцем, а продолжал солнце называть солнцем, а землю — землею» [Там же. С. 170—171].
Коль скоро наш соотечественник предъявил к зарубежной литературе о Вольфе столь значительные претензии, есть смысл хотя бы бегло взглянуть на соответствующую литературу в русском переводе. Ведь образ Вольфа как философа не мог не формироваться в России в зависимости от переводной обобщающей литературы по истории философии. А эта литература рисовала далеко не одинаковые портреты немецкого философа.
Француз Альфонс Фуллъе в своем труде Вольфа даже не упоминает [28]. А. Вебер уложил философию Вольфа в абзац [29], немец В. Бауэр отводит ему три страницы. Небезынтересно замечание этого историка о специфике Вольфовой монадологии, в отличие от Лейбницевой: «Он держится учения Лейбница о монадах, но не считает их всех подобными душе и одаренными силою представления. Его единица занимает середину между монадами Лейбница и атомами физиков, ибо с одной стороны, они лишены пространственного протяжения, с другой же — способности представления. Все монады связаны между собою наитеснейшим образом, потому что изменение одной передается всем остальным: Вольф, следовательно, разделяет мнение Лейбница, что каждая монада отражает вселенную. Но это соединение бездушных монад есть нечто механическое...» [30. С. 220].
У Ф. Ланге Вольфу отведен лишь один абзац, согласно которому «Вольф отвел учению о предустановленной гармонии лишь угол в своей системе и свел учение о монадах, в сущности, к древнесхоластическому выражению, что душа есть простая и бестелесная субстанция» [31. T. 1. С. 367].
В параграфе, посвященном Вольфу в книге А. Швеглера — около пяти страниц. Здесь специфика вольфовской монадологии изложена так: «Его простые существа не имеют способности представления как монады, но приближаются к атомам [32. Т. 2. С. 66].
Весьма солидную информацию об отличиях философии Вольфа от философии Лейбница русский читатель мог получить из трудов Куно Фишера, Ибер-вега—Гейнце, Виндельбанда и Фалькенберга.
К. Фишер подчеркнул, в частности, что, независимо от Лейбница, Вольф разработал практическую философию: мораль и политику, естественное и международное право. Иначе, чем Лейбниц, решает Вольф проблему соотношения души и тела. Если у Лейбница господствует принцип их тождества, то у Вольфа
душа — простая, а тело--сложная вещь. Трудный вопрос об отношении Вольфа
к идее предустановленной гармонии К. Фишер решает так: мир — машина Бога, «в нем все совершается в силу изначально установленной связи, каждая часть его изменяется в согласовании со всеми остальными, каждое состояние мира вытекает из непосредственно предшествующего». Иначе говоря, К. Фишер справедливо полагает, что в определенном смысле Вольф все-таки разделял идею предустановленной гармонии, хотя и не полностью.
Содержательно изложен у К. Фишера и вопрос о соотношении в философии Вольфа естественного и сверхъестественного. Бог «есть более высокое совершенство, чем могущество: ибо обладающий могуществом, конечно, может делать, что хочет; но только обладающий мудростью может делать все наилучшим образом, так, чтобы никакой ум не мог найти в сделанном ни одного недостатка. Для Бога мало говорить что-нибудь; существо с таким совершенным умом, что оно предвидит все, и с такой совершенной волей, что не хочет ничего, кроме лучшего, должно делать все так, чтобы в сделанном нельзя было найти ни одного недостатка. Если в мире все происходит естественно, то он дело мудрости Божией. Напротив, если случаются факты, не имеющие никакого основания в сущности и в природе вещей, то это совершается сверхъестественно или при помощи чудес, и, стало быть, мир, в котором все совершается при помощи чудес, есть дело только могущества, не мудрости Божией» [33. Т. 3. С. 644].
В книге Ибервега—Гейнце обращается особое внимание на стремление Вольфа акцентировать естественные связи элементов и ограничить сферу чудес: «Вольф называет свои субстанции не монадами, а охотнее всего атомами природы (ato-mi naturae).
В одной точке не может быть многих элементов, — каждый требует особой точки, которая отделена от другой. Но всякий элемент связан с теми, которые вокруг него. Так многие составляют одно, и сложное получает протяжение, непрерывность (continuum). Правда, у нас есть об этом только смутное созерцание, так как мы здесь не познаем простых элементов. Непрерывность и протяжение не что иное, как феномены. Предустановленная гармония является смелой гипотезой. Скорее всего надо принять естественную связь элементов. В конце концов, однако, остается нерешенным вопрос, испытывают ли элементы действительные или кажущиеся воздействия один от другого. Так как мир — нечто случайное, — ведь он мог быть иначе, то достаточное основание он должен иметь в Боге, который произвел его как вполне целесообразную машину. Происходи чудеса, пришлось бы распроститься с строгим сцеплением вещей. Да и каждое чудо требовало бы второго чуда, чуда восстановления... Однако, по Вольфу, чудеса не невозможны» [34. С. 153].
В книге Винделъбанда параграф 50 называется «Вольф и его школа», в котором особенно обращает на себя внимание мысль автора о том, что Вольф ограничивает Лейбницеву идею предустановленной гармонии сферой соотношения души и тела [35].
Фалъкенберг же отнесся к Вольфу довольно пренебрежительно, утверждая, что Вольф «ампутировал» идеи Лейбница: «Всего сильнее эта участь понижения отразилась на обеих руководящих идеях, монадологии и предустановленной гармонии. Первую из них Вольф понимает в том смысле, что у него тела состоят из простых существ, а последние наделяются некоторой (ближе не определяемой) силой, но сила представления приписывается только настоящим душам, способным иметь сознание» [36. С. 242—243].
Поскольку многие из нас в советское время стремились в обоснование своей точки зрения подыскать соответствующие высказывания в трудах Маркса, Энгельса, Ленина, других теоретиков марксизма, есть необходимость напомнить, каким выглядел Вольф в глазах этих авторитетов для советских философов.
Надо признать, что все теоретики марксизма находились под влиянием критики Вольфа Кантом и Гегелем и явно недооценили историческую роль Вольфа; чувства конкретного историзма в этом вопросе им недоставало. Оценивая Вольфа главным образом сквозь призму критицизма Канта и диалектики Гегеля, они не всегда руководствовались своим же правилом, согласно которому заслуги мыслителя следует оценивать прежде всего по сравнению с его предшественниками. А здесь «коварную» по отношению к Вольфу роль сыграл Лейбниц — великий диалектическими догадками, но не систематизировавший своей философской мысли.
Уже в юношеском романе «Скорпион и Феликс» Маркс проводит мысль: каждый гигант создает карлика, каждый гений — скучного филистера: «Первые слишком велики для этого мира, поэтому их вышвыривают. Последние, напротив, пускают в нем корни и остаются» [37. Т. 40. С. 535]. И Маркс, в частности, перечисляет: «После героя Цезаря — актер Октавиан, после императора Наполеона — король буржуа Луи Филипп, после философа Канта — кавалер Круг, после поэта Шиллера — советник Раупах, после неба — Лейбница — каморка при школе — Вольф...» [Там же. С. 535].
Из ранней работы «Церковный спор» (1841) Энгельса вытекает, что уже тогда, ставя вольфовскую логику ниже кантовской, он относил ее к разновидности рассудочного сухого рационализма, сводившегося к определению понятий [Там же. Т. 41. С. 146].
В дальнейшем у Маркса и Энгельса встречались сравнительно позитивные высказывания о Вольфе. Но преобладали оценки негативные.
В 1842 г. Маркс с осуждением писал о Иоахиме Ланге, который якобы донес на Вольфа, утверждая, что «его учение о предопределении будто бы приводит к дезертирству солдат, ослаблению воинской дисциплины и, в конце концов, к разложению всего государства» [Там же. T. 1. С. 112] (по другим источникам это был придворный шут Гундлинг. — В. /7.). Молодой Маркс знал, что «прусское право берет свое начало от философской школы именно “этого Вольфа”...» [Там же] Но в «Святом семействе...» «осуждаются способы доказательств, в духе блаженной памяти старого Вольфа» [Там же. Т. 2.
С. 73].
В статье «Артиллерия» (1857) Энгельс назвал Вольфа в ряду тех, кто занимался «дальнейшим изучением полета снарядов, сопротивления воздуха и причин отклонения снарядов» [Там же. Т. 14. С. 205], как бы вспоминая, что Вольф был не только философом-метафизиком, но и ученым-естествоиспытате-лем и математиком.
Но больше всего Маркс и Энгельс нападали на метод Вольфа. В рецензии на работу К. Маркса «К критике политической экономии» (1859) Энгельс противопоставляет друг другу два метода — гегелевскую диалектику и «по преимуществу вольфовско-метафизический метод», который «был теоретически разгромлен Кантом и в особенности Гегелем» [Там же. Т. 13. С. 495], констатируя, однако, что вольфовский метод — это «обычный, ныне снова ставший модным» метод, что «только косность и отсутствие другого простого метода могли сделать возможным его дальнейшее практическое существование» [Там
же. С. 495].
Во введении к «Диалектике природы» критикуется «плоская вольфовская телеология, согласно которой кошки были созданы для того, чтобы пожирать мышей, мыши, чтобы быть пожираемыми кошками, а вся природа, чтобы доказывать мудрость творца» [Там же. Т. 20. С. 350]. При этом вольфовская телеология, мысль о целесообразности установленных в природе порядков представлена, как «высшая обобщающая мысль, до которой поднялось естествознание рассматриваемого периода» [Там же. С. 350]. В старом предисловии к «Анти-Дюрингу» Энгельс изображает Вольфа представителем метафизики XVII и XVIII вв., как бы равноценного Бэкону и Локку [см.: Там же. С. 369]. «Скудоумие» вольфовской метафизики он усматривает в «Диалектике природы», в частности, в том, что в ней «нечто является либо случайным, либо необходимым, но не тем и другим одновременно» [Там же. С. 535].
Имя Вольфа не встречается в основных трудах Г. В. Плеханова. А в своей «Истории общественной мысли» он очень неточен, утверждая, что-де «Ломоносов был в философии учеником Вольфа» [38. Т. 22. С. 264] и что «ту же философию Вольфа принес с собой в Москву (в июне 1736 г.) и проф. Ша-ден» [Там же. С. 264].
Совсем немного слов о Вольфе можно найти в сочинениях В. И. Ленина. Но ленинское, фактически отрицательное, отношение к Вольфу, тем не менее, просматривается в «Философских тетрадях». Ленин смотрит на Вольфа глазами Гегеля, который в «Науке логики», полемизируя с Вольфом, доказывал, что метод философии должен быть ее собственным: «Не математики, contra Spinoza, Wolf und andere» (других), — комментирует Ленин [39. T. 29. С. 98]. В другом месте конспекта «Науки логики» Вольф фигурирует в качестве представителя старой метафизики, у которого «смешное важничанье банальностями» [Там же. С. 192]. При этом Гегель имел в виду работы Вольфа «Основоначала зодчества» и «Основоначала фортификации» [40. С. 286—287], которые по тематике невозможно причислить к «банальностям», если учесть, что эти собственно научные работы относились к первым десятилетиям XVIII в.
Короче говоря, тот, кто хотел бы сказать доброе слово о Вольфе, ни на авторитет Маркса и Энгельса, ни на авторитет Плеханова или Ленина рассчитывать не мог, хотя из суммарного контекста их высказываний отнюдь не следует, что Вольф был философским карликом.
Что касается изучения истории «российской вольфианы», то в 1920-е гг. бесспорными лидерами здесь стали Э. Радлов, Г. Шпет и Б. Яковенко.
Э. Радлов пополнил список известных к тому времени переводов сочинений, служивших источником распространения вольфианских идей, трудом Зульцера «Сокращение всех наук и других частей учености», в котором философии отведено довольно много места (М., 1781. С. 204—279). Правда, суть концепции Зульцера Радлов изложил двусмысленно. Из радловского изложения можно было сделать вывод, что Зульцер относился к вольфианцам. «Под философией, — справедливо писал Радлов, — Зульцер разумеет, главным образом, учение о нравственности, но он не отрицает и значения изучения внешнего мира... В изложении он следует за Хр. Вольфом, которого считает величайшим философом. Вкратце он излагает онтологию, космологию, пневматологию, психологию и рациональное богословие. Практическая часть философии делится у Зульцера на мораль и естественное право» [42. С. 43]. Вот это и есть двусмысленность: излагать философию Вольфа — еще не значит ее признавать. Именно потому, что под философией Зульцер понимал прежде всего учение о нравственности, а не «первую философию» Вольфа, Зульцер был не вольфиан-цем, а фактически противником Вольфа, и именно так его воспринял, например, наш Болотов.
Мимоходом Радлов заметил, что успехом пользовался перевод Эйлера «Письма к немецкой принцессе», не посчитав, однако, нужным сказать, что эти письма были не только источником сведений о сути вольфианства, но и наиболее солидной, аргументированной попыткой опровержения лейбнице-вольфовской философии. Хотя формально перевод «Письма» Эйлера — это фактически сочинение немецко-русского ученого.
Радлов расширил круг русских мыслителей XVIII—начала XIX вв., которые испытали на себе влияние философии Вольфа, и существенно углубил аргументацию в доказательство своих утверждений, не избежав при этом ряда неточностей и ошибок. Говоря о «первом русском ученом и философе» М. В. Ломоносове, Радлов подчеркнул, что «этот гениальный ученый, конечно, обязан многим своему учителю Христиану Вольфу, но он был в то же время и вполне самостоятельным мыслителем» [41. С. 10]. «Влияние Вольфа заметно, главным образом, на методических приемах Ломоносова, а также и в том, что он думал, что законы мышления в то же время суть законы бытия» [Там же].
В чем сказалось влияние Вольфа на профессоров Аничкова и Брянцева, Радлов не пояснил. Бездоказательно выглядит также утверждение о том, что в книге В. Т. Болотова «Детская логика, сочиненная для употребления российского юношества» (М., 1787) формальная логика изложена в духе вольфовой «Philosophia rationalis» [42. С. 75]. Но положительным явился сам факт включения имени Болотова в историю «русской вольфианы».
К этой же истории Радлов правомерно подключил имя Н. Курганова, автора так называемого «Письмовника», представлявшего собой своеобразную энциклопедию, которая пользовалась большим успехом и с 1769 по 1837 г. издавалась 11 раз. Философии, как справедливо отметил Радлов, — в «Письмовнике» отведено значительное место. Сомнительно, однако, утверждение Радлова, что автор стремится сочетать классификацию философских предметов Вольфа с классификацией наук Бэкона. Верно сказано, что влияние Вольфа отразилось также в том, что «порядок философии у него подобен способу математическому»
[42. С. 49].
Включение в историю «русской вольфианы» таких представителей школьно-университетской философии, как профессор Горного кадетского корпуса в Петербурге, а затем первый ректор Харьковского университета И. С. Рижский. (1760—1811), преподаватель армейской семинарии, затем профессор Казанского университета Л. С. Лубкин (1770 или 1771—1815), профессор Петербургского главного педагогического института, а затем Петербургского университета П. Д. Лодий (1764—1829), — это тоже заслуга Радлова. Радлов справедливо отметил, что работа Рижского «Умословие» отчасти является переводом Голльмана, Баумейстера и др., но кое-что взято им и «из природного умословия», т. е. «сочинено им самим» [42. С. 75]. Хотя в книге Лубкина «Начертание логики, сочиненное и преподанное в армейской семинарии» (СПб., 1807), пишет Радлов, «изложение логик»идет за Хр. Вольфом... но в изложении материала он обнаруживает значительную самостоятельность, большую, например, чем та, которую проявляет Рижский» [Там же. С. 76]. Отметил Радлов и критические высказывания Лодия в адрес Вольфа в его книге «Логические наставления, руководствующиеся к познанию и различению истинного от ложного»: «Система Вольфовой философии казалась удовлетворительной всем требованиям и желаниям философов потому, что она основана была на началах и содержала все и даже новые части философии, наконец, потому, что служила поводом для исправления прочих наук. Но поелику система Вольфова не была без пороков и противников и поелику сия система его человеческим умам неприятна и противна дружескому обхождению, то посему некоторые, наипаче профессоры философии, начали философствовать без системы, и освободив себя от систематического ига Вольфовой философии, последовали эклектическому методу философствования и все философские и другие науки исправили с похвалою» [см.: там же.
С. 54].
Радлов не совсем прав, когда утверждает, что Рижский, Лубкин и Лодий остались на почве вольфианской философии (на самом деле они уже не хотели быть «догматиками», т. е. следовать одной какой-то системе, и осознанно стремились собрать все лучшее из многих источников, т. е. стремились быть «эклектиками» в первоначальном, позитивном смысле этого слова), но он верно «схватил» момент, когда у этих философов наметился отход от вольфианской философии. Вот как изобразил Радлов этот процесс в сфере логики: «В разных учебных заведениях, как-то: в духовных и светских и в Московском университете, логика была предметом преподавания, и это вызвало необходимость в соответственных учебных пособиях. Эти пособия сначала состояли в изложении формальной логики и были частью переводными, частью оригинальными. Большинство из них придерживалось того изложения логики, которое дано было Хр. Вольфом, но в то же время чувствовалась неудовлетворенность или бесплодность чисто формального направления, поэтому переводились и такие сочинения, которые имели в виду не только оправдание найденного знания, но и открытие нового знания... Вместе с тем постепенно проникает сознание, что логика формальная нуждается не только в дополнении ее логикой открытия, но и в оправдании ее самой философской теорией знания, т. е. является сознание, что логика не есть преддверие к философии, стоящей вне ее, а составляет органическую часть самой философии. Это чувствуется в особенности в оригинальных русских сочинениях Рижского, Лубкина и Аодия, хотя они и продолжают стоять на почве Вольфовой философии и враждебно относятся к трансцендентальной философии Канта» [Там же. С. 79].
В работе Шпета «Очерк развития русской философии» (1922) история «русской вольфианы» изложена в соответствии с тем новым видением философии Вольфа, которое было им изложено в 1916 г. Здесь «величайшими немецкими философами» названы Лейбниц и Вольф.
Естественно, что в своей книге по русской философии Шпет пересказывает уже известные сведения о проникновении лейбнице-вольфовской философии в российские духовные академии, но приводит и новые факты. Так, по его оценке, сочинения учителя Киевской академии Владимира Каллиграфа, относящиеся к середине 1750-х гг., «носят на себе уже печать лейбнице-вольфианского духа» [43. С. 66]. Примечательно также, что, высоко ставя Вольфа, Баумейстера он «недолюбливает»: это, мол, «один из сотен серых последователей Вольфа, скучный и ограниченный» [Там же. С. 66]. Баумейстер не заслужил доброго слова, несмотря на то, что Шпет знал: известный погромщик философии 20-х гг. XIX в. М. Магницкий, считавший, что все философские сочинения являются источниками ересей и неверия, не жаловал также и Баумейстера, на каждой странице учебника которого он усматривал мысли, противные нравственности и религии.
Шпет как историк — историк отнюдь не эмпирического склада. Он тяготел не только к изложению, но и объяснению фактов. Особенно важным представляется нам поставленный Шпетом вопрос о том, какими мотивами руководствовались русские деятели и мыслители XVIII в. в выборе философской, в том числе вольфианской, литературы для переводов на русский язык.
Шпет упоминает «индиффентизм русских к теоретическому оправданию веры... У нас, — рассуждает он, — объясняют иногда названный индиффентизм принципиальными мотивами: по своему существу, говорят, православие не допускало развития догмата» [Там же. С. 55]. Но этот аргумент Шпет не принимает. Он объясняет этот феномен прежде всего невежеством и некультурностью клира. Мол, «как только мы соприкоснулись с культурою, соответствующие потребности у нас пробудились, а когда в XIX веке мы сделали первый общий шаг с нею, у нас появились и богословские теории, и философские обоснования догматов православия, появилась даже настоящая религиозная философия» [Там же]. Шпет не учел, однако, того обстоятельства, что идею развития догматов, философского обоснования догматов православия официальная ортодоксально-православная церковь никогда не принимала и до сих пор не приняла, что религиозная философия в России по преимуществу — плод усилий «светских богословов» и неортодоксальных мыслителей, диссидентов внутри церкви, что «антифилософская партия», возобладавшая в церкви на Руси со времен принятия христианства, осталась господствующей и на протяжении всех последующих веков. Не приняв наиболее важных аргументов, объясняющих индифферентизм православной церкви (а не русских вообще, как заявлял Шпет) к теоретическому оправданию веры, Шпет лишил себя возможности объяснить, почему в России XVIII в. не переводили основные философские сочинения Вольфа, а, как Шпет выражается, «выбирали образцы и для подражания не из крупнейших, самостоятельных и ярких представителей философии, а из второстепенных, подражателей, популяризаторов» [Там же. С. 66—67] вроде Баумей-стеров, Винклеров и Карпе.
С давних-давних пор на Руси утвердилось правило, в соответствии с которым любые книги, хоть как-то касающиеся духовной сферы, взвешивались на весах догматов православной церкви, а нередко рассматривались сквозь призму политики официальных церковных властей того или иного периода. Основные философские труды Вольфа, принятые в качестве учебных пособий в протестантских университетах Германии, не могли быть допущены в Россию для широкого хождения, а тем более — для переводов. Собственно научные труды Вольфа переводились, ибо они представлялись идеологически малоопасными, а практически полезными. «Причесанные» труды Баумейстера и Винклера лучше подходили к роли учебных пособий, нежели оригинальные труды Вольфа, к тому же еще очень пространные, в отличие от более «компактных» трудов его последователей. Объяснение, предложенное Шпетом, нам представляется недостаточным. Но особого внимания заслуживает, тем не менее, поднятый им вопрос о том, как влияли догматические особенности православной доктрины и в первую очередь принцип неизменности догмата на отношение православия к философии вообще, к проблемам переводной философской литературы в частности.
Исходя из своих представлений о Вольфе как одном из величайших немецких философов, Шпет, не стесняясь, утверждал, что «непосредственно из его школы вышел Ломоносов — первый русский ученый в европейском смысле, хотя в отличие от европейских ученых и не создавший школы» [Там же.
С. 35].
Парой фраз ограничивается Шпет о вольфианстве немецких профессоров Фроманна и Шадена, из которых (с 1756 г.) один читал «по» Винклеру, другой — «по» Баумейстеру логику и метафизику, а практическую философию — по Винклеру, Федеру, Якобу [см.: там же. С. 74].
Относительно русских профессоров Аничкова, Сырейщикова, Синьковского и Брянцева Шпет также утверждает, что у них «преобладает по-прежнему воль-фианство с Баумейстером в качестве глашатая» [Там же. С. 72]. А «бессменный Брянцев продолжал еще долго (до 1821 г.) томить философию, совокупляя Вольфа с бесцветным кантианством одного из маленьких, но многочисленных снеллей» [Там же. С. 103].
Вслед за Радловым один абзац посвящает Шпет книге И. Рижского «Умо-словие, или Умственная философия», повторяя слова Рижского о том, что главное содержание книги он почерпнул «из философских сочинений Г. Голльмана, немало из других известнейших писателей своего рода, а прочее из своего “природного умословия”... Голльман, — комментирует Шпет, — вольфианец, и все другие источники Рижского — того же направления: сам Вольф, Баумейстер, Гейнекций» [Там же. С. 127]. Однако тут Шпету пришлось поставить «но», которое делает сомнительным его утверждение, что все источники Рижского — вольфианские: «Но цитируется также и Эйлер, решительный противник Лейбница и Вольфа» [Там же].
Ссылки на Эйлера у Рижского — не случайность, как не случайно и то, что он не берет за единственное основание либо Вольфа, либо Баумейстера, либо Гейнекция. Как и другие русские мыслители XVIII в., Рижский не хотел быть «догматиком», т. е. следовать за одним учителем, а выбирал из многих лучшее, как ему казалось, т. е. был сознательным эклектиком, так что в отдельных вопросах идеи Эйлера ему представлялись согласующимися с идеями Вольфа, Баумейстера и Гейнекция.
По сравнению с Радловым Шпет существенно продвинулся вперед в теме «Вольф и русская духовно-академическая философия», конкретизировав декларативные прежде утверждения наших историков о господстве вольфианства в духовных училищах.
Интересна мысль Шпета о том, что в русской духовно-академической философии 30—50-х гг. XIX в. наблюдалось попятное движение к Вольфу. Так, по Шпету, Ф. Надёжин, автор книг «Очерк истории философии по Рейнгольду» [6] и «Опыта науки философии» (СПб., 1845), «конструирует из эпигонов немецкого идеализма новую схоластику, формально возвращающую преподавание философии на привычные для духовных академий вольфианские рельсы» [Там же. С. 173].
У профессора В. Н. Карпова Шпет усматривает «меньше склонности к попятному движению в сторону Вольфа» [Там же. С. 176]. Ф. Ф. Сидонский же, по его мнению, наоборот, «твердо знает преимущества предметного рационализма Вольфа» и «убежденно и вполне оригинально отстаивает философию по его идее, хотя и рассматривает ее под исключительным углом богословского зрения» [Там же. С. 185].
Останавливается Шпет также на Лейбнице-вольфовском пласте философии профессора Киевской духовной академии И. Скворцова. Кроме официально одобренных вольфианцев, сообщает Шпет, Скворцов рекомендовал Круга, но в целом Скворцов — антирационалист, невзирая на «вольфианские дрожжи». Свою оценку Шпет противопоставил высказываниям ученика Скворцова Д. П. Поспелова о характере философских взглядов своего учителя. Поспелов утверждал, что, хотя первоначально на Скворцова сильное впечатление произвели учения картезианской и особенно лейбнице-вольфианской философии, его успокоение «на скрижалях лейбнице-вольфианской философии» продолжалось недолго, и он воспрял от догматического сна и воспринял дух критической философии Канта. Как раз эту трактовку Шпет не принимает. В последнем, предсмертном, сочинении у Скворцова есть, говорит он, высказывания, направленные «прямо против вольфианства». И в то же время Скворцов делает вид, что берет у Канта «непоколебимое» основание философии, — к декартовскому «самосознающий дух наш существует» он добавляет «с Кантом»: «Существует нечто от вечности». Но как раз в таком положении, остроумно замечает Шпет, «на один гран Канта приходится по крайней мере ведро Вольфа, потому что здесь та же “возможность”, из которой нельзя вывести и зерна “существующего”» [Там же. С. 192—193].
Советские философы 1920—30-х гг. марксистского и неомарксистского толка остались к Вольфу равнодушны.
В составленной А. М. Дебориным первой советской философской хрестоматии «Книге для чтения по истории философии» (T. 1. М., 1924) нет ни одного текста Вольфа.
Лишь косвенно проблематика вольфовской философии затронута И. Луп-полом. Полемизируя с Е. Бобровым, Луппол отрицал влияние Лейбница на Радищева, доказывал, что «ему вовсе чужда теория познания Лейбница, так же как и монадология последнего» [44. С. 29]. Идея непрерывности, доказывал он, это не только лейбницевская идея, она характерна для всего XVIII в.
В своей двухтомной «Истории новой философии» (М.; Л., 1926) — единственном историко-философском труде в 1920-е гг. по этой проблеме — А. Ва-рьяш в десяток строк уместил параллель между Лейбницем и Вольфом: «Кроме представляющихся нематериальных монад вообще ничего не может существовать. Лейбниц был вынужден предположить, что даже неорганические тела суть агрегаты монад, т. е. в сущности являются нематериальными, и что в действительности нет ничего неорганического, но вся природа одушевлена. Этого вывода устрашился даже его ученик, Вольф» [45. T. 1. Ч. II. С. 228].
Во втором томе Малой Советской Энциклопедии Вольфу посвящены всего три строки: «Немецкий философ, систематик и популяризатор философии Лейбница, учитель Ломоносова» [46. Стб. 274].
В Большой Советской Энциклопедии (1-е изд.) Вольфу «повезло» больше. Один из авторов небольшой статьи о Вольфе — В. Ф. Асмус — явно под влиянием работы Г. Г. Шпета 1916 г. оценил его философию довольно высоко: «Самый крупный после Лейбница представитель рационализма в Германии 18 в., автор многочисленных трудов и руководств по всем отраслям, основатель влиятельной философской школы». Опять же не без помощи Шпета истолкована философская система Вольфа, особенно по ее источникам и характеру вольфианской логики: «Учение Вольфа есть систематическая переработка теорий Лейбница, а также Аристотеля и Бэкона. По Вольфу, разум есть в то же время предметный порядок истин или объективная связь вещей. Поэтому, хотя в системе Вольфа логика в порядке преподавания стоит на первом месте, — однако, в своих принципах она опирается на онтологию (учение о бытии), которая, по Вольфу, есть основная философская наука. В связи с этим и логические законы тождества и достаточного основания получают у Вольфа предметное, а не только формальное значение — связь истин покоится на связи вещей, и всякое основание есть необходимо основание предметное». Как и Шпет, Асмус оценил как слабейшую часть вольфовское учение об опыте, хотя справедливо отметил, что в этом учении «Вольф пытается сочетать традиции Аристотеля с теориями Бэкона» [47. Стб. 94].
В рекомендуемой литературе о Вольфе Асмус назвал в первую очередь работы С. С. Гогоцкого «Критическое обозрение сочинения М. Троицкого “Немецкая философия...”» [14] и «Философия XVII и XVIII веков...», а также работу Г. Г. Шпета «История как проблема логики». Изложения Куно Фишера, Виндельбанда, Форлендера, Фалькенберга опять, вслед за Шпетом, названы им поверхностными и ненадежными. Лучшим изложением вольфовс-кой системы Асмус нашел работу Ф. Ибервега «Система логики» (5-е изд. Бонн, 1882), а наиболее подробным — работу Целлера «История немецкой философии с Лейбница» (2-е изд. Мюнхен, 1875).
В той же рубрике «Вольф» БСЭ помещена заметка Н. Добрынина о воль-фовской психологии. Но в ней заметен акцент на негативное в философии Вольфа: мол, «современной научной психологии приходится и сейчас еще преодолевать схоластическую традицию Вольфа» [Там же. Стб. 95], что, впрочем, также говорит об исторической значимости философии Вольфа, коль скоро ее влияние простиралось до 20-х гг. XX в.
О значении философии Вольфа для России в статье БСЭ почти ничего не сказано: «Из русских ученых, — вспомнил Асмус, — у Вольфа учился Ломоносов» [Там же. Стб. 95]. Добрынин же отметил перевод сочинения Вольфа «Разумные мысли» [Там же].
Советская философская историография может по праву считать своим крупным достижением выход в свет трех томов всемирной «Истории философии» [48]. Но, увы, во втором томе этого издания, посвященного XV—XVIII вв., философия Вольфа не рассматривается. Правда, в третьем томе сказано, что Вольф создал первую систему философии в Германии [48. С. 14].
В одной из немногих монографий по истории русской философии — книге Г. С. Васецкого и М. Т. Иовчука «Очерки по истории русского материализма
XVIII и XIX вв.» (М., 1942) — Вольф лишь однажды упоминается в главе о Ломоносове.
Концом 1943 г. датируется появление концепции так называемой «классической русской философии» — своего рода «выдающееся инобытие» идеологии сталинско-ждановского квазипатриотизма в советской историографии русской философии. Жертвами этого «патриотизма» стало превеликое множество «иноземных» ученых и философов, в том числе и Вольф, представший в глазах наших авторов величиной отрицательной, наносившей якобы вред развитию русской философии.
Ярким примером в данном случае может послужить кандидатская диссертация Ю. Я. Когана «Русский мыслитель XVIII века Я. П. Козельский», где есть большой раздел «Козельский и вольфианская метафизика».
Не без пафоса диссертант обличал дореволюционных историков русской философии: «Только нежеланием, — в силу тенденциозной точки зрения на развитие русской философской мысли, — вникнуть в самую суть дела можно объяснить поразительно однотонные высказывания предреволюционных русских идеалистов (речь шла о Радлове, А. Введенском, Колубовском и Чуй-ко. — В. П.) о Козельском как вольфианце в области так называемой теоретической философии» [49. С. 92]. «Впрочем, — оговаривается диссертант, — как на формальный повод к такого рода высказываниям они могли бы сослаться на самого же Козельского, который в предисловии к “Философским предложениям” замечает, что “материю теоретической философии” он якобы заимствовал от господ Готшеда, Баумейстера и других некоторых, т. е. иными словами, от самых натуральных вольфианцев» [Там же. С. 93—94].
Как же опровергает диссертант своих предшественников?
«В книге Козельского мы и на самом деле встречаем известные заимствования из “Логики” и “Метафизики” Баумейстера. Больше того, не подлежит сомнению, что, работая над первой частью своего философского трактата, Козельский все время имел перед собою эти популярные в его время вольфиан-ские пособия и даже моментами руководствовался ими, как схемой своего собственного изложения предмета. Но стоит только сопоставить книги Козельского и Баумейстера по идейному их содержанию, чтобы убедиться в том, что изложение логики и метафизики у нашего автора представляет творческий итог сугубо критического прочтения баумейстеровских учебников — такого “прочтения”, в результате которого специфические для школьной немецкой философии спекулятивные идеалистические построения оказались в самом существенном преодоленными и выброшенными за борт, а получившийся таким образом “остаток” приобрел совершенно иное, явно материалистическое звучание» [Там же. С. 94]. Козельский-де находил у Баумейстера только некоторые совершенно или отчасти приемлемые для себя положения. В конечном счете оказалось, что ничего существенного Козельский у вольфианства не заимствовал: «Вольфиан-ство с его педантизмом и формализмом, с полагаемой им пропастью между опытом и философской спекуляцией, с его доведенным до предела геометрическим методом, при котором нить рассуждения точно паутина вытягивается из заранее постулированных логических положений — вольфианство было в глазах Козельского чуть ли не олицетворением возродившейся схоластики» [Там же. С. 9]. О том, что Козельский в таком случае выступал бы страшным лицемером, признающим, что заимствовал нечто из вольфианства, а на самом деле осуждал «основоположения вольфианства и его метод», диссертант не подумал.
Конечно, наш диссертант сочинил все это не по своей воле. Ставшее в 1940-е гг. в советской историографии буквально маниакальным стремление везде выискивать материализм, игнорируя афоризм «классика» о том, что умный идеализм лучше глупого материализма, вынуждало диссертанта «делать» из Козельского материалиста и соответственно врага вольфианства: «Отрицательное отношение Козельского к вольфианству было выражением его неприязни ко всякой вообще философской спекуляции, его отрицательного отношения к идеалистической метафизике в ее специфическом для XVII и XVIII века значении — оно было в конечном счете выражением его непреодолимого стремления к материализму» [Там же. С. 129].
Оценивая указанную диссертацию, как в целом негативный опыт решения одной из проблем истории «русской вольфианы» XVIII в., мы не хотим сказать, что ничего позитивного диссертант по этой проблематике не предложил. Так, весьма важными представляются мысли автора, фиксировавшие различия в понимании Козельским и вольфианцами предмета философии. Не Козельский первый стал критиковать элементы схоластической силлогистики в философии Вольфа, его неуемную страсть всему и вся давать определения, в том числе типа: часы «суть такая машина, которая вокруг хождением указателя часы показывает или битьем колокольным являет»; «дождь есть множество одна подле другой и одна за одной из-за облак чрез воздух на них падающих водяных капель» и т. д. Но Козельский тоже критиковал такую, действительно схоластическую, «методу» Вольфа. Иногда Козельский был прав, обвиняя Вольфа в том, что большие истины у него окружены мелочными и ненужными вещами, которые читатель сам знает. Правда, вопрос об «истинах самоочевидных» не так прост, поэтому невозможно однозначно сказать, что никогда не нужно определять, что такое часы и что такое дождь и т. д., или иногда это делать нужно.
Было бы, например, очень хорошо, чтобы диссертант определил, почему он Золотницкого и Данилова причисляет к вольфианцам. Разве достаточно для этого того факта, что эти авторы считали, будто все созданное служит на пользу человеку, и, таким образом, разделяли якобы идею целесообразности в вольфи-анской форме. Такой «целесообразности» полным полно уже в Библии...
Диссертация Ю. Я. Когана примечательна не только тем, что он по-своему «решил» частную проблему «Козельский—Вольф». Курс на дискредитацию вольфианства как философской системы покоится у него на утверждении о том, что «в середине XVIII века вольфианство играло в России роль официально принятой философской системы. Естественно отсюда, что идеалистическая воль-фианская философия была серьезной идейной преградой на пути к формированию русского философского материализма» [Там же. С. 92]. Диссертант использовал понятие «официальная» философия, иногда заключая ее в кавычки, а иногда обходился без кавычек. Но все равно — ставится проблема официальной философии в России.
Между тем в России такой официальной философии никогда не было. Официальной, законом закрепленной, государственной была только православная религия. Тот факт, что в качестве учебных пособий в духовных академиях и университетах использовались книги вольфианцев, еще отнюдь не значит, что все заключавшиеся в них положения принимались за истинные. Философия в России XVIII в. преподавалась не как наука, указывающая путь к истине, а как дисциплина, тренирующая ум, информирующая учащегося о том, что философских мнений много, а истина одна — она в Писании.
Диссертация Ю. Я. Когана — не единственный, но характерный пример антиисторического в конечном счете подхода к истории «российской вольфиа-ны». Именно потому, что в ней специально рассматривается вопрос о вольфи-анстве в России, — она очень демонстративна.
Но есть и другие свидетельства тому, что на волне квазипатриотизма 1940х гг. объективное изучение исторических судеб вольфианства в России было в эти годы невозможно.
£. Г. Ананьев, впоследствии крупный ученый, с 1968 г. академик АПН, в книге «Очерки истории русской психологии XVIII и XIX веков» доказывал, что понимание психики Ломоносовым «радикально расходилось с психологической концепцией Христиана Вольфа, господствовавшей в то время в Германии» [50. С. 42]. Идеи Аничкова и Козельского этот автор изложил, не упоминая Вольфа. И не удивительно, если по наиболее общим вопросам истории русской философии он ссылался на фальсификаторскую книгу Г. Васецкого и М. Иовчука по истории русского материализма XVIII—XIX вв.
Мало что внесла в исследование вольфианства в России статья о Козельском И. Бака [51].
В конце 1940-х гг. парадигмальным для советской историографии русской философии стал сборник статей «Из истории русской философии» (М., 1949). В этой книге о судьбе идей Вольфа в России нет ни строчки ни в статье Я. Д. Бетяева «Русская общественно-политическая и философская мысль в первой половине XVIII века», ни в статье Г. С. Васецкого «Философские взгляды М. В. Ломоносова», ни в статье И. Я. Щипанова «Общественно-политические и философские воззрения А. Н. Радищева».
На самом высоком гребне волны сталинско-ждановской идеологии квазипатриотизма анонимный автор заметки о Вольфе во втором издании БСЭ утверждал, что «Вольф усугубил реакционные стороны философии Лейбница и старательно выхолостил из его учения имевшиеся там некоторые проблески диалектики»; «высшим принципом бессодержательной метафизической философии Вольфа было отрицание противоречий в вещах и мысли. Вольф везде искал внешние цели». В психологическом учении Вольфа автор нашел способ объяснения, который «надолго стал одним из основных пороков буржуазной психологии» [52. С. 66].
Не будем, однако, забывать, что в 40-х гг. XX столетия были не только «патриоты» сталинско-ждановского разлива. В «прекрасном далеко», в Париже, выпустил свой труд «История русской философии» «отец» Василий Зень-ковский. Труд, конечно, солидный, информативный, но страшно тенденциозный, в этом отношении явно уступающий более объективным трудам Радлова, Шпета и Яковенко.
В двухтомном труде Зеньковский умудрился изложить весь русский XVIII в., лишь однажды упомянув «знаменитого Вольфа» [53. T. 1. С. 104]. «Патриотизм» Зеньковского оказался настолько широк, что позволил ему согласиться с мнением Тукалевского о том, что «Ломоносов всецело примыкает к Лейбницу», поскольку для него природа полна-жизни [Там же], и продолжить разговор на тему «Лейбниц и Радищев». По Зеньковскому, Лейбницу Радищев следует, поскольку он не ограничивается признанием роли чувственного познания, но полагает, что чувственная форма должна быть наполнена тем, что привносит разум; у Радищева все силы познания находятся в единстве, они неразделимы; Радищев признавал закон достаточного основания; «следуя Лейбницу же, Радищев развивает свои мысли о познании внешнего мира». «Вещество само по себе неизвестно человеку», — утверждает он совершенно в духе Лейбница. «Внутренняя сущность вещи, — полагает Радищев, — нам неизвестна; что есть сила сама по себе, мы не знаем, как действие следует из причины — тоже не знаем». Так же близок Радищев к Лейбницу в учении о законе непрерывности: «мы почитаем доказанным, — говорит Радищев, — что в природе существует явная постепенность». Этот «закон лестницы», как выразился в одном месте Радищев, «есть тот же принцип, который утверждает и Лейбниц» [Там же. С. 100].
Вроде бы никто и не мешал православно-религиозному историку Зеньковскому, но русский XVIII в. у него оказался без протестанта Вольфа, хотя у Радищева есть высказывание о нем, позволяющее оттенить радищевскую концепцию.
Но вернемся к советским авторам. На дворе шел первый постсталинский 1953 год. А к давно начавшейся патриотической кампании то игнорирования, то дискредитации Вольфа активно подключился один из столпов чуть ли не официальной историографии русской философии И. Я. Щипаное.
В огромной по объему, трехтомной докторской диссертации Щипанов даже в разделе о Ломоносове не упомянул Вольфа. А когда дошел до Аничкова, то попытался доказать, что «Аничков подверг основательной критике картезианцев, лейбницеанцев, вольфианцев, и в противовес всем им настаивал на том, что душа зависит прежде всего от тела. Но и тело, породившее сознание, в свою очередь испытывает влияние души» [54. Дис. Т. 2. С. 491]. Признавая, что Аничков отдавал предпочтение перипатетикам и что он не отрицал Бога как творца вселенной, Щипанов все-таки настаивал на тезисе о материализме Аничкова.
И в последующих своих работах И. Я. Щипанов остался верен себе: идеализм Христиана Вольфа изображал эклектическим (в уничижительном смысле этого слова. — В. П.) и догматическим, для которого характерны только мелочная классификация понятий, пустые, банальные, бессодержательные определения, схоластическая силлогистика.
Вскоре после начала скромного процесса десталинизации советского общества появились, в числе прочего, и написанные в смягченной идеологической тональности работы, в которых Вольф оценивался менее жестко, чем раньше [см. 55], а также диссертации, посвященные русскому XVIII в., где затрагивалась история «русской вольфианы» [см., напр., 56]. Но сколько-нибудь существенных подвижек в трактовке судеб вольфианства в России не наблюдалось.
Да и как такие подвижки могли произойти, если в коллективном труде, созданном в двух тогдашних центрах изучения истории русской философии — в Институте философии АН СССР и на философском факультете МГУ, — «Очерки по истории философской и общественно-политической мысли народов СССР» [57], в главе Г. С. Васечкою и Б. М. Кедрова о Ломоносове звучало такое двусмысленное, если не сказать фальшивое, утверждение: «Во время пребывания в Марбургском университете Ломоносов предпринял ряд самостоятельных исследований по вопросам физики и философии. Используя все ценное, Ломоносов критиковал идеализм в работах Лейбница и Вольфа».
Как и по многим другим проблемам истории русской философии, в историографии «отечественной вольфианы» «возмутителями спокойствия» стали в конце 1950-х гг. тогда молодые преподаватели философского факультета МГУ
A. А. Галактионов и /7. Ф. Никандров. Поначалу это проявилось в выполненной под руководством доцента Никандрова кандидатской диссертации
B. А. Демичева.
В отличие от своих предшественников 1940—50-х гг., Демичев склонен видеть в философии Вольфа гораздо больше положительного содержания, хотя не очень стеснялся в выражениях, когда ее критиковал: «Вольфианство имело ряд положительных сторон. Прежде всего вольфианство, хотя и во все ослабляющей степени, сохраняло связь с естествознанием и в определенной мере пропагандировало изучение конкретных наук. Одна из частей вольфианской философии — физика — представляла собой изложение естественнонаучных знаний того времени. В собственно философской теории также имелся ряд положительных моментов. Например, вольфианская логика является повторением логики Аристотеля, хотя и в традиционно-обезображенном схоластикой и идеализмом виде. В гносеологии и онтологии Христиана Вольфа также имелись рациональные для того времени положения. Сама систематизация философских знаний, хотя она и доведена до крайней схоластичности, была все же достижением для науки XVIII в. Все эти прогрессивные стороны вольфианства, сыгравшие в истории немецкой и даже европейской культуры положительную роль, мирно эклектически уживались с объективным идеализмом, самой плоской метафизикой, схоластикой, теологией и совершенно реакционнейшими социологическими и общественно-политическими взглядами» [58. С. 68—69].
По-новому рассматривает Демичев статус вольфианства в европейской философии XVIII в. Если Ю. Я. Коган квалифицировал вольфианство в России как реакционную официальную философию, то Демичев объявил его «официальной государственной европейской философией XVIII столетия» [Там же.
C. 68]. С середины-де XVIII столетия «вольфианство становится не просто господствующей, но и официально принятой государственной философией Германии, Франции, России и других европейских стран» [Там же. С. 69]. Труды Хр. Вольфа и его учеников, доказывает диссертант, изучаются повсеместно в университетах и различного рода училищах. Влияние вольфианства в XVIII в. столь велико, что «даже в “Энциклопедии” Дидро, философия которого в целом враждебна вольфианству, значительная часть философии подана вольфи-ански».
Трудно сказать, как на таких зыбких основаниях можно было сделать вывод о вольфианстве как официальной государственной философии ряда европейских стран, если даже в Германии, в католической ее части, вольфианство не принималось. Но факт остается фактом: диссертант сделал такой вывод и, по-видимому, этот аргумент должен был подчеркнуть, что в России вольфианство не так уж плохо, как о нем пишут. Правда, такому масштабному обобщению противоречил тот факт, что, как знал диссертант, в России была переведена только одна философская работа Вольфа. Да и книги Баумейстера он назвал «полуофициальными учебниками философии».
Демичев присоединился к концепции «русского Просвещения XVIII в.». И это, конечно, не могло стать еще одним препятствием на пути более адекватного анализа истории «русской вольфианы». Но, тем не менее, он посмел включить вольфианство в число теоретических источников, под влиянием которых формировалась «философия русских просветителей», что радикально отличало его, скажем, от Щипанова, выступавшего в эти годы основным тормозом объективного изучения вольфианства в России.
Правда, в методе анализа вольфианства на русской почве у Демичева осталось немало общего с его предшественниками. Так, он всячески и везде старался показать, что «русские просветители» стремились «вложить в вольфианскую философскую форму иное, реальное содержание» [Там же. С. 74—75], что заимствованные у вольфианцев положения и термины они интерпретировали не просто весьма отлично от них, но глубже их. А о Козельском диссертант прямо сказал, что в ряде моментов его философия превосходила философскую мысль его современников. По всей вероятности, все вольфианцы тоже имелись в виду. Нигде диссертант не сказал, что русские интерпретаторы вольфианства чего-то могли не понять у Вольфа и что, не соглашаясь в споре с ним, они предлагали иногда действительно другие, но худшие в теоретическом отношении, чем у Вольфа, решения.
При всем при этом диссертация Демичева была большим шагом вперед против работ Дмитриченко и Когана о Козельском. Вежливо, но достаточно твердо Демичев отмежевался от трактовок своих предшественников: «Хотя В. С. Дмитриченко и Ю. Я. Коган по существу правильно обрисовывают характер отношения взглядов Козельского с вольфианскими, делают они это упрощенно, прямолинейно. Так, по мнению В. С. Дмитриченко, заявление Козельского о заимствовании у Готшеда и Баумейстера — “формальная отписка” (с. 255 диссертации). У Ю. Я. Когана, правда, не столь резкая, но все же аналогичная позиция (см. с. 103 его книги)» [Там же. С. 70—71].
Как же сам Демичев решает главный вопрос о соотношении философии Козельского и вольфианства?
Он посчитал неправильным говорить о Козельском как о «последователе» вольфианской системы и выделил два главных источника его философии — влияние французских просветителей-материалистов и вольфианцев. В вольфи-анстве Козельского привлекала прежде всего многосторонняя и довольно стройная система, построение философии. «По содержанию особенно сильно влияние вольфианства в логике, меньше в метафизике, и почти незаметно в нравоучительной философии (в особенности в политике)» [Там же. С. 70].
Весьма свежо прозвучали мысли диссертанта по вопросу об отношении Козельского к вольфианскому пониманию предмета философии, в частности, к определению, согласно которому «философия есть наука испытания причин истинам».
Диссертант справедливо отметил, что характерное для XVII—XVIII вв. расширительное понимание предмета философии было прогрессивным, так как отражало потребности развития естественных наук. В основном, верно отмечена и негативная сторона такого определения философии: «Однако по мере развития частных наук положительная сторона этого определения — нацеливание на изучение действительных связей в природе и обществе (направлена против схоластики) — все больше оттеснялась на второй план и на первый план выступала отрицательная сторона этого определения: единство объекта философии и частных наук вообще означало, что философия продолжала объявляться матерью наук, подминала все остальные науки, и любая частная наука оказывалась лишь частью философии. Примерами такого именно понимания взаимосвязи философии с частными науками были Чирнгаузен, X. Вольф, Гот-шед и другие представители вольфианства» [Там же. С. 98].
Отталкиваясь от такой методологической установки, диссертант корректно обосновал, по каким мотивам Козельский усомнился в тезисе о том, что философия содержит в себе все науки и исключил из своего понимания философии «физику», а также «пневматологию» и «натуральное богословие», чем действительно показал определенную самостоятельность относительно вольфианства. «Логику» Козельского, особенно ее первую часть (формальную логику), Деми-чев справедливо считает наименее (в тексте диссертации описка: сказано «наиболее») оригинальной стороной философских воззрений Козельского, поскольку «большинство теоретических положений и во многом порядок расположения заимствованы им у вольфианцев и наиболее близки к “Логике” X. Баумейсте-ра» [Там же. С. 118]. При этом диссертант спешит подчеркнуть в примечании, «что “заимствование” в XVIII в. не считалось чем-то предосудительным. Там, где философ был во всем согласен с другим, он мог спокойно переписывать, хотя бы и дословно, не опасаясь за свой авторитет и т. п.» [Там же. С. 118].
Вместе с тем диссертант во многом убедительно показал, что между «логикой» Козельского и вольфианской «логикой» имеется значительная дистанция, хотя с общим его выводом о материализме и просветительстве русского мыслителя, сопровождаемым к тому же терминологическими перехлестами, согласиться невозможно: «Логические воззрения Козельского... в целом находятся в русле Аристотелевской логики. Но даже при общем сравнении с монопольно господствующей в XVIII веке логикой вольфианцев, логические взгляды Козельского, обладавшие ясно выраженным материалистическим характером, отбором теоретически и практически ценного и важного в куче логических положений воль-фианцев, отсутствием эклектичности и просветительской демократической выдержанностью — логические взгляды Козельского были интересными и вполне глубокими для своего времени, а изложение Козельским элементарной логики было одним из лучших изложений в XVIII веке» [Там же. С. 132].
Демичев совершенно справедливо констатировал, что часть «логики» Козельского вместе с частью «психологии» образует то, что впоследствии стало называться теорией познания, т. е. учением об истине, методах и ступенях ее познания. Однако вполне рациональный метод сравнения теории познания Козельского с вольфианской теорией познания, увы, и здесь соседствует у него с неправомерно язвительно-пренебрежительными выпадами против вольфиан-ства: «Уши вольфианского схоластического дедуктивизма», «обычный эклектизм вольфианцев» и т. д. И все это для того, чтобы сказать: «В теории познания и по существу, и по форме сильнее сказывается самостоятельность Козельского в решении теоретических вопросов, его преодоление и борьба с идеализмом, схоластикой и эклектизмом вольфианства» [Там же. С. 133].
Соответственно получился односторонний общий вывод: «Хотя “логика” Козельского (и, прежде всего, ее 1-я часть — формальная логика) и содержит в себе больше заимствований у вольфианцев, нежели другие части философии, но эти заимствования являются отчасти заимствованием формы, структуры, отчасти отбором действительно ценных строк вольфианской “Логики”, насколько это позволял сделать эклектизм вольфианцев. Козельский серьезно преодолел в “логике” крупнейшие недостатки официальной философии своего времени — системы великого Хр. Вольфа» [Там же. С. 152].
Избранного метода сопоставления Демичев придерживается и при анализе влияния вольфианства на метафизику Козельского: «Влияние вольфианства сказывается и здесь. Немало теоретических положений заимствовано Козельским у Готшеда и Баумейстера. Чувствуется вольфианство и в плане изложения материала. Однако вольфианские влияния на “Метафизику” значительно меньше влияния на “логику” Козельского...» [Там же. С. 154]. В данном случае диссертант опирался на тот факт, что, в отличие от вольфианской, метафизика Козельского состояла только из двух частей — онтологии и психологии, причем некоторые проблемы вольфианской космологии рассматриваются в онтологии, а учение о «простых вещах» — монадах опущено совсем.
Демичев не обошел и проблемы отношения Козельского к вольфианской идее о «совершенстве света». Но свел дело к его иронии по адресу вольфианцев. А ведь Козельский в данном случае отнюдь не был на высоте: просто обошел проблему агностической ссылкой на невозможность знания внутренней природы мира и на «рассуждение» «премудрого существа», т. е. Бога. Энгельс в конце XIX в. мог себе позволить поиздеваться над таким ходом мысли, но историк должен принять во внимание также и ту гуманистическую ценностную нагрузку, которую несла идея «совершенного мира» в борьбе лейбницеанцев и вольфианцев против пиетизма с их стенанием по поводу испорченности человечеству жизни как юдоли печали и т. д.
В диссертации, посвященной одному мыслителю — Козельскому, — естественно, должен был быть сделан общий вывод о типе его философского мышления. Предшественник Демичева Коган доказывал, что Козельский является материалистом. Но в других случаях говорил о деизме и религиозном скептицизме Козельского. Как материалиста, рассматривает Козельского и другой его предшественник, Дмитриченко. Наш ленинградский диссертант предпринял более тонкие, но довольно двусмысленные маневры: «Козельский, — заявлял он, — был действительно материалистом и не был деистом, деизм как система не интересовал его. Однако, в противоречии с этим, термин Бог не был лишен для него всякого значения; Козельский допускал отдельные деистические отклонения — привески» [Там же. С. 177].
Проблема дуализма или не-дуализма Козельского естественно решается прежде всего в сфере антропологии и психологии. И здесь опять следуя своей «методе», Демичев стал доказывать сначала, что утверждение о тесной связи души с телом, о строгом разграничении их функций и о первенствующем значении тела Козельский заимствует из «Метафизики» Баумейстера, который отошел от идеи предустановленной гармонии. «Однако, — тут же замечает диссертант, — текст Козельского все же далеко не совпадает по смыслу с текстом Баумейстера» [Там же. С. 194]. И делается вывод: «...B “Философических предложениях” Козельский не выступает как убежденный дуалист. Нигде он не рассматривает духовное (и душу) как некую субстанцию и вообще весьма сдержанно высказывается о душе. Но, с другой стороны, считать решение Козельским проблемы души материалистическим так же невозможно, так как дуалистические отступления налицо, Козельский был в движении от дуализма к материализму» [Там же. С. 194].
Козельский не мог не быть идеалистом-теистом в метафизике и дуалистом в антропологии и психологии, не мог быть, конечно, материалистом. Его зависимость от вольфианства в логике, метафизике и психологии несомненна, и все отступления от вольфианства протекали в рамках идеалистической парадигмы. Таких выводов Демичев в 1959 г. сделать не мог. Но, тем не менее, его диссертация стала в историографии «российской вольфианы» этапной, поскольку фактически диссертант, несомненно, под влиянием своего руководителя П. Ф. Ни-кандрова, наметил перспективу объективного изложения истории вольфианства в России XVIII в.
Вскоре научный руководитель диссертанта Демичева в соавторстве с А. А. Галактионовым выпустил свою книгу «История русской философии» [59], в которой отчетливо просматривается примерно та же концепция истории вольфианства в России, которая была воплощена в диссертации Демичева. Но эта концепция относилась уже ко всему XVIII в.
В книге ленинградских историков русской философии проводится мысль о двойственном характере философии Вольфа и вольфианцев, причем и позитивные и негативные оценки выражены в уже знакомых по диссертации Демичева словах: «Христиан Вольф — крупнейший европейский ученый... Вольф привлекал энциклопедичностью своих знаний, систематичностью и логикой изложения»; «Однако Хр. Вольф как ученый-естествоиспытатель и философ весьма неравноценен». Физика Вольфа составляла свод научных знаний эпохи о природе. Она опиралась на механическое знание природы. Его математический метод вносил в изложение ясность и четкость. Вольф требовал «строго следовать опыту и считать истиной только то, что подтверждено экспериментально. Гипотезы допустимы лишь при условии, что они содействуют опытному исследованию». «С другой стороны, философские взгляды Вольфа были религиозноидеалистическими. Следуя Лейбницу, Вольф освободил учение своего предшественника от диалектических черт и превратил философию в простую метафизику. В ее центр была поставлена идея бога-творца и божественной предустановленной гармонии, совершенной целесообразности. Связь с религией, крайний формалистический педантизм целиком подавили отдельные просветительские элементы и антибогословские высказывания, придавая философии Вольфа реакционный характер» [59. С. 70]. «Учение Вольфа и его последователей Бау-мейстера, Готшеда, Мендельсона и Гердера было двойственным. С одной стороны, оно строилось на принципах телеологии, обосновывало собою совершенства божественного творения, стремилось примирить науку с религией. Поэтому воль-фианство было удобной формой религиозной философии и отвечало интересам как светских, так и духовных властей. С другой стороны, представители школы Вольфа пытались охватить в своей философии все отрасли знания, включая физику, механику, антропологию, право, политику, а также логику, психологию, метафизику. Эта сторона вольфианства привлекала внимание мыслителей материалистического склада».
К «русским вольфианцам» Галактионов и Никандров отнесли Г. Н. Теп-лова, М. М. Щербатова, Верриенского, Семенова (автора «Положения философического») и Золотницкого — но никаких комментариев к такому странному списку не последовало.
Концептуальная определенность выразилась только по отношению к двум мыслителям: Ломоносову и Козельскому.
Ленинградские историки не без основания развели две проблемы: влияние на Ломоносова Вольфа-ученого и Вольфа-философа. «Ломоносов на всю жизнь сохранил высокое уважение к своему учителю, у которого он прослушал курсы математики, механики, метафизики и др.». Физика Вольфа оказала значительное влияние на Ломоносова. Он очень ценил математический метод Вольфа. Но особенно ему импонировало требование Вольфа «строго следовать опыту». Философия же Вольфа «не оказала заметного влияния на Ломоносова...» [Там же. С. 70].
Все это было бы так, если бы не одно «но»: физика Вольфа входила у него в предмет философии, и Ломоносов «натуральную философию» Вольфа почитал, так что вопрос об отношении Ломоносова к философии Вольфа более сложен, чем его представили Галактионов и Никандров.
В трактовке темы «Козельский—Вольф» узнаются оценки, высказанные в диссертации Демичева. Козельский «стремился переработать вольфианство в материалистическом духе, вложить в идеалистическую форму иное, реалистическое содержание. Отчасти ему это удалось, но только отчасти...» [Там же.
С. 100].
«Схоластический налет виден и на произведениях самого Козельского. Особенно заметны следы вольфианства в логике и метафизике, где и порядок расположения, и форма изложения прямо напоминают учебники Баумейстера»; «Однако при всем этом между Козельским и представителями вольфианской школы различия весьма значительны. Его философская позиция в целом все же ближе к французскому материализму, чем к вольфианству» [Там же]. «К теории познания непосредственно примыкает логика, которую Козельский характеризует как науку о формах познания. Эта часть теоретической философии, пожалуй, наименее оригинальна. Но и здесь Козельский стремится провести материалистический взгляд при анализе логических форм мышления» [Там же.
С. 104].
В книге ленинградских историков вновь прозвучала тема вольфианства, как якобы официальной философии: «Вольфианство на протяжении XVIII в. господствовало в России как официальное академическое и религиозное учение» [Там же. С. 70]. (Во втором издании 1989 г. этот тезис звучит несколько мягче: «Вольфианство на протяжении XVIII и части XIX в. господствовало в России как официальная академическая философия и теоретическая опора богословия» [60. С. 931].) И опять это утверждение осталось без какого-либо обоснования.
И конечно, совершенно неудовлетворительным, недиалектическим оказался общий вывод Галактионова и Никандрова о том, что «в целом вольфианство в России сыграло реакционную роль, так как составляло питательную почву для различных идеалистических взглядов» [59. С. 90].
Ни диссертация Демичева, ни книга Галактионова и Никандрова не остались незамеченными. В 1962 г. в МГУ под руководством И. Я. Щипанова защищается диссертация Н. А. Зырянова об Аничкове, в которой диссертант открыто выступил против ленинградских историков философии.
Хотя диссертация Зырянова посвящалась не Козельскому, ее автор счел нужным выступить против тезиса Демичева о том, что вольфианцы оказали наибольшее влияние на труды Козельского. Мол, он, опираясь на Монтескье, Руссо, Гельвеция и других французских просветителей XVIII в., а также используя рациональные моменты школы Лейбница—Вольфа, продвигал дальше многие философские и политические проблемы, разрабатывал теоретические основы русского Просвещения [см.: 61. С. 52]. Самое большое, па что ученик Щипанова шел — это тезис о том, что материализм «русских просветителей» выступал иногда в форме девиза. Мысль же о том, что русские мыслители использовали «рациональные моменты школы Лейбница—Вольфа» оказалась чисто декларативной, поскольку вся диссертация Зырянова была направлена на то, чтобы доказать антиклерикальный и атеистический характер мировоззрения Аничкова. Впрочем, с Аничковым Зырянову было полегче, чем с Козельским, который открыто написал, что и откуда он взял у Вольфа и вольфианцев.
Аничков же писал, что он предпочитает «следовать здравому рассудку... нежели основываться на едином авторитете среди борьбы друг с другом расходящихся мнений». Аничков действительно не принимает учение Лейбница и его последователей о «предустановленном согласии» между душой и телом. И такого рода действительные факты позволяли диссертанту с некоторым подобием истинности утверждать, что философские вопросы, особенно теории познания, разрабатывались Аничковым не по учебникам Баумейстера, а подчас против вольфианской философии. Вопрос о пропорциях: что шло у Аничкова от лейбнице-вольфовской школы и в чем он с нею расходился, просто не возникал перед диссертантом Зыряновым.
После своего рода прорыва, который совершили в конце 1950—начале 60-х гг. в историографии «русской вольфианы» ленинградские историки русской философии, долгое время никаких существенных изменений на этом участке фронта не происходило.
В статье «Первые аристотелики и вольфианцы в России» Л. А. Петров коротенько изложил взгляды только Г. Н. Теплова, представив его как популяризатора идеалистического учения Вольфа, у которого-де «не нашлось общего языка с идейным противником Лейбнице-Вольфовской монадологии— Ломоносовым» [62. С. 53].
В брошюре В. Е. Курдюкова «Особенности развития русской философской мысли последней трети XVIII века» история вольфианства в России излагается с огромными передержками. «Вольфианство в России получает признание как официальная философия. Вплоть до начала XIX века, т. е. до того времени, когда получило широкое распространение шеллингианство, вольфиан-ская метафизика преподается в светских учебных заведениях» [63. С. 7]. Совершенно бездоказательно утверждение автора: «Что же касается духовных учебных заведений, академий и семинарий, то вольфианство господствует там на протяжении почти всего XIX столетия» [Там же]. Утешает лишь то, что вопрос о двойственном характере вольфианства просто списан с Галактионова и Ни-кандрова без ссылок на них: «Философия Вольфа и его учеников Баумейстера, Готшеда, Мендельсона и. Гердера была двойственной. С одной стороны, вольфианцы стремились синтезировать в своих философских взглядах все отрасли знания, включая механику, физику, химию, биологию и т. д. Эта сторона философии Вольфа привлекала мыслителей, тяготевших к материализму, которые, используя все положительное в вольфианстве, приходили к выводам с ярко выраженной материалистической окраской.
С другой стороны,, вольфианство примиряло науку с религией, и тем самым было удобной формой альянса духовных и светских властей в идеологической сфере. Помимо всего прочего вольфианство выполняло еще одну важную, с точки зрения господствующей идеологии, функцию — выступало антиподом французского просвещения» [Там же. С. 7—8].
И тот же неожиданный, что и у ленинградских авторов, вывод: «Это идеалистическое философское направление в целом сыграло реакционную роль» [Там же. С. 8]. Неудивительно, что Аничков и Козельский представлены в брошюре безотносительно к вольфианству, как если бы они к нему никакого— ни положительного, ни отрицательного — отношения не имели.
Дополнявший и перерабатывающий в 1989 г. свою книгу «История русской философии» А. А. Галактионов (после смерти соавтора П. Ф. Никандрова) оставил фрагменты, посвященные «русской вольфиане», почти без изменений [60].
Другие историки русскогоХУШ в. просто игнорировали проблему вольфианства в России. Так, авторы книги «Русская мысль в век Просвещения» (М.,
1991) умудрились обойтись без анализа проблемы философии Вольфа в России.
А между тем в 1960—80-х гг. в советских и зарубежных исследованиях по философии Вольфа начинают происходить коренные изменения. Стали появляться публикации, в которых о Вольфе и его философии писали не так сурово, как в 1940—50-х гг. В статье Б. Раббота в «Философской энциклопедии» [64] идея «двойственности» философии также присутствует. Вольф — «немецкий философ, популяризатор и систематизатор идеалистической философии Лейбница»; «...дал толчок разработке эстетики»; выхолащивал «диалектические элементы философии Лейбница»; «геометрически изложенная система Вольфа была эклектична и, по существу, дуалистична...», но она «сочеталась в системе Вольфа (особенно в физике) с рядом принципов механического материализма»; «Вольф сыграл значительную роль в распространении естественнонаучных знаний...»; «основал большую философскую школу, идеи которой в 18 в. проникли также и в Россию» [64. С. 283].
Не обошел Вольфа В. Ф. Асмус в своей книге «Немецкая эстетика XVIII в.»
В последние годы своей жизни А. М. Деборин (1881—1963) написал, в числе прочего, статью, специально посвященную Вольфу. Основная идея статьи: «Христиан Вольф не принадлежал к творческим философским умам. И тем не менее его роль в истории немецкой культуры немецкого Просвещения весьма велика» [66. С. 96].
Трехсотлетний юбилей Вольфа, отмечавшийся в 1979 г., стал стимулом к оживлению исследований его философии [67]. Более того, начался процесс, названный возрождением интереса к философии Вольфа [68], что нашло отражение в обобщающих исследованиях советских авторов по истории западной философии [69]. В советской историографии 1980-х гг. этот процесс нашел свое наиболее адекватное выражение в монографии В. А. Жучкова «Немецкая философия эпохи раннего Просвещения (конец XVII—первая четверть XVIII в.)» [70] и в последующих его работах.
В контексте данной работы о «русской вольфиане» мы бы отметили в первую очередь тезисы В. Жучкова, направленные против упрощения проблемы «Вольф—Лейбниц». «Исследователи во многом справедливо отмечают эпигонский и эклектический характер философии Вольфа, подвергшего поверхностной и упрощенной систематизации идеи Лейбница, что привело к утрате многих диалектических находок и прозрений автора “Монадологии”. Односторонность такой оценки состоит в том, что в ней остается в тени такое важное обстоятельство, что Вольф не просто “ухудшил” наследие учителя, но во многом создал принципиально иную философскую концепцию, качественно и радикально противоположную Лейбницевой... Вольф оказался более релевантным для своего времени, а многие идеи Лейбница — непонятными, забытыми и вынужденными дожидаться своего возрождения через десятилетия и даже столетия» [70. С. 364].
На этом основании В. Жучков совершенно справедливо подчеркивает самостоятельную и выдающуюся роль Вольфа в философском процессе, как пред-
шественника классиков немецкой философии конца XVIII—начала XIX в.: «...Непреходящая заслуга Вольфа в истории философии XVIII в. состоит в том, что, доведя до предельного выражения основные принципы метафизического мышления, последовательно применив их к решению основных проблем философского познания и объединив результаты, выводы в систематическое целое, он, по существу, зафиксировал в качестве предмета, проблемного поля некоторую фундаментальную ситуацию, неразрешимую в рамках традиционного философского мышления и метода познания. Этим он обозначил русло исследовательских поисков, в которых двигалась последующая философская мысль, причем не только в Германии, и не только в форме борьбы между сторонниками и противниками вольфовской метафизики, но и в других европейских странах и в составе иных философских традиций и направлений, их взаимной борьбы и внутренних противоречий. Теоретическое осмысление и завершение этого процесса стало возможным только в немецкой классической философии, но одним из самых значительных его инициаторов был Вольф» [Там же. С. 140]. «Одной из главных целей нашего исследования, — писал В. Жучков в конце своей книги, — была в некотором роде “реабилитация” учения Вольфа как весьма важного и необходимого этапа в развитии философской мысли Нового времени, в истории немецкой философии века Просвещения и особенно как одного из главных звеньев в процессе теоретического оформления метафизического способа мышления и начала его общего кризиса» [Там же. С. 195].
Если бы В. Жучков не пользовался излишне расширительным понятием «Просвещение» (на наш взгляд, «эпоха раннего Просвещения» в трактовке этого автора — это лишь «Предпросвещение», «Протопросвещение»), то мы могли бы сказать, что вполне солидарны с В. Жучковым в трактовке исторической роли Вольфа.
Спрашивается теперь, если в западноевропейской философии философия Вольфа играла такую выдающуюся роль, то почему она должна была быть реакционной в России — стране, в которой в XVIII в. сколько-нибудь развитой философии вообще не было? К сожалению, современная ситуация в историографии «русской вольфианы» не дает оснований считать, что идеологические и теоретические предубеждения в вопросе об историческом значении вольфи-анства преодолены. Более того, появились новые мотивы для «принижения» философии Вольфа.
В этом отношении очень показательна статья Т. В. Артемьевой и М. И. Ми~ кешина «Христиан Вольф и русское вольфианство» и введение Т. В. Артемьевой к одному из совсем новых изданий [см. 71 и 72].
Еще никто не утверждал столь категорично, как Т. Артемьева и М. Мике-шин: «Философия Вольфа в явном или неявном виде была популярна в России чрезвычайно; вольфианство преподавалось в российских университетах фактически на протяжении двух с половиной столетий» [72. С. 32]. Все предшественники наших авторов — какие-то слепцы, не замечавшие, что вольфианство в России имеет такую мощную историю... Разделяя тезис о вольфианстве как «официальной» философии, Т. Артемьева и М. Микешин выставили еще один
161
6 Зак. 642
оригинальный тезис: оказывается, родоначальник прусского права Вольф был теоретиком российского абсолютизма (т. е. бесправного государства): «Социальная концепция Вольфа и его русских последователей представляла собой теоретическое обоснование существования абсолютной монархии... “Математическое” обоснование существующего самодержавного строя окончательно закрепило вольфианство в России и на долгие годы сделало его официальной философией» [71. С. 72].
Удивительно только то, что последователей этой «чрезвычайно популярной» философии в статье названо совсем немного: кроме достаточно известного Г. Н. Теплова — малоизвестный В. Т. Золотницкий, почти неизвестный М. В. Данилов и... мистик масонского толка И. В. Лопухин, странным образом попавший в ученики к рационалисту Вольфу. Почему-то ни один из тех университетских профессоров XVIII в., которых прежние историки причисляли к вольфианцам, этими авторами не называется.
Но главное в статье Т. Артемьевой и М. Микешина не такого рода фактические «новации», а ее антизападническая идеология. «Русское вольфианство» выступает у этих авторов в качестве той ложной парадигмы движения русской философской мысли, которую в настоящее время необходимо преодолеть: «Именно вольфианство положило начало увлечению “западной” философией и создало определенную “парадигму”, в которой выстраивали свои рассуждения многочисленные русские вольтерьянцы, руссоисты, а позднее гегельянцы, кантианцы и т. д.» Вольфианская методология, форма, стиль мышления соблазнили-де русскую философию. «Форма логически непротиворечивого научного трактата, не характерная для традиций русского философствования... стала восприниматься как “новая”, а следовательно, “лучшая” и даже единственно возможная как для выражения философского знания, так и для организации философского исследования [Там же. С. 71—72].
Вообще-то наши авторы не против «ясности» и «порядка» в философствовании. Они — против прямолинейного сведения вольфианства к схоластике, в которой жизнь как будто не осмысливается, а в ней наводится только элементарный порядок и явления втискиваются в схему: «Пример Хр. Вольфа показывает, что такие утверждения вне исторического контекста страдают именно тем, против чего направлены. Наведение элементарного порядка тоже есть способ осмысления жизни, причем способ на определенном этапе необходимый, обладающий большой эвристической силой. После “втискивания” реальности в схему остаются и незаполненные ячейки — это позволяет предсказывать явления и очерчивать области дальнейшего познания с достаточно большой точностью. Называть даже очень жесткую схему всегда схоластикой неправомерно. Схема начинает мешать только при наличии достаточно развитой плодотворной альтернативы. Методы упорядочивания, схематизации, формализации суть необходимый момент (но лишь момент) диалектического мышления» [Там же.
С. 73].
Но, мол, в вольфианстве «хватили большого лишку»: «Благое первоначальное желание навести порядок и ясность в изложении философии у основателя вольфианства привело к полному опошлению этой идеи у его многочисленных последователей. Один из главных механизмов опошления — абсолютизация и онто-логизация методологии. “Для просветителя-вольфианца мысль — это параграф” (Соловьев А. Э. Истоки и смысл романтической иронии // Вопросы философии. 1984. № 12. С. 101). Содержание параграфа может меняться, но суть вольфианства остается, она заключена в самой системе мышления параграфами» [Там же. С. 74].
На этом основании наши авторы исходят из несовместимости «вольфианско-го» стиля философствования и способа изложения философских идей со «спецификой» русской философии, которую авторы усматривают в том, что русские мыслители, далекие от конъюнктуры, жившие в условиях жесткого административного контроля, «прекрасно осознавали невозможность отражения этой противоречивости, «полиистинности» в логически безупречной форме. Именно поэтому прогрессивная философская мысль не могла ограничиваться этими формами и прибегала к жанру «путешествий», утопий, политических программ, эпистолярному жанру и диалогу. Специфика русской философии во многом определялась и ее тематикой, устойчивым интересом к проблеме человека, общественного изменения и совершенного государственного устройства. Этот интерес определил способ решения многих философских вопросов через призму смысло-жизненных проблем. Примечательно, например, что основной вопрос философии решался русской философской традицией в XVIII в. как возможность или невозможность бессмертия индивидуальной души, а в XIX в. — как проблема источника и обоснования нравственного поступка. Русская философская мысль чаще всего не занималась решением онтологических вопросов в «чистом виде»... [Там же. С. 73].
Выдавая русскую беду за достоинство, наши авторы к тому же «забывают», что Вольф и вольфианцы занимались не только онтологией «в чистом виде», но также антропологией, включая проблему бессмертия души, и проблемами государственного устройства...
«Вольфова методология» — это для ленинградско-петербургских авторов некое парадигмальное воплощение культурных традиций русского XVIII в., оторванных от национальных корней, которые определили дальнейшее развитие науки, в том числе и философии в России, и не претерпели качественных изменений вплоть до советских времен.
Вольфианство как символ системного и систематического, понятийно-логического, наших авторов не устраивает. «Выход из этого мышления в истории предлагался двоякий: во-первых, продолжать национальные традиции вне официальных философских форм, во-вторых, используя достижения вольфианства, “взорвать” официальные рамки изнутри» [Там же. С. 74]. Надо думать, что их больше устраивает «истинно русская» форма философствования: в стихах, письмах, публицистических памфлетах, т. е. стиль ненаучный, дилетантский. Интересно было бы знать, какими же все-таки достижениями вольфианства можно еще воспользоваться. Оказывается, и так можно доказывать «актуальность» и «необходимость» исследования судьбы вольфианства в Европе и России...
Надо думать, что профессор МГУ П. С. Шкуринов, писавший свою книгу «Философия России XVIII века» как раз в то время, когда в Московском университетском журнале опубликовали свою статью Т. Артемьева и М. Ми-кешин, познакомился с их трактовкой «русского вольфианства». Но, так или иначе, у него тема «русского вольфианства» замкнута именно на проблеме человека, что вроде бы, по мысли ленинградских авторов, Вольфу «не показано»: «Религиозные философы, особенно из числа неортодоксов, не ослабляли интереса к гуманистическим проблемам. Они часто по-прежнему продолжали опираться на Декарта, Лейбница, Хр. Вольфа. В центре их внимания находились вопросы о происхождении человека и характере его познавательных возможностей. Заимствованная от Лейбница и Вольфа система доказательств предполагала наличие “бога”: человек создан богом “по своему образу и подобию”, потому его разум способен понять все из “божественного творения”. Этот просветительски-рационализированный Хр. Вольфом вариант теологизма импонировал российскому читателю середины XVIII в. Не случайно в ту пору было осуществлено не одно издание вольфианских сочинений. В сознании некоторых оправдывался вывод, что Хр. Вольф “превращает... в естественную теологию науку о том, как все возможно через бога”» [73. С. 126].
Можно не соглашаться с термином «просветительски-рационализированный Хр. Вольфом вариант теологизма», но нельзя не признать, это уже далеко не укладывается в формулу «реакционной роли вольфианства» в России XVIII в.
Из новейших работ по истории «русской вольфианы» нам известны две: кандидатская диссертация С. В. Шлсйтере «Философия Г. Н. Теплова» [74] и статья В. В. Аржанухина «Вольфианство» [75] (изд-во «Республика»).
В диссертации Шлейтере «направление, связанное с распространением идей Хр. Вольфа в России», выделяется в отдельное направление. (Другое направление в русской философской мысли XVIII в. представлено философами-естествоиспытателями М. Ломоносовым, В. Зуевым, С. Котельниковым, А. Болотовым, П. Словцовым и другими. Третье направление представляет А. Н. Радищев.)
Автор диссертации сожалеет, что исследователи вольфианства в России ограничиваются упоминанием имени Г. Н. Теплова «как самого крупного представителя вольфианства»; но списка «русских вольфианцев» в этой диссертации тоже нет. Неверные оценки прежних авторов приводятся в диссертации как бы по инерции: «Метафизика Хр. Вольфа постепенно завоевывала академическую область и получила признание официальной философии» [74. С. 12]. А вот тезис о том, что распространение идей Вольфа в России связано со становлением светского типа философствования — заслуживает внимания, ибо фактически противостоит прежним высказываниям о том, что вольфианство в России стало якобы официальным религиозным учением или теоретической опорой богословия.
Что касается самого Теплова, то относительно его философской позиции в диссертации мы бы выделили в первую очередь мысль о том, что философия Теплова «направляла русскую философскую мысль в магистральное русло европейской философии» [Там же. С. 16], что Теплов, «являясь вольфианцем по духу, привнес в русскую философию гораздо более широкий пласт европейской философской культуры» [Там же. С. 60].
Хотелось бы поддержать и мысль диссертанта о том, что «философское становление Теплова проходило не только под сенью вольфианской философии, хотя именно в терминах последней Г. Н. Теплов пытается разъяснить свою позицию» [Там же. С. 51]. Но бездоказательно звучат утверждения о том, что русский философ, преодолевая схематизм Вольфа, раздвигал рамки вольфиан-ства, опирался также и на Лейбница, что в философии Теплова сочетаются платонические и деистические мотивы. Мысль о связи Теплова с «представителями русского просвещения» также говорит о том, что диссертант вкладывает в понятие «просвещение» неопределенный расширительный смысл. Наконец, мы так и не поняли, что значит «этико-рационалистический характер» философии Теплова.
По нашему мнению, наиболее содержательной в современной историографии «русской вольфианы» является упомянутая статья В. В. Аржанухина.
Этот автор точнее других определяет хронологические рамки максимального влияния идей Вольфа: период с 20-х гг. XVIII в. до 40-х гг. XIX в. В отличие от утверждений об официальном государственном характере философии Вольфа, наш автор совершенно справедливо считает, что вольфианство положило начало систематическому философскому образованию в Германии и других европейских странах как «дидактическая система», что «в России вольфианство имело успех прежде всего как дидактическая система» [75. С. 93]. Неверно, правда, что «вначале это было связано с усилиями церкви по созданию собственной системы образования» [Там же. С. 93]. «Натуральную философию» в духе Вольфа начали читать в Петербургской академии наук вскоре после того, как была создана эта академия и университет при ней. Вопрос об основных философских трудах Вольфа обсуждался им с руководством Петербургской академии наук еще в 30-х гг. XVIII в. Лишь с начала 50-х гг. духовно-академические учреждения в Москве и Киеве отказались от курсов в духе аристотелизма и перешли на вольфианские пособия.
По-новому Аржанухин трактует вопрос о влиянии Вольфа на Ломоносова: «Результаты влияния Вольфа сказываются прежде всего в оценке Ломоносовым исследований природы как основного пути примирения науки и религии, в его интерпретации отношения воли Бога к законам природы и в представлениях о телеологической гармонии космоса» [Там же]. Такое направление влияния Вольфа на Ломоносова действительно есть. Но думается, что Ломоносов, химик и физик по преимуществу, ценил Вольфа прежде всего за то, что он продемонстрировал путь согласования эмпирических, опытных исследований с философскими обобщениями. Можно в принципе согласиться с мнением автора статьи о вольфианстве, что «во многом благодаря усилиям Ломоносова рационализм уже перестал рассматриваться в России как разрушительная по отношению к традиционным ценностям сила» [Там же].
Было бы интересно знать, что конкретно имел в виду автор, когда писал, что «все русские богословско-догматические системы до 80-х гг. XIX в. так или иначе использовали основные категории вольфианской философии в рациональном обосновании своих положений, подвергая их, однако, изменению» [Там же. С. 94]. Может быть, Шпет действительно чего-то недосмотрел, когда изучал влияние вольфианства на русскую духовно-академическую мысль XIX в.?
Хотя автору можно было бы задать еще несколько вопросов и возразить еще по некоторым пунктам, мы, тем не менее, очень высоко оцениваем общее значение его работы, понимая, что в короткой энциклопедической статье много сказать невозможно. Особенно мы разделяем пафос итоговой формулировки этой статьи: «Философско-дидактическая система Вольфа, привнесенная из Германии и перестраивавшаяся в России на протяжении более ста лет, явилась существенным фактором европеизации русского общества, а также определенной сферой, в которой осознала себя русская академическая философия» [Там же].
На двух примерах — на Ломоносове и Эйлере — мы хотели бы показать неправомерность изображения философии Вольфа как системы, игравшей в России якобы реакционную роль, что даже Ломоносов ценил не только Воль-фа-ученого, но и Вольфа-метафизика и испытал плодотворное влияние Вольфовой философии, хотя и не стал ее последователем; и в то же время нам хотелось бы показать, что вольфианство встречалось в русской светской философии XVIII в. с весьма жесткой критикой, и с этой целью мы берем, наряду с Ломоносовым, Эйлера как ученого, весьма сведущего в философии Вольфа, но решительного его противника, оспорившего всю его систему.
* * *
Внешняя канва взаимоотношений Ломоносова и Вольфа давно хорошо известна.
В 1735 г. Ломоносов, ученик Московской Славяно-греко-латинской академии (с 1731 г.), был переведен в числе лучших учеников в Академический университет в Петербурге, а в следующем году был командирован в Германию. В Марбурге Ломоносов прошел у Вольфа курсы механики, гидростатики, аэрометрии, гидравлики, теоретической и экспериментальной физики, а также логики и метафизики [см.: 76. Т. 10. С. 366, 373]. Затем учеба была продолжена во Фрейбурге у химика и металлурга И. Генкеля.
Ученик Ломоносов принес учителю Вольфу немало хлопот, но немецкий ученый сумел разглядеть в нем будущее светило: 20 июля 1739 г. Хр. Вольф дал такой отзыв о своем ученике: «Молодой человек преимущественного остроумия Михайло Ломоносов с того времени, как для учения в Марбурге приехал, часто математические и философические, а особливо физические лекции слушал и безмерно любил основательное учение. Ежели впредь с таким рачением простираться будет, то не сомневаюсь, что, возвратясь в отечество, принесет пользу обществу, чего от сердца желаю» [Там же. С. 571]. И Вольф не ошибся: незадолго до своей смерти 6 августа 1753 г. он писал Ломоносову из Галле: «С великим удовольствием я увидел, что вы в академических “Комментариях” себя ученому свету показали, чем вы великую честь принесли вашему народу. Желаю, чтобы вашему примеру многие последовали [Там же. С. 572].
Ломоносов, в свою очередь, на всю жизнь сохранил уважение к своему выдающемуся учителю.
Если это так, то означает ли это, что Ломоносов, обучаясь в школе Вольфа, остался в ней, а если нет, то насколько сказалось в его научной и философской деятельности влияние немецкого учителя?
Думается, что не правы не только те «исследователи», которые по идеологическим, псевдопатриотическим мотивам замалчивали влияние Вольфа на Ломоносова, но и ленинградцы А. Галактионов и П. Никандров, которые, признавая большое влияние на Ломоносова Вольфа-ученого, утверждали, что вольфиан-ская философия оказала на русского ученого лишь незначительное влияние.
Для того чтобы решить эту проблему, необходимо возможно более адекватно представить себе тип и характер научного и философского мышления Ломоносова.
Ломоносов — не только ученый-экспериментатор в самых разных областях конкретных наук, но также теоретик и философ, сознательно стремившийся, в отличие от многих других ученых, его современников на Западе и в России, не ограничивать свою деятельность «опытной» наукой. И эта фундаментальная черта мышления Ломоносова сложилась под непосредственным влиянием Вольфа. В свою очередь, такая установка Ломоносова влияла на его отношение к Вольфу и к другим выдающимся ученым и философам.
Ломоносов — воспитанник Славяно-греко-латинской академии и, следовательно, начинал учиться науке и философии еще в духе аристотелизма. Став со временем сторонником «вольного философствования» в духе Нового времени, он, естественно, отмежевался от Аристотеля, полагая, что науки, а особенно философия, много пострадали «от слепого прилепления ко мнениям славного человека», «одному Аристотелю последовали, и его мнения за непреложные почитали». Он «не без сожаления удивлялся тем, которые про смертного человека думали», будто он «в своих мнениях не имел никакого погрешения, что было главным препятствием к приращению философии и прочих наук». Но, критикуя преклонение перед Аристотелем, Ломоносов поспешил заявить: «Я не презираю сего славного и в свое время отменитого от других философа».
В качестве ниспровергателя Аристотеля Ломоносов выделял в первую очередь «славного и первого из новых Философов» Декарта, который «осмелился Аристотелеву философию опровергнуть и учить по своему мнению и вымыслу. Мы, кроме других его заслуг, особливо за то благодарны, что он тем ученых людей ободрил против Аристотеля, против себя самого и против прочих философов в правде спорить, и тем самым открыл науку к вольному философствованию и к вящему наук приращению».
Ценил Ломоносов и других философов. В его тлазах Лейбниц, английский рационалист и моралист Самуил Кларк (1675—1729) и Локк — это «премудрые рода человеческого Учители», которые поднялись над Платоном и Сократом, поскольку предложили новые «правила рассуждения и нравы управляющие».
Но как ученый Ломоносов не ограничился перечислением наиболее ценимых им философов. Он называет ученых, которые «любопытным и рачительным исследованием нечаянные в натуре действия открыли и теми свет привели в удивление». Это, в частности, знаменитый английский физик и химик Роберт
Бойль (1627—1691), немецкий физик Отто Герике (1602—1686) — изобретатель воздушного насоса, немецкий математик, физик и философ-рационалист Э. В. Чирнгауз (1651—1708) и др. Согласно Ломоносову, «великое приращение в астрономии неусыпными наблюдениями и глубокомысленными рассуждениями» дали Кеплер, Галилей, другие ученые и особенно «великий Невтон».
В науке Ломоносов ценит в первую очередь опыт, как критерий достоверности. Успех наук в новое время, по его мысли, оттого происходит, что ученые, а особенно «испытатели натуральных вещей», «мало взирают на родившиеся в одной голове вымыслы и пустые речи, но больше упражняются на достоверном искусстве».
Но чистым эмпириком Ломоносов никогда не хотел быть и не был. Опыт должен быть соединен с теорией («рассуждением») — вот один из его принципов: «Мысленные рассуждения произведены бывают из надежных и много раз повторенных опытов. Для того начинающим учиться Физике наперед предлагаются ныне обыкновенно нужнейшие Физические опыты, купно с рассуждениями, которые из оных непосредственно и почти очевидно следуют». И именно такому соединению Ломоносов учился у Вольфа, именно такое соединение он ценил у него, квалифицируя его, как славного своими как философскими, так и математическими книгами.
Ломоносов понимал испытывающих недоверие к пустым и ложным умозрениям, которые навязывают ученому миру без какого-либо предварительного опыта некоторые теоретики. Но он не приемлет и «хаос от непродуманных опытов» и призывал «поучиться священным законам геометров, которые некогда были строго установлены Евклидом и в наше время усовершенствованы знаменитым Вольфом» [Там же. Т. 1. С. 75].
В заметках, датируемых 1741—1743 гг., Ломоносов еще более определенно фиксирует мотивы своего отношения к Вольфу: «Я не признаю никакого измышления и никакой гипотезы, какой бы вероятной она ни казалась, без точных доказательств, подчиняясь правилам, руководящим рассуждениями. Сам Вольф писал о свободе философствования (я ему многим обязан)» [Там же. С. 115]. Русский ученый признавал, что в деле, скрытом и непосредственно недоступном чувствам, он старается двигаться самым осмотрительным образом «по правилу, предписанному славным Вольфом в “Элементах арифметики”» [Там же]. «И на земле, и в море я искал бы противопоказаний, следуя предписанию Вольфа» [Там же. С. 165].
Все это привело к тому, что на творчество Ломоносова влияние Вольфа шло по двум направлениям — по линии опытной науки и по линии философии.
В «диссертации» «О действии химических растворителей» (1743) Ломоносов прямо ссылается на эксперименты, проведенные Вольфом. Говоря о своей теории упругости воздуха, он заметил: «Эта истина, подтвержденная опытами, сделанными знаменитым Вольфом над порами животного пузыря, прекрасно известна физикам» [Там же. С. 355].
Вольф как «описатель» опытов, нужных «к истолкованию главных натуральных действий», фигурировал также в переведенной Ломоносовым «Воль-фианской физике» (1746), представлявшей немецкий перевод с латинского одного из разделов книги секретаря Вольфа Л. Ф. Тюммига «Основания Воль-фианской философии» (T. 1. Франкфурт; Лейпциг, 1725). Книга же Тюммига — это сокращенный перевод с немецкого трехтомного труда Хр. Вольфа «Физические эксперименты, или Всевозможные полезные опыты, которыми прокладывается путь к точному познанию природы и искусства» (Галле, 1721— 1723). Это был популярный учебник физики, по которому учился в Марбурге сам Ломоносов.
В этой книге есть ссылки на эксперименты, лично проведенные Вольфом: «...Господин Вольф давно показал, что ежели стеклянный сосуд в гоксбейевом опыте (§ 152) скорым вертением согреется, то от трения рук или других материй свет в нем распространится, хотя и воздух не будет вытянут, равным образом как от сильного трения, от которого сильнейший жар происходит и в самом воздухе свет рождается» [Там же. С. 583]. Есть здесь и ссылка на «особливое искусство, которое господин Вольф показал в Лейпцигских ученых записках 1709 года...» [Там же. С. 487]. И еще: «Господин Вольф показал, что волшебный фонарь весьма легко можно обратить в микроскоп...» [Там же. С. 494]; упомянуты также «некоторые наблюдения, учиненные от господина Вольфа сквозь микроскопы...» [Там же. С. 498] и т. д.
Наука не стоит на месте, и, естественно, что Ломоносов, начавший работать уже после того, как Вольф написал свои основные труды, не мог не замечать то, что у немецкого ученого устаревало, или то, что он вообще еще не изучал. Так, в прибавлениях к «Вольфианской экспериментальной физике» Ломоносов отметил научную недостаточность представлений Вольфа об электричестве: «В те времена, когда господин Вольф писал свою физику, весьма мало было знания о электрической силе, которая начала в ученом свете возрастать славою и приобретать успехи около 1740 года» [Там же. Т. 3. С. 438].
Если говорить о влиянии на Ломоносова Вольфа-философа, то начать можно с того, что, как документально установлено, в личной библиотеке Ломоносова в Марбурге, наряду с трудами Вольфа по физике, были и основные его философские сочинения: «Первая философия, или Онтология...» (изд. 1735), а также лекции «Рациональная философия, или Логика, разработанная научным методом и приспособленная для нужд науки и жизни» (Франкфурт и Лейпциг,
1732).
По форме первые студенческие работы Ломоносова выдержаны в духе «математической» Вольфовой методологии. Здесь мы видим определения (дефиниции), схолии (пояснения), колларии («присовокупление»), леммы, теоремы, доказательства, аксиомы. Впрочем, это ведь не только вольфовская форма: Спиноза пользовался такой же схемой.
С ранних работ (и до конца жизни) Ломоносов опирался на фундаментальный онтологический и логический принцип Вольфа — закон достаточного основания. Ссылаясь на книгу «Первая философия, или Онтология, научным методом изложенная, в которой содержатся начала всякого человеческого познания», он писал: «Так как ничто не может совершаться без достаточного основания («Онтология», § 70), то одинаковое стремление частиц к движению в противоположных направлениях должно затруднится от какой-либо причины, когда твердое тело переходит в жидкое» [Там же. T. 1. С. 9].
В учебнике Ломоносова по риторике «Краткое руководство к красноречию» (СПб., 1748) есть параграфы «О сопряжении идей» и «Об изобретении доводов», — представляющие заимствования из Вольфа.
Именно Вольф выступал в глазах Ломоносова авторитетом, когда тому нужно было доказать необходимость сочетания опыта и теории, конкретной науки и философии. В этом отношении очень показательна полемика Ломоносова с неким немецким автором, упрекавшим русского ученого за то, что тот «хочет дойти до чего-то большего, чем простые опыты», или «замышляет нечто большее, чем одни только опыты».
Комментаторы к полному собранию сочинений Ломоносова утверждали, что в данном случае «критика передовых материалистических воззрений» Ломоносова в Германии велась «с реакционных, метафизических позиций защитниками и последователями философии Лейбница—Вольфа» [Там же. Т. 3. С. 539].
Неправда это. Как раз наоборот, в данном случае критика шла с эмпирических, а не вольфианских позиций, а Ломоносов отстаивал метод сочетания эмпирики и теории, конкретной науки и философии, за что всегда ратовал Вольф.
В «Рассуждении об обязанностях журналистов при изложении ими сочинений, предназначенных для поддержания свободы философии», опубликованном без подписи в журнале: «Nouvelle Bibliothèque germanique, ou l’histoire littéraire de rAllemagne,d'e l'a Suisse, et des pays du Nord» («Новая Германская библиотека, или Литературная история Германии, Швейцарии и северных стран»), Ломоносов так отреагировал на упрек немецкого критика: «Как будто естествоиспытатель действительно не имеет права подняться над рутиной и техникой опытов и не призван подчинить их рассуждению, чтобы перейти к открытиям» [Там же. С. 220].
Тот же немецкий критик буквально высмеивал Ломоносова за то, что тот пользовался принципом достаточного основания, т. е. Вольфовым методологическим принципом. Ломоносов с такой критикой не согласился. Он возразил на реплику, «будто математики никогда не применяют способа à posteriori для подтверждения уже доказанных истин» [Там же. С. 221—222]. «Разве не достоверно, — писал он, — что как в элементарной, так и в высшей геометрии пользуются числами и фигурами для того, чтобы объяснять теоремы и в некотором смысле представлять их наглядно, и что затем в приложении математики к физике постоянно пользуются опытами для обоснования доказательств? Этого не будут отрицать те, кто имеет хотя бы самое поверхностное знакомство с математикой. Г-н Вольф сделал из этого даже закон в своей “Арифметике” (§ 125). Стыдно судье не знать такого закона или пренебрегать им» [Там же].
Весь ответ Ломоносова немецкому критику пронизан идеей, которую русский ученый воспринял от Вольфа в годы учебы у него и остался верен ей до конца — идеей единства опыта и теории: «Если нельзя создавать никаких теорий, то какова цель стольких опытов, стольких усилий и трудов великих людей» [Там же. Т. 3. С. 239].
Центральная часть научного и философского творчества Ломоносова — это его корпускулярная теория. И естественно, что характер этой теории определяет в конечном счете соотношение мировоззрений Ломоносова и Вольфа.
Интересно, что Ломоносов на протяжении ряда лет собирался высказаться по поводу монадологии Вольфа и несколько раз «объяснялся», почему он этого не сделал.
Начало своей работы над монадологией Ломоносов датировал не очень строго. В письме к Эйлеру от 27 мая 1749 г. он сообщает: «...Стараюсь закончить свою диссертацию о монадах, которую начал уже более четырех лет назад» [77. T. VIII. С. 101]. Получается, что начал он эту работу где-то в 1744 г., а в 1756 г. Ломоносов писал: «С тех пор, как я прочитал Бойля, овладело страстное желание исследовать мельчайшие частицы. О них я размышлял 18 лет» [76. Т. 2. С. 241]. Выходит, что Ломоносов начал размышлять об этом еще в 1736 г. ...
Но дело не в датах. Дело в том, что русский ученый не решался обнародовать свои разногласия с Вольфом. В письме к Эйлеру от 5 июля 1748 г. Ломоносов, вспоминая о том времени, «когда начал серьезно размышлять о мельчайших составных частях вещей», сообщил, что он «даже всю систему корпускулярной философии « мог бы опубликовать, однако боится, как бы не показалось, что он дает ученому миру «незрелый плод скороспелого ума», если выскажет «много нового, что по большей части противоположно взглядам, принятым великими мужами».
Через несколько лет в письме к тому же Эйлеру от 12 февраля 1754 г. Ломоносов более детально объяснил причину, почему он не хотел обнародовать свою «монадологию»: «Нападая на писания великих людей», он не хотел «показаться скорее хвастуном, чем искателем истины», и эта причина «давно уже препятствует предложить на обсуждение ученому свету... мысли о монадах». «Хотя я твердо уверен, — продолжал Ломоносов, — что это мистическое учение должно быть до основания уничтожено моими доказательствами, но я боюсь опечалить старость мужу (т. е. Христиану Вольфу. — В. /7.), благодеяние которого по отношению ко мне я не могу забыть; иначе я не побоялся бы раздразнить по всей Германии шершней-монадистов» [77. T. VIII. С. 158—159].
Итак, свое расхождение с монадологией Вольфа Ломоносов выразил весьма категорически. И до конца жизни он продолжал заниматься этой темой, полагая, что его «корпускулярная философия» является основой физики, причем считал, что им «сочиняется новая и верно доказанная система всей физики» [Там же. С. 275]. В 1757 г. Ломоносов предложил прочитать на публичном собрании Академии наук речь на тему «О физических монадах», но академики эту тему не приняли.
Значит ли все это, что «корпускулярная философия» Ломоносова абсолютно противоположна «мистическому», как он выразился, учению о монадах Вольфа? Нет, не значит.
Поскольку учение о монадах Вольфа представляло собой нечто среднее между монадологией Лейбница и учением о мельчайших частицах физиков, постольку в Вольфовой монадологии были такие аспекты физического учения о мельчайших частицах, которые Ломоносов мог использовать в своей реалистической «корпускулярной философии».
В своих ранних работах он ссылается на сочинение Вольфа «Общая космология, научным методом изложенная, которою прокладывается путь к прочному познанию, особенно бога и природы», вышедшее на латинском языке в 1731 г., и на «Догматическую физику», состоявшую из трех сочинений, вышедших на немецком языке («Благоразумные мысли о действиях природы», Галле, 1723; «Благоразумные мысли о назначении природных вещей», Галле, 1724; «Благоразумные мысли об употреблении частей человеческого тела, животных и растений», Франкфурт и Лейпциг, 1725), представлявших собой Вольфову систему натурфилософии. Ломоносов писал: «Clarissimus Wolfius («знаменитый» или «славный Вольф»; «Космология», § 291 и «Догматическая физика», § 45) показал, что сцепление частиц твердого тела зависит от одинакового стремления их к движению в противоположных направлениях» [76. T. 1. С. 9]. Ту же Вольфову концепцию сцепления частиц в зависимости от их стремления к движению в противоположном направлении Ломоносов подкреплял ссылками на Вольфовы «Элементы всеобщей математики» (Галле, 1713—1715).
В «Философской диссертации о различии смешанных тел, состоящем в сцеплении корпускул» (1739) студент Ломоносов использует также работы Вольфа «Первая философия, или Онтология» и «Элементы математики». Вслед за Вольфом Ломоносов полагает, что свойства природных тел следует искать в качествах корпускул, в способе их расположения и способе сцепления. Свойства и качества корпускул Ломоносов излагает с прямыми ссылками на «Онтологию» Вольфа:
«Определение VI.
§ 10. Корпускулы разнородны, если различаются массою и фигурою, или тем и другим одновременно.
Пояснение 1.
§ 11. Что корпускулы различаются массою и фигурою, видно из того, что они — сложные сущности (§ 1), а сложные все имеют протяжение («Онтология», § 619); всякое протяжение может увеличиваться и уменьшаться (Там же. § 629, 630), а его фигура может меняться (Там же. § 634, 640). Поэтому если одна корпускула увеличивается, а другая уменьшается, одна принимает такую фигуру, другая — иную, то тем самым они различаются массою и фигурою» [Там же. С. 27].
Прямо ссылается Ломоносов на «Космологию» Вольфа, когда пишет, что «все доступные наблюдению тела состоят из производных корпускул («Космология», § 231)» [Там же. С. 35]. И ряд других, более частных, проблем он решает, опираясь на идеи Вольфа.
В духе вольфовской идеи необходимости сочетания эмпирики и теории молодой Ломоносов исходил из того, что, поскольку корпускулы, как сложные, но очень малые сущности, совершенно недоступны для зрения и наблюдения, то их «свойства и их способ взаимного расположения должно исследовать при помощи рассуждения» [Там же. С. 25].
В дальнейшем Ломоносов усовершенствовал свое учение о «мельчайших», «нечувствительных» частицах, о телах, состоящих из нечувствительных частиц, о движении монад и тел, побуждаемое только другими монадами или другими телами и т. д. Выступив против представлений Лейбница и Вольфа о монадах, Ломоносов поставил в центр своей корпускулярной философии понятие «нечувствительные физические частицы», которые реально не делятся на меньшие, и называются «физическими монадами» [Там же. С. 221].
Комментаторы к Полному собранию сочинений Ломоносова утверждали, что термин «физическая монада» Ломоносов отождествляет с понятием материальной «нечувствительной физической частицы» (атома) и вкладывает в это понятие материалистический, а не идеалистический смысл, как это делали Лейбниц и Хр. Вольф [Там же. С. 557].
Рациональный смысл этого утверждения состоит в том, что подчеркивается различие ломоносовской монадологии от Лейбницевой и Вольфовой. А вот насчет «материализма» Ломоносова следует сказать особо. Да, Ломоносов — естественнонаучный материалист, ибо в его глазах физические монады — это действительно нечто вроде атомов, а все тела — материальны. Но все дело в том, что материю-то и монады создал, по Ломоносову, Бог, а это значит, что в метафизике наш критик Вольфа — в принципе, такой же идеалист, как и его немецкий учитель: «Пусть никто не удивляется, — писал Ломоносов, — что у мельчайших тел столь организованное строение, — ведь мы видим гораздо более удивительное в чувствительных телах. Для воспроизведения стольких явлений верховный мастер построил органы, орудия, пригодные для всех случаев». «Так как явления природы неизменны, то неизменными должны быть и формы мельчайших тел»; «это доказывает существование бога-создателя и доказывает, что не случайно материя образовала все». И здесь Ломоносов снова вспомнил о Вольфе: «Сам создатель метода не раз одобрял мою твердость в нем (т. е. в Боге. — В. /7.), и старец удивлялся мне, тогда еще юноше» [Там же.
Т. 3. С. 239].
Из всего сказанного следует, что Ломоносов действительно многим обязан Вольфу и в сфере конкретных наук, особенно в физике, и в сфере метафизики. Поскольку Ломоносов не принимал вольфовской системы наук и философии, во всех ее основных принципах, а заимствовал лишь часть научных и философских идей Вольфа, его нельзя считать вольфианцем. Но было бы исторической несправедливостью противопоставлять Ломоносова Вольфу, принижать объем влияния немецкого мыслителя на русского, особенно в сфере собственно философии. Даже основная философская концепция Ломоносова, его «корпускулярная философия», при всех ее отличиях от Лейбницевой и вольфовской, отталкивалась от лейбницевской и особенно вольфовской, монадологии, формировалась в сопоставлении с ней. «Корпускулярная философия» Ломоносова — это реалистически истолкованная монадология Лейбница—Вольфа. Материалистической в полном смысле слова ее назвать нельзя, поскольку творцом монад признается Бог.
Леонард Эйлер существенно иначе, чем Ломоносов, относился к Вольфу. Он по преимуществу — критик лейбнице-вольфовской философии.
Л. Эйлер (1707—1783) родился в Базеле (Швейцария). Образование получил в Базельском университете (1720—1724). В мае 1727 г. приехал в Петербург, в недавно созданную академию, и четырнадцать лет занимался здесь математикой, механикой и физикой, опубликовав свыше пятидесяти работ и подготовив к печати еще три десятка. Читал лекции студентам Академического университета. В 1741 г. переехал в Берлин, где стал в тамошней академии директором класса математики и членом правления. Оставаясь почетным членом Петербургской академии наук, Эйлер поддерживал тесные научные связи с Россией. В 1766 г. он вновь приехал в Петербург и еще 17 лет проработал здесь, подготовив около четырехсот работ.
Свои философские взгляды Эйлер наиболее полно изложил в написанных в 1760—1762 гг. письмах к маркграфине Софии-Шарлотте Бранденбургской. В 1768—1774 гг. член академии профессор-астроном Степан Румовский перевел и издал три тома этого труда.
Эйлер — сторонник «здравой философии» [78. Ч. 1. С. 303], симпатизирующий тем, кто предпочитает ясные начала в философии — темным и стремится «истребить из философии все сокровенные качества». По ряду вопросов Эйлер не соглашался с Декартом, но, тем не менее, в его глазах это — «великий французский философ», который «старался больший свет ввести в философию» [Там же. С. 272, 274, 232]. Но временами Эйлер иронизировал над философами, ссылаясь, в частности, на Цицерона, который заявлял, что нельзя ничего столь странного выдумать, чтобы философы не в состоянии были этого защищать. Не желая следовать такому мнению, Эйлер заявлял, что еще мало заслужил имя философа [Там же. С. 68].
Будучи реалистом в естественнонаучных вопросах, в сфере мировоззрения Эйлер оставался на позициях ординарного теизма, считая, что «сила всемогущего творца простирается по всему неизмеримому пространству, в котором все, что ни есть, находится в пределах его власти» [Там же. С. 82].
Разграничивая чувственную и рациональную форму познания («что чувства представляют и то, что мы к тому рассуждением присовокупляем, в чем мы весьма часто обманываемся»), Эйлер склонялся больше к сенсуализму, критикуя древних скептиков и агностиков пирронистов, которые «проповедовали против верности чувств наших» [Там же. С. 141].
Такие исходные философские посылки предопределяют соответственно и отношение к Лейбнице-вольфовской философии. В случае с Эйлером такой термин, введенный Бильфингером и оспаривавшийся самим Вольфом, возможен, поскольку Эйлер фактически не различал «лейбницеан» и «вольфианцев».
В критике Эйлером Лейбнице-вольфовской философии выделяются несколько основных тем: 1) учение о монадах, их делимости и протяженности; 2) учение о духах и душе в их отношении к телам; 3) учение о движении тел; 4) учение о предустановленной гармонии, в связи с теодицеей и теорией свободы воли.
В полемике с лейбницеанами-вольфианцами Эйлер стремился оставаться сдержанным и объективным, но известная внутренняя напряженность в этой
полемике все-таки чувствуется. Мы бы, говоря современным языком, сказали, что это было не просто теоретическое столкновение философских позиций, но спор с явно выраженным идеологическим подтекстом, ибо речь шла в конечном счете о верности или неверности господствующему религиозному мировоззрению. Не удержавшись на чисто теоретических позициях, Эйлер заметил однажды по адресу лейбнице-вольфианцев: «Монадисты суть люди весьма опасные; недавно они обличали нас в безбожии, а теперь укоряют нас в идолопоклонстве...» [Там же. Т. 2. С. 242]. В полемике же («имея прение»), считал Эйлер, «неприлично и поносно укорять соперников в безбожии и идолопоклонстве» [Там же].
Эйлер вспоминает, что было время, когда «распря о монадах» была сильной и общей, о монадах везде «с великим жаром говорили». При прусском дворе «не было почти ни единой дамы, которая бы или не защищала или не опровергала Монады. Одним словом, повсюду ни о чем ином, как о Монадах, не говорили» [Там же. С. 211].
Учение лейбницеан и вольфианцев о монадах Эйлер представляет в таком виде: Бог не мог бы произвести тел, если бы до этого не издал монад; тела произведены посредством совокупления монад. Одни говорят, что монады — это действительные части тел: раздробляя тело так далеко, как можно, достигают монад, составляющих тело; другие не считают монады частями тела, но лишь достаточной причиной тел. Все телесное, протяжение, движение, время, пространство — все это пустая обманчивость. В мире нет ничего, кроме бесчисленного количества монад. Ни одна монада не связана с другой союзом; ни одна не может действовать на другую; хотя монады одарены силами, эти силы действуют только на самих себя; эти силы стремятся изменить свое состояние; душа есть монада, которая составляет понятие о других монадах; эти понятия, по большей части, темные, но силы души напрягаются, чтобы разъяснить темные понятия, довести их до высшей степени ясности; другие монады ведут себя подобно душе; те из них, которые больше преуспели в доведении понятий до высшей степени ясности, становятся совершеннее человека, но большая часть монад погружена в глубочайшую тьму понятий, и они дают повод для возникновения ложных понятий о протяжении и телах; монады не связаны между собой никаким союзом, но действуют по совершенному согласию, предустановленному порядку, который Бог, сам Монада, устроил между монадами [Там же. С. 222,
230, 232—236].
В критике такой монадологии, в которой лейбницевские идеи не разграничены с вольфианскими, Эйлер идет двумя путями: первый — это путь обычного теис-та-агностика: «...Без сомнения, — пишет он, — тела не Монадами созданы; когда я вопрошаю, для чего какая-нибудь вещь бытия имеет, то не нахожу другого ответа, кроме сего, потому что Создатель дал ей бытие; а что до способа, какое самое сотворение в действо произведено, то думаю, что в том философы чистосердечно должны признать свое неведение» [Там же. С. 226]. Такие, с позволения сказать, «аргументы» отнюдь не возвышали Эйлера над Лейбницем и Вольфом.
Другой путь Эйлера в критике монадологии — путь философа и ученого-математика, оперирующего логическими и математическими аргументами. Тезис о том, что тела состоят из монад, Эйлер оспаривает путем отождествления монады, не имеющей протяжения, с геометрической точкой. «Но известно, что множество точек Геометрических, сколь ни велико бы число их взять было, никогда не могут произвесть линию, еще меньше поверхность или тело» [Там же. С. 228]. При этом Эйлер знает, что «монадисты» отвергают отождествление монады с точкой, считая, что они одарены качествами, например, они воображают себе весь мир посредством понятий, но весьма темных, и что эти качества могут произвести явление протяжения или, лучше сказать, как бы протяжения.
Но главным аргументом против учения о монадах Эйлер избрал проблему бесконечной делимости тел на части, сформулировав дилемму: «Надлежит или бесконечное тел деление на части признать, или принять систему Монад со всеми нелепостями от оной истекающими» [Там же. С. 241].
Признавая «величайшие распри» между философами, признающими делимость бесконечной, не имеющей предела, и монадистами, признающими предел делимости, а именно монады, а делимость же без конца — выдумкой геометров, Эйлер выдвигает «наисправедливейший Силлогизм»: «...Когда все тела суть протяженны, то все свойства, протяжению приличные, должны приличествовать каждому телу особливо. Но понеже все тела суть протяженны и протяжение делимо есть бесконечно, то и каждое тело будет делимо бесконечно» [Там же. С. 213]. Итак, бесконечная делимость обосновывается Эйлером посредством аргумента о протяженности, как свойстве всех тел.
Защитники же монад, по Эйлеру, утверждают, что тела не протяженны, а имеют только вид протяжения, они как бы протяженны; а потому, мол, тела не делятся бесконечно. «Но ежели тела не суть протяженны, — ловит Эйлер монадистов на слове, — то я бы желал знать, откуда мы почерпнули понятие о протяжении», — и заключает: «Ежели тела суть не протяженны, то нет ничего на свете, что было бы протяженно, потому что духам еще меньше того прилично быть протяженными. По сему понятие наше о протяжении было бы мысленное и совсем нелепое» [Там же. С. 213].
Временами же Эйлер не удерживался в рамках теоретического спора и, как говорится, переходил на личности: «...Думать, что разделивши тело на великое множество частей, наконец должно дойти до толь малых, что более для малости своей будут неделимы, есть так же знак скудоумия» [Там же. С. 218].
Рациональным же аргументом выступает у него тезис: из не имеющих протяжения монад невозможно составить какую-либо величину, произвести что-либо протяженное. «...Положим, — рассуждает Эйлер, — что дойдено до толь малых частиц, что по существу своему более делимы быть не могут, т. е. дойдено будет до Монад. Прежде, нежели достигнем сего предела, будем иметь частицу, состоящую только из двух Монад; сия частица будет иметь некоторую величину или протяжение, потому что без того невозможно было бы разделить оную на две Монады. Положим еще, что сия частица, понеже имеет еще некоторое протяжение, есть тысящная часть дюйма, или еще меньше, ежели угодно; ибо что много говорено будет о тысящной части дюйма, тоже самое можно сказать о всякой другой ее меньшей. По сему сия тысящная частица состоит из двух Монад; и следовательно две Монады, вместе взятые, составили бы тысящную часть дюйма, а две тысячи раз ничего целый дюйм; сицевая нелепость тотчас уму нашему представляется» [Там же. С. 218]. «Монадисты», считает Эйлер, не знают, как ответить на вопрос: «Сколько надобно Монад, чтоб составили протяжение»; «Им кажется, что двух было бы мало, и только говорят, что надобно немалое число» [Там же. С. 218—219]. А Эйлер «знает»: «...Ежели две Монады не могут произвесть протяжение, потому что каждая из них не имеет оного, то по той же причине ни три, ни четыре, ни сколько угодно не могли бы произвесть протяжения». И делается победоносный вывод: «...Чем вся Система Монад до основания ниспровергается» [Там же. С. 219].
Критику общих основ монадологии Эйлер детализирует путем анализа природы «духов» и души. «По мнению Вольфову, — пишет он маркграфине, — не только все тела состоят из Монад, но каждый дух не иное что есть как Монада; и самое всевышнее сущее, чего я и сказать почти не смею, есть также подобная Монада» [Там же. С. 51]. И подробно объясняет, почему это не так, высказывая свои представления о природе и свойствах «духов» и «души».
Если протяжение, «грубость» и непроницаемость — свойства тел, то духи лишены этих свойств. Что касается протяжения, то все философы согласны в том, что оно не может иметь места в духе; все, что есть протяжение, можно делить на части, или можно вообразить такое деление; дух, напротив, не может быть делим на части; всякий дух есть целое существо, исключающее всякого рода части; казалось бы, что духи поскольку они не имеют величины, подобны геометрическим точкам, схоластические философы так думали и воображали духов существами безмерно малыми, существами, подобными тончайшим пылинкам, но одаренными непостижимою живностию и поворотливостию. По причине такой безмерной малости, схоласты утверждали, что миллион духов может поместиться в малейшем пространстве и предлагали вопрос: «сколько духов могут скакать на игольном острие?» [Там же. С. 50].
«Последователи вольфовы, — продолжает Эйлер, — того же почти держатся мнения. По их умствованию все тела состоят из малейших частиц, не имущих никакой величины, и называют их Монадами, так что Монада есть существо, не имущее никакого протяжения, или ежели продолжаемо будет деление в теле до тех пор, пока не дойдено будет до частиц дальнейшего деления не приемлющих, то будет достигнуто будет до вольфовых Монад, которые от малейших пылинок тех тем только разнствуют, что пылинки может быть не так малы и что надобно их делить далее, чтоб произошли истинные Монады» [Там же. С. 51].
В противовес вольфианцам Эйлер предлагает свое представление. Дух есть существо, совсем отличное от тела; он не имеет величины, он не может быть точкою; дух не есть монада или частица; нелеп вопрос, «где дух вмещается», т. е. у него нет места: душа моя ни в голове, ни вне головы, ни в каком-либо другом месте, но из этого не следует, что ее совсем нет; дух имеет бытие, не сопряженное с каким-нибудь местом; душа только действует в некотором месте [см.: Там же. С. 53].
Есть у Эйлера и эмоциональные рассуждения на эту тему: «Я не могу себе представить, чтоб душа моя была существо, подобная последним тела частицам, или чтоб она не что иное что была, как точка и еще того страннее мне кажется, чтоб множество душ, вместе взятых и сложенных могли составить тело, например, клочок бумаги, которою можно раскурить трубку табаку» [Там же. С. 51].
По Эйлеру, только душа, которая есть дух, обладает способностью мыслить. Он отвергает точку зрения, согласно которой Бог влил в материю способность мыслить. В «Философических письмах» Эйлера есть прямая критика «ложного мнения» «материалистов, утверждающих, что дух ничто иное есть как некоторое смешение материи» [Там же. T. 1. С. 37]: «Иные и то себе воображали, что материя может быть так расположена, чтоб имела способность мыслить или думать. Отсюда произошли филозофы, Материалисты называемые, кои утверждают, что души наши и вообще все духи состоят из материи; или, лучше сказать, отрицают бытие душ и духов» [Там же. Т. 2. С. 2]. По Эйлеру же, нет ничего страннее, как утверждать, что материя может мыслить. Мыслить, рассуждать, умствовать, чувствовать и хотеть — это качества, которые несовместимы с природой тел. Этими качествами обладают «души и духи, а существо, в высочайшей степени оными обладающее, есть Бог» [Там же. С. 2].
Поскольку вольфианцы не признавали «бесконечную разность между телами и духом», их Эйлер фактически обвинял в материализме; они-де хотели «элементы материи ввести в класс, заключающий в себе дух и души» [Там же.
С. 306].
Вольфовых последователей Эйлер критиковал также и за то, что они отрицали возможность действия духов, или невещественных существ, на тела. В таком случае, иронизировал он, по их мнению, и самый Бог, будучи духом, не имел бы силы и власти действовать на тела, на что приходящие в замешательство вольфианцы не давали-де ничего, кроме слабого ответа, согласно которому Бог по причине своей бесконечности может действовать на тела. Эйлер же убежден, что не только Бог, но и души человеческие могут действовать на тела: «Над членами моими я такую власть имею, что действую ими по своей воле» [Там же. T. 1. С. 317]. То же «можно сказать и о скотах; справедливо смеются мнению Декартову, который утверждал, что все скоты не иное что суть как машины, часам подобные, лишенные чувств, а вольфианцы из самого человека делают не сложную машину» [Там же. С. 317].
Пространно рассуждая на тему, «что есть дух», Эйлер не скрывал порой своих сомнений в возможности ответить на этот вопрос: «В рассуждении сего я предпочитаю признаться в незнании и ответствовать, что не можно сказать, что есть дух; потому что о естестве духов мы ничего утвердить не можем» [Там же. С. 3]. Но после этих признаний он снова и снова брался излагать, что «известно» по этому вопросу: «Итак, известно, что в мире есть два рода существ: один суть телесные или вещественные, и другие невещественные, или духи, от первых совсем отменные»; «между тем сии два рода существ сопряжены между собой весьма тесным союзом, и от сего союза особливо зависят все удивительные узорчатости мира сего, которые в восхищение приводят разумные существа и побуждают прославить Создателя» [Там же. Т. 2. С. 4]. Более того, по Эйлеру, «нет никакого сомнения, чтоб духи не составляли главную часть мира и тела и не поставлены были единственно для их услужения» [Там же. С. 4]. Но тут же заявляет, в духе традиционного христианского агностицизма: «Сие сопряжение души с телом есть и пребудет во веки тайна всемогущества Божия, которой мы никогда постигнуть не можем» [Там же. С. 5].
В монадологии одним из важнейших был вопрос о природе движения тел. К нему Эйлер в своих письмах обращался неоднократно.
За основу он взял «твердый закон», согласно которому «всякое тело, когда ему сообщено будет движение, продолжает оное в одну сторону, и с одною и тою же скоростью, покамест какая-нибудь внешняя сила не понудит переменить оного» [Там же. T. 1. С>292]. Этот закон Эйлер даже назвал «нашим».
Оказывается, «две секты философов» стараются опровергнуть этот закон, причем, не без иронии замечает чувствующий здесь свою силу физик, «такие философы, которые в науке о движении никогда знатных успехов не показывали» [Там же].
Представители первой секты говорят, что все тела имеют природную склонность к покою, что покой есть естественное, а движение принужденное их состояние, что, когда какому-нибудь телу сообщено движение, то оно, по своей природе, склоняется к покою, само собою стремится остановить движение, не будучи понуждаемо никакой внешней силою.
Во вторую же секту входят «славные вольфианские филозофы», и поэтому эта «другая часть соперников больше опасна» [Там же. С. 294]. Вольфианцы «прямо не вооружаются против нашего закона, и оказывают еще к нему почтение, но предлагают другие законы, совсем нашему противные» [Там же. С. 294— 295]. Эти «славные филозофы» утверждают, что каждое тело по естеству своему силится беспрестанно переменить свое состояние: т. е. «когда оно в покое, то силится, чтоб притти в движение, а когда движется, то беспрестанно стремится переменить скорость и сторону, в которую движется» [Там же. С. 295].
В одном из философских писем Эйлер попытался изложить «основание системы монад», выделив восемь принципов, как о них «умствовал Вольф». Он (по Эйлеру) говорил: «1) опыты нам показывают, что все тела беспрестанно переменяют свое состояние; 2) но все, что может переменить состояние тела, называется силою; 3) следовательно, все тела одарены силою переменять свое состояние; 4) следовательно, всякое тело беспрестанно силится переменить свое состояние; 5) но как сия сила по толику телам приличествует, поелику они состоят из материи; 6) следовательно, переменять свое состояние есть свойство материи; 7) но как материя состоит из множества частиц, которые называются элементами материи; 8) следовательно, каждая частица должна быть одарена силою переменять свое состояние. Сии элементы суть невещественные, ибо ежели бы они сложены были из частей, то бы не были еще элементы; такие элементы называются также монадами: следовательно, всякая монада имеет силу переменять свое состояние. Вот основание системы о монадах...» [Там же.
С. 305].
Легко заметить, что в этом изложении «основания системы монад» Эйлер особо выделяет проблему движения. А в этой сфере Эйлер чувствовал себя неопровержимым. И возмущался, что к подтверждению своего мнения о движении вольфианцы «ничего не приводят, кроме пустого умствования, взятого из своей Метафизики...» [Там же. С. 295]. Эйлер же противопоставляет им не только «закон нами восставленный», но и «самые опыты» [Там же]. Тело, покоящееся по своей природе, пребывает в этом состоянии, и поэтому «без сомнения ложно», чтоб оно по своей природе стремилось бы переменить свое состояние [Там же]. А движущееся тело по природе своей сохраняет движение в ту же сторону и с той же скоростью, и не может, по природе же своей, стараться переменить свое движение [Там же. С. 293].
Признав мнения вольфианцев о движении нелепыми, противоречивыми, «ниспровергающими» систему их философии, Эйлер вновь возвращается к формулировке закона, который называет «наш закон»: «Остается неоспоримо, что закон наш основан наикрепчайшим образом на самом естестве тел, и все, что ему противно, должно быть исключено из Филозофии; сей самый закон в состояние нас приводит очистить Филозофию от множества обманчивостей. Он изображается двумя предложениями, из которых одно гласит, что тело покоящееся пребывает во веки в покое, разве какая-нибудь внешняя притчина сообщит ему движение; а другое, что тело, раз приведено будучи в движение, будет во веки оное сохранять, не переменяя ни стороны, в которую движется, ни скорости, или двигаться будет равномерно по прямой линии, разве какая-нибудь внешняя или посторонняя сила переменит движение его» [Там же. С. 296]. На этих двух положениях, по Эйлеру, основывается наука о движении, т. е. механика.
Но, как и в других случаях, эти положения распространялись только на сферу философии и не давали окончательного ответа на все вопросы «науки о движении». Вне компетенции философии Эйлер оставлял вопрос о начале движения: «...Смешно было бы спрашивать, кто при начале мира сообщил телам движение? Те, кои вопрос сей предлагают, тем самым, что предлагают, признают начало, и следовательно сотворение. Я, с моей стороны, их вопрошаю: думают ли они, что удобнее создать тело покоящееся, нежели движущееся? Одно и другое требует равно всемогущества божия, и вопрос сей в философии уже не вместен» [Там же. С. 301].
Отдельную группу вопросов полемики Эйлера против лейбнице-вольфов-ской философии образует тема теодицеи и концепция предустановленной гармонии, а в ее рамках — проблема свободы воли. В этой теме также необходимо было разграничивать взгляды Лейбница и Вольфа. Ведь Вольф теорию предустановленной гармонии в толковании Лейбница не принял, ограничив ее идеей предустановленной гармонии души и тела. Но, видимо, этого Эйлеру показалось достаточно, чтобы подверстать и Лейбница, и Вольфа под одну схему.
Прямо называя Вольфа по имени, Эйлер заявляет, что его соперники справедливо говорят, что его системой «испровергается все нравоучение и всех злых дел виною будет бог, что думать без сомнения было бы нечестиво» [Там же. С. 19]. Высказав свой взгляд на теодицею, Эйлер, правда, признал, что приписывать сторонникам Вольфа нечестивых мнений «не должно», «хотя они следуют из их системы».
Как представляет себе Эйлер, «систему Предопределенного согласия» (т. е. предустановленной гармонии), которой, по его словам, Лейбниц сменил систему случайных причин Декарта?
По этой системе, «душа и тело — это два существа, не связанные союзом и одно на другое никакого действия не имеющие. Душа есть дух, который по своей природе развертывает все понятия и действия без малейшего участия тела. Тело есть наиискуснейшим образом устроенная машина, она, наподобие часов, также производит все движения без малейшего участия души». Бог, изначально предвидя все намерения души, так устроил машину, составляющую тело, что движения ее в каждый момент согласуются с действиями души. Если я поднимаю руку, поясняет Эйлер, то «Лейбниц говорит, что бог, предвидя, что душа пожелает поднять руку, так расположил сию машину, что по свойственному ее сложению рука моя неотменно в то самое время поднимется» [Там же.
Т. 2. С. 12].
Эйлер признает правомерным аргумент против «системы предопределенного согласия», а именно тезис о том, что по этой системе человек совсем лишается воли. И хотя признается, что «вопрос о свободе воли есть камень претыкания в филозофии, который изъяснить весьма трудно», наш критик Лейбница и Вольфа берется его «изъяснить».
По системе предустановленной гармонии человеческие тела подобны часовому механизму, так что все действия их должны быть непременным следствием их строения. «Так, когда вор крадет у меня кошелек с деньгами, движение, которое он делает руками, есть непременное действие, равно как движение на часах стрелки, показывающей теперь девять часов». Отсюда можно заключить, «что не только странно было бы, но и смешно сердиться на часы и наказывать, что они теперь показывают девять часов, равным образом несправедливо бы было, ежели бы вора за то, что он украл у меня кошелек с деньгами, наказанию подвергнуть хотели» [Там же. С. 17]. Эйлер фактически повторяет аргумент шута прусского короля Фридриха — Вильгельма Гундлинга, истолковавшего концепцию предустановленной гармонии, как отрицание свободы воли человека [см.: 79. С. 195]. Но здесь же, правда, Эйлер приводит и контраргументы сторонников Вольфа, которые после высылки его из Галле «роптали» против этого акта и утверждали, что предустановленная гармония совсем не отнимает воли у человека.
Наибольшая трудность в вопросе о воле, по Эйлеру, связана с тем, что воль-фианцы не делают достаточного различия между природой тел и духов: «Вольфи-анцы так далеко поступают, что духи в один род с элементами тел причисляют, и как те, так и другие называют Монадами, коих естество, по мнению их, состоит в силе переменять свое состояние; откуда происходят все в телах перемены и в духах все воображения и деяния» [78. Т. 2. С. 20]. Что касается тел, рассуждает Эйлер, то смешно было бы приписывать им хотя бы тень воли; воля предполагает «власть» начать, продолжать и остановить какое-нибудь действие, что не свойственно тому, что совершается в теле. Все перемены, случающиеся в телах, относящиеся к их покою или движению, суть непременные следствия действующих на них сил; и, следовательно, все, что касается тел, не достойно ни похвалы, ни осуждения. В отличие от тел, духи совсем другого свойства, и их действия зависят совсем от других причин. Если воля исключается из природы тел, то, напротив, дух без воли быть не может и потому должен отвечать за свои действия. Воля влечет за собой возможность грешить; когда Бог ввел в мир духи, то поэтому возникла и возможность греха. «Вопрос, каким образом бог мог попустить грех в мире издревле филозофам и богословам делал великое затруднение. Но ежели бы они помыслили, что души человеческие суть существа неотменно по естеству своему вольные, то бы они не нашли в сем столько затруднений» [Там же. С. 22].
* * *
Какие же выводы следуют из всего изложенного выше? Прежде всего, следует сказать о том, что вопрос об исторических судьбах вольфианства в России XVIII в. зависит от того, насколько адекватно мы представляем себе общий характер философии в России этого столетия.
Россия XVIII в. — страна с самодержавным политическим строем и православием в качестве официальной государственной религии. Никакое практическое, а тем более идейное заимствование извне, даже в эпоху реформ Петра I, было невозможно без решения вопроса, насколько это заимствование согласуется с принципами самодержавия и православия. Подобно тому как посланцы Петра I, изучая политико-юридическую теорию и практику Западной Европы, выбирали то, что «приличествует токмо самодержавию, а не так, как республикам и парламенту», так и любые заимствования из западной философии тщательно взвешивались на весах православной религии. И уже по одной этой причине было невозможно, чтобы в XVIII в. вольфианство могло стать господствующей и официальной философией, как еще сравнительно недавно пытались доказать некоторые отечественные историки философии. Парадоксально, но факт: те, кто заявлял о господстве в русской философии XVIII в. вольфианско-го направления, затруднялись составить сколько-нибудь убедительный перечень «русских вольфианцев». Зачисление же в вольфианцы некоторых мыслителей, писавших на тему о бессмертии души (Золотницкого, Щербатова, Данилова и др.) неоправданно, ибо эти авторы не апеллировали к специфически вольфи-анской концепции бессмертия души с идеей души как простого существа, а потому неуничтожимого, в отличие от тела как существа сложного.
Неверна и давнишняя точка зрения, выдвинутая Никитенко, согласно которой все немногочисленные русские философские произведения XVIII в. представляют собой не что иное, как подражания или опровержения лейбнице-воль -фовской философии.
Встречающиеся до сих пор типологии философских течений в России XVIII в., выделяющие, например, в отдельные направления вольфианство, вольтерьянство и так называемое Просвещение, являются искусственными конструкциями. Философия в России XVIII в. была еще очень мало дифференцированной по направлениям. Если и наметилась дифференциация, то прежде всего в самом общем виде, по, если так можно выразиться, формально-организационному основанию. В известном обособлении друг от друга функционировали: 1) религиозная? философская мысль в духовно-академических учреждениях — Московской Славяно-греко-латинской и КиевотМогилянской академиях (ду -ховно*академическая философия), 2) светская университетская философия, возникшая с организацией при Академии наук Академического университета в Петербурге, а затем — с основанием Московского университета и других,светских учебных заведений, где преподавалась философия, и 3) «вольная», неака-деминеская философия, в которой различие философских тенденций шло главным образом по сословно-классовым, политико-идеологическим и ценностным ориентациям: становящиеся формы консерватизма (Щербатов, масоны); становящийся дворянский прогрессизм и либерализм (Козельский* Пнин и др.), становящаяся дворянская революционность (Радищев). Внутри каждого из этих направлений только намечалась еще дифференциация по собственно теоретически-онтологическим, гносеологическим и иным критериям.
Если давать, собственно теоретическую характеристику философским направлениям XVIII в., то необходимо в первую очередь отметить их, черту, которую можно определить разными, но однопорядковыми терминами: они имели, как правило, гетерогенный, амальгамный, синтетический, синкретический, разноосновный, эклектический характер, т. е. имели не один, а несколько теоретических источников.
Это было характерно не только для русской, но и для новоевропейской философии, некоторые из первых историков которой» выделяли направления: 1) гассендисты; 2) картезианцы; 3) ньютонианцы и 4) эклектики. В число последних включались, в частности, Лейбниц и Вольф, причем в понятие «эклектика» вкладывалось вполне позитивное содержание, ибо имелось в виду, что эклектики не следовали догматически какому-либо одному учению, а выбирали из философии своих предшественников, начиная с древних, все самое лучшее и создавали на их принципах свои концепции.
Когда некоторые историки замечали, например, эклектический характер университетских философских концепций XVIII в. (например, П. Н. Милюков), то они констатировали очень важную черту всей философии в России XVIII в., хотя неправомерно вкладывали в понятие «эклектический» только негативный смысл.
Если мы вполне осознаем гетерогенный, амальгамный, синтетический, синкретический, разноосновный, эклектический (в изначальном смысле слова) характер философских направлений в России XVIII в., то механизм рецепции вольфианства, включая как его восприятие, ассимиляцию, освоение, так и его отторжение, неприятие, критику, предстанет перед нами в его адекватной, всесторонней форме «российской вольфианы» в широком смысле этого слова.
Хотя мы не считаем правомерным выделение «вольфианства» в качестве отдельного направления в философии России XVIII в., а тем более в качестве господствующей, официальной философии, зато мы признаем огромное и в целом плодотворное его влияние на тогдашнюю русскую философию, едва выбравшуюся из своего очень-очень скромного философского средневековья.
Мы относим Вольфа к Предпросвещению, полагая, что классическим Просвещением является только французское Просвещение XVIII в. Как и Шпет, мы считаем Вольфа прежде всего выдающимся представителем классического рационализма эпохи классической метафизики. В России XVIII в. потребность рационализации общественного сознания, общественной и философской мысли была не меньшей, а даже большей, чем в Германии в эпоху господства схоластики и пиетизма. И вольфианский рационализм сыграл колоссальную позитивную роль в переходе русской философской мысли в стадию философии Нового времени.
Широкому распространению вольфианских идей в России предшествовал этап, когда профессиональная философия ориентировалась в основном на арис-тотелизм. Формально аристотелизм не является философией европейской, но фактически распространение аристотелизма в форме «второй схоластики» в Киево-Могилянской и Московской Славяно-греко-латинской академиях было первой формой европеизации русской философской мысли. Вольфианство, сохранявшее определенную преемственную связь с аристотелизмом, по крайней мере в логике, не могло поэтому быть чем-то совершенно не похожим на уже известное в России. Но, тем не менее, вольфианство сыграло огромную самостоятельную роль именно в европеизации русской философской мысли. После краткого философского средневековья тонкий слой русских интеллектуалов сразу вошел в атмосферу самой распространенной в Западной Европе докантовской эпохи философской системы.
Влияние вольфианства началось в России не с духовно-академической, а со светской философии, с преподавания натуральной философии по Вольфу в Академическом университете при Петербургской академии наук и лишь затем распространилось на духовно-академические школы.
Неверно, что влияние философии Вольфа совсем не простиралось в XVIII в. на общество, ограничивалось одними учебными заведениями. Во внеакадемической философии работал Я. Козельский, влияние вольфианских идей заметно на Болотове, Сумарокове, Княжнине, Щербатове и других неакадемических деятелях.
Вольфианство распространялось в России не как некая официальная, государственная философия. Если бы она была таковой, то переводили бы основные философские труды Вольфа. На самом деле вольфианство получило распространение в первую очередь как научное направление и как предмет преподавания, как дидактическая философская дисциплина. И именно поэтому вначале перевели физико-математические сочинения Вольфа, а затем, в качестве учебных пособий, переводились главным образом книги Баумейстера. Основные философские труды Вольфа, принятые в качестве учебных пособий в протестантских университетах Германии, не могли быть допущены в России для широкого хождения, а тем более для переводов. Переведенные собственно научные труды Вольфа представлялись идеологически малоопасными, но практически полезными.
По практически-дидактическим соображениям, компактные и идеологически более «причесанные» труды Баумейстера и Винклера лучше подходили к роли учебных пособий, чем оригинальные многочисленные и толстенные труды самого Вольфа. Книги Баумейстера были учебными пособиями, но не все содержание их считалось «обязательным». В университетских курсах вольфианские идеи одобрялись лишь постольку, поскольку они не противоречили открыто учению православной церкви и идеологии самодержавия. По трудам Аничкова, Поповского, Барсова, Брянцева, других университетских профессоров видно, что они, принимая некоторые вольфианские идеи, отвергая другие, в целом вольфи-анцами по принципам философии не были.
Нужно не забывать также, что философия в России XVIII в. преподавалась не как наука, указывающая путь к истине, а как дисциплина, тренирующая ум, информирующая учащихся о различных мнениях относительно мира и его познания. Но при этом имелось в виду, что философских мнений много, а истина — одна: она содержится-де в Писании.
Вольфианская философия оказала большое влияние на русскую также в том смысле, что способствовала ее формированию как науки. Формы философствования были различными с древнейших времен и в Западной Европе и в России. Еще Феофан Прокопович считал, что «великий светоч ума человеческого — философия — либо рождена, либо вскормлена поэзией»; а В. К. Тредиаков-ский призывал «философствовать стихами»; Г. Р. Державин написал вполне философическую оду «Бог». Но возможность и даже необходимость существования разных, в том числе поэтических, религиозных и иных форм философствования отнюдь не означает, что главным, основным не стало, начиная с Нового времени, философствование в научных формах. А именно такую форму философствования Вольф широко распространил и в Западной Европе и в России.
Непреходящим является значение вольфианской логики и психологии для сохранения и развития философской традиции в России даже в XIX в. Ведь вольфианская логика — это не только аристотелевская формальная логика, силлогистика. В нее входили темы, которые затем отошли к теории познания. В вольфианской психологии также наличествовали гносеологические проблемы. И, когда в 1850 г. преподавание философии в университетах России было ограничено логикой и психологией, вольфианская традиция в этих дисциплинах позволяла хоть в какой-то степени сохранить в университетском преподавании фундаментальную для всякой серьезной философии гносеологическую проблематику.
В целом «российская вольфиана» представляет собой очень значительную и интересную страницу философии в России.
ЛИТЕРАТУРА
1. Гогоукий С. С. Философский лексикон. T. 1. Киев, 1857.
2. Des Champs J. Cours abrégé de la philosophie Wolffienne, en forme de lettres. T. 1—3. Amsterdam; Leipzig, 1743—47.
3. Эйлер Л. Письма о разных физических и филозофических материях. Ч. 1— 3. СПб., 1768—1774.
4. Formey /. et Chambner. La belle Wolffienne. T. 1—4. La Haye, 1760.
5. Галич А. И. История философских систем, по иностранным руководствам.
Кн. 2. СПб., 1819.
6. Надёжин Ф. Очерк истории философии по Рейнгольду. СПб., 1837.
7. Allgemeines« Handwörterbuch der philosophischen Wissenschaften,nebst ihrer Literatur und Geschichte. Bd. I—V. Leipzig, 1827 (Krug’s encyklopädisch-philosophi-sches Lexikon). Bd. III. S. 306—307; Bd. V. S. 328—329.
8. Энциклопедический лексикон А. А. Плюшара. Т. И. СПб., 1838.
9. Арх. Гавриил (Воскресенский В. Н.). История философии. T. IV, VI. Казань, 1839.
10. Blakey R. History of the Philosophy of mind: embracing the opinions of all Writers on mental science from earliest period to the present time. Vol. IV. London, 1850.
11. Чернышевский H. Г. Полн. собр. соч. T. 1 —16. M., 1939—1953.
12. Троицкий М. Немецкая философия в текущем столетии. Историческое и Критическое исследование, с предварительным очерком успехов психологии со времен Бэкона и Локка. СПб., 1807.
13. Гогоцкий С. С. Философия XVII и XVIII веков в сравнении с философиею XIX века и в отношении той и другой к образованию. Вып. 1. Киев, 1878.
14. Гогоцкий С. С. Критическое обозрение сочинения М. Троицкого «Немецкая философия в текущем столетии...», 2-е изд. Киев, 1877.
15. Никитенко А. В. Александр Иванович Галич, бывший профессор в С.-Петербургском университете. СПб., 1869.
16. Колубовский Я. Философия у русских / / Ибервег Ф., Гейнце М. История новой философии в сжатом виде. СПб., 1890.
17. Розанов В. Заметки о важнейших течениях русской философской мысли в связи с нашей переводной литературой по философии / / Вопросы философии и психологии. 1890. Кн. 3.
18. Введенский А. Философские очерки. СПб., 1901.
19. Герье В. И. Лейбниц и его время. T. 1—2. СПб., 1868—75; Сперанский Н. Учение Лейбница и Локка о врожденных идеях / / Моск. унив. изд. 1872. № 2, 3; Филиппов М. М. Лейбниц, его жизнь и философская деятельность. СПб., 1893; Серебренников В. С. Лейбниц и его учение о душе человека. СПб., 1908; Каринский В. Умозрительное знание в философской системе Лейбница. СПб., 1912; Ягодинский И. И. Философия Лейбница. Казань, 1914.
20. Порфирьев И. История русской словесности. Ч. II. Отд. II. СПб., 1888.
21. Бобров Е. А. Философия в России. Вып. 1—6. Казань, 1899—1902.
22. Милюков П. Очерки по истории русской культуры. Ч. 3. Вып. 2. СПб., 1903.
23. Тукалевский. Из истории философских направлений в русском обществе XVIII века // ЖМНП. 1911. Ч. 33. Май.
24. Тукалевский. Главные черты миросозерцания Ломоносова (Лейбниц и Ломоносов) // Сб. статей, посвященных Ломоносову / Под ред. Сиповского. СПб.,
1911.
25. Безобразова М. В. Философ XVIII в. Григорий Теплов // Безобразова М. В. Исследования, лекции, мелочи. СПб., 1914.
26. «Энциклопедический словарь» братьев Гранат: В 58 т. 7-е изд. М., 1910— 1948.
27. Шпет Г. Г. История как проблема логики. М., 1916.
28. Фуллье А. История философии. М., 1894.
29. Вебер А. История европейской философии. Киев, 1882.
30. Бауэр В. История философии в общепонятном изложении для образованной публики и для учащихся. СПб., 1866.
31. Ланге Ф. История материализма и критика его значения в настоящее время.
Т. 1—2. СПб., 1881—1883.
32. Швеглер А. История философии. М., 1864.
33. Фишер К. История новой философии. T. III. СПб., 1863.
34. Ибервег Ф., Гейнце М. История новой философии в сжатом виде. СПб., 1890. 33. Виндельбанд В. История новой философии. СПб., 1908.
36. Фалькенберг Р. Ф. История новой философии. СПб., 1910.
37. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. М., 1935—1977. T. 1—2, 13—14, 20, 40, 41.
38. Плеханов Г. В. Сочинения. T. 1—24. М., 1923—1927. Т. 22.
39. Ленин В. И. Поли. собр. соч. М., 1958—1965.
40. Гегель. Сочинения. T. VI. М., 1939.
41. Радлов Э. Очерк истории русской философии. 2-е изд. Пг., 1920.
42. Радлов Э. Очерк русской философской литературы XVIII века // Мысль. 1922. №2.
43. Шпет Г. Г. Сочинения. М., 1989.
44. Луппол И. Трагедия русского материализма XVIII в. (к 175-летию со дня рождения Радищева) // ПЗМ. 1924. № 6—7.
45. Варьяш А. И. История новой философии. T. 1—2. М.; Л., 1926.
46. Малая Советская Энциклопедия. Т. 2. М., 1929.
47. Большая Советская Энциклопедия. Т. 13. М., 1929.
48. История философии. T. 1—3. М., 1941—1943.
49. Коган Ю. Я. Русский мыслитель XVIII века Я. П. Козельский (канд. дис.). М., 1946.
50. Ананьев Б. Г. Очерки истории русской психологии XVIII и XIX веков. М., 1947.
51. Бак И. Я. П. Козельский (философские, общественно-политические и экономические воззрения) // Вопросы истории. 1947. № 1.
52. Большая Советская Энциклопедия. 2-е изд. Т. 9. М., 1951.
53. Зеньковский В. История русской философии. T. 1—2. Париж, 1948.
54. Щипаное И. Я. 1) Общественно-политические и философские воззрения русских просветителей второй половины XVIII века. T. 1—3. М., 1953 (докт. дис.); 2) Идеалистическая и религиозно-мистическая философия второй половины XVIII в. // История философии в СССР. Т. 2. М., 1968; 3) Философия русского Просвещения. М., 1971.
55. Баскин М. П. Философия немецкого Просвещения. М., 1954.
56. Дмитриченко В. С. Общественно-политические и философские взгляды Я. П. Козельского (канд. дис.). Киев, 1955.
57. Очерки по истории философской и общественно-политической мысли народов
СССР. T. 1. М., 1955.
58. Демичев В. А. Философские, социологические и общественно-политические взгляды Я. П. Козельского (канд. дис.). Л., 1959.
59. Галактионов А. А., Никандров П. Ф. История русской философии. М., 1961.
60. Галактионов А. А., Никандров П. Ф. Русская философия IX—XIX вв. 2-е изд., испр. и доп. Л., 1989.
61. Зырянов Н. А. Мировоззрение Д. С. Аничкова (канд. дис.). М., 1962.
62. Петров Л. А. Первые аристотелики и вольфианцы в России // Труды Иркутского гос. ун-та им. Жданова. T. VI—XI. Сер. филос. Вып. 5. Иркутск, 1967.
63. Курдюков В. Е. Особенности развития русской философской мысли последней трети XVIII века. Куйбышев, 1968.
64. Философская энциклопедия. T. 1. М., 1960.
65. Асмус В. Ф. Немецкая эстетика XVIII в. М., 1962.
66. Деборин А. М. Христиан Вольф — популяризатор немецкого Просвещения // Деборин А. М. Социально-политическое учение Нового времени. М., 1967.
67. Pütz Р. Die deutsche Aufklärung. Darmstadt, 1978; Cerlach H.-M., Woll-gast S. Christian Wolff — ein hervorragentendeutscher Philosoph der Aufklärung / / Dt. Ztschr. Philos. 1979. H. 10; Christian Wolff als Philosoph der Aufklärung in Deutschland // Wiss. Beit. V.-Luther-Univ. Halle; Wittenberg, 1980. Bd. 37.
68. Зибен В. В. 1) О критиках «возрождения интереса к учению Христиана Вольфа в ФРГ / / Социальная детерминация философских концепций: социальная детерминация познания. Тарту, 1984 (Уч. зап. Тартуского ун-та / Тр. по философии. Вып. 693); 2) К вопросу о теоретических источниках философии Христиана Вольфа //Там же.
69. Философия эпохи ранних буржуазных революций. М., 1983.
69а. Кузнецов В. Н., Мейеровский Б. В., Грязнов А. В. Западноевропейская философия XVIII в. М., 1986.
70. Жучков В. А. Немецкая философия эпохи раннего Просвещения (конец XVII— первая четверть XVIII в.). М., 1989.
71. Артемьева Т. В., Микешин М. И. Христиан Вольф и русское вольфианство // Философские науки. 1990. № 1.
72. Артемьева Т. В. Введение к кн.: «Мысли о душе. Русская метафизика XVIII века». СПб., 1996.
73. Шкуринов П. С. Философия России XVIII века. М., 1992.
74. Шлейтере С. В. Философия Г. Н. Теплова (канд. дис.). М., 1996.
75. Аржанухин В. В. Вольфианство // Русская философия. Словарь. М., 1995.
76. Ломоносов М. В. Поли. собр. соч. T. 1—10. М.; Л., 1950—1959.
77. Ломоносов М. В. Поли. собр. соч. Академическое издание.
78. Эйлер Л. Письма о разных физических и филозофических материях. Ч. 1—
3. СПб., 1768—74.
79. Christian Wolffs eigene Lebensbeschreibung, herausgegeben von Heinrich Wuttke. Leipzig, 1841.
А. И. Абрамов
ХРИСТИАН ВОЛЬФ В РУССКОЙ ДУХОВНО-АКАДЕМИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ
Творец системы немецкого рационализма, при создании которой использовал идеи Аристотеля, стоиков и схоластиков. Преобразованную им теорию Лейбница превратил в господствующее философское учение своей эпохи; его ученики занимали кафедры философии почти во всех немецких университетах.
Philosophisches Wörterbuch begründet von Heinrich Schmidt Alfred Kroners Verlag. Stuttgart, 1957.
S. 126.
Тема «Христиан Вольф в русской духовно-академической философии» является составной частью темы «Роль и место немецкой философии в русском духовно-академическом философствовании», которая, в свою очередь, является составной частью темы «Немецкие связи и истоки русской философии». В своих самых общих определениях русское духовно-академическое философствование являет собой сложное и разветвленное культурно-историческое образование, развивавшееся в рамках православной конфессии и генетически восходящее к самым ранним этапам русской религиозно-философской культуры.
Реальным содержанием русского духовно-академического философствования являются философские курсы, написанные и читавшиеся в стенах русских духовных академий, сформированных на основании Устава духовных академий 1809 г., а также философское творчество профессоров и преподавателей этих академий, философские статьи в богословских журналах, издававшихся при этих же академиях. В начале XIX в. в России были сформированы четыре духовных академии — в Санкт-Петербурге, Москве, Киеве и Казани. Московская и Киевская академии имели в своем интеллектуально-педагогическом активе бо-189 лее чем вековую предысторию, восходящую ко второй половине XVII в. Именно в это время в пределах Московской Руси были сформированы два высших учебных заведения — Киево-Могилянская и Московская Славяно-греко-латинская академии, которые, в свою очередь, репрезентировали в себе философские традиции не только Московской, но и Киевской Руси. Таким образом, историки Московской и Киевской Духовных академий начинают свои исторические описания, как правило, не с 1814 и 1819 гг. — дат их формального образования, а со времени их реального структурирования в средневековой культуре Московской Руси XVII в.
С определенными оговорками и уточнениями по отношению к русской философии вообще и духовно-академической философии в частности можно утверждать мысль о том, что история русской философии есть история русского платонизма. Аналитическая историко-философская характеристика философской культуры русского средневековья свидетельствует о том, что, по крайней мере, к XVIII в. русское философствование в своих основных чертах и проявлениях было окрашено в устойчиво-платонические тона. Во второй половине XVIII в. в структуру духовно-академического философствования стали активно проникать те или иные идеи западноевропейской философии^ Основой же философских курсов Киево-Могилянской и Московской Славяно-греко-латинской академий был схоластизированный аристотелизм, который в рамках третьего латино-польского влияния восходил ко второй западноевропейской схоластике. Постепенно в среде Киевской и Московской академий стал формироваться интерес к картезианской философии, что нашло свое отражение в философских курсах таких профессоров Киево-Могилянской академии, как Амвросий Дуб-невич и Георгий Щербацкий. Гораздо более значительную роль в философском образовании и философских штудиях сыграла вольфианская философия. Книги Иоанна Христиана Вольфа и его многочисленных последователей и учеников (более подробно о них мы расскажем ниже), переведенные на русский язык, были очень популярными учебными пособиями по философии почти до начала XIX в.
Нет никаких сомнений в том, что русская духовно-академическая философия является важной и содержательной частью русской философии вообще. И все же она содержит в себе целый ряд специфических особенностей, связанных, с одной стороны, с ее корпоративностью и конфессиональной принадлежностью, а с другой стороны, с конкретными историческими особенностями ее формирования, с глубочайшими истоками и корнями ее бытия.
О двух культурно-теоретических составляющих русского духовно-академического философствования писал в своей «Истории русской философии» В. В. Зеньковский. Глава VII первого тома называлась «Философское движение в высших духовных школах в первой половине XIX в.» и содержала следующее историко-философское обобщение: «Действительно, и, в Киеве, и в Москве в Духовных академиях создается своя философская традиция, очень близкая по существу к тому, чем вдохновлялась философия в Западной Европе в средние века. С одной стороны, православная догматика, святоотческая литература определяли основные грани и пути размышлений, с другой стороны,
богатая философская литература Западной Европы создавала возможность выбора между теми или иными философскими направлениями при построении «христианской философии» \
Была еще одна мощная культурно-историческая составляющая русского духовно-академического философствования, на которую В. В. Зеньковский не обратил особенного целеустремленного внимания. Итак, первым основанием духовно-академического философствования являлся христианизированный платонизм, который еще задолго до возникновения русских Духовных академий стал генерализирующим принципом формирующейся русской философской традиции в общих рамках такого культурно-исторического образования, как славиа-схоластика. Основными историческими этапами этой традиции были: неоплатонизирующий аристотелизм первого болгарского влияния; христианизированный неоплатонизм второго болгарского влияния; схоластизированный аристотелизм третьего латино-польского влияния. Даже в культурно-исторических условиях и рамках последнего влияния интерес и внимание к платонизму, особенно в его христианизированных неоплатонических формах, не только не утрачивался, но и постоянно возрастал. К началу XIX в. этот интерес настолько возрос, что стал прямо и непосредственно связываться с судьбой русского православия. В официальных и церковных кругах складывалось устойчивое убеждение в том, что «католическое богословие насквозь проникнуто тенденциями аристотелевской философии». Подобная точка зрения с неизбежностью приводила к постановке следующего вопроса: «Не таит ли в себе и православное богословие... каких-либо таких философских тенденций, которыми заранее предрешались бы характер и направление религиозно-философского умозрения, желающего не нарушить интересов православия»?2
Вторым основанием русского духовно-академического философствования было его отношение к святоотческому наследию, которое, в свою очередь, было связано или с высокой или с отрицательной оценкой античной философской культуры. Для русской философской культуры, которая не имела своей античности, патристика приобрела исключительно важное значение, как почти единственный устойчивый источник знаний об античной философии. В русских духовных академиях глубочайшее значение патристики осознавалось на очень высоком уровне, что нашло:свое отражение в огромном числе публикаций святоотческих текстов в духовно-академических журналах, которые издавались при всех русских академиях.
Третьим основанием русского духовно-академического философствования были различные формы западноевропейской философии. Официальное учреждение духовных академий совпало по времени с активным распространением философского учения Шеллинга в 10—20-е гг. XIX в.; в 30—40-е гг. наступил период свррхпопулярности русского «гегелизма»», большой интерес в научной духовно-академической среде был также и к философии Иммануила Канта 3. Интерес к различным течениям и направлениям западноевропейской философии среди различных представителей русской духовно-академической философии проявился также в написании магистерских и докторских диссертаций, книг и многочисленных статей в светских и духовно-академических жур-
налах; во включении тех или иных западноевропейских философских идей, тем и проблем во внутреннюю структуру собственного оригинального философствования. В определенной мере, с более или менее достаточной полнотой весь этот широчайший круг историко-философских проблем исследован нами и освещен в соответственных разделах таких публикаций, как «Кант и философия в России», «Философия Шеллинга в России», «Философия Фихте в России», а также в подготовляемом исследовании «Платон и философия в России».
Тема «Христиан Вольф в русской духовно-академической философии» предоставляет широкие возможности для углубленного историко-философского анализа восприятия и усвоения вольфианской философии в самом начале XIX в. при официальном возникновении самой учебной структуры духовных академий, а также их предшественниц — Киево-Могилянской и Московской Славяногреко-латинской академий. Уже одна только лишь постановка нашей темы порождает широчайший круг историко-философских проблем; общая аналитическая характеристика содержания и уровня философии, изучаемой и пропагандируемой в стенах Киево-Могилянской и Славяно-греко-латинской академий; была ли эта философия, в той или иной мере, органично сопряженной с новыми философскими установками системы Вольфа или духовным образованием, резко отличным и не приемлющим философские веяния XVIII в.; в какой мере сам Хр. Вольф в своем философском учении был связан с историческим прошлым западноевропейского философствования; был ли сам Хр. Вольф в своем историческом бытии в русском философствовании воспринят достаточно органично и во всей полноте; в какой мере ученики и последователи философской системы Хр. Вольфа, репрезентировавшие его в структуре русского духовноакадемического образования, полно, точно и неискаженно излагали философские идеи своего метра; каким образом те или иные представители русского духовно-академического философствования, сами уже не соприкасающиеся с вольфианской философией и ставшие шеллингианцами, гегельянцами или последователями установок Беме, Баадера, характеризуют и оценивают самого Хр. Вольфа и его философскую систему.
В значительной степени общее исследовательское поле нашей темы «Христиан Вольф и русская духовно-академическая философия» подвергается сужению и сокращению из-за того, что срабатывает еще одна особенность и характерная черта русского духовно-академического философствования, а именно — его сращенность с университетской философией. Очень многие выпускники русских академий XVII в., изучавших и штудировавших философские сочинения Хр. Вольфа, стали профессорами Московского Императорского университета, и их философское творчество формально рассматривается уже в рамках русской университетской философии. В общий ряд подобных выпускников вполне вписываются такие деятели русской культуры, как H. Н. Поповский, Я. П. Козельский, С. Е. Десницкий, А. А. Барсов, Д. С. Аничков, А. М. Брянцев и др.
Среди выпускников Московской Славяно-греко-латинской академии был и М. В. Ломоносов, который изучал философию в Марбурге у самого Хр. Вольфа, а уже в России опубликовал книгу с таким замечательным для нашей темы
названием: «Вольфианская експериментальная Физика с немецкого подлинника на латинском языке сокращенная. С которого на российский язык перевел Михайло Ломоносов Императорской Академии Наук Член и Химии Профессор. В СПб., при Императорской Академии наук 1746». Очень интересно, любопытно и философски значимо было «Предисловие», которое русский ученый предпослал «Вольфианской експериментальной Физике». По сути, это был своеобразный анализ и характеристика значимости вольфианской философии на общем фоне господствующего аристотелизма. Все науки, писал Ломоносов, «а особливо философия, неменьше от слепого прилепления ко мнениям славного человека, нежели от тогдашних неспокойств претерпели. Все, которые в оной упражнялись, одному Аристотелю последовали, и его мнения за неложные почитали. Я не презираю сего славного и в свое время именитого от других философа; но тем не без сожаления удивляюсь, которые про смертного человека думали, будто бы он в своих мнениях не имел никакого погрешения, что было главным препятствием к приращению философии и прочих наук, которые от ней много зависят. Через сие отнято было благородное рвение, чтобы в науках упражняться один перед другим старались о новых и полезных изобретениях. Славный и первый из новых Философов Картезий осмелился Аристотелеву философию опровергнуть, и учить по своему мнению и вымыслу. Мы кроме других его заслуг особливо за то благодарны, что он тем ученых людей ободрил против Аристотеля, против себя самого и против других философов в правде спорить, и тем самым открыл дорогу к вольному философствованию... Платона и Сократа»4. В этом «Предисловии» обращает на себя внимание, прежде всего, утверждение Ломоносова о том, что он не презирает Аристотеля. В подобном утверждении имплицитно содержится мысль о том, что многие его современники уже весьма презирали философские идеи великого античного философа, что уже наступила эра активного неприятия и отталкивания от философских идей аристотелизма. К сожалению, нет возможности сделать постраничную сноску на вышеприведенную цитату, так как книга М. В. Ломоносова начиналась с хвалебного «Посвящения», обращенного к графу Воронцову, которое, как и «Предисловие», не было включено в общую нумерацию страниц «Вольфианской експериментальной Физики».
Выше мы уже ссылались на схоластизированный аристотелизм второй западноевропейской схоластики, который в общем русле третьего латино-польского влияния был привнесен в русскую философскую культуру конца XVI—начала XVII в., и который был достаточно значим и в первой половине XVII в. Вторая западноевропейская схоластика возникла и сформировалась в рамках католического контрреформационного движения и в философском плане была своеобразным возрождением томистской доктрины великого Фомы Аквинского в сочинениях таких иезуитских мыслителей, как Суарес, Фонсека, Молина, и многих других. В своей общекатолической экспансии вторая западноевропейская схоластика подошла к самым «украинам» Московского царства и стала «своей» в многочисленных философских курсах профессоров Киево-Могилянской и Московской Славяно-греко-латинской академий. Таким образом, возрожденный и схоластизированный аристотелизм стал активной составляющей славиа-
193
7 Зак. 642
схоластики эпохи третьего латино-польского влияния. Группа ученых Киевского института философии УАН сделала подробное описание философских курсов Киево-Могилянской академии5. Почти полностью они были построены на принципах схоластизированной аристотелевской философии. Наиболее характерным можно считать философский курс Иосифа Туробойского «Аристотелевский Органон, или Золотой ключ наук от дверей в рациональную философию, украшенный утверждениями и диспутациями в Киево-Могилянской коллегии, и благополучно изложенный благородным умам... в 1702 году 23 октября». Курс был написан на латинском языке и состоял из четырех частей: Диалектики, Логики, Физики и Метафизики. В общем согласии с философскими традициями Киево-Могилянской академии, Иосиф Туробойский разработал один из вариантов синтеза христианизированного неоплатонизма Псевдо-Дионисия Ареопагита с философскими принципами философии Аристотеля. Аналитическая характеристика трактата свидетельствует о том, что украинский мыслитель хорошо знаком с философской мыслью античности, патристики и схоластики (ранней, поздней и второй). В определенной мере об этом свидетельствуют многочисленные ссылки на Аристотеля, Платона, Фалеса, Парменида, Гераклита, Демокрита, Эпикура, Анаксагора, Эмпидокла, Цицерона, Иоанна Дамаскина, Августина, глубокое знание философской проблематики чувствуется в цитировании сочинений таких представителей высокой схоластики, как Ансельм Кентерберийский, Фома Аквинский, Бонавентура, Дунс Скотт, Вильям Оккам, достаточно часто цитировался Авиценна и, конечно, многочисленные представители второй западноевропейской схоластики — Суарес, Васкес, Молина, Толете, Арриаге, Овиедо.
«Его иерархическая структура космоса насчитывает пять миров, из которых первый, интеллигибельный, представляет собой саму божественную мысль, вечный неизменный принцип, божественный разум, содержащий в себе все формы или прообразы вещей, с помощью которых бог творит материальный мир. Второй мир — это мир ангелов, третий — элементарный — состоит из четырех элементов, четвертый — микрокосм, или человек, и пятый — макрокосм, или универсум. В соответствии с этим Иосиф Туробойский определяет природу, с одной стороны, как творящую, под которой понимается бог, а с другой —! как сотворенную, как чтойность и ограничивающую сущность вещи, совокупность сотворенных природ или вещей, сотворенность причин, стремящихся действовать в соответствии со всей природной склонностью, зависящих от бога и вместе с тем заставляющих его в какой-то мере приспосабливаться к своим установившимся закономерностям» 6.
Только лишь в XIX в. Гегель в своих «Лекциях по истории философии» сформулирует историко-философский принцип филиации идей, который станет результатом тщательной аналитической характеристики реального бытия философских идей. Такой реальностью перед нами простираются философское учение Аристотеля* высокая схоластика и вторая схоластика, педагогические усилия многих членов ордена Иисуса Христа, философские курсы профессоров Киево-Могилянской и Московской Славяно-греко-латинской академий, философская система Хр. Вольфа. Среди многочисленных конкретно-исторических и абстрактно-опосредствованных связей этого сложнейшего философско-теологического идейного агрегата можно указать для примера лишь на одну. В Университете Гиссена профессорствовал некто Христоф Шейблер (1589— 1653), который создал философскую систему протестантской неосхоластики и которого современники звали «протестантским Суаресом». Двухтомный трактат Шейлера «Opus metaphysicum» (1617) произвел, в свое время, глубочайшее впечатление на Лейбница и Вольфа. Таким образом, смену философских ориентаций со схоластизированного аристотелизма на вольфианскую философию, которая произошла в стенах русских духовных академий по большому счету нельзя даже называть сменой, так как на самом деле это было очень тонкое философское взаимодействие на уровне философских прикосновений и сопричастностей.
Готтфирид Вильгельм Лейбниц был для Вольфа одновременно философским богом и ученым мэтром. В своем философствовании знаменитый автор «Монадологии» и «Теодицеи» достаточно часто обращался к философским построениям французского рационалиста Рене Декарта, которые зачастую служили для немецкого философа точкой теоретического отталкивания в процессе собственного теоретизирования. Например, возражая Декарту, Лейбниц утверждал мысль о том, что душа и тело — это не противоположные субстанции, но полюсы в существе каждой монады, телесный организм видится лишь как феномен, временное явление. Душа по отношению к телу есть вместе и присущая ему цель и движущая его причина. Таким образом, Лейбниц рассматривал телесный организм как проявление органической силы душевного агента, из него же вырастающее, а его ученик и преданный последователь Вольф очарован математическим методом картезианства и делает поворот к школе Декарта, и снова рассматривает душу и тело, как две противоположности. Вольф как бы развивает дальше и завершает механистически-математический подход Декарта» что дало определенные основания такому представителю русского духовно-академического философствования, как С. С. Гогоцкий, ввести специфический термин «декарто-вольфианский период», в течение которого господствовало разведение метафизического бытия и мира явлений.
Определенный интерес к картезианскому философствованию проявился уже в самой толще философских курсов схоластизированного аристотелизма. В «Описании курсов философии и риторики профессоров Киево-Могилянской академии» содержатся несколько философских курсов, построенных на принципах картезианской философии. Эти курсы 1727 и 1729 гг. принадлежали перу префекта Амвросия Дубневича, а курсы 1751 и 1752 гг. — префекту Георгию Щербацкому. Особенно интересны были курсы последнего, которые содержали в себе следующие разделы: 1. Завершение логики; 2. Метафизика, или первая философия; 3. Физика; 4. Этика. «Еще одним отличием этого курса является четкая просматриваемое^ того положения, что картезианские симпатии Георгия Щербацкого порождены влиянием лейбницеанско-вольфовской школы. Доминирующее влияние картезианства сопровождалось в курсе и определенным критическим отношением к Декарту» 7. Первое, что отчетливо бросается в глаза уже при беглом просмотре только лишь структуры курса, так это следование античному образцу стоической философии, которая, как правило, делилась на физику, логику и этику.
Схоластизированный аристотелизм философских курсов русских духовных академий очень спокойно и почти безболезненно «дополнялся» элементами картезианской и вольфианской философии. В конце концов, «картезианская революция», основанная на свержении авторитета Аристотеля, была не вполне абсолютна, так как опровергался авторитет схоластической формы, а не содержания аристотелевской философии. С Вольфом дело обстояло, с одной стороны, сложнее, а с другой стороны — значительно проще. Вольфианству всегда импонировал рационализм философского учения Аристотеля, и оно, как правило, не боролось с ним, а, наоборот, включало его в структуру собственного философствования, приспосабливая к потребностям и нуждам своего времени.
С вопросом о вольфианстве в русской духовно-академической философии обратимся к современному историку русской церкви протоиерею Владимиру Мустафину. В статье «Философские дисциплины в С.-Петербургской Духовной Академии» он писал следующее: «В первые годы основными философскими дисциплинами в СПбДА были история философии и собственно философия, т. е. систематическое изложение положений, главным образом, по метафизической проблеме. По обеим этим дисциплинам преподаватели использовали труды и учебники приверженцев Лейбнице-вольфианской метафизики Бруккера и Винклера. Причем, пятитомной «Историей философии» Брукнера преподаватели пользовались сами, а краткое изложение этого труда служило учебником для студентов. Систематическая же философия преподавалась исключительно по Винклеру, кроме 1810—14 гг., когда преподававший в то время Иоганн фон Хорн использовал учебник эклектика Карпе. К недостаткам учебника Винклера следует отнести, прежде всего, его устарелость, ибо системе Вольфа, излагавшейся в нем, было уже более ста лет. Кроме того, этот учебник содержал в себе слишком много бесполезных и трудных для усвоения тонкостей, особенно в той своей части, где излагалось учение Лейбница о монадах. Но были у этого учебника и положительные стороны: ясность и стройность изложения, а также универсальность содержания, позволявшая студентам приобрести сведения (правда, неравноценные из-за отмеченной их частичной устарелости) по всем отраслям философского знания» 8.
Библиография русской философской литературы свидетельствует о том, что, действительно, были русские издания Бруккера — «Иакова Бруккера критическая история философии, служащая руководством к прямому познанию ученой истории, изданная в пользу обучающегося российского юношества. Пер. М. Г. Гаврилова. М.: Унив. тип. у Н. Новикова, 1788. — 226 с.», а также «Сокращенная история философии от начала мира до нынешних времен, которую с французского языка перевел с<тудент> В. Колокольников. Иждевением Типографской компании. М.: Тип. И. Лопухина, 1785. — 442 с.». В «Философском лексиконе» С. С. Гогоцкого была помещена большая статья об Иоанне Якове Бруккере (1696—1770), который родился в Аусбурге, учился в Иене и написал для своего времени самую полную историю философии — «Historia critica Philosophiae a mundi incunabulis ad nostram usgue aetatem deducta» (1747).
Русский историк философии назвал Бруккера первым историком философии, как науки, в Европе и историко-философским последователем Аристотеля с его «Метафизикой» и Диогена Лаэртского с его доксографическим сочинением «О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов». О том, что Бруккер был последователем и почитателем философских учений Лейбница и Вольфа, в «Философском лексиконе» С. С. Гогоцкого не сказано ни одного слова. Предположить, что русский историк философии забыл написать о столь значительном факте, почти невозможно. Обратимся к самому тексту «Критической истории философии» Бруккера. Книга была снабжена именным указателем, что само по себе большая редкость, даже в научных изданиях того времени. Имя Хр. Вольфа было отмечено страницей 211; читаем: «Он (Лейбниц) положил только основание системе, которую потом соорудил славный Християн Вольф; и ежели сей дух иногда и погрешал в чем-нибудь в важных своих предприятиях, то сие ему тем скорее простить можно, что он первый пустился по непроложенному пути. Нельзя у него отнимать той чести, что он не только снабжен был от природы дарованиями, потребными к последованию стопам Лейбницовым, но что он и употреблял их таким образом, что потомство должно с благодарностью признавать заслуги, оказанные им философии». Таким образом, эту самую общую и единственную похвалу в адрес Хр. Вольфа вряд ли возможно счесть достойным основанием для зачисления Бруккера в число почитателей и последователей вольфианской философии.
Совсем иначе обстоит дело с Иоганном Генрихом Винклером, который был профессором философии в Лейпцигском университете и основное философское сочинение которого прямо и непосредственно свидетельствовало о его причастности к вольфианской философской системе — «Institutiones Philosophiae Wolfianae usibus academicus aecommodatae» (Lpz.,1735). На русском языке в конце XVIII в. философское сочинение Винклера было опубликовано без указания его имени: «Физика, или Естественная философия сокращенной баумей-стеровской философии, напечатанная и с лат. на рос. яз. переведенная... синтаксис с учителем диаконом Иоанном Ушаковым. М.: Тип. Ф. Гиппиус, 1785.— 162 с.».
Наибольшим влиянием и авторитетом среди учебников вольфианской философии, преподаваемой и изучаемой в русских духовных академиях и семинариях, пользовались книги Фридриха Христиана Баумейстера (1798—1785), который был наиболее известным последователем философских учений Лейбница и Вольфа, разрабатывал и пропагандировал почти все разделы их философских систем.
Единственное, что было им воспринято достаточно критично, так это лейб-ницеанское учение о предустановленной гармонии, которое Баумейстер рассматривал лишь на уровне философской гипотезы и приводил доказательства одновременно pro et contra этого учения. Философскую школу Лейбница— Вольфа Баумейстер называл догматической на том основании, что она зачастую принимала целый ряд положений и идей, как готовые формы и образования, и лишь потом, задним числом, обосновывала их посредством построения длинных цепочек доказательств. Несколько позже против положений и постулатов этой школы очень резко восстанет Иммануил Кант в многочисленных разделах своей критической философии.
Первым, хотя и не определяющим, признаком популярности того или иного мыслителя является количество изданий его сочинений. В условиях книжной культуры второй половины XVIII—начала XIX в. Баумейстер «побил» почти все рекорды философских публикаций: «Метафизика. Пер. с лат., обновл. и исправ. М., Губ. тип. у А. Решетникова, 1808. — 295 с.»; «Метафизика X. Бау-мейстера. Пер. с лат. <М.>, Печ. при Имп. Моек, ун-те, 1764. — 256 с.»; «Метафизика X. Баумейстера. Пер. с лат. 2-е изд. М., В Унив. тип. у Н. Новикова, 1789. — 251 с.»; «Метафизика X. Баумейстера. Пер. с лат. 3-е изд., М., Печ. при Имп. Моек, ун-те, 1794. — 256 с.»; «X. Баумейстера метафизика. Пер. с лат. Лейб-гвардии Измайлов, полка полковой квартеймистер А. Павлов. М., Печ. при Имп. Моек, ун-те, 1764. — 256 с.»; «X. Баумейстера метафизика. Пер. с лат. А. Павлова. Вновь высмотрен и на многих местах исправлен проф. Д. Синьковским. 2-е изд. М., Унив. тип. у Н. Новикова, 1789. — 251 с.»; «X. Баумейстера метафизика. С лат. вновь перевед. и исправл. Яковом Толмачевым. М., Губ. тип. у А. Решетникова, 1808. — 295 с.»; «X. Баумейстера метафизика. Пер. с лат. Толмачева. 2-е изд., вновь исправ. СПб., Тип. М-д. деп-та М-ва внутр. дел, 1830. — 232 с.»; «X. Баумейстера нравоучительная философия в пользу благородного юношества. Пер. с лат. СПб., Тип. Морск. шляхет. кадет, корпуса, 1783. — 280 с.»; «Нравоучительная философия, содержащая естественное право, этику, политику, экономию и другие вещи, для знания нужные и полезные. Пер. с лат. Д. Синьковским. М., Тип. Комп, типографии.,
1788. — 324 с.».
Библиографическое описание творчества того или иного мыслителя всегда очень важно и существенно значимо. Можно даже говорить о философии библиографии как об особом и отдельном разделе философской науки вообще. Бибилиография почти всегда может дать самое общее представление о характере, содержании и форме того или иного философского учения. Особенно это хорошо работает в библиографических описаниях книг XVII—XVIII вв. с их длинными названиями, с «содержательнейшими содержаниями», «разбитыми» и делящимися на разделы, главы, параграфы. Для примера обратимся к русскому изданию одной из «Метафизик» Хр. Баумейстера. Музей Книги Российской Государственной библиотеки хранит второе издание 1789 г., «высмотренное и на многих местах исправленное профессором Дмитрием Синьковским»; рядом с библиотечным шифром «МК 1/464» стоит овальный штамп с текстом «Библиотека Московской Духовной академии». Конечно, это, очевидно, не очень хорошо, что государственная библиотека свободно пополняла свои фонды путем изымания книг из фондов, менее значительных для государства, но для нас это «книжное заимствование» оказалось счастливой «случайностью», косвенно доказывающей активность функционирования философских сочинений Хр. Баумейстера в учебной структуре Московской духовной академии.
Итак, «Метафизика» Хр. Баумейстера 1789 г. издания. Начинается книга с метафизического наставления, или «Предуведомления о свойстве и сущности Метафизической». В предуведомлении описывалось деление науки метафизики на четыре части: 1. Онтологию.; 2. Козмологию или науку о мире вообще; 3. Психологию или науку о духах; 4. Богословию Естественную. «Предуведомление о свойствах и сущности Метафизики» мы процитируем ниже, по изданию 1808 г., переведенного и исправленного Яковом Толмачевым, а сейчас вернемся к содержанию философского трактата 1789 г. издания. Трактат состоит из четырех частей, обозначенных тематически в предуведомлении. Часть первая, Онтология, имела свое собственное предуведомление, «где показываются определения Онтологии», и содержала в себе пятнадцать глав: О первых человеческого познания началах; О понятии сущего и несущего; О сущности; О всеобщих принадлежностях сущего; О вещах определенных и неопределенных; О целом и частях; О порядке и истине Метафизической и совершенстве; О сложном существе; О простом существе; О существе и случайном; О сущем конечном и бесконечном; О началах и причинах; О знаке и об обозначаемой вещи.
Метафизики часть вторая, или Общая козмология, содержала в себе только лишь семь глав: О козмологии вообще; О понятии мира; О телах; О законах движения; О стихиях телесных; О естественных и сверхъестественных вещах или чудесах; О совершенстве мира.
Метафизики часть третья, содержащая в себе Пневматологию (учение о духе) и Психологию (учение о душе), включала в свою структуру четырнадцать глав: О духе вообще; О душе человеческой; О способности познавать и о ея чувствительной части; О способности чувствовать; О способности воображать; О памяти и вспамятовании; О способности познания и ея умственной части, и во первых о способности внимания и о продолжении внимания; О разумении, уме и разсудке; О способности желания, и ея нижней или чувствительной части; О страстях; О желании разумном, или воле и о ея свободе; О сопряжении души с телом; О безсмертии души; О скотских душах.
Метафизики часть четвертая, или Богословия Естественная, содержала в себе только лишь шесть глав: О бытии Бога; О сущности и свойствах Бога вообще; О разуме Божием; О воле Божеской; О делах Божиих.
Стиль и манера философского текста, представленного в «Метафизике» Хр. Баумейстера, свидетельствует о широчайшей историко-философской образованности автора и о достаточной свободе философствующего разума. Весь текст пестрит, например, ремарками типа: «Цицерон говорит», «Цицерон доказывает», «как думал Платон», «как учит Аристотель», «оным цицероновым словам согласует Сенека», «изрядно пишет о сем Гроций» и т. д.
В качестве примера, иллюстрирующего содержательно-доказательную сторону философствования Баумейстера, можно обратиться к первой главе «О бытии Бога» четвертой части «Метафизики». «Сия наука по тому Богословиею Естественной называется, что в ней доказательства от Бога предлагаются токмо те, которые единственно нам через одни Природу и разум известны. Почему сия наука от Богословии откровенной различие имеет, которая на изучении Священного Писания будучи основано, также сокровенности изъясняет, которых высоту и превосходство наш разум, сколь бы он проницателен ни был, сам собою понять не может».
Выше мы обещали процитировать «Предуведомление о свойствах и сущности Метафизики» по изданию 1808 г., которое, в определенном смысле, можно считать вполне развитым философским дискурсом, отражающим общий уровень западноевропейской философской культуры конца XVIII—начала XIX в. В «Предуведомлении», по сути, дается анализ судеб метафизики, как философского учения, освещаются возможные пути дальнейшего развития метафизики. «Имя метафизики находится у многих в презрении. Ибо Схоластики, преподавая оную, наполнили ее только одними пустыми бреднями, и редко полезными истинами; при чем употребляли слова, не имеющие смысла, грубые неупотребительные. — Через сие самое Метафизика подвержена стала осмеянию многих, а особливо мужей благоразумных, — и называться Метафизиком почиталось безчестным. Но после, когда оставили грубый схоластический способ преподавать Метафизику, и начали возвращать ей первое свое достоинство; то сколько наука сия переменила вид свой, столько любители оной чувствуют неизъяснимую пользу сего учения» 9.
Метафизикой Хр. Баумейстер называл науку «о существе, о мире вообще, о предметах бестелесных» и, вслед за новейшими философами своего времени, разделял метафизику, как уже отмечалось выше, на четыре отдельные и самостоятельные науки: 1. Онтологию (сущесловие), в которой подробно изъясняются самые общие понятия и самые общие начала человеческого познания; 2. Космологию (мирословие), или науку о мире вообще; 3. Психословие (ду-хословие), в которой предлагаются понятия о душе человеческой, снискаемые опытом и умозаключением; 4. Естественную Богословию, в которой говорится о бытии Божием, о словах и действиях Божественных.
В полном соответствии с традициями античного аристотелизма и схоласти-зированного аристотелизма второй западноевропейской схоластики Хр. Баумейстер называл онтологию первой философией. «Справедливо определить можно Онтологию наукою о существе вообще, или поколико оно называется сущим. Онтология называется еще первою философией, по той причине, что в ней преподаются первые начала всех истин, и первые понятия, кои употребляются в других науках, и могут быть полезны при умозаключениях» 10.
Хр. Баумейстер был глубоко убежден в том, что в онтологии укоренены истины почти всех наук, что именно из онтологии все эти науки заимствуют свою силу и твердость. Немецкий философ был полностью согласен с теми своими коллегами, которые называли онтологию царицею и начальницей всех наук и познаний. По мнению Баумейстера, употребление онтологии «многоразлично», а сфера ее влияния простирается на все науки, «которые заключены в круге Философии». Философское учение Хр. Баумейстера очень во многом созвучно античному и средневековому философствованию, при достаточной согласованности с философией Нового времени. Например, для физики и аналитики Аристотеля, для физики и каноники Эпикура, для физики и логики античных стоиков был весьма характерным тот факт, что оба раздела их философских учений существенно необходимы были для обоснования третьего раздела — этики. Почти та же мысль была заключена и в «Метафизике» Хр. Баумейсте-ра: «В Онтологии полагается основание истин, кои предполагаются в Физике и Нравственной Философии» п.
Примером подобной же структуры философского учения, включающего в себя физику, логику и этику, являет собой философское творчество Феофана Прокоповича, который в свою бытность префектом Киево-Могилянской академии читал философские курсы по всем этим разделам философской науки. Выше мы уже ссылались на книгу с описанием философских курсов профессоров Киевской академии. К сожалению, в нашей исследовательской литературе нет подобного описания философских курсов Московской Славяно-греко-латинской академии.
Совершенно недавно вышло монографическое исследование А. В. Пани-братцева «Философия в Московской Славяно-греко-латинской академии (первая четверть XVIII века)» (М., 1997), но в нем систематическому описанию подверглись лишь философские курсы Феофилакта Лопатинского.
В целом, сложилась достаточно странная ситуация в разработке и осмыслении темы «Христиан Вольф и русская духовно-академическая философия». Философия Вольфа и его многочисленных последователей вполне прижилась уже в XVIII в. в стенах Киевской и Московской академий, на основании которых были сформированы русские духовные академии XIX в. Казалось бы, что новые академии должны были бы быть обеспечены многочисленными кадрами философов-вольфианцев, но этого не случилось. Аничков, Брянцев, Козельский, Десницкий, Поповский и др. ушли в Московский университет и Санкт-Петербургскую академию, а многие другие — просто на государственную службу. Ко времени формирования первой Санкт-Петербургской Духовной академии сложилась следующая духовно-интеллектуальная ситуация: «Преподаватели этого периода не заняли заметного самостоятельного места в истории русской духовной философии, но именно благодаря их талантливости и трудолюбию из студентов СПбДА вышли будущие наставники философских дисциплин в других Духовных Академиях России» 12. Под преподавателями начального периода существования столичной академии имелись в виду такие духовно-академические деятели, как иеромонах Евгений (Казанцев), преподававший в 1809— 1810 гг., Игнатий Фесслер (1810), Иоган фон Хорн (1810—1814), И. Я. Вертинский (1814—1826), Т. Ф. Никольский, И. М. Певницкий, А. Красносельский (1826—1829), Д. С. Вершинский (1830—1835). Все они были хорошими преподавателями философии, изредка писали неплохие статьи в тех или иных духовно-академических журналах, но ничего философски значимого на уровне книг и учебников по философии не оставили.
Очень характерную фигуру в плане духовно-академического образования и дальнейшей судьбы выпускников духовных академий являл собой Николай Иванович Надеждин, который, получив образование в Московской Духовной академии, стал впоследствии профессором Московского университета, редактором журнала «Телескоп», попав в скандальную историю с публикацией первого «Философического письма» П. Я. Чаадаева. Обучаясь в Московской Духовной академии, Н. И. Надеждин слушал лекции по философии у В. И. Кутневи-ча, который был выпускником первого курса Санкт-Петербургской Духовной академии и обучался философии, в свою очередь, у профессора Игнатия Фессле-ра. Впоследствии философский учитель Надеждина оставил ученое поприще и стал обер-священником флота и армии. В своей «Автобиографии» Н. И. Надеждин вспоминал о том, что перед поступлением в академию ему пришлось подвергнуться предварительному испытанию, которое состояло в написании на латинском языке ученого сочинения. Заданная для экзаменационного испытания тема была такова: «Perpendatur pretium atgue eruantur desiderata sysyematis Wolfiani tam in singulis partibus cosiderati». Таким образом, молодому претенденту на статус студента академии было необходимо: «Предоставить оценку и открыть недостатки Вольфовой системы (философии), рассмотреть оную как в ея общности, так и по частям». В «Автобиографии» будущий журналист дал небольшой, но достаточно изящный очерк изучения философии в Московской Духовной академии: «Вольфова система господствовала во всех семинариях. Итак, от нас требовалось дать полный и строгий отчет в том, чему нас до сих пор учили. Мне удалось при этом написать довольно обширную диссертацию, которая заслужила одобрение. Я уже тогда читал Канта и других новых немецких философов, и со всем юношеским жаром восстал на Вольфа и вообще на эмпиризм, главную характеристическую черту основанной им школы» 13.
Таким образом, диссертация Н. И. Надеждина была критически настроена в духе антивольфианства, что, в определенной мере, свидетельствовало о формировании в духовно-академической среде новых духовных ценностей и ориентиров, направленных на усвоение и включение во внутреннюю структуру философствования, с одной стороны, философских учений Канта, Фихте, Шеллинга и Гегеля, а с другой стороны — Беме, Баадера и других иррационально-мистически настроенных мыслителей. Из книги 3. А. Каменского «Н. И. Надеждин» (М., 1994), которая содержит в себе подробнейшее жизнеописание мыслителя, а также аналитическую характеристику его философского миросозерцания, мы знаем, что годы учебы в Московской Духовной академии приходились на 1820—1824 гг. Именно в это время началось чтение «Лекций философии» Ф. А. Голубинского, которого Н. И. Надеждин слушал с «наслаждением» и «два года стенографировал его вдохновенные импровизации». Ф. А. Голубинского назвать вольфианцем было уже никак нельзя, и его влияние привело к совершенно иным ценностям и идеалам. «Все это привело меня, — писал в своей «Автобиографии» Надеждин, — к церковно-историческому исследованию значения в Православной Церкви символа св. Софии» 14.
Совершенно новый угол зрения, в связи с темой «Христиан Вольф и русская духовно-академическая философия», можно обрести при рассмотрении историко-философской исследовательской литературы, созданной в среде русского духовно-академического философствования. К сожалению, относительно многочисленные переводные и оригинальные «Истории философии» и «Философские лексиконы», как правило, не доходили до уровня «современных» исторических периодов. Занимаясь исследованием проблем взаимосвязанности духовно-академической философии с философскими учениями Канта, Фихте, Шеллинга и Гегеля, мы, как правило, охотно обращались к «Истории философии» архим. Гавриила (Воскресенского), и это исследование всегда предоставляло обильный и интересный материал. Несколько иначе обстоит дело с философским учением Христиана Вольфа. Специальной главы о нем в этой книге нет. Только лишь при историко-философском описании философской системы Лейбница (параграф 110) одна неполная страничка посвящена Вольфу. Хотя сам параграф при этом достаточно велик и состоит из следующих разделов: Метафизическая динамика; Монадология; Оптимизм; Система предопределяемого согласия между душой и телом; Теодицея; Полемика; Лейбницев редактор. Вот именно этот последний крошечный раздел и был посвящен Вольфу. В общих историко-философских исследованиях достаточно часто о философском учении Хр. Вольфа воспроизводится небрежно-уничижительное мнение о нем, как о неоригинальном прозелите философских идей Лейбница. Есть определенный интерес в выявлении истоков этого мнения, и «История философии» архим. Гавриила может в этом вполне помочь.
Попробуем процитировать этот раздел полностью: «Идеи Лейбница, исключая учение о монадах и гипотезы предопределенного согласия, в Германии распространил Христиан Вольф, который через занятие Математикой, философией Картезия, сочинениями современника Лейбница Вальтера Чирнгаузена, сделался одним из знатнейших философов школы Догматической. Его услуга состоит в том, что он умел основательно и в систематической связи представить все учение Лейбницево, при помощи метода называемого Математическим; а недостаток его заключается в том, что он преувеличил этот метод и подчинил его всем тонкостям формализма. Можно сказать, что он своею медлительностью и бесполезным разбором Логических понятий содействовал к происхождению отвращения к занятиям умозрительным, и в особенности к изысканиям Метафизическим. Нравственность, которой он учил, основывалась на существующем главном правиле делай то, что усовершает тебя и твое состояние. Поелику все то, что делает нас и наше состояние, совершеннейшим, называется добром, а все то, что делает нас и наше состояние несовершеннейшим, называется злом: то некоторые последователи Волфия выражают его начало следующим образом: делай добро и уклоняйся зла. Но сей закон Волфия дышет самолюбием, а потому противен природе существа одаренного разумом, который обязывает нас стараться о усовершенствовании других, иногда даже с ущербом собственного благоденствия» 15.
Из всех этих рассуждений архим. Гавриила видно, что последний не очень-то жаловал Вольфа. Называние мыслителя «одним из знатнейших философов школы Догматической» можно воспринимать и как насмешку, особенно на фоне бесполезной игры логическими понятиями, которая отвращала, как правило, добропорядочных мыслителей от метафизических изысканий. Если сравнить те похвалы, которые архим. Гавриил расточал в адрес Канта, Фихте и Шеллинга, с оценками в адрес Хр. Вольфа, то эти оценки более всего походят на резкую критику. История философии лишь в самое последнее время стала освобождаться от отрицательных штампов в своей оценке таких, казалось бы, устоявшихся понятий, как средневековье, схоластика, метафизика. Архим. Гавриил стоял в самом начале исторического пути формирования этих штампов. Это, конечно, не означает того, что он лично приложил свою руку и свое усердие к подобному «формированию» историко-философских понятий, но он жил в свое время, сопричастное к этому «культурному» процессу, и не мог не быть, хотя бы косвенно, не причастным к этому культурно-историческому делу. Очень интересная вырисовывается ситуация при сравнивании вышеупомянутого «закона Волфия»: «Делай добро и уклоняйся зла», и категорического императива Иммануила Канта: «Делай так, чтобы максима твоей воли стала всеобщим законодательством». В соответствующем разделе своей «Истории философии» русский мыслитель отнесся к Канту вполне спокойно, и даже с похвалой. Закон же «Волфия» почему-то вызвал у архим. Гавриила сильное раздражение и ожесточение, хотя, по сути, это был даже и не закон, а общее христианское пожелание; он (закон) почему-то «задышал самолюбием» и стал почему-то «противным природе». При этом необходимо заметить, что по своей внутренней сути категорический императив Канта гораздо в большей степени не соответствует внутренней природе христианского вероучения, последовательным приверженцем которого архим. Гавриил должен был быть уже только по своей принадлежности к Православной Церкви и духовно-академической корпорации. Недаром же впоследствии Кант неоднократно именовался чертом русской философии16 и был в духовно-академической философии воспринят в целом сухо и критически 17.
Значительный вклад в «русскую вольфиану» внес один из представителей киевской школы философского теизма Сильвестр Сильвестрович Гогоцкий, который в первом томе своего «Философского лексикона» (Киев, 1857) поместил относительно большую статью (с. 527—542) о бароне Иоанне Христиане фон Вольфе, родившемся в 1679 г. в семье ремесленника в Бреслау. Статья С. С. Гогоцкого о Хр. Вольфе является наиболее обширной и полной из всей справочной и исследовательской литературы на русском языке о немецком мыслителе эпохи Просвещения. Жизненный путь Хр. Вольфа достаточно ярок и впечатляющ. Сын бреславского ремесленника сделал фантастическую карьеру, став тайным советником, профессором естественного и народного права и канцлером университета в Галле, получив из рук баварского курфюрста баронское достоинство, став действительным членом Берлинской академии, Лондонского королевского общества, Парижской и Санкт-Петербургской академий наук. В своем описании философской биографии Хр. Вольфа автор «Философского лексикона» не оставил в стороне и огорчительные стороны, и печальные моменты его жизненного пути, как, например, распрю с профессорами философии и богословия в Галле, когда те объявили философское миросозерцание Хр. Вольфа вредным и потребовали сначала от правительства Саксонии, а затем и от самого короля Фридриха I запрета его лекций, которые характеризовались все возрастающим успехом. Основным аргументом в требовании подобного запрета было убеждение в том, что философские идеи Хр. Вольфа вели к атеизму и фатализму. Саксонский король Фридрих I внял всем этим аргументам и своим повелением от 8 ноября 1723 г. отстранил мыслителя от профессорской должности в университете в Галле, предоставив ему 24 часа на удаление из своих владений. Только уже при Фридрихе II, в 1740 г., Хр. Вольф, обласканный чинами и наградами, вернулся в Галле. Долгое время перед этим возвращением мыслитель работал в Марбургском университете, и мы уже отмечали выше, что именно в этот период у него там обучался философии наш великий Михайло Ломоносов. Непонятно только одно — как, изучая философскую систему Хр. Вольфа, можно стать представителем материалистической философии?
В истолковании этого «непонятного» феномена возможны два варианта: или Ломоносов в Марбурге очень плохо учился, или учился хорошо, но многочисленные советские историко-философские исследования о «великом философе» выдавали желаемое за действительное.
Как архим. Гавриил в своей «Истории философии», так и С. С. Гогоцкий в своем «Философском лексиконе» дали достаточно сдержанную общую оценку философского учения Хр. Вольфа. Итак, в первом томе «Философского лексикона» читаем: «Вольф принадлежит к числу второстепенных германских мыслителей: он не отличается оригинальностью взгляда, ни даже особенным углублением заимствованных начал. Несмотря на то, своими сочинениями по части философии он оказал некоторые услуги этой науке. Главная заслуга Вольфа в области философии состоит в том, что он сообщил ей строгую систематическую форму, подробно и последовательно развил ее вопросы, по крайней мере насколько это было возможно по свойству его взгляда на философию, и всем частям ее указал определенное место и определенную задачу. Порядок, в котором Вольф расположил все части философии, не только удерживался во все продолжение ее господства, но, можно сказать, до ныне еще с некоторыми переменами кое-где сохраняется, по крайней мере в школьном преподавании. Философию, введенную Вольфом, в отличие от предшествовавшего и последующего направления этой науки, часто называют лейбнице-вольфианской. Это справедливо, но только отчасти. Гораздо вернее было бы сказать, что в философской деятельности Вольф совместил, конечно не в одинаковой степени, направления трех деятелей этой эпохи на поприще философии — Лейбница, Чирн-гаузена и Томазия. Лейбниц сообщил Вольфу основные понятия о главных вопросах философии, Чирнгаузен имел на него влияние систематическим методом, развитым в логическом сочинении Medicina mentis, а Томазий — популярным изложением философских вопросов на отечественном языке. Отсюда-то во второй половине XVIII века образовалась в Германии популярная, эклектическая философия под именем «германского Просвещения» («die deutsche Aufklärung»), знакомившая публику с философскими идеями» 18.
С. С. Гогоцкий, как всегда при изложении историко-философского материала, очень подробен и достаточно точен. На самом деле, еще до знакомства со строем философских идей Лейбница, Вольф очень тщательно и сосредоточенно изучал философские сочинения Декарта, Локка и Чирнгаузена; он погрузился в изучение математики для того, чтобы впоследствии суметь приложить математические знания, как метод, к широкому кругу гуманитарных, в том числе и философских, наук. В 1701 г. в Лейпцигском университете Вольф с большим успехом защищает диссертацию «Об общей практической философии, изложенной по математическому методу», опубликованную впоследствии, в 1703 г., на латинском языке — «Philosophia practica universalis,matematica methodo expo-sita». После защиты диссертации, по рекомендации Лейбница, Хр. Вольф получает кафедру философии и математики. Знакомство с Лейбницем было очень полезно для Хр. Вольфа не только в плане получения научной рекомендации, но и в плане восприятия и более чем органичного усвоения широкого комплекса философских идей лейбницеанства. Круг этих идей составили такие, например, фундаментально-философские основоположения: принцип наличия разумной соразмерности и Божественной связанности вселенной; осознание принципа огромной значительности индивидуального, личного в этой вселенной; принцип предустановленной гармонии вселенной в целом и в индивидуальном; осознание принципов количественной и качественной бесконечности в многообразии вселенной; осознание принципа динамичности основного состояния вселенной.
Философская фундаментальность всех этих принципов очаровала мышление Хр. Вольфа, сделав его преданным последователем великого немецкого философа.
Статья С. С. Гогоцкого о Хр. Вольфе в первом томе «Философского лексикона», со всеми биографическими подробностями и тщательностью историко-философских характеристик общего строя всей философской системы, заключает в себе особый смысл, который обусловлен тем, что в русском духовноакадемическом философствовании, в строгом его понимании, связанном именно с духовными академиями XIX в., вольфианством был охвачен только самый начальный период духовно-философского бытия. Выпускники самых первых академических курсов, такие как Кутневич, Скворцов, Авсеньев, Голубинский, Карпов и многие другие, были уже совершенно вне очарования вольфианской философией. Но точная и подробная характеристика философской системы Вольфа совершенно необходима для осознания тех философских принципов, от которых отталкивалось формирующееся сознание целой когорты мыслителей нового типа и новых философских устремлений.
Тот факт, что такая подробная характеристика философской системы Вольфа исходила из самой среды духовно-академического философствования, еще больше усиливает ее значимость, особенно в рамках рассматриваемой нами темы «Христиан Вольф и русская духовно-академическая философия».
Почти все поздние философские сочинения Хр. Вольфа были написаны на латинском языке и заключали в себе почти полную энциклопедию философских наук. Единственное, чего он не успел написать, так это курса по политической философии, что в определенной мере восполнил один из учеников Вольфа, а именно — М. Хр. Гановий, написав «Философию политики».
Самый общий взгляд на систему своей философии Хр. Вольф изложил в предисловии к своей логике, раскрывая свои воззрения на проблемы познания вообще, о философии, о разделении ее частей, о философском языке, о свободе мышления. Итак, познание делится на три рода: историческое, или опытное, которое занимается исследованием фактов, внешнего или внутреннего опыта; философское, занимающееся исследованием внутренних причин и самой возможностью явлений; математическое.
Предметов философского познания, по мнению Хр. Вольфа, существует всего лишь три: Бог, человеческая душа и телесный мир, а посему и философия состоит всего лишь из трех частей — богословия, психологии и физики. Все эти три части имели свои подразделения, и С. С. Гогоцкий в статье своего «Философского лексикона» самым подробнейшим образом разбирает и перечисляет все разделы, главы и параграфы. Не углубляясь вслед за Гогоцким во все тонкие подробности, приведем только лишь несколько примеров: 1. Опытная психология служит, по Вольфу, приготовлением к психологии умозрительной, богословию и нравоучительной философии, при этом, она, в свою очередь, делится на две части; 2. Естественное богословие также разделяется у Вольфа на две части. В первой части доказывается бытие Бога на том опытном основании, что существа созданные, ограниченные сами предполагают наличие необходимого его бытия. Разум, свобода, всемогущество, премудрость, благодать существенно принадлежат этому существу. В верховном разуме заключена причина существования существ простых, или монад, и их сочетаний. Именно поэтому Бог есть творец мира, а творение мира предполагает и промысел Божий; сохранение мира можно называть непрерывным творением. Бог есть верховный владыка, и его воля есть закон; но воля Божия желает только блага.
«Философские творения Вольфа, — продолжает излагать С. С. Гогоцкий уже не описание философской системы, а свои самые общие суждения о ней, — не отличаются оригинальностью, но их влияние как на философию, так и на классическое образование было значительно и не без благодетельных последствий. Систематическим развитием начал Лейбница, тщательным и подробным изложением всех частей философии он сообщил этой науке сциентический характер и облегчил в будущем труд употребления своей философской системы в учебных заведениях. Этою стройною полнотою своей системы и особенно всех вопросов науки к одному полному составу Вольф оказал немаловажное влияние на другие науки. В отдельном, разобщенном развитии наук в университетских факультетах с того времени начало обнаруживаться более единства, установившегося сознанием органической связи между всеми отраслями знания, а частым употреблением отечественного языка не только в устных объяснениях, но и в сочинениях Вольф много способствовал популярности науки и развитию немецкого языка. Главный недостаток его философии заключается как во взгляде на содержание философии, так и в особенности на метод, внесенный им в философию. Рассматривая все с рассудочной точки зрения и не замечая, что философия обнимает все предметы исследования не по количеству, но по отношению их к верховным началам бытия и знания, Вольф не разграничивает, как должно, содержания философии от предмета экспериментальных наук. В космологию он вносит физику почти в том самом виде, как она входит в состав физико-математических наук; умозрительную психологию он смешивает с предметом опытной психологии, и наоборот; в философии нравоучительной помещает правила деятельности, которые извлекаются только наблюдением и опытностью из многоразличных житейских отношений. Эта смешанность содержания находится в тесной связи с принятым им методом. Как знаток физико-математических наук Вольф применил математический метод к философии. Все развитие содержания философии состоит у него в том, что он полагает в основание логические или формальные аксиомы, применяет их к готовым, случайно образовавшимся, или от вне заимствованным понятиям и положениям (например — de ontologia,cosmologia,psihologia de essentia,de ente composito,de principiis et causis и T. д.), извлекает из них другие частные положения и доказывает как те, так и другие. Между тем философский метод состоит не только в догматической установке положений, за которою следует анализ их и доказательство, сколько в показании способа, как именно известный объем истин вытекает и образуется из самого сознания и в какой он связи с самою внутреннею жизнью нашего духа: тут происхождение из сознания, связь с внутреннею жизнью и устанавливает эти истины и служит внутреннею опорою доказательствам. Одно соблюдение логической последовательности и доказательство положений, нагромождаемых силою внешнего притяжения, не сообщит философии ни органической связи, ни живого содержания. От этого увлечения математическим методом происходит формализм философии Вольфа. Отсюда же объясняется причина, почему философии Вольфа и его последователей приписывают догматизм или такое направление мыслящего духа, которое в систематическом начертании философии ограничивается только установкою определенных положений, правильными выводами из них и доказательствами, без внимания к внутреннему происхождению этих положений. Владычество вольфианской философии в Германии кончилось с того времени, когда Кант в своей критике чистого разума обнаружил слабость ея положений и доводов. Несмотря, впрочем, на все недостатки, здравомыслящее, нравственное учение Вольфа отчасти избавило Германию от преобладания французского легкомыслия и материализма XVIII в. Благодаря этому здравомыслию и ясности изложения, его философия приобрела себе очень много последователей и была принята за руководство во всех протестантских университетах Германии» 19.
Исследователи немецкой культуры насчитывали в свое время более ста прямых последователей и поклонников философского учения Хр. Вольфа; и это только лишь последовательно ортодоксальных, с исключением множества тех, которые использовали один только метод, манеру или стиль вольфианского философствования.
Среди этого множества последователей философского учения Хр. Вольфа С. С. Гогоцкий особенно выделял таких, как Тюммиг, Бильфингер, Винклер, Баумейстер, Ганц, Крамер, Ернесин, Готшед, Рейнбек, Рибов, Рейш, Баумгартен. Выше мы уже отмечали, что сочинения Винклера и Баумейстера пользовались большой популярностью в русских духовно-академических учебных заведениях — высших (академиях) и средних (семинариях). Большой популярностью пользовались в России и эстетические работы Баумгартена, но только лишь в середине XIX в. в университетской, а не в духовно-академической среде.
Помимо последователей философского учения Хр. Вольфа, С. С. Гогоцкий самым добросовестным образом перечислил и его противников, к коим отнес из наиболее известных Будде, Круза, Крузиуса, Дариеса, Ланге, Рюдигера и Валь-хе. Наибольшие неприятности своей едкой критикой и университетскими интригами доставил Хр. Вольфу профессор Ланге.
Подводя итоги этого исследования, можно с уверенностью утверждать мысль о том, что бытие философских идей Христиана Вольфа в структуре русского духовно-академического философствования было неоднозначно и, по меньшей мере, двояко. В самый начальный исторический период существования Киево-Могилянской и Московской Славяно-греко-латинской академий создались очень благоприятные условия для усвоения философской системы самого Хр. Вольфа и сочинений его последователей. Но уже в начале XIX в., когда началось организационное формирование православной высшей школы, общая значимость вольфианской философии была на исходе.
Это был пограничный момент смены философских ориентиров и философских ценностей в сторону философских учений Канта, Фихте, Шеллинга. Для всей русской философии вообще, и для русской духовно-академической философии в частности начинался исторический период русского «гегелизма».
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Зеньковский В. В. История русской философии. Т. 1. Ч. 2. 1991. С. 103.
2 Тихомиров П. Православная догматика и религиозное умозрение / / Вера и разум. 1897. № 16. С. 109, И.
3 См.: Абрамов А. И. Кант в русской духовно-академической философии // Кант и философия в России. М., 1994.
4 Ломоносов М. В. Вольфианская експериментальная Физика с немецкого подлинника на латинском языке сокращенная. С которого на российский язык перевел Михайло Ломоносов Императорской Академии Наук Член и Химии Профессор. В СПб., при Императорской Академии наук 1746 (без указания страниц).
5 Стратий Я. М., Литвинов В. Д., Андрушко В. А. Описание курсов философии и риторики профессоров Киево-Могилянской академии. Киев, 1982.
6 Там же. С. 191.
7 Абрамов А. И. Восприятие картезианской философии в русской философской культуре XVII—XIX вв. // Встреча с Декартом. М., 1996. С. 77—78.
8 Прот. Мустафин В. Философские дисциплины в С.-Петербургской Духовной Академии // Богословские труды. Юбилейный сборник, посвященный 175-летию Ленинградской духовной академии. М., 1986. С. 188.
9 Христиана Баумейстера Метафизика, с лат. вновь переведенная и исправленная Яковом Толмачевым. М., 1808.
10 Там же. С. 6.
11 Там же. С. 9.
12 Прот. Мустафин В. Указ. соч. С. 188.
13 Надеждин Н. И. Автобиография // Русский вестник: Журнал литературный и поэтический. 1836. T. II. № 3. С. 137.
14 Там же. С. 158.
15 Архим. Гавриил. История философии. Ч. II. Казань, 1839.
16 См.: Ахутин А. В. София и черт (Кант перед лицом русской религиозной метафизики) // Россия и Германия: Опыт философского диалога. М., 1994.
17 См.: Абрамов А. И. Кант в русской духовно-академической философии // Указ. соч.
18 Гогоцкий С. С. Философский лексикон. T. I. Киев, 1857. С. 529—518.
19 Там же. С. 538—539.
А. В. Панибратцев
АКАДЕМИК БИЛЬФИНГЕР И СТАНОВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ФИЛОСОФСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ
Становление профессионального философского образования в России твердо связывается со Славяно-греко-латинской академией1 и учреждением Санкт-Петербургской академии наук. Надо сознаться, что деятельность и философские воззрения первых российских академиков в отечественной историко-философской литературе изучены крайне слабо. И если это можно как-то объяснить в случае с учеными хотя и крупными, но далеко не первостепенными (X. Мартини), то пренебрежение к колоритной фигуре, скажем, Бильфингера не может быть оправдано никакими соображениями материального или морального порядка2.
Георг Бернгард Бильфингер, родившийся 23 января 1693 г. в городе Кан-штадт (Canstadt), в действительности носил фамилию Вендель (Wendel). Прозвище — Bifinger (или же в ином написании Bielfinger) он приобрел вследствие уродливости пальцев, встречавшейся у многих представителей его рода. Отец мальчика служил в Кронштадте в качестве специальсуперинтенданта (Specialsuperintendent), впоследствии он стал аббатом в Блаубойрене (Blaubeuren) 3.
Первоначальное образование Бильфингер получил в Тюбингене, затем он перебрался в Галле, где учился у Вольфа, причем с особой охотой предавался математическим штудиям. Возвратившись в Тюбинген, Бильфингер некоторое время служил там придворным проповедником и уже в 1721 г. сделался ординарным профессором философии. В 1724 г. он становится ординарным профессором этики и математики.
В Санкт-Петербурге Бильфингер прослужил с 1723 по 1731 г. в качестве члена Императорской академии наук и профессора логики, метафизики и морали. К слову сказать, таланты молодого ученого нашли признание не только в Северной Пальмире: Парижская академия наук присудила Бильфингеру первую премию за работу «О причине тяготения» (De causa gravitatis) в год его переезда в Россию. Покинув пределы Российской империи, Бильфингер продолжал получать от царицы пенсию, которой были отмечены его работы в области фортификации.
Герцог Эбергард Людвиг, по чьей просьбе Бильфингер согласился возвратиться в Тюбинген, назначил маститого профессора геологии суперинтендантом (ректором) местного богословского училища. В 1735 г. Бильфингер становится тайным советником, в 1737 г. — президентом консистории. Скончался он, окруженный почетом и уважением, 18 февраля 1750 г.
Творческая продуктивность Бильфингера поражает воображение. Он, говоря без преувеличения, был подлинным энциклопедистом, оставившим заметный след почти во всех областях тогдашней слабо дифференцированной науки. Видный представитель вольфианства, он, помимо прочего, прекрасно владел пером, и потому его работы часто перепечатывали, охотно читали, щедро цитировали, иной раз и без ссылки на авторство, переводили на иностранные языки, особенно на французский. Во Франции сочинения Бильфингера, удобства усвоения ради, перелагались в виде популярных вопросников. Дабы не оставаться голословными, приведем названия основных сочинений академика Бильфингера.
Dissertatio de harmonia praestabilita. Tübingen, 1721. In 4-o.
De triplici rerum cognitione. Tübingen, 1722. In 4-o.
De axiomatibus philosophicis. Tübingen, 1722. In 4-o.
De harmonia animae et corporis humani maxime praestabilita. Francoforti, 1723.
De origine et permissione mali. 1724. In 8-o.
Oratio de methodo discendi disciplinas morales et mathematicas. 1724. In 4-o.
Specimen doctrinae veterum Sinarum moralis et politicae. 1724.
Dissertatio de speculo Archimedis. Tübingen, 1725.
Notae brèves in Benedicti Spinozae methodum explicandi Scripturam Sanctam.
1725.
Dilucidationes philosophicae de Deo, anima humana, mundo et generalibus rerum affectionibus. Tübingen, 1725. In 4-o. 4-e Aufl. Tübingen: Cotta, 1768. In 4-o.
Далее, в периодическом издании Санкт-Петербургской академии наук «Comentationes Academiae Scientificae Petropolitanae vom Gottesdienst» Бильфингер опубликовал многочисленные статьи на темы физиологические, ботанические, анатомические.
Бильфингер, как о том свидетельствуют названия его основных работ, тщательно разрабатывал метафизические сочинения своего учителя. На Вольфа он здесь ориентировался, впрочем, так же как и на Лейбница. Для того чтобы Бильфингер мог успешно заниматься лейбнице-вольфианской онтологией, имелись определенные предпосылки. Во-первых, он был первоклассный теолог и, во-вторых, прекрасно владел схоластической философией, последний бастион которой в протестантской Германии долее всего продержался именно в Вюртемберге. Некоторые исследователи полагают, что влияние схоластической философии на Бильфингера порой превозмогало правоверное вольфианство4.
Будучи теологом, Бильфингер не упускал случая указывать на существующие между философией и религией общие моменты, да и к самому вольфианству этот ученый, как о том он сам и свидетельствует, обратился после ознакомления с учением Вольфа о служении Богу (vom Gottesdienst). Что касается занятий схоластикой, то они способствовали полемической выучке Бильфингера, который легко находил у своих противников даже тщательно замаскированные противоречия. Кроме того, с чем соглашался Вольф, Бильфингер владел латинским языком гораздо лучше своего учителя, что имело немаловажное значение на позднем этапе развития вольфианства, когда Вольф, поддержанный Бильфин-гером, предпринял переиздание своих основных философских трудов на латинском, общеевропейском для сообщества ученых, языке. К тому же сочинения Бильфингера, как уже упоминалось, часто переводились на французский язык. Наконец, Бильфингер от природы был наделен доброжелательным характером, который благотворно сглаживал полемическую активность ученого, что, вне всякого сомнения, повлияло на успешное распространение новой философской школы.
Бильфингер отличался проницательным умом, каковым могли похвастаться и прочие вольфианцы, однако он далеко превосходил своих коллег в начитанности и учености.
Рассмотрим теперь в общих чертах основные положения философской доктрины Бильфингера. В «Онтологии» (§ 6—135) он, подобно Вольфу, анализирует понятия возможного и невозможного, необходимого и случайного, затем переходит к законам логики (мышления). Здесь следует обратить внимание на то, что Бильфингер достаточно отчетливо различал причину, как основание, первопричину (der Grund) и причину, как действующую причину, повод (die Ursache). Первая, по Бильфингеру, содержит в себе лишь возможность следствия, тогда как со второй необходимо полагается и действование.
Разобравшись с понятиями определенного и неопределенного, Бильфингер переходит к рассмотрению простого и составного (тела). И хотя он, как и Вольф, пытается выскользнуть при этом из порочного круга, все-таки логической ошибки здесь избегнуть ему не удается. Дело в том, что составное (das Zusammengesetzte) как таковое, согласно Бильфингеру и Вольфу, дается из опыта, и уже от составного заключают к существованию простого (das Einfache). Простые субстанции он, как и Лейбниц, предпочитает называть монадами. Сущности эти, по мнению Бильфингера, наделены способностью к представлению, более того, в совокупности, неясно, впрочем, в силу чего именно, они наделены двигательной потенцией (die Bewegkraft). Предпочитая не останавливаться подробно на столь щекотливом моменте, Бильфингер скромно приписывает монаде некую vis motrix. То, что непротяженные субстанции в соединении оказываются протяженными в сравнении с положением, в силу которого из единого (монад) получается многое, выглядит, не в укор будет сказано, не таким уж страшным противоречием. Бильфингер со своей стороны не привлекал перцепцию при объяснении возникновения протяженности, хотя его наделенные движением монады весьма смахивают, даже более, чем у Вольфа, на атомы. Завершает «Онтологию» раздел о совершенстве (die Vollkommenheit), вполне сходный с аналогичным разделом Вольфа.
В «Космологии» (§ 136—231) Бильфингер все, как и ожидалось, сводит к монадам, хотя задачи собственно физики он ограничивает исследованием корпускул.
Третий, наиболее интересный раздел, называется «Психология» (§ 232— 369). Своей задачей Бильфингер видит выведение данных опыта из понятия души и потому не так строго, как то делал Вольф, разграничивает области рациональной и эмпирической психологии. Ввиду того, что любой душе присущи какие-то смутные представления, она оказывается наделенной тем или иным телом. Все теоретические и практические способности души, согласно постулатам Вольфа, выводятся из определения: душа есть субстанция, представляющая универсум соответственно положению своего тела. Определенные разногласия с Вольфом возникли у Бильфингера лишь касательно свободы, которая, по его мнению, прямо из определения души не выводится, поскольку для уяснения ее специфики требуются иные условия.
В качестве приложения к своей «Психологии» Бильфингер привел сводку различных воззрений по поводу проблемы соотношения души и тела. Данный раздел, по мнению ученого, к психологии не относится, ведь упомянутое выше определение Вольфа в равной мере устраивало как представителей популярной философии, так и картезианцев. Бильфингер, вообще говоря, стремится показать, что возможны только три способа понимания соотношения души и тела, на которые и обращали внимание Лейбниц с Вольфом. Душа, равно как и тело, суть res contingentes, так что их сосуществование может пониматься либо как взаимовлияние, либо как их общая зависимость от какой-либо causa dirigens. Такая зависимость, в свою очередь, может возобновляться постоянно или же быть установленной раз и навсегда. К этим вариантам и сводятся все возможные психофизические концепции, других — и на этом Бильфингер настаивал — представлено быть не может в принципе. Сказанное относится к работе «Dis-sertatio de harmonia praestabilita» (Tübingen, 1721), в наибольшей степени отмеченной лейбницеанским влиянием, но уже в «Dilucidationes philosophicae», т. е. четырьмя годами позже, Бильфингер размышляет вполне самостоятельно. В последней работе Бильфингера чрезвычайно интересуют вопросы, связанные с перцепцией монады, а также ее радикального отличия от атомов. Бильфингер стремился открыть законы движения монад, которые бы по своей точности не уступали законам механики. Если бы это произошло, то тогда, полагает ученый, удалось бы установить гармонию между этико-логическими и физико-механическими законами.
При доказательстве бессмертия души Бильфингер испытал те же самые трудности, что и Тюммиг (Thümmig). В итоге он должен был признать то, что приведенное выше вольфианское определение души совершенно не годится для души после смерти, в последнем случае определять следует не душу (anima), но дух (spiritus).
В естественной теологии Бильфингер затрагивает немаловажный вопрос, касающийся априорного познания. Вольф, с точки зрения Бильфингера, добавил к ранее существовавшему познанию ex causis познание ex ideis.
Определение Бога Бильфингер, как и Вольф, начинает строить из того, что Бог отличается от обычной души тем, что Он представляет себе все возможные миры, причем с абсолютной отчетливостью (vollkommen deutlich). Естественная теология в интерпретации Бильфингера, впрочем, как и любого другого представителя вольфианской школы, сводится по преимуществу к доказательствам бытия Божия и проблеме существования зла. В доказательствах бытия Божия заметна вольфианская выучка: отправляясь от существования случайных вещей, Бильфингер восходит к Ens a se, а уже оттуда разворачивает все Божественные атрибуты. Во втором вопросе Бильфингер склонен разделить взгляды Лейбница. После долгих рассуждений, связанных с понятиями необходимого, возможного и т. п., академик приходит к следующему выводу: Божественная Премудрость отнюдь не заключается в том, что Господь попускает существованию зла, но в том, что при сотворении и дальнейшем существовании мира количество зла в нем неизменно остается наименьшим из возможного.
В истории философии Бильфингер и Тюммиг составили себе имя, в отличие от «новатора» Баумгартена, как верные вольфианцы, удовлетворившие свою страсть к новизне незначительными изменениями внутри системы, ее популяризацией и совершенствованием. Однако в России, куда Вольф, кстати говоря, так и не удосужился приехать, Бильфингер долгое время считался светилом первой величины, оставившим глубочайший след в отечественной историко-философской традиции.
Справедливости ради следует сказать, что иностранные академики прибыли отнюдь не на пустое место. В России и на Украине, которая тогда входила в состав Российской империи, уверенно закладывались основы высшего гуманитарного и специального образования, которое не мыслилось в те времена без основательного курса философии. Представляется уместным набросать общую картину развития русской философии, чтобы оттенить роль Бильфингера в этом чрезвычайно комплицированном процессе.
На первом этапе образовательных реформ немаловажное значение имели различные иностранные учебные заведения, большая часть которых находилась в Москве. Здесь, прежде всего, следует упомянуть училище, возглавляемое пробстом Эрнстом Глюком, после смерти которого в 1705 г. училищем этим руководил И. Вернер Пауз. Помимо простых предметов, составлявших круг начального обучения, лютеранские наставники планировали ознакомить своих воспитанников с «философией картезианской». Иезуиты, державшие в Москве конкурирующее учебное заведение, преподавали латинский язык, математику и военное дело. Даже в далеком Тобольске какое-то время существовала школа пленного шведского офицера фон Вреха. По мере того как национальные учебные заведения становились на ноги, нужда в иностранных школах, естественно, отпадала, процесс этот, однако же, затянулся — так, мы знаем, что и в Александровскую эпоху петербургские иезуитские школы привлекали в свои стены толпы высокородных недорослей5.
Средние специальные учебные заведения не восполняли отсутствия высшей школы, а именно университета и академии, где, помимо прочих предметов, преподавалась бы и философия. Попытки создания такой академии прослеживаются с начала XVII в., когда Борис Годунов пытался пригласить в Россию каких-то немецких учителей, от чего ему все же пришлось отказаться по причине противодействия духовенства. В 1632 г. в Москве вновь была предпринята попытка создать школу с полным! гуманитарным образованием. Так, Адам Олеарий свидетельствует о наличии-некоей школы Арсения Грека в 1634 г. Заметными вехами на пути становления академической философии явились: учреждение греко-латинской школы;при Патриаршем дворе, более известной в истории под названием Ртищевской (шремя деятельности 1648'—1673 гг.), открытие Спасской школы (действовала с 1665 по 1667 г.) И; наконец, организация Типографской и Богоявленских школ (в период с 1682 по 1685 г.). В перечисленных выше учебных заведениях науки не излагались систематически, ученики получали там лишь отрывочные, поверхностные знания, вот почему с открытием Московской Славяно-греко-латинской академии деятельность названных училищ постепенно затухает6.
Все это не могло не сказаться на характере преподавания философских знаний. Профессиональное философское образование в России берет свое начало с лекций, читавшихся в стенах Киево-Могилянской и Московской Славяно-греко-латинской академий.
Московская академия во многом была сходна с Киево-Могилянской академией, деятельность которой в значительной мере повлияла на становление профессионального философского образования в России. Основание Киево-Могилянской академии как высшего учебного заведения относится к 1632 г. (после соединения Киевской братской и Лаврской школ; до 170Î г. это образовательное учреждение называлось Киевской коллегией) или, как считает 3. И. Хиж-няк, к 1615 г., поскольку училища полуакадемического типа существовали в Киеве с начала XVII в.7 Возникла эта академия благодаря усилиям православных братств, своеобразных организаций верующих, пытавшихся путем насаждения школ противодействовать католической экспансии. Основатель (или, как тогда выражались, фундатор) Киевской академии Петр Могила являлся выдающимся деятелем украинской культуры, видным просветителем, философом, богословом. В академии успешно преподавались риторика, философия, латинский, греческий, древнееврейский языки, география, математика, астрономия, механика, психология, медицина. Среди профессоров Киевской академии, чьи рукописные курсы дошли до нашего времени, наиболее заметными считаются Иннокентий Гизель, Иоасаф Кроковский, Стефан Яворский, Феофан Прокопович, Христофор Чарнуцкий, Георгий Конисский. Из названных мыслителей следует выделить Прокоповича, чья деятельность относится как к светской, так и к чисто церковной культуре.
Если говорить об общей философской направленности киевских академических курсов, то в них преобладают различные варианты синтеза христианского неоплатонизма с перипатетизмом, причем перипатетизм в большинстве случаев преобладает. Помимо сочинений античных авторов, профессора использовали труды Каэтана, Молины, Суареса, Родериго де Арриаги, Овиедо. В тексте лекций содержатся краткие изложения учений Коперника, Галилея, Декарта. Философская проблематика, занимавшая умы профессоров Киево-Могилян-ской академии, может быть уяснена только на примере конкретных курсов, поскольку, ввиду богатства и сложности предоставляемого ими историко-философского материала, любые общие о них рассуждения обречены на бездоказательность и декларативность.
Иннокентий Гизель был одним из создателей «Киево-Печерского патерика» (1661), он же написал историческое сочинение «Синопсис» (1674), в котором проводились идеи о единстве происхождения русского, украинского и белорусского народов. В истории философии Гизель известен прежде всего как автор обширного философского курса «Сочинение обо всей философии» (Opus totius philosophiae), прочитанного им в стенах Киево-Могилянской академии в 1645— 1647 гг. Данный курс, единственный из сохранившихся полностью от этого периода, оказал заметное влияние на академическую традицию конца XVII— начала XVIII в.8
Гизель, по происхождению немец, родился около 1600 г. и умер в 1683 г. Образование он получил в Киевском коллегиуме, где прослушал курс И. Ко-ноновича-Горбацкого. По окончании академического курса он учился в европейских университетах, возможно, даже в Англии9. С 1645 г. — профессор, а затем и ректор Киевского коллегиума.
Натурфилософские взгляды Гизеля с достаточной полнотой представлены в книге украинской исследовательницы Я. М. Стратий «Проблемы натурфилософии в философской мысли Украины XVII века» (Киев, 1981). Природу Гизель определял «как универсальность сотворенных вещей, как чтойность (quid-ditas) и сущность каждой вещи». В ней он выделял три состояния, а именно: состояние безразличия, или природу саму по себе (природа здесь является индифферентной к своим акцидентальным предикаментам), состояние природы относительно существования (состояние единичности) и состояние природы в абстракции разума, где природа вновь обретает свое идеальное единство. Познавая общую природу, человеческий разум уясняет себе закономерности, в соответствии с которыми осуществляется переход от первого (потенциально общего) ко второму состоянию природы. Переход этот осуществляется посредством особых, имманентных природе форм, которые, в интерпретации Гизеля, разительно напоминают элементарные категории формальной логики. Это — логические операции ума, который, абстрагируясь от материи, становится способен воспринимать чистые сущности. Гизель, вообще говоря, всячески старается приблизить общее к материи, разумеется, не допуская их смещения, в чем, в принципе, и находит свое выражение синтез неоплатонизма с перипатетизмом (характерная в этом отношении сентенция: «Необходимой предпосылкой существования является единичность»).
К числу других особенностей философии Г изеля следует отнести стремление объяснить природные процессы и явления из них самих, хотя и здесь дает о себе знать отмеченный выше синтез неоплатонизма с перипатетизмом (который трудно охарактеризовать иначе, нежели философский конформизм). Бог, согласно учению Гизеля, пребывает повсюду, будучи причастен каждой сущности, и, таким образом, опасно-пантеистически соприкасается с материальным миром. Сам Г изель, впрочем, стоял на креационистских позициях, уклонения от которых объясняются, вероятно, сложностью предпринятого им философского синтеза. Во всяком случае, креационизм Гизеля разительно отличается от креационизма Лиху-дов, которые в сравнении с киевским профессором выглядят консерваторами. Гизель, далее, настаивал на однородности земной и небесной материй, хотя и отрицал наличие в небе субстанциональных изменений, против чего одним из первых выступил Феофан Прокопович. Движение Гизель рассматривал преимущественно с качественной стороны, подразумевая под ним различные изменения, происходящие в материальном мире. Попытки перехода к механистическому пониманию движения можно, впрочем, усмотреть в теории «impetus» (толчка) и концепции «интенсификации и ремиссии форм».
Другой видный представитель киевской учености — митрополит Муромский и Рязанский Стефан Яворский (1658—1722). Он учился в Киевском коллегиуме у Иоасафа Кроковского, после чего слушал лекции в коллегиумах Львова, Люблина, Познани и Вильно. Возвратившись в Киев, Яворский со временем становится префектом местной академии, затем переводится в Великороссию и, достигнув вершин духовной карьеры, умирает местоблюстителем патриаршего престола и первым президентом Святейшего Синода. Литературное наследие Яворского поражает своей обширностью: в него входят проповеди, поэтические произведения на русском, польском и латинском языках, памфлеты, фундаментальный богословский трактат «Камень веры», изданный после смерти Яворского (1728) трудами его сподвижника Феофилакта Лопатинского. Трактат «Камень веры» направлен против протестантизма. Каждый православный догмат, против которого выступали протестанты, в этой книге сначала подробно излагается и доказывается (в своих доказательствах Яворский опирается на Священное Писание и Предание, определения Соборов, не забывая, впрочем, о рациональных аргументах), а уже затем сокрушительной критике подвергаются возражения оппонентов. В философском отношении «Камень веры» представляет интерес, как попытка расширить сферу богословия10, по сути дела, в ущерб философской проблематике.
Яворский оставил после себя и собственно философский курс, носящий название «Философское состязание» (1693—1694), оказавший несомненное влияние на аналогичный курс Феофилакта Лопатинского.
Философский курс Яворского выстроен в соответствии с правилами Второй схоластики11. В нем наличествуют непременные разделы (диалектика, логика, физика и метафизика). Метафизика излагается несколько подробнее, нежели у других профессоров. В ней содержатся пролегомены к метафизике, трактаты об акцидентальном и потенциальном сущем, о противоположностях, родах и видах реально сущего. Специфика философии Яворского определяется несколькими моментами12. Материю и форму он признавал равноценными принципами (началами) природных вещей, тогда как ортодоксальные томисты отдавали предпочтение форме. Форма, понимаемая как идея предмета, по мнению Яворского, существует в самой материи и зависит от нее, испытывает к ней тяготение. Изменения, происходящие в материальном мире, объясняются, исходя из антагонизма, существующего между формами, успевшими реализоваться в материи, и формами, существующими покуда потенциально. Далее, Яворский полагал, что бытие вещи не сводится к ее форме и материи, поэтому акт и потенцию он рассматривал в качестве аспектов реальной вещи, отказавшись от их гипостазирования. Кроме этого, Яворский настаивал на номиналистическом понимании отличия сущности от существования, утверждал примат единичного над универсальным, разделял теорию «двух истин» (религиозного и философского знания).
Яворский считается автором первого в отечественной истории курса психологии. Органы чувств и мозг он рассматривал в качестве определенным образом организованной материи. Идеальный момент заключался здесь в способе такой организации.
В социологическом плане Яворский оправдывал право царя на верховную власть в государстве, хотя и с отдельными оговорками. Государство, по мнению Яворского, обязано обеспечить всем своим подданным общее благо. Подданные делились Яворским на четыре сословия, причем основная тяжесть налогов падала на крестьян, мещан, ремесленников и купцов. Следуя духу времени, Яворский отдавал предпочтение личным заслугам перед знатным происхождением. Немало запоминающихся страниц посвятил он осуждению общественного неравенства и порождаемых им пороков: чрезмерной роскоши, лености, распущенности, нищеты. Надежды на избавление от этих зол Яворский со всем тем связывал с установлением Царства Божия. Объективно, несмотря на отдельные колебания в сторону католицизма, Яворский являлся защитником православия, быть может, робким на практике, зато непоколебимым и неустрашимо последовательным в теории.
Активно разрабатывали профессора Киево-Могилянской академии и этическую тематику. В этой связи заслуживают упоминания Лазарь Баранович, Иннокентий Галятовский, Михаил Козачинский, Стефан Калиновский, Георгий Конисский, Сильвестр Кулябка, а также упоминавшиеся Гизель, Яворский и Прокопович13. Этические курсы были направлены на формирование новых нравственных установок, пропагандировали любознательность, любомудрие, деятельную жизненную позицию, при этом особенно подчеркивалась роль труда в формировании нравственного облика человека. Смысл жизни виделся в деятельной борьбе с пороками и преступлениями, в активном противодействии печали духа. Небесное блаженство, впрочем, со счетов не сбрасывалось, оно изучалось в теологических трактатах, тогда как этика была нацелена на достижение человеческого счастья в земной жизни, разумеется, в строгом соответствии с требованиями православия. Практическая жизнь и нравственная позиция человека, по мнению профессоров Киево-Могилянской академии, зависят от того, насколько правильно понимает он свое место в общей структуре универсума. Отсюда — заметное усиление рациональной компоненты этических трактатов. Сущность человека понимали как способность познания, мышление, приобретенное знание, и именно рациональное мышление расценивалось в качестве фактора, определяющего качественное отличие человека от иных природных существ и неодушевленных предметов. Этика пыталась обрести статус исследовательских дисциплин, использующих методику естествознания, бурно тогда развивавшегося14. Наука эта подразделялась в то время на три части: монасти-ку, экономику и политику. Монастика занималась нравственными проблемами отдельного человека, в экономике речь велась о правильно организованном хозяйстве, политика трактовала о государстве.
Выпускники Киево-Могилянской академии вели просветительскую деятельность в Виннице, Кременце, в Яссах, Молдавии и Валахии. Значительная группа преподавателей пополнила состав Московской Славяно-греко-латинской академии.
Вопрос о дате открытия этой академии по сей день относится к числу спорных. Отдельные исследователи принимают за исходную дату 25 декабря (здесь и в дальнейшем все даты, случившиеся до известных событий 1917 г., указываются по старому стилю) 1685 г., когда школа была официально признана патриархом Иоакимом. Другие историки начинают отсчет с 1687 г., поскольку именно тогда завершилось строительство здания на территории Заиконо-спасского монастыря, где академия просуществовала до 1814 г.
История академии разделяется на три этапа. Первый из них (1685— 1700) связан с именами греческих учителей, братьев Лихудов, во втором периоде (1700—1755) преобладает латинское влияние, третий период (1755—1814), отмеченный (с 1775 г.) деятельностью митрополита Платона (Левшина), характеризуется усилением воздействия церкви, что и привело к превращению Московской академии в чисто духовное учебное заведение.
На первых порах в академии преподавали греческие учителя, братья Иоан-никий и Софроний (светские имена — Иоанн и Спиридон) Лихуды, происходившие родом с принадлежавшего тогда Венецианской республике острова Кефалония. Учение между тем не заладилось: едва приступив к чтению философского курса, Лихуды, в связи с какими-то политическими интригами, были вынуждены покинуть академию, которая с 1694 по 1701 г. оставалась неуправляемой. Реорганизация преподавания на латинский манер происходит в 1701 г., и уже с 1704 г. к чтению лекций по философии приступает Феофилакт (Лопа-тинский).
Братья Лихуды, идейно возглавлявшие борьбу против партии «латынников», оставили после себя множество полемических сочинений: «Акос, или врачевание, противополагаемое ядовитым угрызениям змиевым» (написано в 1687 г. и направлено против Сильвестра Медведева), «Показание истины», «Диалог грека учителя к некоему иезуиту», «Мечец духовный» (1690 г.), «Показание и обличение ересей Лютора и Кальвина», «Обличение на гаждителей Библии». Помимо собственно академических курсов свои философские воззрения Лихуды развивали в «Слове о Софии Премудрости» и в «Поучении в пятую неделю Святой Четыредесятницы о предопределении» 15.
Философские курсы Лихудов, дошедшие до нас в рукописях, делились на две части, а именно: логику и натурфилософию. Во введении к логическому курсу (носившему довольно-таки витиеватое заглавие «Иеромонаха Софрония Лиху-да яснейшее изложение всего логического действования» и прочитанному в 1690—1691 гг.) Софроний Лиху да излагает свое учение о терминах, как основаниях суждения. Под термином он понимает звук, имеющий условное значение. В курсе рассматриваются составные части и виды терминов, их деление, качество и количество. В разделе о предложении особенно подробно прорабатывались различные виды обращения предложений. В учении об умозаключении рассматриваются четыре вида силлогизмов, изучаемых ныне в курсе формальной логики. В конце названной «Логики» анализировались проблемы, связанные с теорией аргументации, т. е. правилами диалектического спора, искусной постановки вопросов и ответов. Во втором разделе «Логики» — «Предварительных вопросах относительно всей логики Аристотеля» — подробно обсуждалось разделение логики, ее значение, предмет и характер логического знания вообще. Логика понималась как наука теоретическая и подразделялась на дидактическую и прикладную. В третьей части — «Объяснениях и вопросах на “Введение” Порфирия» — излагалось перипатетическое учение о логических роде, виде, об отличительном, существенном и случайном признаке, написанное в соответствии со схоластической традицией в виде комментария на известный труд позднеантичного философа Порфирия (Малха), который, в свою очередь, комментировал логические труды Аристотеля16.
Завершалась «Логика» трактатом о практическом и теоретическом знании, о правильном методе познания, а также «Объяснениями и вопросами» на «Категории» Аристотеля и первые главы первой книги «Аналитик».
В курсе натурфилософии (написан в 1689 г., начал читаться в 1691 г.) Иоанникий Лихуд разбирал проблемы материи и движения, причинности, пространства и времени, прерывности и непрерывности, конечности и бесконечности, приводил сведения из области физики и химии, подробно излагал вопросы, связанные с деятельностью человеческой души (психология). Во «Вступлении» к этому курсу Иоанникий рассуждает о предмете «естественной философии», или «физики» (натурфилософии), об ее соотношении с метафизикой, о подразделениях этой науки. В первой книге «Физики» речь идет о началах вещей естественных, как то: материи, форме, «лишенности» формы, стихиях. Во второй подробно объясняются понятия «природа», «искусство», «действия невольные», четыре вида причин (материальная, формальная, действующая и целевая). В третьей книге исследование касается атрибутов вещей естественных: движения, «страдания», действия. Здесь же дается развернутая критика (с перипатетических позиций) философских концепций Фалеса, Анаксагора, Демокрита и Эпикура. Справедливо полагая, что из случайного не образуется сущности, Иоанникий убедительно опровергает космогоническую гипотезу Т. Кампанеллы, изложенную последним в сочинении «Философия, доказанная ощущениями» (1591). Кампанелла, как известно, полагал, что небо, земля, вода и воздух спонтанно возникли из некоей диффузной массы, которая, впрочем, была сотворена Богом.
В названных сочинениях Лихуды решительно защищали учение о свободе воли, предопределение же они рассматривали как Божественное предвидение. В философских курсах греческих учителей царил перипатетизм, сопряженный с идеями греческих гуманистов-неоплатоников — Иоанна Зигомалы, Леонарда Миндония, Эммануила Маргуния. Православные ученые, жившие на территории современных Украины, Молдавии и Белоруссии, нередко обращались к идеям греческого неоперипатетизма, рассматривая его как одно из средств борьбы с католической экспансией, идейной основой которой являлась схоластика.
В целом философию братьев Лихудов можно охарактеризовать как склонную к трансцендентализму, в основном креационистскую17. Это находило свое выражение в том, что Лихуды различали два идеальных, внебытийных принципа природных вещей. Внешний принцип считался транцендентным земному миру, внутренний — имманентным. Первый, отождествляемый с Богом, рассматривался, как неподвижный перводвигатель, приводящий в движение все, что существует в природе, второй, пребывающий в зависимости от первого, выполнял распорядительные функции в становящемся, действительном бытии. Вопрос о том, в какой степени братья Лихуды испытали влияние аверроизма — (аверро-изм как философское направление на всем протяжении XVII столетия существовал в Падуанском университете (Коттонианской академии), который, как мы знаем, окончили Лихуды), — до сих пор остается открытым прежде всего ввиду недостаточной изученности философских курсов, принадлежащих основателям Московской академии.
К числу важных для истории отечественной философии сочинений Софро-ния Лихуда следует отнести «Ответ Софрония Лихуда» (написан в Новгороде, по-видимому, не позднее 1711 г.), который, по мнению В. В. Аржанухина, был в первую очередь направлен против Стефана Яворского. «Ответ...» правомерно рассматривать как отдельный трактат, поскольку его адресатом, как считает публикатор, является все тот же Софроний Лихуд18.
В названном сочинении Софроний попытался ответить на вопросы, заданные им, совместно с Новгородским митрополитом Иовом, Стефану Яворскому и другим профессорам Московской академии в 1711 г.: «Вопрос философский. Если душа созидается от Бога, то откуда в ней нечистота? <...> Вопрос метафизический. Вода Св. Крещения освящает ли только тело или вместе и душу? <...> Вопрос богословский. Как объяснить слова Дионисия Ареопаги-та: “Кругловидно божественнии умы... соединяются безначальным и бесконечным осиянием бесконечно благого Бога”?»19.
В философском отношении, помимо достаточно традиционного учения о душе, «Ответ» вызывает интерес по причине проводимого в нем парадоксального разграничения областей философии, метафизики и богословия. Что побудило Софрония к столь оригинальному поступку, сказать трудно, поскольку в своем рукописном философском курсе он держался определения предметов этой науки и богословия: «Философия делится на физику, являющуюся наукой о вещах, отделенных от индивидуального <...>; математику, которая является наукой о вещах, частично отделенных от материи; и на божественную, которая является наукой о вещах, полностью отделенных от материи» 20. Возможно, Софроний пожелал сделать реверанс в сторону традиционалистски настроенных ревнителей старорусского благочестия, понимавших философию, как учение о добродетельной и аскетической жизни. Во всяком случае, столь оригинальное понимание метафизики, которая в интерпретации Лихуда едва различалась от богословия, удачным ни в каком отношении назвать было нельзя. В «Ответе» Софроний, впрочем, так и не представил доказательных отличий философии от метафизики, а двух последних предметов от богословия, что побудило Стефана Яворского вполне резонно заметить, что все три вопроса Лихуда, по сути дела, являются богословскими. Далее Яворский указал на то, что метафизика представляет собой часть философии и выделять ее в качестве самостоятельной дисциплины непозволительно и абсурдно21.
К ученикам Лихудов, оставившим заметный след в истории российской культуры, относятся: Палладий Роговский (первый русский доктор философии), Леонтий Магницкий, Феодор Поликарпов-Орлов, Николай Семенов-Головин, монах Феолог, Карион Истомин.
Второй период в деятельности Московской Славяно-греко-латинской академии был гораздо более плодотворным, нежели первый. Национальный состав слушателей поражал разнообразием — кроме русских, украинцев и белорусов там учились грузины, южные славяне, греки, австрийцы (или немцы, или же австрийские славяне), поляки, венгры, литовцы и татары. С течением времени такое положение переменилось. Указ от 17 октября 1723 г. запретил дворянам оставаться в школах по достижении 15-летнего возраста, в Синодальном же указе от 7 июня 1728 г. требовалось: «помещиковых людей и крестьянских детей, также непонятных (слабоуспевающих. —А. П.) и злонравных... отрешить и впредь таковых не принимать» 22. Именно по милости этого указа сыну холмогорского помора М. В. Ломоносову пришлось скрыть свое незнатное происхождение при поступлении в академию.
Преподавание в Московской академии в первой четверти XVIII в. происходило следующим образом. Все ученики подразделялись на девять классов, первым из которых считалась славяно-российская школа. Там учили азбуку, славянское письмо, читали «Часослов» и «Псалтирь». В следующем классе — (фаре) юноши учились читать и писать по-латыни с тем, чтобы в третьем классе — (инфиме) перейти к углубленному изучению грамматики славянского и латинского языков. В четвертом, «грамматическом», классе ученик обязан был освоить всю славянскую грамматику и часть грамматики латинской. Здесь же изучались такие предметы, как география, история, арифметика и катехизис. В пятом классе — (синтаксиме) латинский язык должен был быть изучен в полном объеме: ученики там писали по-латыни краткие сочинения, на исторические темы преимущественно.
В шестом, пиитическом, классе занимались стихосложением, осваивая различные стихотворные размеры, а в седьмом, риторическом, составляли проповеди на латинском и русском языках. Что касается до греческой школы, то она какое-то время влачила существование отдельно от академии, причем с весьма неопределенным статусом. Лихуды между тем возвратились в Москву из Новгорода и также стали преподавать свой родной язык, сначала на Казанском подворье, а затем в Типографии, где до них в качестве учителя подвизался заезжий грек Афанасий Скиада, и только в 1724 г. греческий язык занял полагающееся ему место в программах Московской академии.
Академическое образование завершалось в двух последних классах — философском и богословском. Префект академии обыкновенно читал двухлетний курс философии, тогда как ректор — четырехлетний курс теологии. Таким образом, полный академический курс растягивался на тринадцать-пятнадцать лет, в зависимости от успехов учащегося. Тексты лекций заучивались наизусть, а ученики старших классов, помимо этого, должны были подтверждать свой статус участием в публичных диспутах, доступ куда был открыт любому желающему поупражняться в тонкостях латинской схоластики.
Значение Московской академии в развитии отечественной духовной культуры переоценить трудно. В Петровское время среди учеников и сотрудников академии можно было встретить таких примечательных личностей, как Ф. Поликарпов, который являлся автором оригинальных учебников — «Букварь» 1701 г. и «Грамматика» 1721 г. Там же можно было увидеть поэта К. Истомина, поэта и будущего государственного деятеля А. Кантемира, первого русского доктора медицины П. Постникова, выдающегося русского математика Л. Магницкого. В последующем в академии обучались такие видные деятели русской культуры, как М. В. Ломоносов, С. П. Крашенинников, С. Г. Забелин, Рафаил Забо-ровский, H. Н. Бантыш-Каменский, H. Н. Поповский, В. С. Петров, В. Г. Рубан, В. И. Баженов, Н. И. Попов, а также многие другие, менее известные, ученые, писатели и государственные деятели.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 См.: Панибратцев А. В. Философия в Московской Славяно-греко-латинской академии (первая четверть XVIН века). М.: ИФ РАН, 1997.
2 Общепризнанно, что первый состав академиков долгое время оставался непревзойденным. См.: Шпст Г. Г. Очерк развития русской философии // Шпет Г. Г. Сочинения. М., 1989. С. 36.
3 Город в герцогстве Вюртемберг (на исторических землях графства Урах), расположен западнее имперского города Ульм.
4 Erdmann J. Е. Versuch einer wissenschaftlichen Darstellung der Geschichte der neuern Philosophie / Hrsg, von H. Glöckner. — Stuttgart: Fr. Frommanns Verlag (H. Kurtz), 1932. Bd. 4. S. 370.
5 Харлампович К. В. Малороссийское влияние на великорусскую церковную жизнь. Казань, 1914. T. 1. С. 127; Флоровский А. В. Латинские школы в России в эпоху Петра Первого // Восемнадцатый век. М.; Л.,'1962.'Сб. 5. С. 316—335.
6 О Ртищевской школе см.: Румянцева В* С. Ртищевская школа // Вопросы истории. 1983. № 5. С. 179—184. Вопрос этот, не в укор многим последователям будет сказано, остается дискуссионным и по сию пору. Так, в научной литературе наличествует мнение, следуя которому само существование всех перечисленных выше школ XVII столетия ставится под радикальное сомнение. См.: Каптерев М. Ф. О греко-латинских школах в Москве в XVII веке до открытия Славяно-греко-латинской академии // Речьг произнесенная на публичном акте МДА 1 октября 1889 г. Сергиев Посад, 1889. Сюда же следует отнести цитированный выше, тщательно документированный труд Харламповича.
7 Хижняк, 3i И. Киево-Могилянская академия. Киев, 1988. С. 71.
8 Помимо собственно; философского курса, до нас дошли три философские работы Гизеля: «Сочинение обо всей философии», «Философские аксиомы», «Мир с Богом человеку».
9 См.: Сумцов Н..Ф: К истории южнорусской литературы XVII ст. Харьков, 1885. Вып.З. С. 3.
10 Правда, гораздо менее радикальная в сравнении с попыткой, представленной в «Ответе Софрония Лихуда», о котором речь пойдет ниже.
11 Вторая схоластика — философское направление, официально принятое католической церковью в период Контрреформации, т. е. после Тридентского собора (1545— 1563). На этом соборе, помимо прочего, были утверждены догматы о первородном грехе, о чистилище, о непререкаемости авторитета папства (даже относительно постановлений соборов католической церкви), а также предан анафеме протестантизм. Тридентское исповедание веры претерпело существенные изменения только в 60— 70-е гг. нашего века, подвергнутое ожесточенной критике, кстати говоря, сторонниками этого исповедания (кардинал Лефевр).
12 Философские взгляды Стефана Яворского подробно изучены в монографии львовского исследователя И. С. Захары: Борьба идей в философской мысли на Украине на рубеже XVII—XVIII веков (Стефан Яворский). Киев, 1982.
13 «Десять книг Аристотеля к Никомаху, то есть Этика» Стефана Калиновского, «Этика» Сильвестра Кулябки и «Нравственная философия, или Этика» Михаила Козачинского опубликованы в русском переводе М. В. Кашубы в книге «Памятники этической мысли на Украине XVII—первой половины XVIII ст.». Киев, 1987.
14 См.: Ничик В. М. Из истории отечественной философии конца XVII—начала XVIII века. Киев, 1978. С. 298.
ь Свои полемические сочинения братья Лихуды, как правило, писали совместно, чего, впрочем, нельзя сказать относительно философских курсов. Сочинения эти дошли до нас в рукописях, единственная крупная работа Лихудов, которая была напечатана в сравнительно недавнее для нас время, — «Мечец духовный», изданная в 1866 г. трудами Казанской духовной академии.
16 В этой связи представляется уместным привести язвительную ремарку К. А. Свасъяна: «Таковы средневековые метаморфозы Аристотеля, с мыслью которого университетская Европа знакомилась — шутка ли сказать! — по латинскому переводу еврейского перевода комментария к арабскому переводу сирийского перевода греческого текста» // Шпенглер О. Закат Европы. М., 1993. T. 1. С. 638 (Примечание 32).
17 См.: Стратий Я. М. Проблемы натурфилософии в философской мысли Украины XVII В. Киев, 1988. С. 32.
18 См.: Аржанухин В. В. К публикации «Ответа Софрония Лихуда» // Историко-философский ежегодник. 1993. М., 1994. С. 228—230. Перевод этого памятника отечественной философской мысли и комментарий к нему см.: Там же. С. 231—255.
19 Рукопись хранится в Государственной публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, Софийское собрание, № 1427.
20 Лихуд С. Aphantisma philosophicum // Отдел рукописей РГБ. Ф. 173. N. 302. V. 127.
21 См.: Яворский Стефан. Неизданные сочинения // Черниговские епархиальные ведомости. 1861. № 10. С. 468—469.
22 Знаменский П. В. Духовная школа в России до реформы 1808 года. Казань, 1881. С. 320.
ПЕРЕВОДЫ
Христиан Вольф
МЕТАФИЗИКА
ОТ ПЕРЕВОДЧИКА
Предлагаемый перевод впервые знакомит отечественного читателя с текстом основного философского произведения Хр. Вольфа «Разумные мысли о Боге, мире и душе человека, а также о всех вещах вообще» (Vernünfftige Gedancken von Gott, der Welt und der Seele des Menschen, Auch allen Dingen überhaupt, Den Liebhabern der Wahrheit mitgetheilet von Christian Wolffen. Die dritte Auflage hin und wieder vehrmehret. Halle, 1725). В историко-философской литературе данную работу принято называть термином «Метафизика» (или «Немецкая метафизика»), дабы отличить ее от более позднего, радикально переработанного и расширенного до нескольких томов латинского варианта, перевод отдельных фрагментов которого также представлен в данной книге. При жизни мыслителя эта работа неоднократно переиздавалась, что объясняется не только широкой популярностью Вольфа в Германии первой половины XVIII в., но и особым местом, занимаемой «Метафизикой» в его научном наследии в целом. Именно здесь с наибольшей полнотой и последовательностью Вольф сформулировал исходные теоретические и методологические принципы своей философской системы, представил ее общую структуру и логическую последовательность основных проблемно-содержательных частей, которые, в свою очередь, определяют субординацию конкретных наук или дисциплин, входящих в состав философского знания вообще. По этой причине Вольф рассматривал метафизику в качестве «главной» философской науки, и именно поэтому указанная работа стала исходным пунктом и подлинным началом того философского направления или движения, которое вошло в историю немецкой философии под именем «лейбнице-вольфовской школы метафизики».
Конкретный содержательный анализ «Разумных мыслей...» дается в нашей статье «Рационалистическая метафизика Вольфа и вольфианцев и ее место в истории философии Нового времени», а также в других материалах данной книги, здесь же мы остановимся на некоторых особенностях предлагаемого перевода. При его осуществлении нам пришлось столкнуться с трудностями, связанными, во-первых, со спецификой языка Вольфа, а во-вторых, со своеобразием его манеры или способа рассуждения, формы изложения или подачи материала. Как известно, Вольф внес огромный вклад в формирование немецкого научного языка и философской терминологии, тем не менее в своих сочинениях он опирался на довольно архаичные грамматические формы современного ему старонемецкого языка, пользовался его еще не вполне устоявшимися лексическими, синтаксическими, орфографическими правилами и нормами, устаревшими и не всегда строгими грамматическими конструкциями и способами построения фразы, невнятными и порой наивными речевыми оборотами, стилистическими приемами и т. п. Поэтому при переводе оригинального вольфовского текста на современный русский язык возникали определенные сложности, связанные с опасностью либо антиисторической модернизации первоисточника, утратой его языковых и стилистических особенностей, либо нарочитой стилизации, псевдоисторической подделки «под архаику». В нашем переводе мы стремились избежать обеих этих крайностей, видя главную свою задачу в максимально адекватном и точном воспроизведении познавательного содержания или существа обсуждаемых Вольфом проблем, их философского смысла.
Что же касается формы изложения Вольфом своих «Разумных мыслей...», то именно она главным образом и стала причиной расхожих оценок его философии как скучной, плоской, скудоумной и т. п., тем более что его манера рассуждения, способы экспликации рассматриваемых понятий и проблем были обусловлены общими теоретическими и методологическими установками его «Метафизики» и потому оказывали заметное влияние и на их предметный состав, собственно философское содержание. Как известно, основной задачей своей философии Вольф считал прояснение, отчетливое определение и последовательное систематическое обоснование всех ее понятий, а также их «общедоступное» и просветительски-популярное изложение. Для достижения этой цели он разделил текст «Метафизики» более чем на тысячу отдельных параграфов, каждый из которых должен иметь форму «хорошего вывода» из «первых оснований познания и всех вещей вообще» и в то же время подтверждаться «ясными опытами», т. е. сопровождаться или иллюстрироваться конкретными эмпирическими примерами.
Последовательное и педантичное проведение указанных установок обернулось тем, что текст его «Метафизики» оказался предельно перегруженным постоянным обращением к ее исходным основаниям и принципам, грешит бесконечными и нудными повторениями одних и тех же логических формулировок, схоластическими дефинициями и доказательствами общеизвестных истин и очевидных понятий, многословными разъяснениями банальных эмпирических примеров и иллюстраций, призванных придать системе «Разумных мыслей...» видимость содержательной полноты и познавательной значимости. Мы уже не говорим о бесчисленных самоцитатах Вольфа, его малосодержательных отступлениях от общего хода рассуждений, где он вступает в многословную и невразумительную полемику с анонимными оппонентами, голословные обвинения которых сопровождаются неумеренными самовосхвалениями или трусливыми попытками самооправдания.
Все эти особенности вольфовского текста превращает его чтение в крайне скучное и утомительное занятие и заставляет серьезно задуматься о целесообразности перевода многих его фрагментов и параграфов, которые нередко отличаются друг от друга всего лишь малозначительными деталями или дополнениями, а их полное и дословное воспроизведение порой лишь затрудняет восприятие и понимание общего смысла и логики философских рассуждений Вольфа. Вместе с тем, на наш взгляд, было бы принципиально неверным пойти и по пути частичного или выборочного перевода отдельных фрагментов вольфовской работы, ее наиболее важных или интересных глав или параграфов, изъятых из общей логики или контекста его системы метафизики.
При всей декларативности намерений Вольфа и декоративности осуществления им своего замысла построить философию как строго доказательную и завершенную науку, его «Метафизика», тем не менее, представляет собой достаточно четкую и продуманную систему философских знаний, для которой первостепенное значение имеет дедуктивная форма изложения «разумных мыслей», их логическая последовательность и упорядоченность, взаимные отношения и связи между общими принципами и конкретными примерами, рациональными основаниями и данными опыта и т. д. и т. п. Поэтому для уяснения их реального познавательного содержания и философского смысла необходимо иметь перед глазами общую схему или структуру «Метафизики», логику ее систематического построения, как указывает и сам Вольф, подчеркивая, что для «правильного понимания» его «Разумных мыслей...» их нужно читать последовательно от начала до конца, строго придерживаясь порядка их расчленения на главы и параграфы.
Исходя из этих соображений, мы решили пойти по следующему пути. Наиболее важные и репрезентативные разделы и параграфы «Метафизики» мы даем в полном и буквальном переводе, без каких-либо купюр или сокращений. В тех же местах, где у Вольфа имеют место почти дословные повторения логических формулировок или многословные описания эмпирических примеров, данных опыта или конкретных наук, порой имеющих весьма отдаленное отношение к собственно философской проблематике ит. п., мы сочли возможным и даже необходимым ограничиться переводом либо заголовков параграфов, либо сжатым и сокращенным изложением или конспективным и обобщенным пересказом их содержания. При этом мы стремились строго сохранить особенности вольфовского языка и терминологии, кратко, но максимально приближенно к оригинальному тексту воспроизводить содержание основных понятий или тематику большинства параграфов, что позволит читателю иметь перед глазами полную структуру работы, а главное, понять общую логику метафизических рассуждений мыслителя, место и функцию каждого понятия в контексте его системных построений. Кроме того, в предлагаемом переводе мы по мере возможности сохранили некоторые образцы тех многочисленных повторений, многословных иллюстраций и отступлений, которыми пестрит текст вольфовской «Метафизики», дабы читатель на конкретных примерах мог убедиться в незначительности потери от сокращения аналогичных случаев, а при желании — непосредственно и адресно обратиться к соответствующему фрагменту оригинала.
В предлагаемой публикации полный и точный перевод вольфовского текста дается обычным шрифтом, а его сокращенный перевод или конспективное изложение приводится курсивом в косых скобках, в них же многоточием отмечаются отдельные купюры или пропуски в полном переводе. В квадратных скобках приводятся необходимые вставки и добавления переводчика. В круглых скобках даются слова и термины оригинала (в их современном написании), ссылки Вольфа либо на предшествующие параграфы «Метафизики», либо на другие его собственные работы, а также указания на труды упоминаемых им авторов. Поскольку эти ссылки делаются им крайне небрежно, зачастую без точного и полного названия упоминаемой работы, места и года ее издания, номера страницы и т. д., мы внутри текста в ряде случаев дополняли воль-фовские сноски уточненными данными о приводимых им источниках или указаниями на их русскоязычные издания.
В. А. Жучков
РАЗУМНЫЕ МЫСЛИ О БОГЕ, МИРЕ И ДУШЕ ЧЕЛОВЕКА, А ТАКЖЕ О ВСЕХ ВЕЩАХ ВООБЩЕ, СООБЩЕННЫЕ ЛЮБИТЕЛЯМ ИСТИНЫ ХРИСТИАНОМ ВОЛЬФОМ
Третье исправленное и дополненное издание. Галле, 1725
ПРЕДИСЛОВИЕ [К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ, 1719 г.]
Благосклонный читатель,
Рассудок, добродетель и здоровье — таковы три наиважнейшие вещи, к которым в этом мире должны стремиться люди. Однако именно на них, как правило, менее всего обращают внимание. Но тот, кто задумывается о причинах бед нашего времени, видит, что они происходят из недостатка рассудка и добродетели. Будучи детьми в рассудке, но зрелыми мужами во зле, многие люди впадают в большие несчастья и пороки. Но, конечно, особое отвращение внушают мне те, кто мнит себя вправе давать советы относительно хорошего и справедливого обустройства общества.
С юности я испытываю любовь к человеческому роду и желание сделать его более счастливым, и для меня нет ничего более приятного как отдавать все свое время и силы на развитие рассудка и добродетели среди людей. И чем больше мне приходилось сталкиваться с отсутствием таких качеств у плохо воспитанных поколений и болезненно это переживать, тем больше я утверждался в своем намерении и в готовности не останавливаться в начатом деле до самых последних сил. Именно это стало побудительной причиной для появления на свет этих моих «Мыслей о боге, мире, человеческой душе и всех вещах вообще», а также других [сочинений], последовательно и в неизменном порядке сопровождающих [эту работу], которые дадут знание о благе человеческого рода и откроют глаза на чудесные творения Бога в природе.
В тех вопросах, которые я здесь обсуждаю, до сих пор было много темного и беспорядочного. В них отсутствовали отчетливые понятия, основательные доказательства и связность между истинами, так что многие из них считались заблуждениями или отбрасывались как противоречащие не только совершенно правильным, но важнейшим и полезнейшим истинам. Поэтому я должен был приложить много усилий для устранения этих недостатков и стремиться рассматривать все вещи таким образом, чтобы о каждой из них можно было составить отчетливое понятие. При этом я руководствуюсь теми правилами, которые можно найти отчасти в первой, а отчасти во второй главе «Разумных мыслей о силах человеческого рассудка» [Vernünftige Gedanken von den Kräfften des menschlichen Verstandes. Halle, 1713. / Далее эта работа будет обозначаться термином «Logik» или сокращенно — Log.]. Поэтому тот, кто хочет понять изложенные здесь исследования, должен прежде всего внимательно продумать обе упомянутые главы и после этого использовать найденные там правила [для освоения] содержания (gegebene Erklärungen) настоящего сочинения. Тогда можно быть уверенным, что предмет хорошо понят, а мои мнения не только верно схвачены, но и не останется никаких сомнений в их правильности.
Я вполне представляю, что многим эта работа покажется слишком трудной, поскольку они будут пытаться прочитать ее так же быстро, как привыкли читать другие книги. Однако они должны терпеливо приучить себя к тому, что они не всё понимают и не сразу достигают такого постижения изложенных здесь истин, какое они желали бы [иметь] при действительно серьезном отношении к делу. «Крайне важно обладать отчетливым [знанием] относительно первых и всеобщих понятий, поскольку благодаря этому в нас возжигается свет, который освещает нам [путь] во всяком нашем познании и мы можем иметь дело как с науками, так и с их использованием в человеческой жизни» (Log.). Однако и этот [принцип] я не решаюсь принимать без доказательства, поскольку все, что я утверждаю, основывается либо на очевидных опытах, либо на основательных выводах. То, что основано на опыте, можно исследовать согласно правилам опыта, которые я изложил в 15-й главе «Мыслей о силах рассудка», где, надеюсь, не содержится ничего сомнительного. Если хотят привести доказательства к упорядоченной [форме] составляющих их выводов, то следует признать, что нельзя принимать ничего такого, что уже до этого не обладало бы правильностью. Достаточно посмотреть на [приводимые мною] доказательства, дабы убедиться, что они повсюду сопровождаются примерами [Citationes], показывающими, что [в них] все и всегда принимается на основании предшествующего. Более всего я обращаю внимание на то, чтобы все истины находились друг с другом в связи, а все сочинение было бы подобным одной цепи, в которой одно звено было бы связано с другим, а каждое из них со всеми другими. Равным образом это вполне подтверждается также и посредством повсеместно приводимых примеров. Именно поэтому я и надеюсь избежать ошибок, которые до сих пор имели место в тех материях, которые здесь обсуждаются.
Создавая данную книгу, я постоянно исходил из того, будто обо всех этих вещах я еще ничего не знаю, но должен впервые произвести (herausbringen) их посредством размышления. Благодаря этому все эти материи можно найти в таком порядке, в каком они последовательно открываются друг из друга. Обратив на это внимание, можно указать для каждого параграфа (Artikul) основание, по какому он следует из другого, и в их кажущемся беспорядке найти определенный порядок. И поскольку эта книга писалась в [форме] постоянной связи одних истин с другими, читать ее точно так же следует в неизменном порядке от начала до конца. Поскольку же в ней показано также, что природа не делает никаких скачков, особенно необходимо, чтобы эту книгу читали постепенно, с надлежащим вниманием и продуманно. «Тот, кто поступает так — будет иметь удовольствие от достижения отчетливых и основательных познаний важнейших истин, а также получит особую радость от того, что сможет обоснованно опровергать в высшей степени вредные и опасные заблуждения тех, кто считает себя самым умным и неопровержимым со стороны других. [Такой питатель] сможет также убедительно ответить на возражения против естественной религии и религии откровения» (Log.).
Хотя поначалу я вообще намеревался оставить без решения вопрос об отношении (Gemeinschaft) тела и души и души с телом,однако поскольку в силу изложенных во второй главе оснований я вопреки своему предположению вполне естественным путем снова пришел к предустановленной гармонии господина Лейбница, то я также стал придерживаться этой гипотезы, но представил ее в таком свете, в каком это глубокомысленное изобретение еще никогда не выступало.
Меня интересует только истина, и поэтому меня не беспокоит — является ли она старой или новой, но только то, чтобы все в цепочке [моих рассуждений] обладало связью в качестве ее звеньев. Я могу искренне признать, что при зрелом размышлении нахожу в знании древних больше основательности, нежели в том, что обычно встречается сегодня в качестве якобы нового. Вместе с тем я вовсе не являюсь поклонником древности, но столь же охотно принимаю и то, что предлагают новые [философы], а также то, к чему я прихожу благодаря своим собственным размышлениям.
Насколько познание изложенных здесь истин может способствовать укреплению добродетели, будет скоро показано, когда я основательно разъясню ее природу и свойства [на основании изучения] природы души. Между тем каждому, кто будет читать настоящую книгу, я желаю терпения и внимательности, дабы все в ней изложенное основательно освоить и суметь использовать для той разнообразной пользы, которая может произрасти из познания столь важных и глубоко скрытых истин. Тем, кто нуждается в этом, я желаю также искренности, дабы они не стремились исказить мои слова и не взваливали на меня нелепые и опасные мнения.
Галле, 23 декабря 1719
ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ [1721]
В этой книге я рассматриваю важнейшие истины в устойчивой их связи друг с другом, которые в изобилии встречаются как в морали, так и в политике и благодаря которым возжигается свет для всех других дисциплин и на основании которых в конечном итоге покоится достоверность всякого познания. Философы во все времена сталкивались с сильным противодействием, когда они выдвигали новые истины и отклонялись от общепринятого подхода, что позволяло их противникам выставлять учения первых в качестве опасных и находить одобрение прежде всего у невежественных людей, убеждая простаков в том, будто в них скрывается тайная отрава. Так, когда в Афинах начали доказывать, что Луна освещается Солнцем, а ее затмение объясняется падающей от Земли тенью, то это было представлено в качестве учения, наносящего вред религии. Именно за это Протагор был изгнан из страны, а Анаксагор — брошен в темницу. Никогда не было недостатка в злонамеренных людях, указующих философам на то, будто они своей тайной отравой наносят развращающий вред. Так, во времена Клеанфа Аристарх обвинялся в том, будто он [нанес вред] религии, предположив, что Земля вращается вокруг своей оси в течение 24 часов, а вокруг Солнца — в течение года, хотя при этом он и приводил вполне веские и доступные для слуха рассудительных людей [аргументы], что тем самым отнюдь не затрагивается честь богини Весты.
Нет нужды множить число примеров такого рода известных вещей. Но у меня тем более нет никаких причин делать это, поскольку эта моя книга, как и другие изданные мною сочинения, имеет счастье быть хорошо принятой от начала до конца и найти одобрение среди самых разумных ученых. Для меня даже не является секретом, что наиболее видные богословы всех трех религий Священной Римской империи признают немалый вклад моей книги в основательное познание богословия и в его защиту от нападок тех, кто считает себя намного умнее других. Мне хорошо известно также, что видные богословы настойчиво рекомендуют мое [учение] о морали проповедникам, а тем, кого они готовят к деятельности проповедника, указывают, как им лучше пользоваться моим учением. Точно так же радуюсь я и тому, что истина столь быстро проникает в души разумных людей и используется для всеобщей пользы; это служит для меня поощрением для дальнейшего неустанного и прилежного продвижения в исследовании истины и для полезного ее преподавания тем, кто стремится к основательному освоению истины.
Именно это подвигнуло меня к тому, чтобы без промедления приступить ко второму изданию [моей книги], поскольку ее первого издания оказалось недостаточно для удовлетворения потребности многочисленных почитателей [истины] и всех тех, кто не желает останавливаться в своем похвальном стремлении к ее основательному познанию.
/Далее: около 4стр. относительно второго издания, внесенных в него изменениях, исправлениях, дополнениях, поясняющих текст первого издания, но сохраняющих нумерацию параграфов, о планах перевода и расширенного издания на латинском языке и т.п./
После опубликования этой моей книги учение г-на Лейбница о предустановленной гармонии, посредством которой он надеялся понятным образом объяснить [вопрос] об отношении между душой и телом, можно будет лучше освоить, нежели из того, что он сам опубликовал при своей жизни. Правда, некоторые считают, что выводы, содержащиеся в пятой главе [моей книги], посвященные свойствам и действиям души, которые вытекают из ее природы и сущности, являются всего лишь пояснением предустановленной гармонии между душой и телом. Я мог бы не придавать этому никакого значения, если бы тем самым всего лишь другому приписывалось то, что принадлежит мне, однако поскольку многие не принимают [теорию] предустановленной гармонии, в силу неспособности усвоить ее [содержание], то они склонны смешивать ее с другим пониманием [вопроса] об отношении между телом и душой, которое они считают истинным. Поэтому я считаю необходимым привести в соответствующем месте более основательное рассмотрение обсуждаемых здесь материй, дабы устранить недостаточно точное их понимание.
Все те, которые прилагают усилия к познанию вещей и стремятся к мудрости (Welt-Weisheit) должны решиться либо вовсе не принимать никаких учений и все подвергнуть сомнению, чтобы по опрометчивости не выдать ложное [учение] за истинное и не впасть в заблуждение, либо они в конечном итоге отваживаются принять (eingeführt) учение, согласно которому они могли бы объяснить все то, что происходит с ними в жизни. Первые называются скептиками или сомневающимися, вторые, напротив, догматиками или наставниками (Lehrreiche).
Поскольку скептики не признают ничего достоверного, но все оставляют нерешенным, любой из них столь же хорош, как и другой, и потому между ними нельзя найти никакого определенного различия. Напротив, наставники разделяются на различные секты. Они либо признают только один вид вещей, либо принимают вещи двоякого вида. Первые называются монистами, вторые — дуалистами. Монисты опять-таки бывают двоякого рода: либо идеалистами, либо материалистами. Первые признают только духов (Geister) или такие вещи, которые состоят не из материи и принадлежат к тем, которые мы называем простыми вещами или каковыми являются единицы (Einheiten) у Лейбница. Мир и находящиеся в нем тела идеалисты принимают за одни лишь образы простых вещей (für blosse Einbildungen der einfachen Dinge) и рассматривают их не иначе как упорядоченную грезу (regulirten Traum). Вторые, напротив, не оставляют в философии места никаким другим вещам, кроме телесных и рассматривают духи и души как всего лишь [проявления] телесной силы, а не в качестве особой существующей сущности. Дуалисты признают как тела, так и духи в качестве действительных и отличающихся друг от друга вещей, из которых каждая может существовать без другой.
Наконец, идеалисты либо признают [существующей] более чем одну сущность, либо считают единственной действительной сущностью только самих себя. Первые называются плюралистами, вторые, напротив, эгоистами. Легко видеть, что поскольку идеалисты не оставляют для телесных вещей никакого другого места кроме как в мыслях души, то они должны приписывать последней силу, посредством которой она порождает все свои мысли и желания без какого-либо внешнего влияния и все представляет себе так, как это происходит в мире, хотя с ее точки зрения никакого мира в действительности и не существует. Столь же легко заметить, что материалисты должны приписывать телу силу, посредством которой оно порождает все движения и испытывает их в себе без какого-либо влияния души, существование которой они нигде не усматривают.
Дуалисты же, наоборот, признавая в качестве действительных вещей как тела, так и души, не могут объяснить, каким образом мысли души порождаются посредством действия со стороны тела, а движения тела — посредством силы души. Поэтому г-н Лейбниц предположил, что вопрос о том, каким образом тело и душа согласуются друг с другом, можно понять в том случае, если и то и другое принимается так, как об этом учат и идеалисты и материалисты.
Однако ни один идеалист, несмотря на все свои усилия, до сих пор не смог показать, каким образом то, что имеет место в душе, может посредством ее единственной силы проявляться вовне (zum Vorschein kommen). Но точно так же и ни один материалист не смог объяснить, каким образом тело способно производить такого рода движения, которые необходимы для разумной речи и свободных поступков. Равным образом и г-н Лейбниц нигде не обосновал этого, но смог только поставить вопрос о тех основаниях, с помощью которых можно было бы показать, что дуалисты должны совместить то, что вынуждены предполагать как идеалисты, так и материалисты, исходя из оснований собственных сект.
Поскольку моим намерением было исследование природы души, а также разумное и понятное объяснение того, каким образом происходят все ее изменения, я также должен был уяснить — какая доля истины содержится в учениях материалистов и идеалистов и после этого показать, насколько верным является утверждение г-на Лейбница относительно соединимости мнений идеалистов и материалистов с точкой зрения дуалистов. Тем самым, конечно, предустановленная гармония г-на Лейбница станет более ясной и понятной для многих из тех, кто до этого не мог составить о ней никакого понятия. [Этому будет способствовать также и] проделанный мной основательный анализ мнений идеалистов и материалистов, а также отчетливое уяснение того, что именно в них можно считать истинным. Однако благодаря моему сочинению можно будет не только лучше понять предустановленную гармонию г-на Лейбница, но также и отважиться на некоторые возражения против нее. Но, поскольку такого рода возражения вовсе не были главной целью моей пятой главы, а столкнулся я с ними почти неожиданно для себя, меня не интересовали и те возражения, которые [обычно] выдвигались против г-на Лейбница.
Если же кто-нибудь сочтет, что эти возражения направлены также и против меня, не называя моего имени лишь в силу каких-то особых причин, то в этом случае я также не считаю нужным что-либо опровергать, поскольку такого рода возражения таковы, что никак не могут породить сомнение у тех, кто смог понять мое учение. Скорее напротив, каждому [из моих оппонентов] следует знать, что при правильном понимании моих утверждений все возражения подобного рода отпадают, а возникают они отчасти из тех трудностей, с которыми сталкиваются те, кто признает естественное влияние души на тело и тела на душу и считает, что душа должна определяться к своим мыслям посредством тела, а следовательно, без участия тела, но только через ее собственную способность в ней ничего совершаться не может. И хотя это мнение весьма распространено, тем не менее оно сталкивается с большими и опасными трудностями. Я хочу привести только один пример, который нельзя считать незначительным, а именно, [на основе] такого мнения невозможно доказать бессмертие души, что легко может сделать тот, кто приучен к отчетливому познанию. Приводить здесь такое доказательство я считаю по некоторым причинам излишним, но оставляю за собой право сделать это [в другом месте]. Мнение, с которым не может быть согласовано бессмертие души, безусловно, является в высшей степени опасным, поскольку тем самым рушатся большинство наших религий.
/Далее о предрассудках, связанных с ошибочным пониманием евангельских свидетельств и математических истин и способа их использования для прояснения и обоснования метафизики,/
Галле, 24 декабря 1721
НАПОМИНАНИЕ ПО ПОВОДУ ТРЕТЬЕГО ИЗДАНИЯ
Когда я счел необходимым выпустить второе издание этих моих «Разумных мыслей о Боге, мире, человеческой душе и всех вещах вообще», что произошло всего два года спустя после [первого издания], я был воодушевлен тем, что истина столь быстро проникает в души разумных людей и используется к всеобщей пользе. Приступая к этому третьему изданию, я надеюсь вновь испытать это чувство. Несмотря на то что некоторые враждебно настроенные против меня люди пытаются совершенно несуразным способом меня преследовать и опровергнуть, используя для этого в качестве предлога данную книгу, никто из расположенных ко мне людей не только от меня не отвернулись, но напротив, способствовали тому, чтобы у многих пробудить интерес к прочтению моих сочинений и к поиску истины.
Против меня выдвигались обвинения необычайно грубые и озлобленные. А именно, что якобы я открываю ворота атеизму и всем грехам и порокам, даю атеистам в руки оружие и поощряю их насмешки над чудесами; лишаю людей всякой свободы, уничтожаю все божественные законы морали и религии, разрушаю основания какого-либо вменения в вину (Imputation), а следовательно, всякого наказания и вознаграждения и даже опровергаю все основные принципы религии, без которых не может существовать не только языческая, а тем более христианская религия. И все это у меня получилось [якобы] не по неведению или неосторожности (ex imprudentia oder praecipitantia), из неосмотрительности или поспешности, но как бы вполне обдуманно и добровольно. [По их мнению], как проницательный философ я должен был бы предвидеть заранее все эти следствия моего учения, а потому я не заслуживаю снисходительной оценки и [якобы] нужно быть совершенно слепым и лишенным всякого рассудка, чтобы не понять, что мое учение ведет к крушению всякой морали и религии. А потому, считают они, невозможно отказаться от мысли о том, что при возведении своей системы я усердно стремился к тому, чтобы не оставить в ней никакого места для божественного провидения и тем самым устранить всякую религию и богослужение.
Более грубых обвинений невозможно придумать, иначе они несомненно были бы еще грубее. И, тем не менее, эти приведенные мною слово в слово обвинения привлекли всеобщее внимание, поскольку они выдвинуты человеком, снискавшим у своих поклонников странную славу умеренности. [Мнимые] основания для подобных обвинений состоят в том, что я якобы приписываю всем вещам вечного мира неизбежную необходимость и отрицаю всякую свободу человеческой воли, а также привожу доказательство Бога, которое не нравится моим противникам. Таких положений найти в моей книге невозможно, но, напротив, в ней доказывается прямо противоположное. И поэтому рассудительным и беспристрастным читателям я хочу только сказать, что они должны читать мою книгу самостоятельно и тогда все обвинения с их надуманными основаниями отпадут сразу сами собой. И хотя, чтобы придать вес такого рода обвинениям, заявляют, будто я только произношу истинные утверждения, дабы создать иллюзию, а вовсе не провожу по настоящему строгое доказательство Бога, однако и при всем этом отдельные мои слова повсюду искажаются, чтобы создать видимость [их ошибочности].
Когда я прибыл в Марбург и получил возможность объяснить эту книгу коллегам, то мне удалось показать не только правильный смысл моих слов с помощью отдельных пояснений и на основе общего контекста моей системы, но также указать и на те цели, которые я преследовал в каждом предложении, поскольку все мое учение, преподносимое учащейся молодежи, направлено к определенной пользе, которую можно от него получить, дабы ничего не изучать напрасно. Поскольку благодаря этому искажения моих противников стали очевидными, я счел целесообразным издать их под названием «Замечания к “Разумным мыслям о Боге, мире и человеческой душе”» (Der Vernünftige Gedanken... Anderer Theil bestehend in ausführlichen Anmerkungen... Fr./M., 1724), которые тем более полезны, что они расширяют мое учение различного рода новыми добавлениями. Ввиду указанных обстоятельств у меня не было необходимости что-либо добавлять в это новое [третье] издание. Я оставил весь текст неизменным, дабы в нем нельзя было отыскать ничего другого кроме того, что приводилось моими противниками из предшествующих изданий. Лишь в некоторых местах я добавил отдельные слова, которые лишь поясняют другие [уже имеющиеся слова]. Впрочем же, благосклонный читатель может пользоваться и моими «Замечаниями...», в особенности если он не ставит перед собой задачи неторопливого и обдуманного изучения всей книги в целом.
В заключение я должен заметить следующее: после того как все написанное в этой книге я еще раз взвешенно обдумал, а также последовательно просмотрел и продумал учения христианской религии, то, к моему собственному удовлетворению, нашел, что со стороны моего учения для нее нет никакой угрозы. [Более того], я с удовольствием увидел, что [мое учение] может сослужить хорошую службу истинам Откровения для их защиты против врагов Евангелия и устранения всяких оснований у иногда возникающих сомнений. В этом я был уверен еще до начала моего изгнания, и это [дает мне основание надеяться, что и после этого] другие порядочные люди точно так же будут в этом убеждены. Я ничуть не сомневаюсь, что чем быстрее пройдут времена, при которых поступки людей определяются ненавистью и завистью, тем быстрее мое учение, изложенное в этой книге, будет использоваться для всеобщей пользы. Моя книга до сих пор говорила в мою пользу перед беспристрастным миром; она будет играть эту роль и в дальнейшем, опровергая моих противников тем убедительнее, чем грубее будут их обвинения, которыми они надеются обелить себя, желая выглядеть правыми.
Марбург, 25 марта 1725
Гл. I. Как мы познаем, что мы существуем и чем нам это знание полезно (§ 1—9). Гл. И. О первых основаниях нашего познания и всех вещах вообще (§ 10—190). Гл. III. О душе вообще и что именно мы в ней воспринимаем (§ 191—539).
Гл. IV. О мире (§ 540—726).
Гл. V. О сущности души и духа вообще (§ 727—927).
Гл. VI. О Боге (§ 928—1089).
Глава I
КАК МЫ ПОЗНАЕМ, ЧТО МЫ СУЩЕСТВУЕМ (SIND) И ЧЕМ ЭТО ЗНАНИЕ ДЛЯ НАС ПОЛЕЗНО
§ 1. Мы сознаем самих себя и другие вещи, в чем никто сомневаться не может, если не лишился полностью своих чувств (seiner Sinnen): кто отрицал бы это, говорил бы нечто противоположное тому, что он находит в себе, и его быстро можно уличить в том, что его утверждение нелепо. Ведь каким образом он хотел бы передо мной нечто отрицать или ставить под сомнение, если бы он не сознавал самого себя и другие вещи? Кто сознает себя в качестве отрицающего или подвергающего сомнению — тот существует (ist). А поэтому очевидно, что мы существуем.
§ 2. Возможно, одни будут удивлены, а другие, в силу недостаточно глубокого понимания неспособные благополучно справляться с объяснениями и доказательствами, будут даже смеяться над тем, что я начинаю с доказательства, что мы существуем! Ведь не было еще под солнцем ни одного человека, который отрицал бы это: и если кто-нибудь зашел бы столь далеко, то ничего не стоило бы его опровергнуть, поскольку он был бы либо безумным и, следовательно, не знающим того, о чем он говорит, либо он должен быть настолько упрямым, что умышленно отрицает все вопреки своей совести. Поэтому даже весьма странная секта эгоистов, которая недавно появилась в Париже, отрицает относительно всех вещей, что они существуют, однако же признает, что Я существую (Ich bin).
§ 3.. Я надеюсь, что скоро [все] они перестанут удивляться, как только я укажу им причины, которые побудили меня к такому [доказательству]. В «Предуведомлении к философии» (Welt-Weißheit), которое содержится в начале моих «Разумных мыслей о силах человеческого рассудка» (Log., § 5) было отмечено, что философия должна не только знать нечто возможное или происходящее, но и уметь указывать основания, почему это возможно или происходит. Поскольку в том, что мы существуем, мы настолько уверены (Gewißheit haben), что это никоим образом не может быть подвергнуто сомнению (§1), нужно ли еще и показывать, откуда эта уверенность возникает? Но, поскольку мы намерены здесь обсуждать [именно] философию, мы должны исследовать и то, откуда все-таки такая уверенность возникает.
§ 4. Другая причина [необходимости] такого исследования в том, что оно имеет весьма большую пользу. Ибо если я знаю, почему мы столь сильно уве-
рены, что мы существуем, то мне должно быть известно и то, каким образом должно быть устроено нечто, чтобы я мог знать его столь же достоверно, как и то, что существую я сам. Наибольшее из того, что я могу безбоязненно сказать о важных истинах — так это то, что они столь же достоверны, как и то, что я существую, или иначе: я знаю настолько же достоверно, что существуют они, насколько я знаю, что существую я. Этим нам дается именно то, что необходимо для осуществления нашего намерения достичь несомненно достоверного естественного познания Бога и души, мира и всех вещей вообще.
§ 5. Для достижения указанной пользы нужно точнее обдумать способ, каким мы познаем свое существование. Сделав это, мы найдем, что наше познание об этих вещах должно обладать следующими свойствами. 1. Мы знаем непротиворечиво, что мы сознаем самих себя и другие вещи (Log., § 1, гл. 5). 2. Для нас очевидно (klar), что тот, кто сознает самого себя и другие вещи, тот существует. 3. Поэтому для нас достоверно, что мы существуем.
§ 6. Если мы хотим отчетливо познать, каким образом посредством этих оснований мы приходим к тому, что мы существуем, то обнаружим, что в этих мыслях скрывается следующее умозаключение:
Тот, кто сознает себя и другие вещи, тот существует.
Мы сознаем самих себя и другие вещи.
Следовательно, мы существуем.
§ 7. В этом заключении нижняя посылка (Untersatz) является несомненным опытом (Log., § 1, гл. 3), верхняя же посылка (Obersatz) относится к тем, которые принимаются (zugiebet) без всякого доказательства, если только понимаются содержащиеся в них слова, т. е. она является основоположением (Grundsatz) (Log., § 2, гл. 6): ибо кто же станет сомневаться — существует ли вещь, если мы знаем, что она определенным образом существует (auf eine gewisse Art und Weise ist)? Каждый может увидеть, что если отдельные вещи должны существовать, то они могут существовать определенным способом (Log., § 27, гл. 1).
§ 8. Такого рода доказательство есть демонстрация (Log., § 21, гл. 4) и потому выясняется, что все, что правильно демонстрируется, является столь же достоверным, как то, что мы существуем, и именно поэтому то, что демонстрируется, будет доказанным таким же образом, как и то, что мы существуем.
§ 9. Не одним мною в моих «Разумных мыслях о силах человеческого рассудка» (Log., § 23—24) замечено, но и каждый, кто заботится о точном анализе геометрических доказательств, может убедиться, что точно так же и в геометрии доказательства приводят к таким выводам (Schlüsse), в которых посылки (Förder-Sätze) обладают несомненной достоверностью и не нуждаются ни в каком дальнейшем доказательстве. Таким образом легко видеть, что геометрические истины доказываются столь же достоверно, как и то, что мы существуем, и следовательно, все, что доказано геометрическим способом, является столь же достоверным, как и то, что мы сами существуем.
Глава II
О ПЕРВЫХ ОСНОВАНИЯХ НАШЕГО ПОЗНАНИЯ И ВСЕХ ВЕЩАХ ВООБЩЕ
§ 10. Поскольку мы знаем, что сознаем самих себя и другие вещи и считаем это несомненным, на деле это происходит потому, что мы не можем мыслить себя как одновременно сознающими и не сознающими самих себя. То же самое мы обнаруживаем во всех других случаях: невозможно, чтобы мы мыслили, что нечто не существует, в то время как оно существует. И таким образом, без всякого сомнения мы вообще допускаем следующее всеобщее положение: нечто не может одновременно существовать и так же не существовать. Это положение мы называем основанием противоречия, от которого получают свою достоверность не только выводы (Log., § 5, гл. 4), но также и такое положение, которое мы узнаем в качестве несомненно положенного, каковым в нашем случае [выступало] положение о том, что мы сознаем самих себя.
§ 11. Таким образом, для [возникновения] противоречия требуется, чтобы утверждаемое одновременно так же отрицалось. Тем самым необходимо, чтобы вещь, о которой нечто утверждается, была бы не только той же самой, о которой нечто отрицается, но и также, чтобы эта единственная вещь в обоих случаях была взята под одинаковыми условиями и рассматривалась одним и тем же способом. Например, если вы два раза берете одно слово не в одинаковом смысле, то в первом случае о той же самой вещи словесно может отрицаться то, что в другом случае о ней утверждается (Log., § 15, гл. 2), и, однако, это вовсе не будет противоречием, поскольку в первом отрицается вовсе не то же самое, что утверждается в другом.
§ 12. Поскольку ничто не может одновременно быть и не быть (sein und nicht sein kann) (§ 10), признают, что нечто является невозможным, если оно противоречит уже имеющемуся нашему о нем знанию, что оно существует или может существовать, и, если бы делали из этого вывод, будто одна его часть может быть равной или даже большей, чем целое, или же [утверждали бы], будто среди того, что ему должно быть присуще, одно противоречит другому. Таким образом, невозможно то, что содержит в себе нечто противоречащее, как, например, железное дерево или две окружности, друг с другом соприкасающиеся и [вместе с тем] имеющие одинаковый центр. Ведь то, что является железом, не может быть деревом, а если две окружности соприкасаются, то, как доказывает геометрия, они не могут иметь одинаковый центр. Из этого далее видно, что возможно то, что не содержит в себе ничего противоречащего, т. е. не только само может существовать наряду с другими вещами, которые существуют или могут существовать, но также и в себе содержит только то, что может существовать друг возле друга, как, например, деревянная тарелка. Ведь быть тарелкой и быть деревянным не противоречит друг другу, но то и другое может существовать одновременно.
§ 13. Для того, чтобы нечто существовало, недостаточно, чтобы оно не содержало в себе ничего противоречащего. Чтобы пояснить это, позволю себе привести совсем обычный пример: ведь очевидно, что четырехугольный стол не может стать круглым не из-за того, что быть четырехугольным и стать круглым не противоречит друг другу, и оба вполне могут друг с другом сосуществовать, поскольку мы понимаем, что четырехугольник может стать кругом, если у него обрезать углы. Поскольку возможное есть то, что не содержит в себе ничего противоречащего (§ 12), более чем очевидно, что нечто еще не существует только потому, что оно возможно, а из одной лишь его возможности нельзя делать вывод, что оно существует или будет существовать. А именно если я узнаю, что нечто возможно, то в силу этого я еще не могу признать, что оно действительно существует теперь, либо существовало раньше, или появится в будущем.
§ 14. Итак, если нечто должно существовать (sein soll), то кроме возможности к нему должно быть привнесено что-то еще большее, благодаря чему возможное получит свое осуществление (Erfüllung). Это осуществление возможного и есть именно то, что мы называем действительностью. Но в чем [это осуществление] состоит, т. е. каким образом возможное достигает действительности, будет в своем месте показано ниже (§ 928—929), а именно в отношении к Богу как необходимой и самостоятельной сущности (§ 565—572, 930), а также в отношении остальных вещей.
§ 15. Поскольку действительным не может стать ничто другое, кроме возможного (§ 14), все действительное является также и возможным и поэтому от действительности всегда беспрепятственно (ohne Anstoß) можно заключать к возможности. А именно если я вижу, что нечто существует, то я могу предположить, что оно может существовать, а следовательно, также не содержит в себе и ничего противоречащего (§ 12).
§ 16. Все, что возможно — существует ли оно действительно или нет, — мы называем вещью (Ding). Но если мы таким же образом примем за возможное невозможное, то в этом случае мы назовем последнее вещью по ошибке, поскольку оно обладает возможностью лишь с точки зрения нашей иллюзии. Поэтому то, что возможно на самом деле, обычно называют возможной вещью, а то, что обладает только иллюзией возможности, — невозможной вещью. Первое скорее можно было бы называть истинной вещью, а второе — вещью воображаемой или иллюзорной [Scheinding].
§ 17—27. /Что является одинаковым (einerlei) и различным (unter-schieden). Что является подобным (ähnlich) и несходным. Пример подобия. Как различаются подобные вещи. Что такое величина (Größe). Какие вещи одинаковы (gleich). Польза этого объяснения. Что такое целое и части. Целое равно совокупности своих частей. Что есть большее и меньшее. Целое больше своих частей/.
§ 28. То, что не существует и не является возможным, называется ничто (Nichts). Поскольку невозможное не существует (§ 12) и, следовательно, не может стать нечто, и ничто не может стать нечто или из ничто возникнуть нечто. Я указал выше, что если чему-то возможному придают (erteilt wird) действительность, которая прежде не была ему присуща, то это происходит иначе, нежели возникновение нечто из ничто или превращение невозможного в нечто.
§ 29. Если вещь А содержит в себе нечто, из чего можно понять, почему есть В, будь оно чем-то в А или вне А, то тогда [это] нечто, которое можно найти в А, называют основанием (Grund) В. Сама же [вещь] А называется причиной (Ursache) В, относительно которой говорят, что она основана в А. Таким образом, основанием является то, посредством чего можно понять, почему нечто существует, а причина есть вещь, которая содержит в себе основание другой [вещи]. Я поясню это примером. Когда я пытаюсь узнать, как происходит то, что в саду все растет быстро, и обнаруживаю, что это [явление] следует приписать теплу воздуха, то тепло является основанием быстрого роста, а воздух, поскольку он теплый, — причиной; быстрый же рост основан в теплом воздухе. Тепло также можно называть причиной, а его действие в растении — основанием. Опять же если я хочу выйти [из дома], поскольку [на улице стоит] прекрасная погода, то представление о ней есть основание моего желания, а душа, которая это представление создает, есть причина желания: великолепие погоды есть основание моего выхода [из дома], а погода, поскольку она прекрасна, — причина этого.
§ 30. Где наличествует нечто, из чего можно понять, почему оно есть, то имеет достаточное основание (Wo etwas vorhanden ist, woraus man begreifen kann, warum es ist, das hat einen zureichenden Grund) (§ 29). Поэтому там, где ничего не имеет места (keiner vorhanden ist), там нет ничего (ist nichts), из чего можно понять, почему нечто существует, а именно — почему оно может стать действительным, а следовательно, оно должно было бы возникать из ничто. Поэтому то, что не может возникать из ничто, должно иметь достаточное основание, почему оно существует, [а именно] как оно должно быть возможно само по себе (ап sich), а также иметь причину, которая может привести его к действительности, когда речь идет о вещах, которые не необходимы (die nicht notwendig sind). Поскольку невозможно, чтобы из ничто могло возникать нечто (§ 28), все, что существует, должно иметь достаточное основание, почему оно существует, т. е. всегда должно быть нечто, из чего можно понять, почему оно может стать действительным (§ 29). Это положение мы хотим назвать законом достаточного основания (Satz des zureichenden Grund). На этом законе уже в давние времена Архимед основал свое учение о равновесии или горизонтальном расположении на весах тел с одинаковой тяжестью, но только в наши дни г-н Лейбниц доказал важность этого закона с помощью великолепных экспериментов (Proben), а также в «Теодицее» и в письмах, которыми он обменивался с англичанином Кларком по поводу некоторых спорных пунктов. [Лейбниц, однако], рассматривал его в качестве закона, основанного на опыте, против которого нельзя привести ни одного примера, а поэтому он не дал никакого доказательства [этого закона], хотя именно этого и требовал Кларк. Можно дать вполне достаточное доказательство этого закона, если, как мы покажем ниже (§ 142), на его основе [можно установить] различие между истиной и грезой и даже между истинным миром и страной сказок.
§ 31. Этот закон я доказываю также еще и следующим способом. Возьмем две вещи А и В, которые одинаковы (einerlei sind). Если нечто может существовать, не имея достаточного основания ни в вещи, ни вне нее, то в А может произойти (ereignen) изменение, которое не последует в В, если его поставят на место А. Следовательно, В не является одинаковым с А (§ 17). Таким образом, из принятой [посылки], согласно которой А является одинаковым с В, следует, что оно оказывается не одинаковым с В, если не признают значимости (nicht gelten lassen) закона достаточного основания. Но напротив, поскольку невозможно, чтобы нечто могло одновременно быть и не быть (§ 10), этот закон должен обладать неоспоримой правильностью, т. е. положение, согласно которому все имеет свое достаточное основание, почему оно существует, является истинным.
§ 32. Поэтому если в многообразии одной вещи можно одно отличить от другого, то одно среди этого многообразия должно содержать в себе основание, почему этой вещи присуще и другое (das übrige ihm zukommet), но, поскольку первое, в свою очередь, не может иметь своего основания, по какому оно присуще той же самой вещи, в чем-то из этого другого, как это совсем легко можно понять с помощью основания противоречия (§ 10), оно должно быть присуще ей необходимо. Ибо то, что необходимо существует именно так, не нуждается ни в каком другом основании, почему оно именно таково. А именно в каждой вещи есть нечто необходимое, посредством чего она определена в своем роде, [и в этом необходимом] (darinnen) имеет свое основание остальное.
§ 33. То, в чем можно найти основание другого, присущего вещи, называется сущностью (Wesen). И тот кто знает сущность вещи, может указать основание всего того, что ей присуще. Но если понимают, посредством чего вещь определена в своем роде, то знают ее сущность (§ 32).
§ 34. То, что содержит в себе основание другого, есть первое, что можно мыслить о вещи. То, что в ней основано, не может быть положено раньше, поскольку начинать надо с того, из чего можно понять, почему есть другое. Итак, сущность есть первое, что можно мыслить о вещи.
§ 33. Но о вещи нельзя мыслить ничего раньше кроме того как она возможна, ведь она есть вещь именно потому, что она возможна (§ 16). Поэтому сущностью вещи является ее возможность, а сущность понимает тот, кто знает, каким способом вещь возможна. Но как нечто возможно знают в том случае, когда понимают, как оно определено в своем роде.
§ 36. Если то, что противоположно вещи, содержит в себе нечто противоречивое, то эта вещь необходима. Поскольку содержащее в себе нечто противоречивое невозможно (§ 12), невозможное есть то, что противоположно необходимому, а если то, что противоположно вещи, — невозможно, то эта вещь необходима. Очевидно также, что необходимое может быть определено только одним-единственным способом, а следовательно, только одним-единственным способом может и существовать.
§ 37. Чтобы можно было лучше себе представить, чем является необходимое, поскольку, как будет достаточно показано ниже, в это [понятие] вкладывают слишком большое [содержание], я хочу пояснить это на двух примерах. Например, если я говорю: дважды два есть четыре, то противоположным утверждением будет: дважды два не есть четыре, но больше или меньше четырех. Так как можно доказать, что последнее невозможно, то первое утверждение — необходимо. Такого же рода являются все законы чисел в арифметике. Поэтому если я говорю: треугольник имеет три угла, то может быть доказано, что противоположное утверждение: треугольник имеет не три угла, а больше или меньше, является невозможным или противоречит определению треугольника. Следовательно, необходимо, что треугольник имеет три угла. И таким свойством обладают все истины в геометрии.
§ 38. То, что возможно, не может быть одновременно невозможным (§ 10) и если нечто возможно именно таким способом, то оно не может одновременно таким же способом быть невозможным и потому является возможным необходимо (§ 36). Так как возможность сама по себе (an sich) есть нечто необходимое, а сущность вещи состоит в том, что она возможна определенным способом (§ 35), то сущность является необходимой (§ 36).
§ 39. То, что необходимо, то также и вечно, т. е. не может иметь ни начала, ни конца. Ибо если нечто необходимо, то невозможно, чтобы оно не могло существовать (§ 36). А если бы оно имело начало или конец, то оно могло бы также и не существовать. Однако это положение нельзя обернуть, поскольку необходимость имеет другое основание, нежели вечность (§ 36).
§ 40. Так как сущность вещи необходима (§ 38), то она и вечна, т. е. нельзя указать никакого времени, когда вещь может начать или перестать быть возможной (§ 33).
§ 41. То, что необходимо, то неизменно. Ибо если оно могло бы изменяться, то оно могло бы также и не быть, а это противоречит (wiederläuft) необходимости (§ 36).
§ 42. Поскольку сущность вещи необходима, она и неизменна. Но если я могу в сущности вещи мыслить возможное изменение, то посредством этого сущность вещи не изменяется, но благодаря ее знанию я, только я, прихожу к знанию сущности другой вещи. Например, сущность треугольника состоит в том, что его пространство ограничено тремя сторонами. Но возможно, что вместо трех возьмут четыре стороны, в которые заключат пространство, однако посредством этого сущность треугольника не изменится. Ведь если пространство заключено в четыре стороны, то будут иметь четырехугольник, а следовательно другую вещь.
§ 43. Поскольку сущность вещи неизменна, то она не может оставаться той же самой вещью, если в ее сущности что-то изменяется (§ 42). Из этого можно понять, что сущность одной вещи не может быть сообщена другой, т. е. невозможно, чтобы, кроме своей сущности, вещь получила еще сущность другой и при этом осталась той же самой вещью. Например, было бы нелепо, если бы хотели вообразить, что четырехугольник одновременно мог бы быть треугольником или тело — духом. Поскольку все, что присуще вещи в качестве отличающегося от ее сущности, должно, [тем не менее], свое достаточное основание иметь в этой сущности (§33), то вещи не может быть придано ничего такого, что основано не в ее собственной сущности, а в сущности другой вещи. Например, четырехугольнику не могут быть приданы никакие свойства треугольника, а телу — свойства духа или растению — такое свойство животных, как память.
§ 44. Что основано единственно и только в сущности вещи, называется свойством (Eigenschaft). Например, зрение основано в сущности животного, имеющего глаза, и, следовательно, является свойством животного. Таким образом, свойства не могут быть отделены от вещи и неизменны так же, как и сама сущность (§ 42), а присущее вещи необходимо (§ 40) — постоянно (beständig).
§ 45. Обратив внимание на себя, мы находим, что сознаем многие вещи как [находящиеся] вне нас. Но мы их полагаем вне нас, поскольку знаем, что они отличны от нас: равным образом мы полагаем их также [расположенными] вне друг друга (außer einander), поскольку знаем, что они друг от друга отличаются. Каждый может обнаружить в себе самом, что, когда он воспринимает различные вещи как существующие одновременно, он должен представлять их как находящиеся друг вне друга; и это [происходит] именно потому, что он не может мыслить две различные вещи как одну (§10, 17), а следовательно, для него также невозможно представлять себе одну в другой.
§ 46. Поскольку многие вещи, которые существуют одновременно (zugleich) и из которых одна не является другой, представляются как находящиеся вне друг друга (§ 45), между ними возникает определенный порядок, причем такой, при котором одну из них я считаю первой, другую — второй, следующую — третьей и так далее. И поскольку мы представляем себе этот порядок, мы представляем себе пространство. Поэтому если мы хотим видеть вещи не иначе, как мы их знаем, то мы должны воспринимать пространство в качестве порядка одновременно существующих вещей. Поэтому не может быть никакого пространства, если не даны наполняющие его вещи, но между тем пространство, однако, отличается от этих вещей (§ 17).
§ 47. Таким образом, каждая вещь получает определенный способ, согласно которому она существует одновременно с другими, причем так, что никакая из остальных вещей не может тем же самым способом существовать одновременно с другими. Именно это мы обычно и называем местом вещи, которое есть не что иное, как способ ее одновременного существования наряду с другими вещами. Мы имеем здесь в виду только то, что можно понять отчетливо (Log., § 13, гл. 1).
§ 48. /Почему здесь нет необходимости рассматривать и разъяснять положение вещей в пространстве, расстояние между ними, их окружение и т. д. Это будет сделано в другом месте/,
§ 49. Из сказанного о месте вещи легко увидеть, что место и пространство ничего в ней не изменяют, поскольку пространство не имеет ничего общего с ее внутренним [содержанием], между тем как ее пространство и место отличаются как от пространства, так и от места другой вещи (§ 17), однако только по числу и величине (§ 18,20).
§ 50. /Вещь может существовать в разных местах и занимать место других вещей, потому что основание для этого находится не в самих вещах, а в чем-то другом, что и будет рассмотрено ниже/,
§ 51. Все те вещи, которые мы сознаем как находящиеся вне нас, состоят из многих частей; поскольку в каждой [вещи] мы находим много [частей], мы можем отличать их друг от друга, а поскольку эти части друг с другом связаны (§ 24), взятые вместе, они составляют только одну вещь. Такого рода вещь, которая состоит из многих частей, друг от друга отличных, но в определенном порядке друг за другом следующих и друг с другом связанных, мы называем составной вещью (Zusammengesetzes Ding).
§ 52—54. /Каждая составная вещь занимает определенное место, и все ее части расположены в определенном порядке и тем самым заполняют пространство, распространяются в длину, ширину и толщину, благодаря чему они обладают протяжением, границы которого образуют фигуру вещи/.
§ 55—56. /Поскольку части составных вещей могут быть обособлены друг от друга, эти вещи допускают деление, а ее части могут перемещаться, т. е. занимать место других частей/.
§ 57. Изменение места мы называем движением. Обратив внимание на то, что мы сознаем в вещах, которые являются нам извне, мы найдем, что в них действительно имеет место движение. Итак, вещь движется, поскольку она существует одновременно с другими тем же способом, каким до этого одновременно с нею существовали другие [вещи].
§ 58. /Постоянство (Stetigkeit) есть неизменность порядка расположения частей вещи/.
§ 59. Составная вещь возможна потому, что некоторые ее части могут быть соединены определенным образом (§ 51). Сущность вещи состоит в способе, каким нечто является возможным (§ 35). Поэтому сущность составной вещи состоит в способе составления [ее частей], и кто может себе представить это, тот понимает ее сущность.
§ 60. /Составные вещи подобны друг другу, когда их части подобны друг другу и одинаковым способом друг с другом соединены/.
§ 61—63. /Составные вещи имеют измеримую величину, образуемую ее пространственно непрерывными и единообразными частями и определяемую посредством меры/.
§ 64—74. /Составные вещи могут возникать и прекращаться, увеличиваться и уменьшаться, менять фигуру и т. д. при неизменной сущности, т. е. без изменения количества своих частей, их порядка и связи, внутренних и внешних свойств и внутреннего движения/.
§ 75. Поскольку составной вещью называют то, что имеет части, постольку, напротив, простой вещью называют то, что не имеет никаких частей. Нужно исследовать, что такое простые вещи и чем они отличаются от составных.
§ 76. Где есть составные вещи, там должны быть и простые. Если бы не существовало никаких простых вещей, то все части должны были бы состоять из других частей, которые всегда будут больше, чем вы хотели бы их считать, вплоть до невообразимо малых. Но тогда нельзя было бы указать никакого основания, откуда в конце концов происходят составные части, а понять это было бы так же трудно, как возникновение сложных чисел, если бы в них нельзя было выделить никаких [составляющих их] единиц. Но, поскольку ничто не может существовать без достаточного основания (§ 30), необходимо в конце концов допустить простые вещи, из которых возникают составные. Кто правильно понимает закон достаточного основания, тот знает, что нельзя достичь никакого основания, пока вопросы не закончатся и не будет получен единственный ответ, что и происходит, пока допускают бесконечно [делимые] части.
§ 77. Посредством закона достаточного основания можно понять далее, что без простых и в себе неделимых вещей невозможно иметь ничего составного. Ведь если бы все состояло из частей, то тогда пришлось бы допустить вещи, которые обладали бы фигурой и величиной без всякого основания, по какому им присущи именно такого рода фигура и величина. Такое случается обычно с теми, кто упускает из виду закон достаточного основания и потому считает возможным нечто по своей сущности совершенно непонятное. Ибо поскольку вещь имеет основание, почему она существует, постольку можно познать, каковой она может быть, т. е. ее можно понять (begreifen); а рассказывая об этом другим, понятно объяснить (verständlich erklären). Если же полагают нечто, что не имеет никакого основания, то оно не может быть ни понято само по себе, ни понятно; объяснено, что и имеет место в рассматриваемом случае. [Это и имеет место у тех], кого обычно называют атомистами, поскольку они признают в материи мелкие частицы, величина и фигура которых не имеют никакого достаточного основания, но всего лишь считаются необходимыми и неизменными.
§ 78. Конечно, можно было бы сказать, как мы и сами приняли выше (§ 32), что необходимое не нуждается ни в каком другом основании, почему оно существует именно так, и, следовательно, допустили, что необходимость [сама] является достаточным основанием, почему нечто именно таково. И только в таком случае можно было бы полагать, что якобы существуют некоторые вещи, которые имеют необходимые и неделимые части, а потому и необходимую фигуру и величину, и тогда вся проблема была бы снята (so wäre der ganze Kummer gehoben)..
§ 79. Однако тот, кто выдвигает такое возражение, всего лишь показал бы, что он неверно понимает закон достаточного основания, ибо иначе он должен был бы знать, что необходимость также нельзя принимать без закона достаточного основания. Ведь необходимым является то, противоположное чему содержит в себе нечто противоречивое (§ 36). Поэтому сначала нужно доказать, что противоположное вещи содержит в себе нечто противоречивое, и только тогда необходимость может быть принята без достаточного основания. Соответственно тот, кто хочет утверждать, что некоторые состоящие из частей вещи являются необходимо неделимыми, а поэтому имеют также необходимо определенную фигуру и величину, тот должен прежде всего доказать, что если составные вещи возникают из простых, то отсюда вытекает нечто противоречивое. Но скоро будет очевидно, что это не так, когда я покажу (§ 603), как составные вещи могут возникать из простых.
§ 80. Возможно некоторые вообразят, будто воля и всемогущество Бога являются достаточным основанием, по какому некоторые вещи могут быть неделимыми и при этом иметь фигуру и величину. Однако, не вдаваясь в то, что будет разъяснено в другом месте, [следует сказать], что ссылка на волю и всемогущество Бога несовместима с разумным пониманием закона достаточного основания, поскольку в таких случаях следует также понятно объяснить, почему Бог может нечто желать или делать. Ведь уже выше было показано, что ничто не может стать действительным, что не является возможным (§ 14). Поскольку возможность составляет сущность вещи (§ 35), а сущность необходима (§ 38), тем самым уже понятно, что ни воля, ни сила не могут сделать нечто возможным. Возможное для себя и в самом по себе (vor und an sich selbst) не может стать возможным только посредством чьей либо воли или силы, хотя возможное может достичь действительности посредством воли и силы.
§ 81. Таким образом, твердо установлено, что должны быть простые вещи, благодаря соединению которых возникают части других [вещей]. Но, поскольку эти простые вещи не имеют частей (§ 75) и, следовательно, далее не составлены из других [частей] (§ 51), а величина, фигура, заполнение пространства и внутреннее движение суть свойства составных вещей (§ 73), простые вещи не могут иметь ни фигуры, ни величины, они не могут наполнять пространство, и в них не может иметь места никакого внутреннего движения (§ 43—44).
§ 82. Таким образом, простые вещи совершенно отличны от составных (§ 17), и, поскольку все вещи, которые мы сознаем как находящиеся вне нас, являются составными вещами (§ 51), тому, что мы воспринимаем в них, нельзя приписывать ничего простого (§ 81).
§ 83. Кажется вполне истинным, что простое воспринимается нами одновременно с представлением составного (§ 76), однако посредством опытов, проводимых с помощью увеличительного стекла, можно ясно показать, что сложные вещи, не говоря уже о простых, так проникают друг в друга, что мы больше не в состоянии отличать их друг от друга. Когда ниже я [попытаюсь] объяснить различие [этих] наших понятий, то можно будет понять, почему оказывается невозможным, чтобы мы были в состоянии различить в составном простое. Здесь дело обстоит так же, как с большими числами: хотя мы и можем представлять их себе равными, однако это еще не позволяет нам представить себе все единицы, из которых они состоят. Мы имеем о них только совершенно темное понятие (Log., § 13, гл. 1).
§ 84—85. /Дальнейшие пояснения на примерах из опыта и различных наук того, что вещи, воспринимаемые нами в качестве простых, на самом деле оказываются составными вещами, отличающимися друг от друга/.
§ 86. При таком положении дел у нас не остается никакой надежды, что с помощью одного лишь внимательного [рассмотрения] составных вещей мы сможем различить в них простые [вещи]. Поэтому необходимо, чтобы мы могли усмотреть то, что обнаруживается посредством размышления (durch Überlegung heraus zu bringen). Поскольку о простых вещах мы не знаем ничего другого, кроме того, что они не имеют никаких частей (§ 75), а части составных вещей в конце концов возникают [именно] из них (§ 76 и др.), о том и другом нужно поразмышлять далее.
§ 87. Простая вещь не может возникнуть ни из какой составной. Ибо все, что может возникнуть из составного, должно появиться или посредством рассеивания его частей, или путем нового соединения изолированных частей, поскольку сущность составной вещи состоит в способе связи ее частей (§ 59). Но, поскольку все, что о вещи можно мыслить, имеет свое основание в ее сущности (§33) и именно таким образом можно понять, почему она может быть (§ 29), все, что можно вывести из составной вещи, можно также и объяснить посредством соединения ее частей (§ 77). Во втором случае очевидно, что [в результате] должна появиться составная вещь (§51); в первом — появляется или нечто составное, или нечто простое (§ 51, 75). Составное может быть чем-то новым (§ 59, 54), поскольку части, из которых оно состоит, теперь располагаются друг возле друга иным способом, чем раньше, по крайней мере их протяжение получает другие границы, нежели оно имело до этого. Простое же не является чем-то новым, поскольку оно уже раньше присутствовало в составном и, следовательно, не может только теперь впервые начать свое существование (§ 10).
§ 88. Простая вещь не может возникнуть и ни из какой другой простой вещи, ибо она неделима (§ 75), а следовательно, из нее ничего не может быть выделено, и если это имело бы место, то из нее могло бы возникнуть нечто. Но в таком случае из ничто должно было бы возникать нечто, что недопустимо (§28). А если бы предположили допустимость этого, то и в таком случае нечто возникало бы из ничто, а не из простой вещи.
§ 89. Итак, простая вещь существует либо без начала, а следовательно, невозможно, чтобы она могла бы не существовать (§ 10), стало быть, — она необходима (§ 36); либо она должна начинать свое существование сразу (auf einmal), так как ранее она не существовала, и поскольку в простой вещи, не имеющей никаких частей (§ 75) и потому не состоящей из многих отличных друг от друга вещей (§ 24), одно не может возникать после другого. Но так как нечто не может возникать из ничто (§ 28), то должна существовать вещь, благодаря которой нечто может возникать сразу из того, что раньше не существовало (§ 30). Ниже будет показано, что именно таковым является Бог.
§ 90. Если нечто возникает сразу, то в способе его возникновения нет ничего множественного, что можно было бы отличить друг от друга: там же, где это имеет место, вещь возникает постепенно (nach und nach), а именно последующее вытекает из предшествующего, в котором оно имеет основание (§ 30), и это продолжается до тех пор, пока не появится постепенно возникающая вещь. Именно это мы воспринимаем во всех телесных вещах, которые возникают в природе и в искусстве. Например, в данном сочинении одна буква появляется после другой, равно как и каждая часть буквы следуют одна за другой. Но, поскольку мы понимаем только то, что отличаем друг от друга в качестве множества, находящегося в чем-то одном, где одна [часть] основана в другой (§ 77), простая вещь, если она не необходима (§ 89), должна возникнуть сразу, [т. е. совершенно] непонятным [для нас] способом.
§ 91. То, что непонятно, не может быть и понятным образом объяснено (§ 77), а потому нельзя понятно объяснить и того, каким образом может возникнуть простая вещь (§ 90).
§ 92—93. /При возникновении составных вещей порядок связи их частей образуется постепенно и случайно, а способ их возникновения может быть понят и понятно объяснен, поскольку их части можно отличить друг от друга, а каждая из них имеет свое основание в предшествующей [части]/.
§ 94. Познавая, что нечто возникает постепенно и обращая внимание на то, что наши мысли таким же образом следуют друг за другом, мы благодаря этому приобретаем понятие времени (Log., § 7, гл. 1). Из этого становится ясным, что мы можем представлять себе время не иначе, как обнаруживая в себе (bei uns befinden), что оно есть не что иное, как порядок того, что следует друг за другом, и причем так, чтобы за первым следовало второе, за вторым третье и т. д.
§ 95. Соответственно этому пространство имеется в тех вещах, которые существуют одновременно друг возле друга, а время — в тех, которые существуют друг после друга или одна следует за другой (§ 46, 94).
§ 96—97. /Как мы различаем малые [отрезки] времени и малые [части] пространства/.
§ 98. Из сказанного о времени (§ 94) легко понять, что оно ничего не изменяет в вещи, поскольку не имеет ничего общего с ее внутренним [содержанием]. Между тем последнее можно различать (§ 18, 20) от другого времени, однако только по числу (§ 17).
§ 99. Все, что происходит постепенно, совершается во времени. Поскольку здесь многое можно отличить друг от друга, одно из которых предшествует, а другое за ним следует (§ 90), постольку здесь имеется время (§ 94).
§ 100. Поскольку составные вещи возникают постепенно (§ 92), они возникают за некоторое время, т.е. пока они возникают или становятся действительными, проходит определенное время.
§ 101. Напротив, для возникновения простой вещи не требуется никакого времени, если, конечно, допустить, что она возникает, достигая своей действительности из того, что до этого было всего лишь возможным. Однако в данном месте мы еще не можем доказать, что простые вещи возникают и не являются необходимыми. Но если они должны возникать (§ 89) и это должно происходить сразу, то здесь невозможно различить ничего, что возникало бы следуя одно за другим (§ 90). Следовательно, здесь нет никакого времени (§ 94). В силу этого совершенно ясно, что все происходящее сразу не происходит во времени и, пока оно происходит, не протекает никакого времени. Это доказательство является всеобщим, хотя в данном случае оно применено только к частному случаю.
§ 102. Если простая вещь, которая существует однажды (einmal), должна снова исчезнуть (aufhören), то она должна превратиться в ничто. Так как она не имеет частей (§ 75) и потому ее сущность не состоит в их соединении (§ 59), то она не может и измениться посредством их разъединения или внутреннего перемещения. Следовательно, ее действительность не может прекратиться тем же способом, как в составных вещах (§ 64). Но то, что не может прекратиться через разъединение или внутренне перемещение частей, то может исчезнуть только превратившись в ничто.
§ 103. Возможно, некоторые скажут, что простая вещь может прекратиться посредством превращения, а именно в силу того, что из нее якобы может возникнуть вещь, имеющая сущность, отличающуюся от первой. Нельзя отрицать, что такого рода иллюзии могут иметь место у тех, кто принимает слова без их объяснения и прежде всего у тех, кто считает составными вещами нечто такое, что походило бы на дерево, чья сущность состояла бы из одного листа. Однако если мы взвесим, каким свойством должно обладать это превращение, то мы обнаружим, что оно состоит не в чем ином, как в том, что простая вещь должна была бы сразу превратиться в ничто, а на ее месте должна опять же сразу возникнуть другая вещь. Это можно совсем легко показать. Ведь превращение либо имеет свое основание в сущности превращающейся вещи, либо не имеет. Если имеет, то это есть всего лишь превращение ее состояния, в котором можно усмотреть свойство, что данное превращение может произойти (§ 44), но тем самым сама вещь не прекращается. Если же превращение не имеет никакого основания в сущности вещи, то оно и не возникает из нее, а сущность вещи само по себе остается неизменной (§ 42) и ничто в ней не может превратиться во что-то другое. Поэтому если простая вещь превращается и на ее месте должна появиться другая, которой до этого не было, то первая должна превратиться в ничто, а после этого из ничто снова возникнуть другая. Этим подтверждается сказанное ранее, а именно то, что простая вещь не может прекратиться не иначе как путем ее уничтожения (es vernichtet wird).
§ 104. Если нечто изменяется, то основание изменения следует искать либо в этом нечто, либо вне него. Первое из двух — необходимо (§ 30). Изменение, основание которого имеет место в изменяющейся вещи, называется делом или действием (eine Tat oder ein Tun). Напротив, изменение, основание которого находится не в изменяющейся, а в другой вещи, называется страданием (Leidenschaft). Например, если я сейчас занят писанием, то во мне происходит изменение, т. е. нечто такое, чего не было раньше. И если я хочу понять, как и почему во мне происходит сейчас этот процесс писания, то его основание я должен искать в самом себе. Поэтому процесс моего писания я называю действием, т. е. говорю, что я нечто делаю, когда я пишу. Напротив, когда я сжимаю губку, то в ней происходит изменение, основание которого находится не в ней, а в сжимании, которое производится мною и без которого в ней не произошло бы никакого изменения. Последнее я отношу к страданиям, т. е. я утверждаю, что губка испытывает страдание, когда ее сжимают. Напротив, сжимая губку, я нечто делаю.
§ 105. /Вещь может испытывать страдание, поскольку в нечто отличном от нее имеются основания, производящие в ней изменения, а в ней самой должно иметь место нечто, позволяющее эти изменения испытывать и претерпевать именно ей и именно таким, а не другим образом (например, сжатие губки и камня). Таким образом к определенным изменениям в вещах должна быть некоторая предрасположенность, которую называют естественной судьбой (natürliches Geschickte). Но в чем состоит эта судьба — нужно решать в каждом отдельном случае/.
§ 106. Внутренние свойства простых вещей. Простые вещи существуют действительно (§76) и не могут исчезать сами по себе (vor sich) (§ 102). Поэтому в них должно быть нечто постоянное (fort daurendes), которое либо имеет границы, либо нет. Так как [простая] вещь сама по себе (in sich) неделима, то посредством этих границ не может возникнуть ничего другого, кроме измеримой степени, которая представляется как бы составленной из других частей меньших степеней, сообщающих ей некоторую величину (§ 61). Именно так в математике посредством линий и поверхностей могут быть представлены степени, если хотят измерить их правильно. В качестве примера можно привести скорость движения. Скорость неделима и одинакова во всех частях движущегося тела, но, поскольку она может увеличиваться и уменьшаться, она может рассматриваться в качестве определенной степени, в которой малые степени выступают ее частями. (§ 24). И поскольку первая возникает благодаря тому, что [в ее основе лежат] более мелкие, взятые определенное число раз, она может быть измерена (§ 62), а потому и является измеримой степенью. Но если сохраняющееся, которое имеет место в простой вещи, безгранично, то оно необходимо должно иметь безусловно высшую степень, с которой никак нельзя сравнивать измеряемые степени.
§ 107. /Изменения простой вещи суть изменения ее границ, поскольку в простых вещах нет ничего кроме их сущности, которая остается неизменной, не возникает и уничтожается и может изменяться только по степени, посредством изменения границ и фигуры находящегося в этой сущности постоянного, но не самой его материи (например, в воске)/.
§ 108. Все изменения, которые могут происходить в простой вещи, есть не что иное, как смена степеней (§ 106). Но, поскольку ничто не может происходить без достаточного основания (§ 30), изменение должно иметь основание в другом, а именно последующее в предшествующем.
§ 109 То, что не имеет никаких границ, не может быть подвержено никаким изменениям, поскольку изменяться могут только границы (§ 107), а потому безграничная вещь является всем тем, чем она может быть сразу; тогда как, напротив, ограниченная вещь в силу изменений, которым она подвержена, становится тем, чем она может быть, постепенно. Таким образом мы получаем отчетливое понятие о конечных и бесконечных вещах (Log., § 13, гл. 1) и можем понять, чем они друг от друга отличаются, что до сих пор безуспешно пытались найти философы. А именно в бесконечной вещи действительно существует все то, что может в ней возникнуть сразу в качестве действительного: и наоборот, в конечной вещи все, что может в ней стать действительным, возникает одно после другого.
§ 110. Здесь возникает два вопроса о простых вещах, из которых состоят составные, а именно мы должны здесь решить — существуют ли простые вещи совершенно без границ, а если они имеют таковые, то являются ли они изменчивыми или неизменными.
§ 111. На последний вопрос сразу можно ответить, что границы должны изменяться. Но, поскольку они изменяются без изменения того, что есть в вещи постоянного (§ 107), вещь имеет свои границы не необходимо, но может также иметь и другие [границы] (§ 36). Таким образом, границы изменчивы сами по себе. Но могут ли они изменяться действительно — будет показано далее
(§ 125-126).
§ 112. Что касается первого вопроса: могут ли простые вещи, из которых состоят составные и представляются нам внешними, существовать без всяких границ, — я отвечаю: нет. Ведь если бы они существовали без границ, то они были бы одинаковыми и посредством их произвольного перемещения не происходило бы никакого изменения в составной [вещи] (§ 17), поскольку тогда к ней добавлялось бы то же самое, что и отнималось ранее, и она всегда оставалась бы той же самой, каковой была ранее. Но тогда составная вещь оказалась бы подобной беспорядочной куче, в которой нельзя было бы ничего различить, как это обычно бывает у людей, представляющих или воображающих себе пустое или конечное пространство. Опыт, однако, учит, что в составном имеет место различие.
§ 113. После того как мы выяснили, что происходящие в вещи изменения состоят только в изменении границ (§ 107), мы можем понять, почему составные вещи могут иметь начало и конец, а простые, напротив, их иметь не могут. А именно если нечто должно начинаться, то сущность вещи должна достичь действительности, поскольку до этого она существовала под знаком (unter der Zahl) всего лишь возможной вещи (§ 14). Напротив, если она прекращается, то должна исчезнуть и действительность сущности, чтобы из царства действительных вещей вернуться в царство возможного, откуда она и возникла (там же). Сущность же составных вещей состоит в способе соединения [их частей] (§ 39) и может изменяться посредством изменения границ, какими обладают как ее части, так и целое (§ 72). Поэтому если составная вещь возникает или исчезает, то ничто не уничтожается, но ничто и не возникает вновь, чего прежде уже не существовало бы. Никакая часть материи, которая существовала ранее, не превращается в ничто, и никакая не возникает [вновь], как не существовавшая бы уже до этого; изменяются лишь их величина, фигура и их расположение по отношению друг к другу. И, напротив, поскольку простая вещь сама по себе неделима (§ 73), эта ее неделимость не позволяет ей превратиться в другую вещь посредством изменения границ, имеющих в ней свое основание. Именно так воск не перестает быть воском, если меняются границы его протяжения в длину, ширину и толщину, т.е. если меняется его фигура (§ 54). Таким образом, нельзя понять, каким образом простая вещь достигает своей действительности или может ее утратить, не превращаясь при этом из нечто в ничто или возникая впервые из ничто в качестве нечто, которое до этого не существовало.
§ 114. Следует также понять, чем, собственно, вещи, которые существуют сами по себе (so vor sich bestehen), отличаются от тех, которые существуют только посредством других. А именно вещь, существующая сама по себе, или субстанция, есть та, которая имеет источник своих изменений в себе; напротив, вещь, существующая посредством другой, есть не что иное, как ограничение субстанции. Например, наша душа обладает силой, которая последовательно производит свои мысли в неизменном порядке и потому является вещью существующей самой по себе. Напротив, как производимые ею понятия, так и возникающие в ней желания (Appetit) есть не что иное, как ограничения этой силы, возникающие посредством того, что она определена на некоторое нечто (auf etwas gewisses determinirt wird), поскольку сама по себе она имеет склонность к бесконечно многому (da sie vor sich zu unendlich vielem aufgelegt ist). Поэтому ее понятия и желания имеют место благодаря другой существующей вещи. Я привожу этот пример только для того, чтобы лучше можно было понять мои объяснения, которые иначе оставались бы темными. Но сказанное здесь еще нельзя принимать за истину; она будет доказана в другом месте. Как известно, в примерах, с помощью которых что-то объясняется, не заботятся о том, истинны они или нет. Мы объясняем здесь только [значения] слов, но не спрашиваем, каковы существующие вещи по себе.
§ 115. Источник изменений называют силой (Kraft), и, таким образом, в каждой самой по себе существующей вещи имеет место сила, каковой мы не находим в вещах, существующих посредством других.
§ 116. Посредством этой силы все изменения, которые несет в себе существующая сама по себе вещь, в ней и имеют свое основание (§ 29), а следовательно, являются действиями этой самой вещи* (§'Ю4). Из этого явствует, что для себя существующая вещь может делать нечто [такое], из чего узнают, чем она отличается от других вещей и что, следовательно, является ее верным признаком, на что давно указал, правда без доказательства, г-н Лейбниц (Aktis Eruditorum. А. 1695). То, что здесь сказано о вещах, существующих самих по себе, можно пояснить на примере нашей души. Она может делать нечто, а именно мыслить, а по этим мыслям она может быть познана, а также отличена от других вещей, в которых мы не находим никаких мыслей. Поэтому можно также сказать, что вещью существующей самой по себе является та, которая может нечто делать.
§ 117. Силу нельзя смешивать со способностью, поскольку способность (Vermögen) есть всего лишь возможность нечто делать, тогда как сила является источником изменений (§ 115) и в ней должно иметь место стремление (Bemühung) нечто делать. Например, когда я сижу,я способен встать,но это остается всего лишь возможным. Если же я действительно хочу встать, но кто-то удерживает меня, вопреки моей воле, то во мне обнаруживается сила к вставанию. Благодаря способности изменение остается всего лишь возможным; благодаря же силе оно становится действительным. Поэтому посредством вещи, существующей самой по себе, может быть приведено к действительности нечто, бывшее только возможным (§ 114—115).
§ 118. Поскольку в существующей самой по себе вещи имеет место сила (§ 115), в ней также должно иметь место стремление нечто сделать (§117), т. е. изменять свои границы (§ 104,107).
§ 119. Если это стремление продолжается постоянно, то из него возникает действие. Если не существует ничего, препятствующего продолжению этого стремления, т. е. если ему ничего не противостоит, то оно будет продолжаться (§ 30) и потому действие будет продолжаться во всякое время, пока ему ничего не противостоит. Например, если я стремлюсь встать и нет никого, кто бы меня от этого удержал или противостоял этому,' то я встаю.
§ 120. Посредством силы достигают осуществления того, что было всего лишь возможным, т. е. возможное приводится к действительности (§ 14). Но то, что достигает посредством дела (Tun) своей действительности, называется действием (Wirkung). Напротив, та вещь, которая посредством своего действия способствует возможному стать действительным, т. е. нечто произвести, называется действующей причиной.. Например, если солнце расплавляет воск, то это происходит благодаря длящемуся нагреванию. Таким образом, нагревание солнцем есть его дело, а [произведенное им] плавление — действие, само же солнце есть действующая причина, посредством которой оно это исполняет. Но нагревание возникает из его постоянного усилия нагревать, свойство которого должно быть понятно объяснено в своем месте в физике.
§ 121. Способ ограничения вещи мы называем ее состоянием (Zustand). Если ограничение происходит в том, посредством чего вещь существует, то оно называется ее внутренним состоянием, если же оно касается того, что находится вне вещи, т. е. того, посредством чего она относится к другим вещам, то оно называется ее внешним состоянием. Например, понятия, производимые душой, и ее желания, возникающие из ограничения ее силы, составляют ее внутреннее состояние. Наоборот, величина нашего имущества и почета, количество наших друзей и врагов относятся к внешнему состоянию человека.
§ 122—123. /Длительность сохранения и изменения состояния вещи, частота перехода вещи в другое состояние и способы познания этого/.
§ 124. Сама по себе существующая вещь находится* в постоянном усилии изменить свое состояние, поскольку она постоянно стремится изменить свои границы (§ 118). А если изменяются границы, то изменяется и состояние вещи (§ 121).
§ 125—126. /Простые вещи имеют силу для постоянного изменения своих границ и состояний/.
§ 127. Поскольку каждая простая вещь имеет силу (§ 125) и, следовательно, имеет источник изменений в себе (§ 115), она есть вещь, существующая сама по себе (§ 114).
§128—131. /Все изменения простой вещи суть действия ее силы и потому могут быть поняты и понятно объяснены согласно закону достаточного основания. Это может быть показано на примере души и ее действий, для познания которых не нужно прибегать к выдумкам, но обладать знаниями оснований и навыками для их осторожного применения в опыте/.
§ 132. Если множество, взятое вместе, рассматривается как единое (eines) и в том, как в нем одно расположено друг возле друга или друг за другом следует, обнаруживается нечто сходное, то благодаря этому в нем возникает порядок (Ordnung), который есть не что иное, как сходство многообразного в его следовании друг за другом.
§ 133—141. /Примеры порядка: процессия, в которой люди идут друг за другом парами и в одном направлении: одновременное или последовательное расположение многообразия сходных и связанных друг с другом вещей в пространстве и времени. Беспорядок как отсутствие сходства и связи между вещами. Способы познания порядка, его основания, правила понимания, объяснения и оценки, трудности обнаружения порядка и т. д./.
§ 142. Поскольку все имеет достаточное основание, почему оно есть (§ 30), постольку оно должно^иметь постоянное основание, по какому в простых вещах изменения следуют.друг-за другом именно так, а не иначе, а в составных вещах части находятся друг возле друга и их »изменения следуют друг за другом
именно так, а не иначе. Таким образом, здесь имеет место такой же порядок, какой имеется в упорядоченном изложении доказательства (§ 138). Такого рода порядка не может быть в грезе, поскольку на основе опыта нельзя указать никакого основания, по какому вещи располагаются друг возле друга, а их изменения друг за другом следуют. Исходя из этого можно отчетливо узнать, что истина отличается от грезы посредством порядка (§ 17). Соответственно истина есть не что иное, как порядок в изменении вещей, а греза (Traum), напротив, — беспорядок в их изменении.
§ 143. /Пояснение различия между истиной и грезой: в истине порядок расположения и изменения частей легко различим и определим, а каждая из них имеет основание в другой; в грезе все это отсутствует/.
§ 144. Тот, кто как следует обдумает это [различие между истиной и грезой], тот будет вполне знать, что без закона достаточного основания не может быть никакой истины (§ 30). Поэтому такого рода основание тем менее можно подвергать сомнению или так или иначе брать под подозрение, поскольку без него невозможно отличить истину от грезы.
§ 145. Отсюда становится ясным, что истину познают в том случае, когда понимают основание, по какому может быть то или иное, т. е. [познают] правила порядка, который имеет место в вещах и их изменениях.
§ 146. Поскольку как в простых, так и в составных вещах все основано друг в друге (§ 30) и в силу этого возникает порядок (§ 132), в них имеется и истина (§ 142). Поэтому каждая вещь есть нечто истинное. Об этом говорилось уже давно, однако никогда не могли это отчетливо объяснить и доказать.
§ 147. Поэтому можно объяснить изменения тех вещей (§ 141), в которых можно обнаружить всеобщие правила.
§ 148. /Степени порядка зависят от больших или меньших степеней сходства между сосуществующими или следующими друг за другом час-тями многообразного/.
§ 149. Поэтому чем больше степеней имеется в каком-либо порядке, тем больше получают его правил, поскольку каждая степень возникает благодаря особенному сходству (§ 140), а каждое сходство дает особенное правило (§ 141).
§ 150. Чем больше имеется правил относительно порядка, тем больше в нем обнаруживают, хотя число [образующего его] многообразного остается одинаковым. Это легко понять из приведенных выше примеров.
§ 151. Поскольку истина возникает благодаря порядку в изменениях вещей (§ 142), истины больше там, где имеется больший порядок и, наоборот, истины меньше там, где меньше порядка.
§ 152. Согласие (Zusammenstimmung) многообразного составляет совершенство (Vollkommenheit) вещи. /Например, о совершенстве часов судят по тому, что они правильно показывают время. Если же в многообразии частей, образующих часы, есть части, которые препятствуют тому, чтобы они показывали время правильно, то часы несовершенны/. А именно несовершенство состоит в том, что многообразное вступает в конфликт друг с другом (wider einander läuffet). Судить же о том, имеет ли место этот конфликт
одного с другим или нет, можно на основании того, что сказано о противоречии
(§ И).
§ 153. Поскольку в согласии должно быть нечто, в чем сходится многообразное, каждое совершенство имеет свое основание, из которого оно познается и оценивается (§ 29). Так, основанием совершенства часов служит правильное показание времени. Основанием совершенства образа жизни в университете является ученость, которая служит конечной целью, каковую намереваются достичь посредством обучения.
§ 154. /Величина совершенства зависит от степени основания, из которого оно возникает/.
§ 155. /Большее совершенство легче наблюдаемо/.
§ 156. В совершенстве имеется чистый (lauter) порядок, поскольку там, где оно есть, все относится к одному общему основанию, из которого можно объяснить, почему одно сосуществует с другим или следует за ним (§ 152). Встречающееся же здесь многообразное имеет друг с другом сходство (§48). А, поскольку порядок состоит в сходстве сосуществующего друг с другом или друг за другом следующего многообразного (§ 132), в совершенстве имеется чистый порядок.
§ 157. Совершенство может быть познано двояким способом. Во-первых, когда я сначала обнаруживаю основание для его оценки и после этого исследую свойство многообразного, сопоставляя его с основанием совершенства. Во втором случае, я должен сначала исследовать свойства многообразного и все обнаруживаемое в нем сравниваю друг с другом и отсюда заключаю к основанию их согласия (§ 152, 153).
§ 158—159. /Первый способ познания совершенства — из размышления, второй — из опыта. Пояснение этого на примере оценки совершенства окна в помещении с точки зрения строителя здания и с точки зрения моего обыденного опыта (размеры окна и удобство вида из него). Эти точки зрения могут не совпадать и иметь различные основания/.
§ 160—168. /Чем большее имеется согласующихся друг с другом оснований для оценки многообразного, тем больше совершенства мы в нем обнаруживаем. Виды совершенства (общие и частные, простые и составные), их отношение друг к другу, их свойства и правила, величина и польза и т. д./.
§ 169. /Поскольку совершенство происходит из правил (§ 168), то исключения из правила являются источником и основанием несовершенства /.
§ 170. /Несовершенство частей или исключения, которые встречаются в составных совершенствах, могут принадлежать к совершенству целого/.
§ 171. Чем больше количество согласующегося друг с другом многообразного, тем труднее судить о совершенстве целого. В этом причина того, почему многие обманывается, когда пытаются судить о совершенстве естественных вещей. Но и при оценке искусственных творений у них это получается не лучше. Чем больше число [многообразного], которое мы способны обдумать,
257
9 Зак 642
тем менее мы способны оценить совершенство целого. Это будет рассмотрено в главе о мире.
§ 172—174. /Степени совершенства. Их познание следует начинать с познания простых совершенств, затем вывести из их оснований правила, сравнить их друг с другом и оценить исключения из них/.
§ 175. Откуда происходят случайные вещи. Поскольку в силу различения степеней совершенства вещи одного рода могут значительно отличаться от другого (§ 172), ясно, что, если вещь определенного рода обладает некоторой степенью совершенства, она также вполне может иметь и другую степень. Одна степень совершенства так же возможна, как и другая, если первая так же мало противоречит сущности вещи, как и другая (§ 12). Следовательно, если вещь может существовать и иначе, чем она существует, то противоположное ей не содержит в себе ничего противоречащего (§ 11) и потому она не является необходимой (§ 36). Поскольку такого рода не необходимые вещи обычно называют случайными, ясно, что случайное (zufällig) есть то, противоположное чему так же может существовать или то, чему противоположное не противоречит. /Пример различных степеней совершенства окна, благодаря которым в его уст-ройстве может иметь место нечто случайное/.
§ 176. То, что основано в сущности вещи, — необходимо. Поскольку сущность вещей необходима (§ 38), постольку все, что основано только в ней, должно быть необходимым. Ибо все, что основано в чем-то другом, существует настолько долго, насколько долго существует его основание и не может изменяться до тех пор, пока не изменится его основание. Сущность вещи является также неизменной (§ 42). Поэтому то, что основано только лишь в сущности вещи, должно быть неизменным. Но, поскольку оно не может существовать иначе, чем оно существует, противоположное ему противоречит тому, что основано в сущности вещи (§ 11), и потому [последнее] необходимо (§ 36). Отсюда далее ясно, что сущность вещи является источником необходимого.
§ 177. Поскольку необходимое не может быть другим (§ 41), те вещи, которые обладают одинаковой сущностью, имеют друг с другом много общего (§ 176) и потому называются вещами одного вида (von einer Art). Отсюда явствует, что основанием вида вещей является сходство сущности (§ 18, 29). /Например, к необходимой сущности окна относится внутреннее освещение помещения у удобный вид наружу/.
§ 178—179. /Различия в видах вещей возникают из того, что имеет основание не в их сущности, а в чем-то другом. Например, различия в фигуре окна. Частные виды/.
§ 180. /Свойство отдельной вещи состоит в том, что присуще исключительно ей и отличает ее от всего, что существует с ней одновременно или последовательно. Ее основание называют этостью (Diesheit), которое определяет вещь особым образом. Поскольку в естественных вещах имеет место бесконечное количество частей, каждая из которых определена особым образом, отдельные вещи природы невозможно понять полностью, но только то, что относится в них к существенному и возможному/.
§ 181. /Род (Geschlechter) возникает из сходства сущности и видов различных вещей/.
§ 182. /Понятия видов и родов позволяет сравнивать друг с другом различные вещи, подставлять одну из них на место другой, сопоставлять их действия и посредством осуществляемых таким образом опытов и экспериментов достигать лучшего познания их природы, а также находит ь основание для умозаключений относительно этих вещей/.
§ 183—189. /Различие родов и видов в отдельных вещах позволяет отличать в них общее, различное и изменчивое, устанавливать различия в способах их определения, что позволяет отграничивать общее в вещах, относящееся к существенному, простому и неизменному в них, от безграничного, относящееся к материи составных вещей, к способу соединения их различных частей, а также к способу отношения вещей друг к другу/.
§ 190. Хотя существует еще много других вопросов, относящихся к вещам вообще и которые можно было бы здесь обсудить, однако, поскольку об этом ниже будет говориться более подробно, я откладываю эти вопросы до другого случая, где их можно будет понять лучше всего.
Глава III
О ДУШЕ ВООБЩЕ, И ЧТО ИМЕННО МЫ В НЕЙ ВОСПРИНИМАЕМ (WAHRNEHMEN)
§ 191. Здесь я еще не намереваюсь показывать, что такое душа и как в ней происходят изменения: мой замысел здесь состоит лишь в том, чтобы показать, что мы в ней усматриваем посредством ежедневного опыта. Я не хочу здесь показывать ничего другого, кроме того, что может узнать каждый, кто обратит внимание на себя. Это и будет служить нам основанием для выводов о том, что не каждый может увидеть в себе сразу. А именно из того, что мы в душе различаем, я хочу найти отчетливые о ней понятия и кое-где указать на некоторые важные истины, которые отсюда могут быть доказаны. И именно эти истины, подтверждаемые посредством достоверных опытов, послужат основанием тех правил, которыми силы души руководствуются как в познании, так и в своих желаниях, или при отсутствии таковых, а следовательно, в логике, морали и политике (Log., § Prol.).
§ 192. Но, поскольку знают лишь то, что можно воспринять, следует заметить, что под душой я понимаю такую вещь, которая сознает себя и другие вещи вне себя, и поскольку мы [сами] сознаем себя и другие вещи вне нас.
§ 193. /Предостережение против мнения, будто в своем понимании сущности души я разделяю точку зрения картезианцев, согласно которой в душе не может существовать ничего другого кроме того, что она сознает. Но к тому, что мы сознаем в душе, мы заключаем из того, что мы воспринимаем в ней посредством опыта. Это будет показано ниже/.
§ 194. Когда мы мыслим и не мыслим. Выше (§ 45) было отмечено, что первое, замечаемое нами в нашей душе, это то, что мы сознаем многие вещи как находящиеся вне нас. И поскольку это происходит, мы говорим, что мы мыслим (gedencken), а потому называем мыслями те изменения души, которые она сознает (Log., § 2, гл. 1). Напротив, если мы ничего не сознаем, как, например, во сне, а иногда и в бодрствовании, то мы говорим обычно, что мы не мыслим.
§ 195. Таким образом, мы считаем сознание тем признаком, из которого мы узнаем, что мы мыслим. И привычка говорить с собой свидетельствует о том, что сознание не может быть отделено от мышления. И нет никакой причины, по какой мы пожелали бы отказаться от привычки говорить. Тем не менее следует обратить внимание на то, что мы вовсе не считаем, будто душа не может иметь никаких других действий, кроме мыслей (§ 193).
§ 196. Однако когда мы мыслим, мы обнаруживаем различие между мыслями о вещах вне нас и в нас, причем именно такое, которое было доказано на основе понятий в «Мыслях о силах рассудка» (Log., § 9, гл. 1). /.../
§ 197. Поскольку имеет место различие между мыслями о вещах вне нас и в нас, необходимо пояснить те вещи, благодаря которым мы узнаем, что нечто существует в нас, ибо о том, как мы узнаем, что нечто существует вне нас, было сказано уже выше (§ 45). Поскольку мы сознаем некоторые вещи, видя их вне нас, например, здания или людей, в силу приведенного выше основания противоречия (§ 10) ясно, что я, как сознающий некоторые вещи, не есть та же самая вещь, которую я сознаю, и потому я знаю ее как отличную от меня (§ 17). А поскольку я не нахожу в себе ничего другого, кроме сознания, т.е. своих мыслей (§ 194), к себе я причисляю только мышление и то, что ему принадлежит, которое я вижу как то, что [есть] во мне (als in mir). Отсюда и возникает ошибочное мнение картезианцев, будто сознание составляет всю сущность души и в ней не может происходить ничего такого, чего бы мы не сознавали. Таким образом, то что мы видим в себе есть то же самое, из чего мы познаем себя, как и равным образом, мы вообще обычно полагаем в некоторую вещь то, из чего мы ее познаем. Например, из фигуры я познаю шар, но мы и полагаем фигуру в шар. И потому, если я говорю, что нечто существует в одной вещи, то это не имеет другого смысла, кроме того, что посредством этого нечто я познаю вещь и отличаю ее от других.
§ 198. Некоторые мысли таковы, что мы вполне хорошо знаем, что именно мы мыслим и можем отличить эти мысли от других. Тогда мы говорим, что мысли ясны. Например, я сейчас вижу дома, людей и другие вещи и вполне хорошо сознаю, что я вижу, а потому любую из этих вещей могу познать и отличить от других. В этом случае я говорю, что мои мысли являются ясными.
§ 199. Напротив, если мы сами не вполне хорошо знаем, что мы должны делать из мыслимого нами, то наши мысли являются темными (dunkel). Например, если я издалека в поле вижу нечто белое, но не знаю, что исходя из этого должен сделать, поскольку не могу вполне правильно отличить одну часть от другой, то моя мысль об этом — темная.
§ 200. Это название [ясных и темных мыслей] заимствовано из зрения, которое мы называем ясным, если хорошо различаем видимое, и темным, когда не можем его правильно различить. А так как при смотрении мы сознаем видимое, а также мыслим (§ 194) его и даже исходя из свойств наших мыслей о различном, судим о различном в видимом (ибо различение друг от друга [частей] видимого относится к мышлению), то вполне возможно, чтобы по отношению к зрению и мышлению мы использовали одинаковый оборот речи. Поэтому мы и приводили примеры, связанные со зрением. /.../
§ 201. Ясность возникает из наблюдения (Bemerkung) различного в многообразном, а темнота — из недостатка этого наблюдения.
§ 202. Вещь тем яснее, чем больше мы замечаем ее отличие от другой вещи; и наоборот, чем меньше мы воспринимаем это отличие, тем она темнее. Это имеет место как в науках, так и в обычной жизни. Например, чем больше мы усматриваем (vernehmen) в умеренности того, что отличает ее от других добродетелей, тем яснее она становится для нас. И наоборот, чем меньше мы знаем из того, что принадлежит умеренности, тем темнее она остается для нас.
§ 203. Если наши мысли ясны, то мы говорим, что в нашей душе имеется свет или светлое (lichte oder helle). /Как в мире свет делает видимыми окружающие тела и позволяет отличать их друг от друга, так и свет в душе делает наши мысли более ясными, и благодаря их отличию друг от друга мы лучше удостоверяемся в различии познаваемого. В чем состоит этот свет в душе, будет исследовано далее/.
§ 204. /Если я не могу замечать различия в вещах, то в моей душе еще имеет совершенная темнота (finster)/.
§ 203. /Различия в степенях света и темноты можно выражать либо с помощью общих слов, либо посредством частных примеров/.
§ 206. Иногда бывает так, что различия о том, о чем мы мыслим, мы можем определять и сообщать другим по их требованию. В этом случае наши мысли являются отчетливыми (deutlich). /Пояснение этого на примере различия между треугольником и четырехугольником по числу их сторон или между словами по составляющими их буквам/.
§ 207. Следует заметить, что наши мысли всегда содержат в себе многое. Если мы мыслим вещь и наши мысли ясны в отношении ее частей или содержащегося в ней многообразия, то из этой ясности возникает отчетливость. Если мы получаем ясные мысли о частях и можем их отличить друг от друга, хотя и не в состоянии определить их различие внутренних признаков этих частей, то мы имеем отчетливую мысль о целом. /Пояснение на примере отчетливой мысли о треугольнике, которая возникает благодаря ясному знанию его объема, образуемого составляющими его сторон, хотя я и не могу определить различие между этими сторонами посредством различения составляющих их линий/.
§ 208. /Степени отчетливости зависят от количества различаемых в многообразии частей целого и ясности представления о последнем/.
§ 209. /От степени отчетливости зависит глубина (Tiefe) мыслей или постижения/.
§ 210—212. /Зависимость степени отчетливости от степени ясности, их взаимосвязь/.
§ 213. /Состояние темных мыслей как отсутствие ясности и отчетливости/.
§ 214. /Неотчетливость мыслей возникает из неспособности определения различия между частями и способности сообщить об их отличии другим. Например, о ясно видимом и мыслимом отличии красного цвета от зеленого/.
§ 215—216. /Зависимость отчетливости от степени ясности частей, от наличия или отсутствия представляемой вещи/.
§ 217. /Вещи, представляемые вне нас, являются составными вещами, которые мы различаем по их величине, фигуре и цвету, воспринимаем их положение, изменения по отношению друг к другу, движение их частей и т.д. Такие вещи мы обычно называем телами (Körper)/.
§ 218. Среди этих тел одно мы выделяем в качестве нашего собственного тела (Leib), поскольку сообразно ему направляются наши мысли о других телах и поскольку оно всегда существует вместе с нами, тогда как все остальные изменяются.
§ 219. Наши мысли, которые мы имеем о вещах существующих вне нас, сообразуются с нашим собственным телом (richten sich nach unserem Leibe), но как это происходит, следует объяснить отчетливее. Есть вещь, которую мы легко воспринимаем, обращая на нее внимание. В своих «Мыслях о природе и происходящих в мире изменениях» (Vernünftige Gedanken von der Natur und denen in der Welt sich erreigenden Veränderungen. Halle, 1723) мы пояснили, что тела вне нас обусловливают изменения в органах нашего тела (Gliedmassen), и поскольку это происходит, мы осознаем их причину как находящуюся вне нас. Это поясняет то, что было сказано о зрении в моих «Основаниях оптики» (§22 и др.) (Anfangs-Gründe der Optik). /.../ Аналогичным образом обстоит дело с другими изменениями, которые вызываются в органах нашего тела другими телесными вещами.
§ 220. Мысли, которые имеют основание своих изменений в органах нашего тела и вызываются внешними телами вне нас, мы обычно называем ощущениями (Empfindungen), способность ощущать — чувствами (Sinnen), органы же чувств, в которых происходят эти изменения, — органами чувств (Gliedmassen der Sinnen).
§ 221. /Об органах чувств в теле и пяти видах ощущений или чувств: зрение, слух, обоняние, вкус, осязание. Их свойства и различия/.
§ 222. Некоторые могут быть удивлены, что я отношу ощущения к мыслям души, поскольку они считают, что ощущения принадлежат к телу. Ведь мы говорим: глаз видит, ухо слышит, нос обоняет, язык чувствует вкус, [нервные окончания] тела осязают. Однако из предшествующего можно видеть, что каждое ощущение мы сознаем как изменение, которое происходит в нашем теле, равно как и те вещи, которые это изменение вызывают (§ 219). То и другое должно быть вместе, когда мы говорим, что мы ощущаем. Если, например, во сне звук попадает в уши, а запах ударяет в нос, и в этих органах чувств происходят такие же изменения, какие имели бы место и при бодрствовании, однако мы не говорим при этом, что мы слышим и обоняем, поскольку мы ничего этого не сознаем. Отсюда вместе с тем явствует, что мы по существу ощущение относим к сознанию (auf das Bewusstsein ziehen), которое бесспорно принадлежит к мыслям (§ 195). А так как нам между тем известно и то, что без происходящих в органах чувств изменений мы ничего не сознаем о вызывающих эти изменения вещах, то эти изменения также принято называть ощущениями, хотя и в несколько измененном значении этого слова. И в том, что это происходит, нет никакого чуда, поскольку такое непостоянство в высказываниях (im Reden) имеет место и в других случаях, о причине которого будет сказано в другом месте. Однако само собой разумеется, что, поскольку в данном случае речь идет о душе, мы и должны здесь объяснить, чем являются ощущения в отношении души, а то, что словом ощущение обозначается в отношении тела, должно обсуждаться в физике. Ниже будет показано и лучше прояснено, что всем мыслям души соответствуют определенные изменения в [человеческом] теле и тем самым между ними будет сохраняться постоянное соответствие.
§ 223. /В отношении к душе пять видов ощущений и чувств суть представления зрения, слуха, обоняния, вкуса и осязания о соответствующих им изменениях в органах чувств и вызвавших их внешних телах/.
§ 224—225. /О степени ясности ощущений и об их силе/.
§ 226. /Поскольку ощущения зависят от изменений в наших органах чувств, не в нашей власти изменять их по нашему желанию и мы должны принимать их такими, какими они к нам привходят. Звук, вкус или запах могут быть приятными или отвратительными, но мы не можем изменить эти их свойства. В нашей власти лишь то, что мы можем делать сами и посредством этого нашего действия что-либо осуществлять/.
§ 227. /Ощущения необходимы в отношении своего данного существования [Daseins] и своих свойств (§ 36), поскольку они зависят от изменений в органах чувств и вызвавших их внешних вещей/.
§ 228. /.../ Поскольку ощущения сообразуются с положением нашего тела по отношению к другим телам и поскольку мы обладаем властью это положение изменять, а следовательно, можем препятствовать изменениям в органах наших чувств, постольку последние находятся в нашей власти (§ 225). /.../
§ 229—230. /Пояснение примерами: мы можем закрывать глаза, уши и т. д., дабы в них не попадали лучи света, шум и т. п.; мы можем вспоминать прежние представления, зависимость этой способности от степени ясности и отчетливости представлений/.
§ 231—234. /Примеры ясности и отчетливости различных видов ощущений и представлений/.
§ 235. Представления вещей, которые отсутствуют (nicht zugegen sind), называются образам (Einbildungen). Силу души создавать такого рода представления называют силой воображения (Einbildungs-Krafft).
§ 236. /Ощущения обладают большей ясностью, чем образы/.
§ 237. /В грезах (in den Träumen) образы наделяются большей ясностью, чем они ее имеют на самом деле и потому могут приниматься за ощущения, [когда таковые на самом деле отсутствуют]/.
§ 238—239. /Правила и основания возникновения образов и грез из ощущений/.
§ 240. /В грезах ничто не основано в другом либо имеет мнимое или случайное основание, а потому в них не может быть порядка, каковой имеет место в истине/.
§ 241. /Образы воображения могут относиться не только к ранее представляемым или мыслимым вещам, но и к таким вещам, каких мы никогда не ощущали. Например, в геометрии — представление об очертании кривой линии, каковой мы никогда не видели, но впервые изображаем на бумаге и посредством этого впервые делаем предметом ощущения/.
§ 242—247. /Способность выдумывать (Krafft zu erdichten) — создание образов посредством произвольного разложения и или сочетания частей из прежних представлений. Пустое воображение (leere Einbildung) — создание странных или невозможных образов (например, русалки). Это имеет место в живописи и ваянии. Искусство изобретения (Kunst zu erfinden), например, в строительстве и архитектуре, где не отбрасывается закон достаточного основания, применяются определенные правила и т. п. Это искусство используется также художниками и учеными и др./.
§ 248—267. /Память (Gedächtnis), воспоминание (Besinnen), их происхождениесвойства, объем, их отношение к способности воображения/.
§ 268—271. /Внимание (Aufmerksamkeit), его свойства, степени, отношение /с другим способностям, роль в познании и т. д./.
§ 272. /Обдумывание (Uberdencken) — способность направлять наши мысли и внимание на образующие вещь части и представлять их ясно и отчетливо/.
§ 273. Как мы достигаем понятий. Обдумывая вещи и удостоверясь с помощью памяти, что такие же вещи мы уже раньше ощущали или воображали (§ 249), мы познаем тем самым сходство или различие вещей (§ 17, 18). Благодаря этому мы приходим к представлениям о родах и видах вещей (§ 182), которые обычно и называют собственно понятиями (Begriffe) и которые служат основанием для всеобщего знания (der allgemeinen Erkenntnis).
§ 274. /Обдумывание понятий дает повод для составления новых понятий/.
§ 275. /Виды понятий: ясные, отчетливые, обстоятельные (ausführlich), полные (vollständig) и их различия/.
§ 276. Когда о вещи мы имеем отчетливые мысли или понятия, то мы вещь понимаем (verstehen). Понятным (verständlich) является то, что мы можем отчетливо знать. В обыденной жизни принято говорить, что вещь понимают в том случае, если о ней имеют ясное понятие. В науках, однако, необходимо отличать простое знание (blosse Erkenntnis) от понимания вещи (von dem Verstände von einer Sache).
§ 277. Рассудок (Verstand) есть способность отчетливо представлять возможное. В данном случае следует отличать рассудок от чувственности и способности воображения, поскольку там, где имеют место последние, представления являются в высшей степени ясными, но неотчетливыми, и наоборот, там, где привходит рассудок представления становятся отчетливыми. Поэтому если кто-либо ничего не может сообщить (nichts zu sagen weiß) нам, имеет ли он образ какой-либо вещи, одинаковой с ней самой (gleich sich), или нет, т. е. если в его мыслях нет никакой отчетливости (§ 206), то обычно в таких случаях говорят, что он не имеет о ней никакого понятия (keinen Verstand davon) или не понимает ее (verstehe sie nicht); и напротив, если он может нам сообщить, что он представляет себе о вещи, то мы говорим, что он имеет о ней понятие или понимает ее. /.../
§ 278. Коль скоро мы можем представить себе вещь, то мы ее знаем (erkennen). И если понятия отчетливы, то и наше знание отчетливо и наоборот. Отчетливое знание и есть понимание (Verstand) вещи. (§ 276).
§ 279. Чем больше в знании имеется отчетливости, тем лучше мы вещь понимаем (§ 276) и тем больше мы можем об этом сообщить (wissen... zu sagen) (§ 206). От этого увеличиваются степени знания (§ 106).
§ 280. Если все то, что может быть познано о вещи, понимается отчетливо, то достигается высшая степень знания, большей степени которого достичь невозможно.
§ 281. /Степень совершенства знания зависит от степени его отчетливости и ясности/.
§ 282. Поскольку отчетливость знания относится к рассудку, а неотчетливость к чувствам и способности воображения (§ 277), рассудок следует отделять от последних, если мы хотим иметь совершенно отчетливое знание. Если же они соединены, то в нашем знании имеет место неотчетливость и темнота. В первом случае рассудок называется чистым (reine), во втором — нечистым.
§ 283. Поскольку можно провести отчетливое различие между чистым и нечистым рассудком, основание которого находится также и в опыте (§ 282), обманываются те, кто считает, что чистый рассудок есть пустое воображение математиков (§242). /.../
§ 284—285. /Рассудок вообще нельзя смешивать со способностью представлять возможное, которое может быть неотчетливым и даже темным. В этом случае рассудок не различается среди других способностей души — способностей ощущения и воображения. Опыт, однако, учит, что рассудок никогда не бывает совершенно чистым и в нем всегда сохраняется немало неотчетливого и темного. Тем не менее нельзя смешивать способности души и различать то, что присуще каждой из них/.
§ 286. /Находя различия и сходство в представляемых вещах, давая им определения и объяснение, рассудок приводит нас к познанию видов и родов вещей и таким образом мы приходим к всеобщим понятиям и имеем общее знание/.
§ 287. Как только мы различаем виды вещей и их роды, свойства и изменения, а также их отношения друг к другу, мы узнаем, что та или иная вещь имеет или по меньшей мере может иметь в себе то или иное, а также и то, что от нее может нечто проистекать, т. е. в ней может находиться основание изменения [происходящего] в чем-то другом; или наоборот, [мы узнаем], что какая-то другая вещь не имеет или не может иметь в себе то или иное и что от нее ничего не может проистекать. Эту функцию (Verrichtung) рассудка мы называем суждением (urtheilen). Примеры этого имеются в «Мыслях о силах рассудка» (Log., § 1, гл. 3).
§ 288. Отсюда следует, что для суждения недостаточно одного лишь представления о свойствах, изменениях или действиях вещи, но кроме этого необходимо эти свойства, изменения и действия отличить от вещи и рассмотреть, как два различных предмета, которые существуют наряду друг с другом, а именно каждый из них связан с другим. Таким образом, суждение относится к представлению о связи двух вещей друг с другом. Равным образом оно относится и к отсутствию связи между двумя вещами.
§ 289—290. /Для составления суждения (например, о расплавленном железе) недостаточно одних лишь представлений об образующих его частях, необходимо создать понятия о них, а также об их связи. Этот процесс создания понятий для суждения называется обдумыванием/.
§ 291—295. /Для создания понятий и суждения необходимы слова в качестве знаков мыслей или понятий. Виды знаков: имена (слова из отчетливых звуков), естественные знаки (дым — знак огня), искусственные или произвольные (герб ремесленника)/.
§ 296—315. /Слова используются как знаки или имена вещей или понятий, в том числе тех, которые касаются общего и существенного в вещах видов и родов и т. д. Для этого необходимо знание языков, ученость, умение создавать новые и сложные слова с помощью предлогов и других вспомогательных слов, использовать главные слова и слова-связки (Verbindungs-Wort) для образования суждения, высказывания или положения (Aussage oder Satz) и т. д./.
§ 316. Следует заметить, что слова являются основанием особого вида знания, которое называется фигурным (figürliche). Мы представляем себе вещи или сами по себе, или посредством слов и других знаков. Например, если я мыслю об отсутствующем человеке, то я представляю себе его в виде зрительного образа, а если я мыслю о добродетели как готовности исполнять свои поступки по законам природы, то я могу представить себе добродетель только посредством слова. Первое знание называется созерцающим (anschauende), второе — фигурным.
§ 317—318. /В фигурном знании кроме слов могут употребляться и другие знаки (например, цифры или буквы для обозначения чисел в математике, искусственные знаки в астрономии, химии и т. д.). Различие знаков, их особенности, польза, недостатки и т. п. Наука о правилах использования знаков — искусство обозначения (Zeichen-Kunst)/.
§ 319—323. /Преимущества фигурного знания перед созерцающим: отчетливость, полнота, способность схватывать сходство и различие вещей, их отношение к другим вещам, создавать общие понятия и знания и т. д. Но в то же время в отличие от созерцающего знания в фигурном знании существуют пустые слова, с которыми не связано никакое понятие, но которые выдают за вещи, в нем меньше достоверности и ясности/.
§ 324. /Для устранения этих недостатков необходимо развивать искусство связи знаков (Verbindungs-Kunst der Zeichen), дабы совершенно отделить понятия от всех образов чувств и воображения и свести их к одним лишь знакам и их связям, с помощью которых возникает всякая возможная истина. Об этом писал Лейбниц Ольденбургу (Ао. 1675), называя понятие об этом искусстве Artis characteristica combinatoria, однако несовершенное состояние его времени не позволило ему осуществить задуманное, хотя свою мысль он не оставлял и позже, в письме Кларку в марте 1714 г./.
§ 323. Что такое опыт. Знание, которое мы достигаем посредством внимания к нашим ощущениям и изменениям души, мы обычно называем опытом (Erfahrung). Если ощущения даются сами по себе (sich von selbst geben), то это обыденные опыты (gemeine Erfahrungen); напротив, если ощущения достигаются посредством наших усилий, то это эксперименты (Versuche). /Пример: обычное наблюдение за тучами и прогнозирование погоды с помощью приборов /.
§ 326—329. /Для опытов нужны надежные ощущения, наблюдения за изменениями души, их правильные обозначения, отказ от предвзятых мнений, обманчивых образов воображения, ошибочных оснований, упражнения в навыках и проницательности, ясные понятия и точные, однозначные слова и термины и т. п. Для искусства опытов и экспериментов нужно учиться определенным правилам, которые могут вести к основательному познанию природы/.
§ 330. Как достигается достоверность опыта. /.../ Понятия достоверны, если мы знаем их возможность (Log., § 5, гл. 9). Поскольку опыт показывает нам, что те вещи, понятия о которых он нам предоставляет (gewähret), существуют, благодаря этому мы познаем, что они и возможны (§ 13). Суждения достоверны, если вещам присуще или может быть присуще то, что мы им приписываем (zueignen) (Log., § 6, гл. 9). Если мы приходим к суждению посредством опыта, то благодаря этому мы узнаем, что вещи присуще то или другое, а отсюда становится ясным и то, что ей может быть присуще (§ 15). Однако, поскольку в таких суждениях о вещи все высказывается под определенными условиями (Log., § 6, гл. 3), заранее не достоверно, может ли нечто случится снова, пока в сходных случаях вновь не будут иметь места такие же условия (§ 18). /Пример с нагреванием железа в сильном огне/. Однако суждение о том, что железо может стать раскаленным — не является безусловно истинным, поскольку я не могу заранее надеяться на то, что это будет иметь место в будущем, пока я вновь не увижу железо, находящееся в сильном жаре.
§ 331—332. /Достоверность действий тех, кто исходит из опыта, основывается на ожидании сходных случаев и уверенности, что в них случится то же самое. Но понятия об этом темны, а часто и неправильны, поскольку могут возникнуть другие обстоятельства, которые потребуют иного определения понятия, а следовательно, результаты наших предприятий очень часто сомнительны, а надежды на их достоверность не оправдываются. Это подтверждается ежедневными примерами в чело-веческой жизни — например, в наших заботах о здоровье/.
§ 333—339. /О важности точных и однозначных имен и названий вещей для составления о них отчетливых и правильных понятий и суждений, а также для образования общих понятий и суждений/.
§ 340. Когда мы производим (herausbringen) одно положение из двух других, то мы называем это выведением (Schliessen), а способ выведения — заключением (Schluß). О свойствах заключений подробно говорится в «Логике» (Log., гл. 4).
§ 341. Особенная польза заключений. /.../ Заключения служат пониманию того, каким образом одна мысль следует из другой в непрерывном ряду и таким образом, можно указать все мысли, которые возникают одна из другой, и тем самым представлять нечто, что не дано нашим чувствам.
§ 342—344. /Примеры и пояснения этой пользы/.
§ 345—360. /О форме и правилах заключений. О математических доказательствах или демонстрациях как постоянной связи многих заключений, о непосредственных выводах и других видах доказательства и т. д./.
§ 361. Что такое знание и наука. То, что получается из несомненных оснований посредством правильных выводов, — об этом обычно говорят, что мы это знаем. Навык (Fertigkeit) получать утверждаемое из несомненных оснований посредством правильных выводов — называется наукой (Wissenschaft). /Например, полученное таким образом точное знание о времени будущего солнечного затмения/.
§ 362. Если из известных истин производят другие, которые не были еще нам известны, то о них говорят, что мы их изобретаем (erfinden). Навык к этому — искусство открытия (Kunst zu erfinden). /Примеры из математики, алгебры, планирования расходов, роста урожая и т. д./.
§ 363. Поскольку посредством искусства выведения из некоторых известных положений приобретают другие, до этого неизвестные положения, то заключения являются средством изобретения еще неизвестных истин.
§ 364—367. /Изобретение новых истин возможно в форме упорядоченных заключений, в которых нет скачка от известного к неизвестному. Вместе с тем заключения — не единственное средство изобретения, к искусству изобретения относятся и другие средства, совершенно отличные от выводов и проистекающие не из рассудка, а другой способности души. А именно: к изобретениям относятся некоторые правила, которые позволяют устанавливать начало для заключений. Одним из таких правил является обращение искомого неизвестного в нечто безразличное (gleichgültiges), и посредством особого размышления пытаются вывести из него искомую вещь. Это — весьма полезное правило называется основанием обращения (Grund der Verkehrung). Таково правило аддитирования при сложении денег. В этом правиле используется принцип сходства различных случаев, а способность быстрого и легкого схватывания этого сходства называется остроумием или живостью ума (Witz). Для развития этой способности требуются большие познания и упражнения/.
§ 368. Что такое разум. Искусство делать выводы показывает, что истины связаны друг с другом, что должно быть также доказано в другом месте. Понимание или способность усмотрения связи истин называется разумом (Vernunft). Такое объяснение разума сообразно с обычным его пониманием (см. Log., § 16, гл. 2). /Пример: разумные действия имеют место тогда, когда заранее обдумывают их пользу или вред и действуют в соответствии с пользой и на основе понимания связи истин/.
§ 369—370. /Сообразно разуму то, что соответствует знанию связи истин и результату, который получается благодаря их доказательству, и наоборот. Степени разума зависят от степени усмотрения связности истин. Излагаемое в моей философии учение разумно, поскольку я всегда показываю, что последующее связано с предшествующим/.
§ 371. О том, что знают посредством одного лишь опыта, т.е. не понимают как оно связано с другими истинами (§ 323), то в таком знании нет никакого разума. Поэтому опыт противоположен разуму. Наука же возникает из разума, что будет доказано ниже.
§ 372. Таким образом, мы имеем два пути, посредством которых достигается знание истины, — опыт и разум. Первый основан на чувствах (§ 220, 323), второй — на рассудке (277, 368). Например, о том, что солнце восходит каждое утро, большинство людей знает из опыта (338), но они не могут сказать, почему это происходит. Наоборот, астроном, который понимает причину движения небесных тел и их связь с землей, познает это посредством разума и может демонстрировать, почему и в какое время это должно происходить. /Сюда же относятся примеры с затмением солнца и другие/.
§ 373. Поскольку описанные выше формальные заключения (§ 340) отчетливо указывают нам на связь истин (§ 206), благодаря чему мы их понимаем, они по праву могут называться умозаключениями (Vernunft-Schlüsse).
§ 374—377. /Ожидание сходных случаев и расчет на повторение связи вещей и их результата, на совпадение обстоятельств и их исхода позволяет говорить о подобии этого ожидания с разумом (§ 368, /8), хотя при этом мы и не имеем отчетливого понимания этой связи, но неясное знание об этом, которое дается памятью и воображением/.
§ 378. /Польза разума в том, что он: позволяет заключать от известных истин к неизвестным, т.е. открывать новые истины/.
§ 379. /О важности правильного и отчетливого понимания разума, которое нельзя смешивать с его ошибочным пониманием, которое встречается в обычном словоупотреблении, в обыденном познании или человеческом обиходе, что часто служит основанием для его порицания или неверного мнения, будто разум противоречит вере или препятствует ей/.
§ 380. /В каком смысле слово «разум» употребляется в Писании. Если меня спрашивают, сообразуется ли объясненное мною значение слова «разум» (§ 368) с Писанием или нет, как хотели бы думать некоторые, то пусть этим исследованием займутся знатоки Писания. Однако, дабы не давать повода для недоразумений, я считаю необходимым напомнить, что в качестве философа я обсуждаю только те истины, которые познаются без Божественного Откровения и придерживаюсь того значения слов, какое они имеют в общепринятой среди нас привычке говорить, хотя мое понимание разума не всегда совпадает с тем, которым пользуются некоторые люди в их обыденном познании. Вместе с тем никто не может порицать мой метод, даже если бы и было доказано, что в Писании слово разум используется в другом значении, нежели у меня. И даже если положения Писания не всегда буквально соответствуют положениям философии (Weltweisheit), то этого не следует опасаться, поскольку в этом нет никакого истинного противоречия , но лишь его иллюзия, которая легко устранима посредством анализа значения этих положений в различных местах Писания, особенно в тех, где употребляется слово «разум». Кроме того, необходимо уточнить немецкий перевод этого слова у Лютера. Но главное — нужно устранить путаницу и непостоянство употребления слов в нашей речи/.
§ 381. Поскольку разум является постижением (Einsicht) связи истин (§ 368), а истину знают тогда, когда понимают основание, по какому может быть одно или другое (§ 143), разум и показывает нам, почему то или это может быть. Следовательно, из разума и возникает знание философа (Erkenntnis des Weltweisen), о чем я говорил в Предисловии к «Логике» (Log., § 3, 6), как и том, что обычное знание возникает из опыта.
§ 382. Когда связь вещей понимается из связи истин друг с другом без допущения некоторых положений из опыта, тогда разум является чистым (lauter). Если на помощь привлекаются положения из опыта, то разум смешивается с опытом и мы не полностью видим связь истин с другими, ибо мы останавливаемся на положениях опыта и разум не может продвигаться далее. Это мы часто встречаем в науках о природе и нас самих, где разум не всегда остается чистым. Самым надежным путем я считаю тот, при котором мы в познании природы не принимаем ничего, кроме того, что основано в несомненных опытах (untrüglichen Erfahrungen). Поскольку те, которые хотят позволить разуму больше, чем он имеет на то прав, тот прибегает к выдуманным вещам и отклоняется от истины к заблуждениям. Но в арифметике и геометрии, как и в алгебре, мы имеем образец чистого разума, ибо здесь все выводы следуют из отчетливых понятий и некоторых оснований, которые обособлены от чувств.
§ 383. Наука возникает из разума. Поскольку наука является навыком доказывать все утверждения из неопровержимых оснований, или, одним словом, посредством демонстрации (§ 361, 347), в которой истины связаны друг с другом (§ 347), то благодаря наукам познают связь истин, а следовательно, науки возникают из разума (368).
§ 384. Если мы выводим некоторые положения из таких посылок (Fördersatze) (§ 347), правильность которых не полностью достоверна, то наше знание называется мнением (Meinung).
§ 383—388. /Мнение возникает из недостатка разума, его смешения с чувствами, неотчетливыми эмпирическими положениями и т. д. Оно далеко от науки, изменчиво и имеет другие недостатки/.
§ 389. Достоверность (Gewißheit) нашего знания есть понятие о возможности, а также о действительности суждения. А именно в общих суждениях мы видим только возможное, поскольку общее не имеет никакой действительности, кроме как в отдельных вещах одного вида и рода (§ 182). Между тем в суждениях об отдельных вещах мы направляем наши мысли на действительность. Например, я достоверно знаю, что можно содействовать убыстрению роста растений, если я имею представление о возможности этого. Я достоверно знаю, что отец любит сына, если я имею представление о действительности этого.
§ 390. Понятие о достоверности мы получаем либо из опыта, либо из разума (§ 372). Как это происходит из опыта объяснено выше (§ 330). Посредством же разума это происходит в том случае, если знают связь нашего суждения с другими истинами (§ 368). А так как эту связь открывают посредством заключений (§ 340), а при заключениях обращают внимание частично на правильность положений, а частично на способ их связи друг с другом, т. е. (как принято говорить короче) частично на материю, а частично на форму, то в этом случае достоверность возникает тогда, когда мы усматриваем правильность тех положений, с которыми мы связываем наше суждение, а также правильность заключения.
§ 391. Таким образом, достоверность разума основывается на достоверности заключений, а как я уже показал (Log., гл. 4, § 3), достоверность заключений покоится на основании противоречия (§ 10). А так как и опыт в конце концов обязан ему свой достоверностью (§ 10, 330), то всякая достоверность знания возникает из основания противоречия.
§ 392. /Недостоверность — знание о недостаточности представления о возможности или действительности нашего суждения, но не отсутствие такого представления, ибо в последнем случае мы можем ведь считать свое мнение достоверным/.
§ 394. /Иллюзия (Wahn) — необоснование мнение о достоверности нашего знания. В отличие от мнения, в иллюзии мы не замечаем и не знаем того, что у нас нет еще полной достоверности, и потому не всякое мнение есть иллюзия, тогда как всякая иллюзия есть мнение/.
§ 395. /Если наше суждение невозможно, то оно ложно (falsch)/.
§ 396—398. /Заблуждение (Irrthum) есть принятие ложного суждения за истинное, а истинного за ложное. Оно возникает, если мы представляем себе различные вещи как одинаковые или наоборот и на этом основании судим о них. Оно возникает и при неправильных выводах из истинных посылок/.
§ 399—403. /Если мы о имеем о некотором положении какое-то основание, которое, однако, не является достаточным, то мы называем это положение вероятным (wahrscheinlich), поскольку оно содержит в себе иллюзию, будто оно связано с другими истинами. Это имеет место в игре в кости, где выпадение числа 7 кажется более вероятным, нежели выпадение числа 12, однако здесь нет достаточных оснований, чтобы считать такое мнение истинным, хотя первое имеет больше оснований, нежели второе. Поскольку вероятность имеет степени, нужно разрабатывать разумное искусство вероятности (Vemunftskunst des Wahrscheinlichen) и его особые правила, на что указывали уже Лейбниц, Гюйгенс, Я. Бернулли и др./.
§ 404. При созерцании совершенства в нас возникает удовольствие (Lust), поэтому удовольствие есть не что иное, как созерцание совершенства, что заметил уже Картезий (Epist. 6. Part. I р. m. 13, 14) [См.: Декарт. Соч.: В 2 т. М., 1994. Т. 2. С. 519—523]. /Пример: усмотрение сходства вещи с изображением на картине; ее совершенство — в сходстве, удовольствие — от созерцания этого сходства, и следовательно, от совершенства картины. Совершенство часов — в усмотрении того, что оно правильно показывает время, здания — его постройки по правилам строительного искусства/.
§ 405—413. /Удовольствие не обязательно и не всегда имеет основанием истину и истинное совершенство, достаточно, чтобы имела место его иллюзия, поскольку мы ежедневно видим, что люди получают удовольствие не от совершенного, а от того, что считают таковым. Однако такое удовольствие исчезает, как только мы узнаем ошибочность своего понимания совершенства. Удовольствие от истинного совершенства неизменно и постоянно, поскольку оно основывается на истинном и доказательном знании совершенства, которое доставляет нам достоверная наука. Зависимость степени удовольствия от величины совершенства, а также от степени развитости способности воспринимать и понимать правила совершенства. Например, знаток архитектуры, имеющий навыки в понимании ее правил, получает большее удовольствие, нежели тот, кто малосведущ в этом вопросе/.
§ 412—413. /Чем больше стараний и трудов мы вкладываем в познание и изобретение новых истин и чем больше трудностей мы при этом преодолеваем, тем больше удовольствие, которое побуждает нас двигаться дальше в этом познании/.
§ 414—416. /Для удовольствия требуется не отчетливое, а ясное знание, которое состоит в созерцательном знании совершенства. Дар к отчетливому знанию, которое достигается посредством рассудка, имеют очень немногие, а удовольствием наслаждаются многие, хотя они и не имеют отчетливого знания совершенства, его правил и истинного основания, а потому их удовольствие непостоянно и непродолжительно/.
§ 417—421. /Неудовольствие возникает из созерцания несовершенства, и потому оно есть не недостаток или отсутствие удовольствия (Unlust), а нечто действительное, т. е. знание несовершенства, отвращение (Mißfallen). Боль (Schmerz) — неудовольствие от ощущения несовершенства нашего тела/.
§ 422. Благо (Gut) есть то, что совершенствует нас и наше состояние. Например, искусство изобретения совершенствует наш рассудок, здоровье — тело, деньги — наше благополучие, и потому они суть благо. Однако, поскольку не каждый может понять это из приведенного выше объяснения понятия совершенства, для доказательства несомненности приведенных примеров, нужно к их доказательству, которые я привожу в «Мыслях о человеческом поведении».
§ 423—423. /Созерцающее познание блага как совершенства доставляет удовольствие, и мы называем такое благо естественным или истинным (natürliches oder wahres Cut), поскольку оно гарантирует постоянное удовольствие и, в отличие от иллюзорного блага, не может превратиться в неудовольствие, как это происходит от иллюзорного блага (например, от вкусной, но вредной пищи)/.
426—433. /Злом (Böse) называется то, что делает нас и наше состояние менее совершенными (например, невежество, болезнь и бедность делают менее совершенными наш рассудок, здоровье и благополучие и потому являются злом). Созерцающее познание зла возбуждает неудовольствие и потому называется естественным злом, которое, в отличие от мнимого зла (Übel), — постоянно и не может превратиться в удовольствие (например, неудовольствие, которое поначалу испытывает учащийся, превращается позже в удовольствие от приобретенных им знаний). Степени блага и зла, их познание, изменение и т. д./.
§ 434—438. /Из неотчетливого представления блага возникает чувственное желание (Begierde), т. е. склонность души к вещам, о которых мы имеем неотчетливое понятие блага (например, чувственное, а не разумное представление о вине, из которого возникает желание выпить). Из неотчетливого представления зла возникает чувственное отвращение (Abscheu) (например, отвращение к вину, возникающее от вызываемой им слабости в теле)/.
§ 439—443. /Заметная степень чувственного желания или отвращения называется аффектом (Affekt). Они возникают из неотчетливого представления о благе или зле и бывают приятными, неприятными или смешанными в зависимости от того, доставляют ли они ощутимое удовольствие или неудовольствие/.
§ 446—489. /Заметная степень удовольствия, возникающего из неотчетливого представления Блага, называется радостью (Freude). Устранение и конец неудовольствия — веселость (Fröhlichkeit), значительное превосходство неудовольствия и зла над удовольствием и добром — печалью или грустью (Traurigkeit). Способность желать удовольствие другому и получать удовольствие и радость от его блага — любовь; ненависть — удовольствие от несчастья другого. Высмеивание. Злорадство. Зависть. Досада. Сострадание. Самодовольство. Раскаяние. Сожаление. Стыд. Честолюбие. Благодарность. Благосклонность. Надежда. Доверие. Страх. Отчаяние. Ужас. Нерешительность. Мелочность. Малодушие. Робость. Желание. Гнев. Впечатлительность или чувствительность/.
§ 490. Посредством аффектов человек охватывается желанием делать или не делать то или иное, а его чувственные желания или отвращение становятся сильнее обычных (§ 434, 436).
§ 491. Так как аффекты не позволяют человеку осмыслить, что он делает (§ 441, 214), и его поступки не в его власти, то он как бы вынужден вести себя так, как он не вел бы себя, если бы имел об этом отчетливое представление. Поскольку аффекты возникают из чувств и воображения (§ 434, 436, 439), господство чувств, воображения и аффектов составляют рабство (Sklaverei) человека. А рабами являются те, которые допускают господство аффектов над собой и пребывают при неотчетливом знании чувств и воображения.
§ 492. Когда мы представляем себе какую-либо вещь как благо, то наша душа имеет к ней склонность. Эта склонность души к вещи ради блага, которое мы, по нашему мнению, в ней воспринимаем, и есть то, что мы обычно называем волей (Willen). /Например, книгу, описывающую вещи, знание которых мы считаем полезным, мы представляем как благо. Отсюда возникает сначала удовольствие, а затем при знакомстве с ее содержанием и склонность к покупке книги. Это и называется волей/. Так, чувственное желание возникает из неотчетливого представления блага (§ 404), а затем я перехожу от неотчетливого знания к отчетливому, то очевидно, что в данном случае речь идет об отчетливом представлении блага.
§ 493—494. /Отказ от вещи. которую мы считаем плохой. — не-во-ление (nicht-wollen). Не-воление есть нечто большее, нежели желание бездействовать, поскольку последнее возникает тогда. когда в вещи не видят ничего хорошего или полезного. и это состояние похоже на нейтральное положение стрелки на весах; напротив, нежелание вещи возникает тогда, когда в ней обнаруживается нечто плохое, что сходно с отклонением стрелки весов в одну сторону/.
§ 493. /Воление и не-воление древние причисляли к воле, как способности души иметь склонность или стремиться к вещи, которая представляется хорошей и, наоборот. отказываться или ненавидеть ту. которая представляется дурной/.
§ 496. Таким образом, воля всегда должна иметь основание, по какому мы нечто желаем или не желаем, а именно представление о благе или зле (§ 492— 493), что вполне ясно из закона достаточного основания (§ 30). Ведь если все должно иметь достаточное основание почему оно скорее существует, нежели не существует, то должно иметь свое достаточное основание также и то, почему мы нечто желаем или не желаем. [Без этого воление или не-воление так же невозможно], как невозможно отклонение стрелки весов без наличия груза, который служит причиной этого. Эти основания воления или не-воления мы обычно называем мотивами (Bewegungs-Gründe).
§ 497—308. /Это подтверждается опытом, а все возражения опровергаются при внимательном рассмотрении вопроса. Например, выбор одного из лежащих на столе одинаковых дукатов кажется безразличным. т. е. не имеющим мотива, однако основание этого выбора может находиться не в монетах, а в их более или менее удобном расположении на столе по отношению к выбирающему, хотя этого мотива сам он может и не сознавать. Это имеет место тогда, когда мы действуем по привычке и не задумываемся о мотивах. а также когда у нас нет отчетливых или достаточно полных о них представлений. Несмотря на все это, как верно заметили уже древние, мы желаем только то. что считаем благим и. наоборот, не желаем ничего, что считаем дурным, хотя в своих мнениях об этом мы и можем впадать в заблуждения, т. е. принимать одно за другое/.
§ 509—510. /Если имеют место равнозначные мотивы или мы сомневаемся в преимуществе одного перед другим, то мы, тем не менее, все-таки приходим к какому-либо решению (Schlüsse). Дело в том, что в отличие от весов, отклонение чаш которых необходимо зависит от равенства или неравенства груза на чашах весов, воля при равенстве мотивов свободна в своих желаниях и нежеланиях. Необходимое и принуждающее основание движения весов нельзя смешивать с мотивами воли, поскольку это приводит к смешению природы тел и души и их оснований, которое еще необходимо разъяснить/.
§ 511. Ошибаются те, которые объясняют свободу посредством способности выбирать из двух противоречащих вещей какую-либо одну без наличия какого-либо мотива для ее предпочтения другой. Как уже было подробно показано, такая способность противоречит как разуму (§ 369), так и опыту (§ 325).
§ 512. Отсюда следовало бы, что все представления, посредством которых желают удерживаться от зла и стремиться к благу, не производили бы на душу никакого впечатления, были бы напрасными и не могли бы побуждать человека к какому-либо желанию или нежеланию. Ведь в таком случае мы не могли бы указать для действий человека никакого достаточного основания. А в этом случае оказалось бы невозможным никакое нравственное учение, которое целиком и полностью основывается на мотивах, т. е. на разумных представлениях о добре и зле, которые разъяснены в моих «Мыслях о человеческом поведении».
§ 513. Для того чтобы достичь более удачного и плодотворного понятия свободы воли, нужно точнее исследовать (Log., § 16, гл. 2), каковы свойства наших поступков, которые называем свободными.
§ 514. [Для этого мы должны прежде всего знать], понимаем ли мы или отчетливо ли схватываем свойства этих наших поступков (§ 276). Например, при решении вопроса, должен ли я купить книгу или нет, мне должно быть известно, какова эта книга и сколько я должен за нее заплатить, т. е. я должен знать, может ли она быть полезной для моих целей или нет и могу ли я обойтись без тех денег, которые я должен за нее отдать.
§ 515. Во-вторых, мы должны знать, что поступки, которые мы называем свободными, не являются безусловно необходимым, поскольку столь же возможным является и противоположное им (§ 36). Например, в нашем случае с книгой ее покупка столь же возможна, как и отказ от покупки: все требуемые для покупки движения органов моего тела сами по себе возможны, а деньги для этого также имеются в наличии. Но столь же возможно осуществить не эти, а другие движения, а также сохранить деньги в кошельке или потратить их на нечто другое.
§ 516. Хотя здесь и имеются мотивы, по каким мы желаем осуществить эти поступки, однако мотивы не превращают наши поступки в сами по себе необходимые, хотя свойства вещи и направленных на них действий остаются в обоих случаях теми же самыми и мы не можем ничего в них изменить. Например, я хотя и считаю, что книга мне нужна, и потому имею желание ее купить, однако по этой причине я ничего не могу изменить ни в книге, ни в требуемых для ее покупки движениях органов моего тела, ни в других нужных для моих действий обстоятельствах; все остается таковым, как и прежде, а именно моя покупка может случиться, а может и не случиться, и первое столь же возможно, как и второе.
§ 517. Тем не менее остается истинным и то, что они [мотивы] являются тем, что делает возможное действительным (§ 14), и если они для этого достаточны, то они [сообщают нашим действиям] (geben sie) достоверность (Gewißheit). Например, если спрашивают, почему я купил книгу, хотя вполне мог бы и воздержаться от этого, то в качестве причины я привожу свое мнение относительно полезности книги для меня и незатруднительности траты на нее денег. И поскольку я из этого мотива прихожу к выводу (den Schluß gefasset) о покупке книги, тем не менее , этот вывод остается достоверным, но не необходимым, поскольку, как и до этого решения, остается возможным отказ от покупки (§ 516). Поэтому нередко бывает и так, что твердо принятое решение опять изменяется (§ 505), а в качестве причины указывают на нечто такое, что вклинилось [между двумя этими решениями]. В нашем примере с покупкой книги мы можем изменить наше прежнее твердое и несомненное решение относительно покупки книги, если в процессе осуществления этого намерения мы получаем сообщение о том, что в другом месте имеется другая, еще книга, которая лучше чем та, которую мы хотели купить. И если бы мотив нашего желания делал наш поступок необходимым, то было бы невозможно, чтобы в его исполнение (dazwischen) могло бы что-либо вклиниться (§ 36). И тогда в нашем примере не было бы никакой возможности отказаться от покупки, даже если бы нам тысячу раз говорили о более хорошей книге, которую можно приобрести в другом месте.
§ 518. В-третьих, мы обнаруживаем, наконец, что основание своих действий, которые мы обычно называем свободными (freiwillige), душа имеет в себе. Представления, которые душа использует в качестве мотивов (§ 496), находятся в ней и из нее происходят, и посредством собственной силы она склоняется к тем вещам, которые ей нравятся и отказывается от тех, которые вызывают у нее отвращение, поскольку они не принуждают и не определяют ее мотивы. В нашем примере мы [сначала] определяем себя к покупке книги, а после этого определяем себя по-другому, а именно отказываемся от покупки. Но то, что подсказывает нам это другое, не может нас принудить от него отказаться, оно и не требует нашего принуждения. И поскольку душа имеет основание своих действий в себе, постольку ей приписывается произволение (Willkühr), а поступки, основания которых находятся в душе, называют произвольными поступками (willkührliches Thun und Lassen).
§ 519. Если обобщить все сказанное, то свобода (Freiheit) есть не что иное, как способность души посредством своего произволения выбирать из двух одинаково возможных вещей ту, которая ей наиболее нравится (am meisten gefallet). Например, купить или не купить книгу в магазине или (что одно и то же) определить себя к тому, что не предопределено ни своей природой, ни чем-либо извне.
§ 520. Поскольку понимание связи вещей показывает, что является благим или дурным, лучшим или худшим, основывается на понимании связи вещей (§ 422, 426), основанием свободы является разум (§ 368).
§ 521. Нельзя отрицать, что человек, который знает нечто как лучшее, и невозможно, чтобы он мог предпочесть ему худшее, и, таким образом, его выбор лучшего происходит необходимо. Однако эта необходимость не может противоречить свободе, ибо посредством нее человек не принужден выбирать лучшее, так как он мог бы выбрать также и худшее, если бы он того захотел, поскольку как одно, так и другое является возможным для себя и само по себе (§ 516). Эта необходимость, как было показано ранее (§ 517), создает только достоверность, каковой в противном случае не было бы в действиях человека. Из моих «Мыслей о поведении человека», где специально рассматриваются поступки человека, можно увидеть, что без такого рода необходимости (которую называют нравственной необходимостью (Notwendigkeit der Sitten)), нельзя было бы надеяться на достоверность учения о нравственности. Ведь не случайно те, кто неверно понимает сущность свободы, обычно и указывают на нее как на причину, по какой в нравственном учении, по их мнению, не может быть такой достоверности, как в математике.
§ 522. Несмотря на то что [в учении о нравственности имеет место] такая необходимость, тем не менее, остается верным то, что воля человека не может быть принужденной. Ведь поскольку мы ничего не можем желать или не желать без того, чтобы не принимать нечто за благое или дурное (§ 506), а рассудок в своих представлениях не может быть принужден, и воля никоим образом не может быть принужденной, и, таким образом, она свободна от всякого внешнего принуждения. Я считаю, что рассудок в своих представлениях не является принужденным, поскольку это такая вещь, в которой никто не станет сомневаться, так как она обоснована в повседневном опыте.
§ 523. Иногда с помощью отдельных примеров пытаются доказать, будто воля является принужденной, однако при более внимательном их рассмотрении обнаруживается, что в этих примерах следует различать последующее воление (Wille) от предшествующего и благодаря этому из них нельзя вывести никакого принуждения.
§ 524. /Пример с нищим, который просит у богатого подаяния, но, будучи изгнанным, более к нему не обращается. В первом случае мотивом нищего была надежда на богатое подаяние, а во втором — страх быть наказанным. Последний мотив перевешивает первый, противоречит ему и потому изменяет первоначальный мотив. Однако и в этом случае желание нищего не является принужденным, поскольку он может преодолеть страх и вновь обратиться за подаянием, и, таким образом, воля не принуждается мотивами, но может выбирать их по собственному усмотрению/.
§ 525—526. /Как навыки рассудка в отношении мышления, так и навыки воли в отношении своих желаний или нежеланий достигаются посредством упражнений, т. е. повторения некоторых мыслей или поступков и постепенного обретения сноровки (Geschick), а именно возможности и легкости их осуществления. В этом состоит совершенство рассудка и воли, к которому человек должен стремиться/.
§ 527. Здесь будет нелишним остановиться на том, что мы замечаем относительно соответствия наших мыслей с некоторыми изменениями в теле, а также некоторых движений в теле с некоторыми мыслями души. Особенно здесь важно обратить внимание на то, что выше было сказано относительно опытов, поскольку именно в этой области чаще всего неосторожно обманываются многими предрассудками, которые препятствуют знанию истины.
§ 528. Когда внешние вещи вызывают изменения в наших органах чувств, то одновременно в нашей душе возникают ощущения, т. е. мы тотчас эти вещи сознаем. Например, если свет, отражаемый от здания, попадает в наши глаза, то в тот же момент мы это видим.
§ 529. Следует, однако, иметь в виду то обстоятельство, чтобы этот опыт не приводил к тому, что могло бы принести вред истине, как это случается (§ 527). Мы не воспринимаем ничего другого, кроме того, что две вещи существуют одновременно, а именно изменения, которые происходят в органах чувств и мысли, посредством которых душа сознает внешние вещи, служащие причиной этих изменений. Однако при этом мы ни в коем случае не узнаем влияния (Wirkung) тела на душу. Ведь если бы это влияние имело место, то мы должны были бы иметь о нем если не отчетливое, то хотя бы ясное понятие (§ 325). Но тот, кто в достаточной мере обратит на себя внимание, обнаружит, что о такого рода влиянии он не имеет ни малейшего понятия. А потому мы не можем говорить, будто влияние тела на душу обосновано в опыте. И тот, кто стремится говорить точно, тот не может приписывать опыту более того, что эти две вещи существуют одновременно. Но отсюда нельзя делать вывод, будто одно является причиной другого или что одно возникает из другого (Log., § 11, гл. 5).
§ 530. Между тем следует заметить, что сказанное еще не отвергает влияния тела на душу, но дает возможность подвергнуть его дальнейшему исследованию. Ведь неверно считать, будто то, что мы не можем объяснить или о чем мы не имеем отчетливого понятия, тем самым и не может существовать (§ 131); я считаю также неприемлемым, если утверждают, будто то, о чем не имеют никакого понятия, — не существует (Log., § 12, гл. 2). Ниже будет показано, что никогда нельзя сказать, что то, что не сознается в нашей душе, того в ней нельзя и найти (§ 497).
§ 531—534. /Примеры соответствий состояний тела и души: боль или слабость в теле сопровождается неприятным ощущениями в душе и т. д. Зависимость способностей рассудка и разума, особенностей их применения от состояния здоровья, органов чувств, от нервов, возраста и т.п. Все это подтверждает соответствие души и тела, однако вопрос о том, почему изменения души каждый раз совпадают с изменениями тела и происходят одновременно, должен быть исследован далее/.
§ 535. Кроме того, мы замечаем также, что в теле происходят определенные движения, когда их желает душа. Например, если я хочу схватить некую вещь, то я протягиваю к ней руку. Я желай встать и уйти — и это также происходит.
Такие движения обычно называют произвольными, или свободными (willkürliche oder freiwillige Bewengungen).
§ 536. Если;мы и здесь не идем далее того, что узнаем [из опыта], то мы не можем и ничего сказать об этом, кроме того, что определенные движения тела происходят в то же самое время, когда мы их желаем, и не исполняются, когда мы их не желаем. Но так как и в этом случае мы также не имеем никакого ясного понятия о влиянии души, посредством которого она должна производить движение в теле, то, как уже было сказано ранее (§ 529), такого рода влияние нельзя выдавать за обоснованное в опыте.
§ 537. Между тем и здесь требуется та предусмотрительность, которую мы проявляли в аналогичном случае и до этого (§ 530). А именно мы вовсе еще не отбрасываем влияние души на тело [по причине отсутствия понятия об этом], но хотим подвергнуть его дальнейшему исследованию, которое и будет предпринято ниже.
§ 538. /Относительно сказанного следует заметить, что в органах тела движение не последует, если они не будут устроены надлежащим образом. Если нервы напряжены или расстроены, мыши,ы скованы, то душа может желать сколько угодно, но от этого не последует никакого движения. Это относится также и к различным органам тела, чьи движения не сообразуется с волей души. Таковыми являются волосы, сердце, желудок и т. д./.
§ 539. Об этом соответствии мыслей души с определенными изменениями в теле, а последних с волей души обычно говорят, что душа с телом объединены (vereinigt). Но в чем состоит это объединение — этого нельзя показать прежде того* как будет установлено, каким образом возможно согласование души с телом в уже ранее приведенных пунктах (Stücken). А поскольку произвольные или свободные движения тела определены свободным решением души, причем таким образом, что они не могли бы последовать, пока не будут определены душой, душе придается господство над телом, которое есть не что иное, как способность определять некоторые движения тела по собственному благоволению (Wohlgefallen), так благодаря структуре тела [в нем] возможны многочисленные виды движения.
Глава IV О МИРЕ
§ 540. Прежде чем мы можем понять, чем собственно является душа и каково основание того, что было сказано о ней до этого, мы должны узнать, что такое мир. Ибо далее будет показано, что нельзя понять ни сущности духа вообще, ни души в частности, прежде чем не будет понято, чем, собственно, является мир и какими свойствами он обладает.
§ 541. Мы не будем заниматься здесь теми изменениями, которые происходят в нашем мироздании, особенно на земле, поскольку об этом будет подробно сказано в моих «Разумных мыслях о природе и ее действиях» [Vernünftige
Gedanken von den Würkungenn der Natur... Halle, 1723]. Здесь же мы хотим рассмотреть только то, что относится к всеобщему познанию мира, что до сих пор почти совершенно оставалось вне рассмотрения, хотя это и является одной из важнейших истин, которую мы можем знать, поскольку на ней покоится познание Бога и естественной религии, без чего не могут быть успешно преодолены серьезнейшие возражения, которые против них выдвигаются. Это будет подробно показано в последней главе.
§ 542. Для достижения правильного понятия мира нужно обратить внимание на то, что находится перед нами, и при этом взвесить, что мы можем в нем различить (Log., § 7, гл. 1), а также сопоставить друг с другом воспринимаемые вещи (там же, § 19).
§ 543. Осуществив это, мы, во-первых, находим на нашей земле множество составных вещей (§ 51), которые одновременно существуют наряду друг с другом, а вне земли на небе мы находим также и другие крупные тела, которые имеют сходства частично с землей, а частично с солнцем (V. G. von den Wirk, der Natur. Astronomie, § 291, 338). Во-вторых, мы видим также, что среди встречающихся на земле вещей одни предшествуют другим, а другие приходят вслед за ними и, таким образом, одно следует за другим. И даже в одновременно существующих вещах мы находим множество изменений, которые следуют друг за другом; то же самое имеет место и в звездах, по меньшей мере в их положении по отношению к земле и друг к другу, о чем свидетельствует не только ежедневный опыт, но главным образом наблюдения астрономов. Ведь в силу их большого расстояния от земли (Astron. § 535) в них трудно заметить что-либо изменчивое, кроме того, о чем можно заключить из меняющихся на них пятен (Astron. § 290, 312, 337). В-третьих, когда сосуществующие или следующие друг за другом вещи сопоставляют с их изменениями, то узнают, что одна из них всегда имеет основание в другой и существует благодаря ей, т. е. что как сосуществующие, так и следующие друг за другом вещи обоснованы друг в друге (§ 29). Это и есть то, что мы вообще можем наблюдать в тех вещах, которые в совокупности составляют мир.
§ 544.Так как действительность вещи не принадлежит к ее сущности (§ 35), а объяснения представляют только сущность вещи (Log., § 48, гл. 1), то из того, что уже было об этом сказано, следует, что мир (Welt) есть ряд изменяющихся вещей, которые существуют наряду друг с другом или друг за другом следуют, а в совокупности друг с другом связаны.
§ 545. Вещи друг с другом связаны, если каждая из них содержит в себе основание, по какому наряду с ней одновременно существует или следует за ней другая (§ 543). Например, Солнце и Земля связаны друг с другом, поскольку Земля удерживается Солнцем в своем изменчивом состоянии (V. с. von den Wirk, der Natur. T. II. Physik. § 44). Дождь и рост растений связаны друг с другом, поскольку растения получают влагу (Ib. T. I. § 392), что служит одной из причин их роста (§ 29).
§ 546. Если в одновременно сосуществующих вещах одна содержит в себе основание, благодаря какому другая вещь одновременно существует наряду с ней, то каждая из них имеет свой особый способ, каким она существует одновременно с остальными. В силу этого каждая вещь имеет свое особое место (§ 47), и, следовательно, они связаны друг с другом (§ 545) в пространстве (§ 46).
§ 547. Если в следующих друг за другом вещах предшествующая содержит в себе основание, по какому за ней следует другая и, напротив, последующая содержит в себе основание, по какому первая предшествует, то они следуют друг за другом в [определенном] порядке (§ 132, 134), а следовательно, они связаны друг с другом во времени (§ 941, 545).
§ 548. Поскольку вещи в мире связаны друг с другом как в своем одновременном, так и в своем последовательном существовании, то они связаны друг с другом как в пространстве, так и во времени (§ 546, 547).
§ 549. То, что связано друг с другом в пространстве и во времени, в совокупности составляет единое (eines). А из связи различного в пространстве и времени знают, что это есть одна вещь. Но так как в мире все связано друг с другом в пространстве и времени, (§ 548) то мир следует рассматривать как одну вещь.
§ 550. Поэтому мир есть целое, а вещи, которые существуют наряду друг с другом, как и те, которые следуют друг за другом, составляют его части (§ 24).
§ 551. То, что состоит из частей, является составной вещью (§ 51). И так как каждый мир есть целое, которое состоит из различных частей (§ 550), то любой мир должен быть составной вещью.
§ 552. Поэтому сущность [мира] должна состоять в способе соединения [частей] (§ 59). И потому один мир может отличаться от другого не иначе как по способу соединения [частей].
§ 553. Так как сущность мира неизменна (§ 42), то он не мог бы более оставаться тем же самым миром, если бы из него была удалена самая ничтожная часть или если на ее место была бы поставлена другая или новая [часть], даже если бы большинство оставалось подобным предыдущим (§ 18). Точно так же обстоит дело с любой составной вещью. Если из часов изъять одну часть, от которой зависит их ход, и заменить ее на другую, то часы более не будут оставаться тем же самыми, что и прежде. Если с колеса спилить хотя бы один зубец, то после такого изменения у часов будет совершенно другой ход, как это будет более подробно показано далее (§ 556).
§ 554. Поскольку все, что присуще вещи, основано в ее сущности (§ 33), все происходящие в мире изменения должны быть основаны в способе их соединения (§ 552). Таким образом, вещи в мире связаны друг с другом во времени, поскольку они связаны друг с другом и в пространстве (§ 548).
§ 555—556. /Если в способе соединения частей в пространстве происходит изменение, то и в последующее время возникают другие изменения, в отличие от тех, которые имели бы место, если бы соединение [частей] оставалось неизменным. Это можно пояснить посредством сравнения мира с часовым механизмом: если в нем изменяется способ соединения частей, то изменяется и показание времени/.
§ 557. Не следует удивляться тому, что я сравниваю мир с часовым механизмом или машиной, ибо мир также есть машина. Это нетрудно доказать. Машина есть составная вещь, движение которой основано в способе соединения [ее частей]. Равным образом мир является составной вещью, изменения которой основаны в способе соединения ее частей (§ 554). А потому мир есть машина.
§ 558. Поскольку в мире как в пространстве, так и во времени все основано друг в друге (§ 548), постольку в мире и его изменениях имеет место порядок (§ 132), причем именно такой, какой встречается как в правильных доказательствах (§ 138), так и в сочинениях Евклида (§ 137), а следовательно, [в мире имеется] также и истина (§ 142).
§ 559. Так как в мире истина имеется постольку, поскольку все в нем как в пространстве, так и во времени основано друг в друге (§ 558), а это происходит от способа соединения [частей] (§ 554), то именно поэтому в мире имеет место истина, поскольку он есть машина. Если бы мир не должен был оставаться машиной, то между ним и грезой исчезло бы различие (§ 143).
§ 560. Легко видеть, что сказанное о мире (§ 557 и сл.) имеет значение также и для всех составных вещей, а именно что они также являются машинами и именно поэтому в них имеет место истина.
§ 561. Поскольку настоящее состояние мира основано в предшествующем, а будущее — в настоящем (§ 547—548), поэтому события (Begebenheiten) в мире сохраняют свою достоверность. И таким же образом, поскольку мир является машиной (§ 557), все события в нем оказываются достоверными.
§ 562. Если события в мире достоверны, то невозможно, чтобы они не могли возникнуть (kommen). И поскольку они таким образом должны возникнуть, постольку они, следовательно, являются и необходимыми (§ 36).
§ 563. Я утверждаю, что события необходимы лишь постольку, поскольку имело место предшествующее, а следовательно, они необходимы не безусловно (nicht schlechterdinges). А именно: всякое событие необходимо, поскольку оно предполагает некоторую связь вещей, посредством которой они могут достичь своей действительности (§ 14). Но если эта связь не является необходимой, но также может быть и иной, то и события сами по себе не являются необходимыми, но как и их связь, в которой они основаны, — случайны (§ 175). Поэтому судить о том, являются ли события в мире безусловно необходимыми или нет, нельзя раньше того, чем устанавливают, является ли необходимой или нет связь, в которой они основаны, т. е. является ли необходимым или нет сам мир (§ 544).
§ 564. То, что достоверность событий не делает их безусловно необходимыми, и то, что, несмотря на это, как одно из них, так и другое остается случайным, легко можно понять из частных случаев. /Пример произвольности и случайности решения Никейского Собора относительно условия, согласно которому определяется день празднования Пасхи/.
§ 565. Для того чтобы знать, являются ли события в мире необходимыми или случайными, нужно исследовать, является ли мир сам по себе (die Welt an sich) необходимым или его следует причислить к случайным вещам. Но для этого нужно более точно исследовать, каким образом его события в нем основаны. /Пример с множественностью причин в пространстве и времени, которые в качестве связанных друг с другом оснований определяют данное состояние погоды. Однако, поскольку речь идет о событиях действительного мира, основание каждого из них лежит в способе соединения их час-тей, а общая связь всех событий должна заполнять все пространство и прошедшее время, которые недоступны познанию. Поэтому события имеют случайный характер, ш. е. основаны в способе соединения их частей, каждая из которых должна достичь своей действительности, в силу чего никакое событие не может существовать одним-единственным способом/.
§ 566. /Возможность различных состояний погоды основана в предшествующих состояниях, которые носят изменчивый характер, а потому из них могут вытекать противоположные события/.
§ 567. /Если бы малейшее событие в мире могло быть иным, чем оно есть, то и все предшествующее в мире должно быть другим, а в будущем все могло бы возникать иначе, нежели оно возникло теперь. Следовательно, должен был бы существовать совершенно другой мир, нежели тот, который существует теперь (§ 17). Те, кто не понимает этой истины, не понимает, как возможна действительность случайных вещей и их связь, которая имеет свои достаточные основания, осуществляется посредством действия естественных причин и имеет характер гипотетической необходимости, но не связана с чудесным вмешательством Бога в их ход. Именно под таким условием мы должны понимать действительный мир, прежде чем мы перейдем к учению о Боге/.
§ 568. /От того, что события в мире могут быть иными, нежели они происходят в теперешнем мире, и из того, что они не являются необходимыми, их связь в действительном мире не терпит ущерба и не содержит в себе ничего противоречивого, если мы понимаем, что противоположные им события не могут происходить одновременно с ними и возможны в другом мире, где имеет место другая связь вещей, и даже если они не возникают, они являются столь же возможными, как и те, которые достигают своей действительности/.
§ 568а. /Если хотя бы одно малейшее состояние в мире отличается от естественного хода его событий, то перед нами будет другой мир, даже если во всем остальном он совпадает с действительным миром. Пример с часами, малейшее изменение в механизме которых приводит к тому, что они будут показывать другое время/.
§ 569. Из сказанного очевидно, что, поскольку может быть еще много других связей вещей, нежели существует теперь (§ 565), но ряд связанных друг с другом в пространстве и времени вещей образует один мир (§ 544), возможен более чем один мир, т.е. вне мира, к которому мы принадлежим или который мы ощущаем, возможны еще и другие, которые как по своим событиям, так и в целом совершенно отличаются друг от друга (§ 17). /Пример с часами/.
§ 570. /Если бы я в настоящий момент делал нечто иное, нежели то, что я делаю, то для этого должны быть какие-то иные причины, благодаря которым мои действия, отличные от тех, которые я совершаю, стали бы действительными. В этом нет ничего противоречащего, но для этого надо допустить возможность другой связи вещей и другого мира, в котором имеются основания для моих действии, противоположных тем, которые я осуществляю в действительности. И поскольку при этом не возникает противоречия, возможен другой мир, причем более чем один/.
§ 571. /Сравнение возможности различных миров с возможностью различных историй, которые писатель может сочинить по своему желанию, но события, которые описываются в каждой из них, являются одинаково возможными /.
§ 572. Из сказанного становится понятным, что в нашем мире становится действительным именно то, что основано в связи вещей, которая и образует настоящий мир (§ 29). Напротив, то, что противоречит этой связи или не основано в ней, то не может происходить в этом мире. Итак, то, что возможно в этом мире, — то либо уже имело в нем место, либо существует теперь, либо еще будет в будущем; напротив, то, что в этом мире невозможно, вполне может быть действительным в другом [мире].
§ 573. Таким образом, понятно, почему не все, что возможно, может стать действительным. Ведь любое [из возможного] требует своей особенной связи вещей, из которых одна противоречит другой. Но две противоречащие друг другу вещи не могут существовать одновременно (§ 10). /Пример: поскольку невозможно, чтобы мое тело одновременно занимало различное место в пространстве или заполняло его различным образом, постольку в этом мире не может случиться так, чтобы я вставал, оставаясь одновременно сидящим. И это происходит потому, что у меня есть причина, по какой я решился на первое, а не на второе/.
§ 574. Необходимо делать различие между безусловно невозможным, о чем шла речь выше (§ 12), и тем, что не может происходить только в настоящей связи вещей или в этом мире. /.../
§ 575. Различие необходимого. /.../ То, что возможно в этом мире, то должно также и возникнуть, если оно уже было или еще не существует, и оно не может оставаться внешне невозможным, поскольку в противном случае его основание, которое оно имеет в настоящей связи вещей, было бы недостаточным, что противоречит тому, что было принято выше (§ 10, 12). Таким образом оно [возможное] необходимо (§ 41). А именно оно необходимо в отношении настоящей связи вещей, но не как безусловно необходимое само по себе (vor sich selbst). Разумеется, существует заметное различие между тем, что является необходимым безусловно и необходимо при определенном условии, или, как в данном случае, как необходимое в отношении настоящей связи вещей. Поэтому оба вида необходимости уже давно различают друг от друга посредством особых имен. А именно: безусловно необходимым, как я уже делаю, называют то, что необходимо для себя или имеет основание необходимости в себе; напротив, необходимым под определенным условием называют то, что необходимо в отношении другого, т. е. имеет основание необходимости вне себя. Последний вид необходимости называют, в частности, необходимостью природы, поскольку она имеет свое основание в настоящем ходе природы или в настоящей связи вещей. Почему эта связь вещей в целом называется ходом природы, будет показано позже. Поскольку последний вид необходимости называют необходимостью природы или природной необходимостью, в противоположность ей первый вид необходимости обычно называют геометрической или метафизической необходимостью, поскольку она имеет место в тех вещах, которые принадлежат к геометрии, а частично к метафизике. К последнему виду необходимости относится также та, которая имеет место в свободе, о которой уже говорилось выше (§ 521) и которую обычно называют необходимостью нравственности, поскольку она имеет место в нравственности людей и составляет основание учения о нравственности.
§ 576. Так как мир может быть иным, нежели тот, который существует (§ 569), то он относится к случайным вещам (§ 175) и поэтому в отношении своей действительности не является необходимым (§ 36). Я говорю именно о его действительности, ибо в отношении своей сущности он есть и остается необходимым, как и все другие вещи (§ 38). Из этого с очевидностью следует, что он случаен только в отношении действительности, а не сущности, а поскольку сущность состоит в возможности (§35), то не может быть и речи о том, чтобы нечто могло быть одновременно возможным и невозможным (§ 10). В таком случае нечто хотели бы называть случайным в отношении его сущности, потому что оно могло бы быть еще чем-то другим в своем роде, т. е. если бы, к примеру, утверждалось, что мир является случайным по своей сущности, поскольку могут быть и другие миры. А этого мы никому не хотим запретить, поскольку на деле допускаем для каждого свободу высказываний.
§ 577. Поскольку мир случаен, и все его события также случайны, поскольку они происходят только потому, что мир существует (§ 565). А потому необходимость природы, которая должна быть ей присуща (§ 575), не устраняет ее случайности.
§ 578. /Это станет более ясным, когда мы перейдем от рассмотрения мира к Богу, а также проведем различие между безусловной необходимостью и достоверностью событий, относящуюся не к сущности вещей и мира, а к их действительности, которая носит случайный характер/.
§ 579. Мы получаем верное понимание случайного в мире, когда узнаем, что случайные события могут достичь естественным путем своей действительности не иначе как посредством ряда бесчисленных других вещей, которые им предшествуют и одновременно существуют наряду с ними. И, таким образом, если хотят указать их основание, то последнее будет всегда иметь новое основание, и так без конца. Напротив, в том, что является необходимым, быстро доходят до конца, ибо в конце концов находят основание, на котором можно остановиться. Это знают те, которые основательно изучили математику, поскольку они находят, что для проведения своих доказательств они в конечном итоге приходят к таким основаниям, для которых им уже не нужно искать далее никаких других оснований. Напротив, для тех, кто занят познанием природы, другое основание не может быть известным, ибо поскольку исследуют, почему это происходит, то хотя они и находят его причину, однако и она имеет свою предшествующую причину, а та, в свою очередь, другую и т. д. И в конце концов, порой довольно быстро, останавливаются на причине, для которой мы не знаем никакой предшествующей причины и довольствуемся тем, что встречается в природе и удостоверяется посредством опыта, который дан, а не придуман нами. И это служит основанием, из которого можно доказать, что должен существовать создатель природы.
§ 580. /Пояснение посредством сравнения случайного и необходимого с различием иррациональных и рациональных чисел в математике, т.е. полностью делимых на малые числа или части, из которых состоят или возникают большие рациональные числа. Деление же или извлечение корня из иррациональных чисел не может иметь конца/.
§ 581. /Ошибочность неразличения или отождествления случайного и необходимого/.
§ 582. Поскольку мир является составной вещью (§ 551), должны быть также и простые вещи, из которых состоят его части (§ 76). Эти простые вещи обычно называют элементами.
§ 583. Так как простые вещи не могут иметь никаких частей (§75), то элементы также не могут иметь никаких частей (§ 582). Так как простые вещи сами по себе не имеют никакой величины и фигуры, а также внутреннего движения (§ 81), то и элементы не могут их иметь. Поэтому заблуждаются все те, которые выдают элементы за груду мелких делимых тел, т.е. принимают за элементы мира составные вещи. /Гакую точку зрения Лейбниц в переписке с Кларком верно называл философией лени (Weltweisheit der Faulen), поскольку в ней за элементы мира принимаются составные вещи, части которых не могут обладать одинаковыми свойствами [См.: Лейбниц Г. В.
Соч.: В 4 Т. М., 1983. Т. 2. С. 472]/.
§ 584. Поскольку элементы являются простыми вещами (§ 582), к ним относится все, что выше было подробно сказано о простых вещах вообще. Они обладают силой (§ 125), посредством которой они непрерывно изменяют свое внутреннее состояние (§ 126), они суть нечто, существующее само по себе (§ 127), и потому не могут прекратиться (aufhören) иначе как посредством уничтожения (Vernichtung) (§ 102).
§ 585. /Простые вещи как элементы мира могут отличаться друг от друга не иначе как посредством своего внутреннего состояния, т. е. по способу своего ограничения (§ 17, 121, 584)/.
§ 586—590. /В мире не может быть двух совершенно подобных друг другу простых и сложных вещей, ибо в противном случае в них невозможно было бы обнаружить ничего такого, что позволяло бы познать их как различные вещи и найти достаточное основание, по какому они занимают различные места в пространстве или существуют в разное время. Эту истину установил Лейбниц в своем законе неразличимого (Satz des nicht zu unterscheidenen), о котором он писал в переписке с Кларком (Epist. 5, § 24. Р. 94. [ср.: Там же]).* Этот закон доказывается как посредством законов противоречия и достаточного основания, так и посредством опыта. (Пример со сходными друг с другом листьями в саду, между которыми нельзя было бы обнаружить никакого различия)/.
§ 591—593. /Поскольку две простые вещи не могут быть сходными друг с другом, в мире существует великое многообразие вещей, которые отличаются друг от друга как по их внутреннему состоянию, так и по своим пространственно-временным и другим свойствам и состояниям, которые имеют свое достаточное основание во внутреннем состоянии вещей/.
§ 594. Поскольку все имеет свое достаточное основание, по какому оно скорее существует, нежели не существует (§ 30), все должно иметь, также достаточное основание, по какому каждое существует наряду с одним, а не наряду с другим. А поскольку основание этого нельзя найти ни в пространстве, ни во времени и поскольку последние рассматриваются как пустые от находящихся в них вещей (§ 46,94), то это основание должно иметь место в тех вещах, которые существуют друг возле друга, а следовательно, во внутреннем состоянии простых вещей (§ 585).
§ 595. В соответствии с этим внутреннее состояние каждой простой вещи сообразуется (richtet sich) с внутренним состоянием других, окружающих ее вещей. Поэтому все они согласуются друг с другом (§ 593—594), благодаря чему сохраняется совершенство в составных [вещах] (§152).
§ 596. Поскольку все составные вещи в мире друг с другом связаны (§ 544), а простые вещи связаны с теми другими простыми, вместе с которыми они образуют составные вещи (§ 595), внутреннее состояние каждой простой вещи также сообразуется со всеми остальными, находящимися вокруг нее как центра. И таким образом каждая из простых вещей согласуется со всем миром, из чего и возникает совершенство мира.
§ 597. Внутреннее состояние простой вещи есть не что иное, как способ ограничения того, посредством чего она существует (bestehet)* (§121); смена ограничений суть их изменения (§ 107), а последниеине что иное, как смена степеней ее силы (§106, 115). И поскольку таким образом простые вещи действуют постоянно (§ 120), посредством их действия должно производиться нечто, которое относится не только ко всем остальным окружающим ее простым вещам, но и ко всем составным вещам во всем мире.
§ 598. То, что существует непосредственно (Was eigentlich dieses ist), производится посредством действия простых вещей. Зтот вопрос мы хотим подвергнуть дальнейшему исследованию. Г-н Лейбниц придерживается точки зрения, согласно которой в каждой простой вещи представляется весь мир, посредством чего можно понятно объяснить, каким образом каждая из них может быть отличена от другой и относится ко всему миру своим особым способом, а также то,, каким образом она относится к окружающим вещам, а также к тем, которые от нее отдалены. Однако у меня есть сомнения относительно такой точки зрения.
§ 599. Из сказанного понятно, что г-н Лейбниц имеет дело с монадами или единицами природы (Einheiten der Natur), которые он также называет неделимым природы (Unteibare der Natur). Следует отметить, что, по его мнению, единицы сознают не все то, что в них представляется. Поэтому можно было бы сказать, что каждая единица г-на Лейбница является зеркалом всего мира, в котором в ней все представляется с той точки зрения, в которой она существует. Поскольку к этому« вопросу мы еще вернемся в дальнейшем исследовании
(§ 598), пока нам достаточно того, чтобы мы привели отчетливые понятие о единицах природы и одновременно показали, что эти единицы не противоречат сказанному нами о простых вещах мира (§ 597). И если бы г-н Лейбниц хотел показать, что свои единицы природы он не относил к невозможным вещам, то он должен был бы показать это таким же способом, каким мы обнаружили свойства элементов. Ниже мы покажем (§ 742), что душа относится к простым вещам и обладает силой представлять мир в соответствии с положением своего тела в мире (§ 753). Мы покажем также, что возможны еще и многие другие простые вещи, которые представляют мир менее совершенным образом, чем душа (§ 900). А потому и возможны такие вещи, как единицы природы Лейбница, которым присуще все то, что показано относительно элементов вещей, и если элементы превращаются в такого рода единицы, то все простые вещи остаются подобными друг другу, как и составные, и образуют один вид вещей (§ 177).
§ 600. После того как было отчетливо показано, что внутреннее состояние каждой простой вещи относится к [внутреннему состоянию] всех остальных, которые существуют в мире (§ 596), а г-н Лейбниц объясняет это тем, что в каждой простой вещи весь мир представляется с точки зрения занимаемой ею в мире места (§ 599), то далее понятно также и то, что все вещи в мире, вплоть до мельчайшей (bis auf das kleineste), по его мнению, согласуются друг с другом, как и то, что по этой причине он хочет иметь дело с всеобщей гармонией вещей, которая, как и все остальное, что он по этому поводу высказал, для многих представляется неразрешимой загадкой, поскольку эту гармонию он достаточным образом ни объяснил, ни доказал. Однако, поскольку мы пока еще не установили, в чем, собственно, состоит отношение простых вещей ко всему в мире, мы не можем уяснить и то, в чем состоит всеобщая гармония вещей, и мы будем пока довольствоваться указанием на то, что она существует и может быть понятным образом объяснена в том смысле, как ее понимал г-н Лейбниц.
§ 601. Так как каждая простая вещь в каждый момент отличается по своему внутреннему состоянию от остальных (§ 592), то благодаря этому познают величину всеобщей гармонии вещей.
§ 602. Так как каждая из них [простых вещей] в своем внутреннем состоянии относится к другим вещам своим особым образом (§ 595), то она своим особым образом и существует наряду с другими вещами и никакая из них не может существовать вместе с другими точно таким же образом. А следовательно, каждая из них не только существует вне другой (§ 45), но и все вместе они следуют друг за другом в некотором порядке (§ 132—133), и, таким образом, все вместе они заполняют пространство (§ 46), хотя каждая из них собственно не заполняет никакого пространства, но имеет в нем только свою определенную точку.
§ 603. Здесь самое время объяснить, как возможно, чтобы из простых вещей, не имеющих никаких частей, которыми они друг с другом соприкасались бы, могли бы возникнуть составные вещи, которые имеют части. Это несложно понять, если правильно понимают свойство простых вещей. Ведь, поскольку каждая из них существует наряду с другими своим особым образом, а тем самым ни одна из них не может таким же образом (§ 602) существовать наряду с
другими, невозможно, чтобы многие могли существовать одновременно в одной точке, но каждая из них требует своего особого места. Но так как каждая связана с тем, которые ее окружают (§ 594, 545), то множество простых вещей вместе составляют одну [вещь] (§ 549) и потому составное получает протяжение в длину, ширину и толщину (§ 53).
§ 604. /Для преодоления трудностей в понимании того, как из неделимых частей могут возникнуть делимые, нужно обратиться к примеру математики, где из неделимых и подобных друг другу точек составляются протяженные фигуры, имеющие длину, ширину и толщину. Также и неделимые точки природы хотя и не подобны друг другу, однако имеют в себе постоянно действующую силу, и поэтому каждая должна находиться вне другой (§ 45), а возникающая таким образом протяженность каждой из них образует определенный порядок в отношении между ними. Однако простые вещи не могут быть связаны друг с другом как составные вещи или материи, а потому простые вещи, их внутренние и внешние состояния, а также их связи могут быть поняты лишь посредством рассудка и разума, но отнюдь не посредством восприятия или воображения, которым доступны лишь составные вещи/.
§ 605. /Простые вещи не нуждаются в столь прочной связи друг с другом, как составные, которые суть тела (Körper) или телесные вещи нашего мира, сущность которых состоит в способе соединения их частей, а также в способе, каким они заполняют пространство, имеют протяженность, фигуру, обладают делимостью и движением, измеримой величиной, способностью к изменению, возникновению и прекращению и т. д.
(§ 52-71)/.
§ 607. Что такое материя. /.../ Мы видели, что каждое тело имеет протяжение и потому может быть разделено на множество частей (§ 606), что подтверждается и опытом относительно тел в нашем мире. Кроме того, мы находим, что каждое тело имеет силу, которая противостоит движению, и потому оно не может начать движение, пока сопротивление ему не будет преодолено. /Пример с весами, чаши которых могут менять свое положение в зависимости от величины тяжести положенных на них тел/. Материей называется то, что сообщает телу протяжение и противостоящую [движению] силу. Мы знаем из вышесказанного, что протяжение вместе с пребыванием тела на одном месте возникает из [свойств] простых вещей как элементов (§ 603, 605), а потому материя не есть беспорядочная груда или куча накиданных вместе подобных частей, в которых ничего нельзя различить кроме величины; скорее все, находящееся в ней, различается друг от друга своим совершенно особым способом [соединения]. Такого рода обычное понятие о материи как лишенной силы груде частей, большей или меньшей величины, есть лишь продукт воображения, у которого нет отчетливого представления о вещах и оно не может различать, что в них содержится (§ 214).
§ 608. Так как материя имеет силу, противостоящую движению (§ 607), то ни одно тело не может двигать самое себя, и, чтобы начать двигаться, оно должно иметь внешнюю причину (§ 29—30).
289
И) Зак 642
§ 609—610. /По этой же причине тело пребывает в состоянии покоя или движения и не может остановиться или изменить направление движения, если оно не встретит внешнюю причину для этого. Это мы находим во всяком опыте и в исследованиях правил движения, которые приняты в качестве неизменных законов природы (см.: Newton. Princip. Phil. Nat. Math. P. 12) [см.: Ньютон И. Математические начала натуральной философии]/.
§ 611. Сущность каждого тела состоит в способе связи [частей] (§ 606), вследствие чего тела и отличаются друг от друга (§ 17).
§ 612. /При рассмотрении сущности тел мы не касаемся составляющих их элементов и материи (например, в сущности часов важен не металлический материал, из которого изготовлены часы, а части их механизма)/.
§ 613—616. /Нельзя принимать делимые части тел или воспринимаемые чувствами корпускулы за элементы тел, а сущность составных тел зависит от способа связи их частей, что и служит основанием их величины, фигуры, движения, изменения и т. д. Только это позволяет понять тело и понятным образом объяснить, т. е. показать, как оно может быть /.
§ 617. Из сказанного можно понять ( что следует также и из того, что было показано выше (§ 560, 606)), что тела суть исключительно только (lauter) машины и именно поэтому в них имеет место истина (§ 142) и они могут быть понятно объяснены (§ 77).
§ 618—619. /Из сказанного следует достоверность способа существования тел, каковая имеет место и в мире в целом (§ 561), поскольку каждое тело и мир в целом суть составные вещи. Поэтому все изменения тел, безразлично относятся ли они к их действию или страданию тел (§ 104), имеют случайный, а не безусловно необходимый характер (§ 564)/.
§ 620—621. /Если тело А посредством толчка приводит в движение тело В, и потому оно в них обоих происходит, то тело А имеет основание изменения в себе, а тело В — в А, и потому верно говорят, что А нечто делает, а В страдает. Когда же при столкновении оба тела взаимно действуют друг на друга, то основание изменения одного из них находится в другом, но в то же время каждое из них имеет в себе основание изменения другого, а следовательно, оба они одновременно действуют и страдают/.
§ 622. Поскольку материя не производит никакого движения, но, напротив, противостоит ему (§ 607), постольку благодаря своей материи тело может только страдать (§ 620—621). А потому материя есть только страдающая вещь.
§ 623—625. /Основание производимого телом действия или движущей силы находится вне материи и ее сущности, а следовательно, помимо своей материи и сущности каждое тело имеет движущую силу. А так как сила состоит в постоянном стремлении нечто делать или изменять состояние вещи, то движущая сила состоит в постоянном стремлении двигать материю или делать движение действительным, если противостоящая ему [страдающая сила материи\ не превышает [движущую силу]. Поэтому не заблуждаются те, которые рассматривали всякую материю в мире как находящуюся в постоянном движении. Эту точку зрения защищали Чирнхауз (Medicina. Mentis. Part. 2. P. 18) и Лейбниц (Acta. Eruditorum.
A. 1695. P 145)/.
§ 626. Таким образом, тело состоит из 1) материи, 2) сущности и 3) движущей силы. В соответствии с этим тело можно объяснить как составленную из материи вещь, которая имеет в себе движущую силу.
§ 627. /Поэтому ошибаются те, кто смешивают материю с телом, а последнее рассматривают только как страдающую вещь. Тело имеет в себе нечто большее, чем материю, а именно свою сущность и силу/.
§ 628. /Как благодаря своей материи тело может страдать, так благодаря своей силе оно может нечто делать. И поскольку тело есть действующая вещь, по своей природе оно есть действующая сила/.
§ 629. /Поскольку тела, образующие мир, обладают силой, взятые вместе, эти силы составляют всю движущую силу мира, которая определяет способ соединения его частей и благодаря которой возникают все происходящие в нем изменения. А таким образом понимаемый мир называют природой или всей природой вещей (die ganze Natur der Dinge)/.
§ 630. /То, что основано в сущности и силе тел, т. е. в их природе, или имеет основание в сущности и силе мира или во всей природе, то называют естественным (natürlich). Например, восход и заход солни,а основаны в сущности и силе мира, а следовательно, естественны/.
§ 631. То, что естественно, может быть понятно объяснено и отчетливо понято (§ 77), а потому и возможна естественная наука (Natur-Wissenschafft), которая есть не что иное, как наука о том, что возможно посредством сущности и силы телесных вещей. Об этом подробно сказано в «Мыслях о действиях естественных вещей».
§ 632. /То, что не основано в сущности и в силе тел и мира, а следовательно, ни в природе тел, ни в природе мира, то называют сверхъестественным (übernatürlich) (например, говорящий осел)/.
§ 633. /Сверхъестественное действие называют чудом (Wunder-Werk). Чудеса превышают (überschreiten) природу и не могут быть понятно объяснены из сущности вещей и их силы/.
§ 634. /Обычные люди, не очень преуспевшие в познании природы, называют чудесами то, что они воспринимают как необычное. Спиноза также считал чудом необычное событие природы (Tract. Theol. Polit. Гл. 6. С. 67. [Ср.: Спиноза. Избр. произвед. М., 1937. Т. 2. С. 87—104]), ему следовали Локк (Posthumous Works. P. 217. [Ср.: Локк. Соч.: В 3 т. М., 1988. Т. 3. С. 615—623]) и Кларк (Epist. 2. § 12. Р. 48. [Ср.: Лейбниц. T. 1. С. 437])/.
§ 635—639. /Однако эти добрые люди обманываются, принимая суждение обычных людей за объяснение чуда. Говоря о чуде как необычном событии, которое противоречит или имеет мало сходства с тем, что происходит согласно порядку [природы], они на самом деле признают, что оно не является естественным, но превышает (überschreitet) природу и происходит не из нее, но из чего-то другого, т. е. из сверхъестественного действия, которое не имеет никакой естественной причины. Поэтому неверно относить к чудесам такие события, /сак уродство, возникновение новых комет или звезд, которые хотя и отклоняются от обычного хода природы, но тем не менее их основанием служат не сверхъестественные, а естественные причины, согласно которым те или иные события могут происходить иначе, нежели они происходят, но это означает, что они всего лишь изменяют, но не отменяют естественный ход природы/.
§ 640. /Поскольку чудо не может происходить естественным образом, но должно иметь свое основание вне мира и в отличной от него сущности, чудо было бы невозможным, если бы вне мира не существовала сущность, не являющаяся частью мира или его вещью, но способная по своему желанию изменять события в мире и их естественный ход. Эту сущность, не связанную с миром и не составляющую с ним одну вещь, можно сравнить с часовщиком, который изменяет положение стрелок на часах, т. е. является внешней, а не внутренней причиной этого изменения, которая находится не внутри часов, в их механизме, а вне него. Без такого рода отличной от мира сущности и ее сверхъестественной причинности в мире не было бы никаких чудес. Именно поэтому атеисты, признающие только природу и отрицающие отличную от мира сущность, следуя Спинозе, Локку и Кларку, считают, что чудеса суть всего лишь необычные события природы/.
§ 643. Если различие между естественными и сверхъестественными вещами является достаточно понятным, то различие, которое имеет место между естественными и искусственными вещами, еще нуждаются в пояснении. А именно: произведение искусства (Werk der Kunst) имеет свое основание только в сущности искусства, а не в силе, которая принадлежит природе вещей (§ 628). Сущность искусства состоит в определенном способе соединения материи, что и составляет сущность тела (§ 606), но, поскольку это соединение осуществляет художник, сущность этого тела основана в искусстве. Однако ни один художник не может привнести в свое произведение силу, благодаря которой в его произведении происходили бы какие-либо изменения. Напротив, все изменения, которым подчинены изменения в произведении художника, имеют свое основание в природе и таким образом привходят в него от материи (kommen ihm wegen seiner Materie zu), которая принадлежит миру.
§ 644—645. /Всякая материя, хотя она и противостоит движению, находится в постоянном движении, однако при этом тело не обязательно должно менять свое место, т. е. двигаться. Например, при взаимном столкновении тела могут оставаться неподвижными/.
§ 646—682. /О внутреннем движении тел и его отношении к внешнему движению. О силах притяжения, давления и других движущих силах; об их свойствах, особенностях, величинах, степенях. Примеры из конкретных наук — химии, механики, гидростатики и т. п. О формах движения тел, о связи движения тел с их делимостью и т. д./.
§ 683. /Опыт дает нам убедительные основания того, что движение тела передается [другим телам] не в одно мгновение, а постепенно/.
§ 684. /Поскольку материя находится в постоянном движении, всякая ее часть может быть отделена от другой и в своей действительности делима вплоть до самых мельчайших частей/.
§ 683. /Из постоянности движения материи и различия [форм] ее движения в пространстве возникают различия ее частей по их величине и фигуре, благодаря чему она не является беспорядочной грудой частей. Именно это позволило Лейбницу признать необходимость движущей силы в телах и опровергнуть всех, кто сомневался в этом (Acta Erudit. А. 1695. Р. 43)/.
§ 686 Все изменения тел происходят посредством движения (§ 613), а также посредством добавления, устранения или замещения частей (§ 72, 65, 68—69). А так как материя посредством движений может быть разделена природой до очень тонкой (subtil) (§ 624) а движение передается постепенно (§ 683), то и все изменения тел также должны происходить постепенно, и, таким образом, все события природы происходят постепенно посредством [смены] определенных степеней. И потому говорят: природа не делает никаких скачков.
§ 687. Если событие происходит постепенно, то это и является надежным признаком естественного действия, но не сразу. И если знают, что нечто возникает постепенно, а не сразу, то можно быть уверенным, что имеет место естественное событие.
§ 688. Поскольку естественным является все, что происходит постепенно, а не посредством скачка, а чудо не является естественным (§ 633), никакое чудо не происходит постепенно, а сразу, в одно мгновение. Отсюда познают, что простые вещи могут возникать и прекращаться не иначе как посредством чуда, т. е. сразу и в одно мгновение (89, 101—102).
§ 689—692. /Между тем в понимании этого вопроса нельзя слишком поспешно принимать за скачок то, что всего лишь происходит внезапно, поскольку скачок касается не столько времени, сколько той связи вещей, посредством которой одна возникает из другой. А последнее всегда осуществляется посредством степеней, причем таким образом, что в предшествующем всегда имеется достаточное основание для возникновения последующего, а это происходит посредством быстрых или медленных движений и в течение меньшего или большего отрезка времени. Например, различие времени и скорости движения при постепенном ухудшение погоды и мгновенном возгорании пороха. Для понимания этого необходимо отчетливо различать мельчайшие части пространства, занимаемого материей, и едва заметные промежутки времени, в течение которых происходят ее изменения/.
§ 693. /Поскольку движение передается постепенно и от части к части, тем вещам, которые не имеют частей, не может быть сообщено никакое движение. Поэтому простые вещи, не имеющие частей (§ 75), не могут двигаться сами по себе (vor sich allein), а движение принадлежит только к составным вещам (§ 51) или телам (§ 606)/.
§ 694. Так как простые вещи отличаются друг от друга и потому существуют вне друг друга (§ 602) и ни одна из них не является подвижной (§ 693), то никакая из них не может быть и произведена другой. Из этого становится более ясным не только то, что было сказано о связи простых вещей (§ 605), но и то, что природа, которая не имеет в своем распоряжении никакого другого средства для деления материи кроме движения, ни в коем случае не может разложить материю на ее элементы (§ 582).
§ 695. /Исходя из этого можно доказать то, что выше (§ 86) было высказано как предположение, а именно то, что простые вещи или элементы материи нельзя обнаружить посредством чувств и вспомогательных средств, например, увеличительного стекла/.
§ 696. /Поэтому нельзя считать, будто элементы суть неделимые и неизменные части, из которых состоит материя и возникают видимые тела/.
§ 697. /Опыт учит, что тела обладают как движущей силой, так и силой противостоящей движению [другого тела] (§ 601. 623). Но теперь мы подошли к трудному вопросу о том, как, собственно, в телах возникает сила. Мы предположили выше, что сила должна быть длящейся вещью (§ 660). Но мы не находим в телах ничего длящегося кроме элементов (§ 584), из которых возникает материя (§ 607). Поэтому в них и следует искать первоначальную силу/.
§ 698. /Как видимые тела и их части возникают и состоят непосредственно не из элементов, но всегда только из более мелких тел, которые можно увидеть с помощью увеличительного стекла, равным образом они получают свою силу не непосредственно от элементов, а скорее от текучих (flüßigen) материй, которые движутся туда и обратно в пустом и лишенном собственной материи пространстве. Примером этого может служить тяжесть, посредством которой тело не только сопротивляется движению другого тела, что мы замечаем в воде и других тяжелых текучих материях, но также и движется, как это показывает падение камня с высоты, где роль достаточного основания для движения или постоянного толчка играет центр земли. В силу этого должно существовать нечто, что повсеместно пронизывает камень и может доходить до его частей, т.е. для этого необходима тонкая текучая материя, которая находится в постоянном движении. Именно благодаря такой материи объясняется не только магнетическая, но и протяженная (ausdehhende) сила, которая подробно рассмотрена в «Разумных мыслях о действиях природы»/.
§ 699. Поскольку тело имеет в себе такого рода чуждую материю (fremde Materie) (так мы хотим назвать то, что движется через свободное от собственной материи пространство (durch den von seiner eigentümlichen Materie freien Raum), постольку можно сказать, что тело имеет в себе свою силу.
§ 700. Отсюда ясно, что для объяснения событий в видимом мире не нужно прибегать к первоначальной силе (ursprüngliche Krafft), которая имеет место в его элементах (§ 697), но следует оставаться при тех силах, которые могут быть объяснены посредством движения тонкой текучей материи в пустом пространстве тела (§ 698).
§ 701. /.../ В чем состоит совершенство мира и каков источник несовершенств в мире. Выше (§ 152) показано вообще, что совершенство есть согласие многообразного (Uberienstimmung des mannigfaltigen). Поэтому, поскольку мир состоит из многих тел (§ 606), а каждое в свою очередь составлено из множество более мелких (§ 613), чье состояние в каждый момент изменяется (§ 615, 625), или, говоря вообще, так как мир есть ряд изменяющихся вещей, которые сосуществуют друг возле друга или следуют друг за другом, а в целом друг с другом связаны (§ 544), совершенство мира состоит в том, что все, что сосуществует или следует друг за другом, согласуется друг с другом, т. е. особые основания, которые имеются у каждого (§ 545), должны быть сведены (auflösen) к единому (einerlei) всеобщему основанию. И чем больше это согласие, тем больше совершенство мира.
§ 702. Поскольку совершенство мира должно быть оценено из согласия всех вещей, как самых больших, так и самых мельчайших, как сосуществующих одновременно, так и следующих друг за другом, и поскольку невозможно, чтобы мы познали все вещи, и еще менее, каким образом они все вместе согласуются друг с другом (§ 591), постольку и мы также не в состоянии понять совершенство мира и подробно его объяснить (§ 171).
§ 703. Поскольку несовершенство частей может принадлежать к совершенству целого (§ 170), возможно, что мы способны увидеть в чем-либо только совершенство частей, но ни в коем случае не способны понять совершенство всего мира (§ 702). Иногда мир в той или иной части выглядит несовершенным, хотя на самом деле он обладает наибольшим совершенством, какое может в нем быть.
§ 704. Это имеет место не только в суждениях о совершенстве мира в целом, но равным образом мы сталкиваемся с этим и тогда, когда судим о совершенстве его частей и даже совсем малых тел. Поскольку в каждой вещи мира мы находим столь большое разнообразие и множество связей с другими вещами, мы не способны все их обозреть. Поэтому здесь может быть так, что нечто рассматриваемое в отдельности само по себе (vor sich) вполне может быть принято за несовершенство, но оно может получить совсем другой вид, если будет рассмотрено в его связи с другими вещами.
§ 705. Особенно заблуждаемся мы в этом отношении тогда, когда мы хотим судить о совершенстве нашего состояния, поскольку мы видим только настоящее [состояние] и не думаем о том, как оно согласуется с предшествующим и будущим. Мы не видим даже и настоящее целиком и сразу и не задумываемся, как оно согласуется с другими состояниями. Поэтому тот, кто хочет разумно судить о своем состоянии, должен тщательно наблюдать и то и другое, о чем обычно забывают.
§ 706. Каждое совершенство имеет свои правила, на основе которых оно оценивается (§ 164). Поэтому и совершенство мира должно иметь свои правила для оценки и поэтому нужно обдумать эти правила, прежде чем судить о совершенстве мира.
§ 707. Правила возникают из основания совершенства (§ 164). Например, основание совершенства глаза составляет [способность] отражения находящихся перед ним вещей, и именно из этого возникают правила его совершенства, согласно которым он устроен для отражения находящихся перед ним вещей. Поскольку совершенство мира требует, чтобы все в нем согласовывалось друг с другом (§ 152), все частные основания совершенств частных вещей также должны иметь главное основание, в котором они в конечном итоге согласуются все вместе в их совокупности и посредством которого они понимаются. Из этого главного основания возникают общие правила, а затем из них выводятся частные. Кто хочет получить правила с помощью разума, тот должен найти для всех вещей главное основание совершенства и вывести из него общие правила, а после этого искать основания совершенства частных вещей из их сущности и с помощью главного основания (§ 33), а затем далее выводить отсюда правила особых совершенств и связывать их с общими правилами. Можно также идти и другим путем, на котором легче ориентируются, нежели на предыдущем. А именно: [сначала] находят основание совершенства частных вещей (§ 157) и отсюда выводят их правила. Но так как особые правила выражают в себе (in sich fassen) более общие, то с их помощью можно прийти к более общим. Поэтому было бы полезно, если бы согласно тому, что говорилось в первой главе о совершенстве вещей вообще (§ 152 и сл.), исследовали совершенство многих частных вещей, которые имеют место в природе и в искусстве, и, прилежно различив их правила, могли бы после этого совсем легко найти для себя общие правила.
§ 708. Я не сомневаюсь, что если для исследования этого вопроса со временем будут созданы особые науки о правилах совершенства в природе и искусстве, то они они могли бы принести много пользы для перемены человеческой жизни к лучшему и для разумных действий во всех вещах (§ 19, Moral [Vern. Ged. von der Menschen Thun und Lassen. Halle, 1720]).
§ 709. Выше мы показали некоторые из таких всеобщих правил, на которых основывается совершенство природы. К ним я причисляю правило о том, что природа не делает скачков, поскольку благодаря ему все в мире становится понятным и, как будет показано ниже, благодаря которому мир является не только продуктом силы, но и мудрости Бога, а действия природы могут доставлять нам удовольствие. К этим правилам относится и то, согласно которому сила противодействия тела равна силе действия на него другого тела, поскольку на этом основываются правила движения, которые образуют порядок природы. К такого рода правилам можно отнести и некоторые другие, которые выясняются изправил движения, каковые я показал в «Началах механики» [Elementes Mechanicae (Allerhand nützliche Versuche zur Kenntnis der Natur und Kunst. 3 Bd. Halle, 1721—1722)], например, что природа предпочитает кратчайшее расстояние более длинному, не допускает окружные пути, или правило, найденное
Лейбницем и доказанное мною в «Механике» (§ 425—426), согласно которому в природе всегда сохраняется одинаковое количество силы и т. д.
§ 710. Выше я показал в общем, что иногда правила совершенства могут вступать друг с другом в спор (wieder einander streiten), и потому возникает исключение из правила, а отсюда и несовершенство, что неизбежно (§ 164, 165, 169). А поскольку в мире существует большое различие вещей, которые имеют особые правила совершенства, но, тем не менее, существуют также и общие правила совершенства (§ 706, 709), легко обнаружить, что иногда правила могут сталкиваться друг с другом, а это и служит причиной неизбежного несовершенства. /Примеры с несовершенством глаз и зрения, зависящих от состояния тела, расположения внешних предметов и т. п./.
§ 711. К несовершенствам природы мы должны относить также исключительные или необычные события природы, как, например, прирожденное уродство, и тому подобное. Ибо это также является исключением из правила, которое не имеет никакой другой причины, кроме той, что правила, отличающиеся от общих, вступают в данных случаях в спор друг с другом. [В таких случаях] мы можем безошибочно утверждать, что даже те правила, посредством которых в мире сохраняется порядок и производится упорядоченность, также могут порождать исключительное для своего времени и места, а следовательно, отклоняющееся от правил. /Подтверждение этого — примеры из «Оптики» (§ 88, 89), когда, например, медленное движение зрительно воспринимается в качестве покоя/.
§ 712. Между тем очевидно, что более совершенным является тот мир, в котором исключения [из правил] позволяют сохранить наибольшее согласие с [общими] правилами (§ 166), [в отличие от того мира], где исключение из одного правила также становилось бы причиной исключения из другого правила. В последнем случае несовершенства накапливались бы без [всякой] нужды и, напротив, сохранялись бы многие совершенства, существование которых подразумевало бы наличие исключений. Этого невозможно показать в частностях [относительно нашего] мира (§ 702), однако это вполне можно понять в отдельных телах, которые можно рассматривать в качестве малых миров (§ 544), каковыми, например, являются тела животных или нас самих.
§ 713. Поскольку совершенство состоит в согласии многообразного (§ 152), а это согласие тем больше, чем больше имеется многообразия согласующихся друг с другом вещей, постольку, следовательно, более совершенен тот мир, в котором имеет место наибольшее многообразие вещей, и где, следовательно, больше и воспринимается, нежели там, где имеется меньше различий и меньше находят для восприятия.
§ 714—715. /Однако совершенство не зависит от количества частей, а от их согласования. Пример с часами, которые тем более совершенны, чем меньше шестеренок имеется в их механизме. Впрочем, более совершенным является тот мир, в котором имеется большее количество согласующихся друг с другом материи и тел/.
§ 716—717. /Мир тем более совершенен, чем меньше в нем отклонений и исключений из правил и чем больше порядка/.
§ 718. Так как всякий порядок основан на правилах (§ 150), то правила, согласно которым происходят изменения в природе и составляются телесные вещи, образуют порядок природы.
§ 719. Эти правила не могут отличаться от тех, на основе которых оценивается совершенство мира (§ 706). Между тем сохраняется различие между порядком и совершенством, ибо если согласуются все правила, то благодаря этому возрастает совершенство (§ 152). А именно правила создают порядок (§ 150); а согласие правил и таких исключений [из них], при которых сохраняется наибольшее согласие, и создает совершенство.
§ 720. /Поэтому не все упорядоченное не обязательно совершенно. Например, красивое с точки зрения правил архитектуры расположение окон и дверей может быть несовершенным с точки зрения их основного назначения/.
§ 721. /Совершенство является свойством порядка, и потому порядки могут отличаться друг от друга по степени совершенства. Но это происходит не потому, что в одном порядке имеется больше правил, нежели в другом, но потому, что в одном правила больше согласуются, нежели в другом. Это очевидно из того, что избыточное не относится к совершенству. Количество правил может быть чрезмерным, но не создавать никакого совершенства. И напротив, излишество не равно действительному несовершенству, хотя и может быть причислено к недостатку совершенства. Несовершенство> возникает из столкновения правил, в силу чего исключения в них происходят без достаточного основания. А именно многие правила могут согласовываться друг с другом и создавать некоторый порядок, хотя при этом они могут не согласовываться друг с другом в главном основании. Правда, эти правила сами по себе не спорят друг с другом, поскольку иначе они не могли бы существовать вместе и не могли бы создавать совершенства. Между тем, если они не согласуются друг с другом, они ничего не привносят и к совершенству, а потому их следует рассматривать в качестве излишних в отношении совершенства/.
§ 722. /На основании опыта мы не всегда и не вполне можем познать порядок мира, поскольку в мире содержится больше порядка нежели, мы способны в нем воспринимать. В силу неотчетливости и неполноты нашего знания мы можем принимать сходство и порядок за несходство и беспорядок. Но хотя из опыта порядок мира и не обнаруживается полностью, тем не менее опыт дает нам достаточно оснований для защиты от тех, кто отрицает наличие порядка в мире. Это будет доказано ниже, в учении о Боге/.
§ 723. Мы приняли ниже (§ 587), что ни одна вещь в мире не может быть сходной с другой, т. е., как показывает доказательство, не может быть понята как полное ее подобие. Поэтому сходство, встречающееся в вещах мира, всегда скрывает в себе несходное. Но так как мы познаем порядок не ранее, нежели мы отчетливо понимаем сходство (§ 136), то отсюда опять же очевидно, почему порядок природы чаще всего должен оставаться скрытым.
§ 724. Поскольку все в мире следует [друг за другом] таким способом, каким оно дается (§ 614—615) сущностью вещей и правилами движения, о чем говорилось выше (§ 675, 682), можно отчетливо понять, чем, собственно, является то, что обычно называют ходом природы. А именно ход природы (der Lauf den Natur) есть не что иное, как последовательность событий в мире согласно сущности находящихся в нем вещей и правилам их движения.
§ 725. В силу этого ходу природы сообразно то, что имеет свое основание в законах движения и сущности вещей, и, следовательно, все, что является естественным (§ 630); и наоборот, ходу природы противоречит то, что не имеет никакого основания в сущности вещей или в законах движения, но скорее основано в чем-то им противоположном.
§ 726. А поэтому чудеса противоречат ходу природы (§ 633) и тем самым нарушают его (§ 639).
Глава V О СУЩНОСТИ ДУШИ И ДУХА (GEISTES) ВООБЩЕ
§ 727. Хотя выше в третьей главе я уже подробно о душе говорил, но лишь в той мере, в какой мы можем воспринимать ее действия и создавать об этом отчетливое понятие (§ 191). Теперь мы должны исследовать, в чем состоит сущность души и духа вообще и каким образом в них основано то, что мы о них воспринимаем и обнаружили выше. При этом мы сможем обсудить о душе и многое отличное от того, чему мог бы научить нас опыт. Таким образом, можно будет увидеть, что сказанное о душе на основании опыта является лишь пробным камнем (Probier-Stein) того, что будет сказано здесь относительно ее природы и сущности и основанных в них ее действиях, но ни в коем случае не наоборот, т. е. излагаемое здесь не является пробным камнем того, чему учит нас опыт.
§ 728. Первое, что мы замечаем относительно самих себя, было то, что мы сознаем самих себя и другие вещи вне нас (§ 1), т. е. то, что мы знаем, что мы сейчас представляем себе многие вещи как находящиеся вне нас (§ 194). /Например, я знаю, что вижу сейчас зеркало и свой образ в нем. Но я знаю и то, что я вижу и многие другие вещи/. Поэтому нужно исследовать, каким образом происходит то, что мы сознаем все это.
§ 729—730. /Мы находим, что сознаем вещи тогда, когда мы отличаем их друг от друга. Например, мы отличаем зеркало от собственного отражения в нем и от других вещей, которые действуют на наши чувства. Если мы не замечаем этого различия между вещами, которые даны нашим чувствам, то мы и не сознаем этого различия. Это различение есть действие души, посредством которого мы отличаем душу от вещей, которые служат причиной изменений в органах чувств и возникающих в них ощущений и потому представляем себе самих себя и другие вещи. Это представление других вещей, а также их отличия друг от друга и от нас самих есть действие души, без которого мы не можем это различие познавать/.
§ 731—732. /Без ясности и отчетливости в представлениях этого различия в многообразном наши мысли остаются темными, а, следовательно, без этого мы не могли сознавать никаких вещей, а также и самих себя. Поэтому ясность и отчетливость мыслей является основанием сознания/.
§ 733. /Для различения вещей друг от друга нужно их друг с другом сравнить (gegen einander halten), т. е. обнаружить в одном то, что отсутствует в другом, а в другом обнаружить то, что не может иметь место в первом. Это различение и сравнение друг с другом частей в многообразном называется обдумыванием (überdenken), без чего мы не можем сознавать другие вещи и самих себя/.
§ 734. /Для сравнения друг с другом мыслей нужно не только сохранять то, что в них мыслится, но и знать, что эти мысли у нас уже имелись и что мы одарены памятью (Gedächtnis), которая сравнивает мысли и различает их. Поэтому для сознания требуется память/.
§ 733. Теперь мы понимаем, каким образом собственно происходит то, что мы сознаем себя, т. е. то, что мы знаем о том, что мы мыслим или почему наши мысли привносят с собой сознание (§ 194). А именно если мы нечто мыслим, то мы на некоторое заметное время мысль сохраняем и как бы отличаем ее от самой себя посредством отрезков времени, которые мы, хотя и не отчетливо (§ 214), отличаем друг от друга. Мы сравниваем эту мысль с ней самой и узнаем, что она является той же самой (§ 17), и, таким образом, мы одновременно вспоминаем, что мы уже имели ее раньше. Следовательно, память и обдумывание производит сознание (§ 733, 734).
§ 736. Таким образом, поскольку при сознании вещи различное, [находящееся] в душе, должно следовать друг за другом, для сознания требуется время (§ 94). А так как наши мысли суть изменения души, которые мы сознаем (§ 194), то каждая мысль происходит во времени или имеет свое соразмерное время.
§ 737. /Поэтому одна мысль может длиться дольше, чем другая, и обладает некоторой длительностью или скоростью во времени (хотя эту скорость надо отличать от скорости движения тонкой и текучей материи)/.
§ 738. /Все изменения тела осуществляются посредством движения и имеют свое основание в величине, фигуре и положении частей (§ 614 — 615). Поэтому если бы тело могло мыслить, то изменения мыслей осуществлялось бы посредством движения, определяемым положением некоторых частей определенной величины и фигуры, а также скоростью их движения. Сознание в таком случае также имело бы сходство с состояниями и движениями тела. Но так как сознание не может быть приведено в движение посредством движения частей, которые не могут быть представлены иначе чем через величину, фигуру и положение чего-то составного, то тело не может сознавать это изменение и порождаемое им представленые (§ 735). А поскольку мысли привносят с собой сознание (§ 194), никакое тело не может мыслить/.
§ 739. /Те, кто приписывают телу [способность] мыслить, считают, что мысли состоят в движении тонкой материи в мозгу, Однако мы считаем, что это не так, поскольку как грубая, так и тонкая материя не могут мыслить и сознавать/.
§ 740. Если мы имеем машину или тело, в которых посредством действия света или других внешних воздействий возбуждается внутреннее движение, то благодаря этому тонкая материя приводится в такой порядок, каковым она представляет внешние тела, от которых исходит свет, или каким-либо другим способом. И, тем не менее, существует существенное различие между этим представлением и мыслью души, посредством которой она представляет себе то же самое тело. Ибо в теле представление осуществляется в нем; в душе же все представляется как находящееся вне ее. Причина этого уясняется из вышесказанного. Душа представляет себе вещи, которые она мыслит как находящиеся вне ее, поскольку она познает их в качестве отличных от себя (§ 45, 730). Но посредством движения машине не может быть доступным то, чтобы представляемая в ней вещь, равным образом представлялась в качестве находящейся перед ней и отличной от нее. Поэтому материальные представления вещей в машине никогда не могут стать мыслями, как иногда этого хотят.
§ 741. /Тело или материя не обладает силой мышления, поскольку из сущности тела не может вытекать то, что ему не присуще. Этого нельзя требовать и от Бога, поскольку в таком случае он должен был бы изменить неименную сущность вещи или сообщить телу способность мыслить, что было бы равноценно превращению железа в золото/.
§ 742. Поскольку тело ни по своей сущности, ни по своей природе не может мыслить, а материи не может быть сообщена сила мышления (§ 738—741), душа не может быть ничем телесным, ни состоять из материи (§ 192). И так как из приведенных оснований вообще показано, что никаким составным вещам не может быть присуще мышление, то душа должна быть простой вещью (§ 75).
§ 743. Поскольку все простые вещи суть вещи, для себя существующие (§ 127), душа также должна быть вещью, существующей для себя (§ 742).
§ 744. Поскольку каждая для себя существующая вещь имеет силу, из которой как из источника вытекают ее изменения (§ 114, 115), душа также должна обладать такой силой, из которой проистекают ее изменения, которые выше в третьей главе мы определяли из опыта.
§ 745. Так как душа есть простая вещь (§ 742), не имеющая никаких частей (§ 75), то в ней также не может иметь места и множество отличных друг от друга сил, поскольку иначе для каждой из них потребовалась бы особая существующая для себя вещь, которая бы ей соответствовала (§ 127). Сила состоит именно в стремлении (Bemühung) что-то делать (§ 117), и, следовательно, для различных сил требовались бы различные стремления. Однако простая вещь не может обладать одновременно различными стремлениями, точно так же как если бы тело, рассматриваемое в своем движении в качестве неделимой вещи (§ 667), могло бы одновременно двигаться в противоположных направлениях.
Поэтому в душе существует только одна единая сила, из которой и происходят все ее изменения, хотя из-за различий этих изменений мы склонны называть эту силу различными именами.
§ 746. /Пример с пламенем, которое в качестве горящего света обладает только одной единой силой, посредством которой пламя движется. Но мы даем этой силе различные имена в зависимости от различий в ее действиях: освещающая, нагревающая, поджигающая и т. д./.
§ 747. Поэтому чувства, способность воображения, память, способность обдумывания, рассудок, чувственные желания, воля (§ 220, 235, 248,.272, 277, 434, 492) и все, что только можно различать в душе посредством воспринимаемых в ней изменений, не может быть [проявлением] различных сил (§ 745). Соответственно единая сила души и должна производить то ощущения, то [образы] воображения, то отчетливые понятия, то умозаключения, то желания, то воление и не-воление и все другие [ее] изменения. Поэтому и нужно исследовать, откуда возникают эти различия в действиях единой действующей силы души.
§ 748. Для познания этой силы мы должны продумать те изменения, которые происходят в душе. А так как сила является источником изменений (§ 115), то ее можно познать не иначе как посредством производимых ею изменений.
§ 749. Ощущения суть обычные изменения, которые мы воспринимаем в нашей душе. Они представляют нам тела, которые касаются органов наших чувств (§ 220). Тела суть составные вещи (§ 606), и потому ощущения таковыми их и представляют. Душа же, в которой происходит это представление, есть простая вещь (§ 742). Таким образом, составное представляется в простом, и потому ощущения являются представлением сложного в простом, возникающие по поводу (auf Veranlassung... geschehen) изменений во внешних органах чувств.
§ 750. Когда мы нечто воображаем себе, то оно также является телесной вещью, которую мы либо ощущаем (§ 233), либо составляем сами (§241). Таким образом, здесь также составное представляется в простых вещах, и здесь [образы] воображения согласуются с ощущениями.
§ 751. /Отличие образов (Bildern) как представлений, ощущений и образов воображения от образов картин и статуй в том, что первые суть представления сложного в простом, а образы искусства суть представления составного в сложном (на поверхности картины или в телесном пространстве статуи) /.
§ 752. Если к этим представлениям [души] присоединяется размышление и память, то душа сознает то, что она представляет (§ 733—734), и таким образом возникает мысль (§ 194). Благодаря тому, что мы сознаем самих себя, мы познаем свое отличие от себя (§ 730) и потому представляем себе вещи как [находящиеся] вне нас (§ 45). В этом состоит отличие мыслей от картин и скульптур, поскольку первые представляют образы вещей вне души, а последние — в себе.
§ 753. /Так как действия души происходят от ее силы (§ 744), то она имеет силу представлять мир в зависимости от положения своего тела в мире, поскольку ощущения сообразуются с изменениями, которые происходят в органах чувств/.
§ 754. /Так как душа имеет силу, из которой происходят все ее изменения (§ 745), то благодаря этой силе она представляет себе мир, а также и все изменения, которые она в нем воспринимает. Однако в этой главе мы и должны главным образом исследовать вопрос о том, каким образом из этой единственной представляющей силы проистекают все относящиеся к миру изменения, которые были указаны выше в третьей главе о душе/.
§ 755. Поскольку эта сила есть основание всего того, что имеется в душе изменчивого, в этой силе и состоит ее сущность (§ 33) и она есть первое, что следует мыслить о сущности души (§ 34). И тот, кто отчетливо познает душу, тот в состоянии указать основание всего, что присуще душе (§ 33). Скоро мы увидим это подробнее.
§ 756. То, что делает вещь деятельной (tätig) или способной как-то действовать (etwas zu wirken), называется ее природой (§ 628). Благодаря своей способности представлять мир посредством силы, душа есть действующая сущность, и потому ее сила является одновременно и ее природой.
§ 757. То в душе, что основано в этой силе, является естественным в отношении души, равным образом как в отношении тела естественным называется все, что основано в его природе, т. е. в его сущности и в силе (§ 630).
§ 758—759. /Напротив, то, что не основано в сущности и силе души и тела — сверхъестественно, а сверхъестественное действие называется чудом. По отношению к душе сверхъестественным изменением является такое ее изменение, которое не основано в ее силе/.
§ 760. Выше (§ 527 и сл.) мы уже подробно показали, в какой мере благодаря опыту мысли души согласуются с некоторыми изменениями в нашем теле и, наоборот, изменения в теле — с изменениями в душе. Но так как мы доказали, что душа обладает силой представлять себе то, что служит причиной изменений в ее теле, то нужно исследовать, откуда возникает согласование души и тела друг с другом и почему душа всегда производит именно те мысли, которые приноравливаются к (schicket... sich zu) наличному состоянию тела. И это.есть трудный вопрос (Knoten), для решения которого философы приложили так много усилий, а именно — как собственно возможно, чтобы душа и тело имели общение (Gemeinschaft) друг с другом. Для решения этого вопроса не могли ничего дать ни теология, ни мораль, ни политика, ни медицина, поскольку они довольствуются лишь тем, чему учит опыт относительно согласия души и тела
(§ 327 сл.).
§ 761. Многие считают, что сила тела производит мысли в душе, а сила души — движения в теле. А именно воображают, будто посредством телесных вещей, которые касаются наших органов чувств, в нервах возникает движение и возбуждается находящаяся в них подвижная (flüßigen) материя, а эта тонкая (subtile) материя посредством своего движения производит в душе мысли, которые мы называем ощущениями (§ 220), посредством которых мы представляем себе тела, находящиеся вне нас и являющиеся причиной изменений в органах чувств (§ 749). И наоборот, поскольку душа посредством своей силы, т. е. своей воли, производит некоторые движения в органах тела, постольку тело исполняет то, что хочет иметь душа. Некоторые даже приписывают душе скрытую силу двигать телом. И это мнение обычных людей некоторое время разделялось даже философами, хотя сегодня лишь немногие с ним согласны. Такое действие души на тело и тела на душу называют естественным влиянием (natürlichen Einfluß) одной вещи на другую и потому утверждают, будто общение души и тела основывается на естественном влиянии одной вещи на другую. Легко показать, что такое влияние души на тело и наоборот нельзя ни понять, ни понятным образом объяснить, тем не менее ошибочно считают, будто оно основывается на опыте. Выше (§ 529, 534, 536) уже говорилось, что посредством опыта нельзя доказать, что тело действует на душу и наоборот, и потому можно считать, что их естественное влияние друг на друга принималось без всякого основания и лишь на короткое время.
§ 762. /Действие души на тело и тела на душу не может быть понято и объяснено ни из понятий, которые мы о них имеем, ни из правил, которые в качестве законов природы предписываются их действиям, а также не может быть показано посредством опыта. Поэтому для окончательного решения этого вопроса нужны дальнейшие исследования. — Если бы такое действие имело место, то в мире не сохранялось бы всегда одинаковое количество движущей силы (§ 709), т. е. были бы нарушены правила движения, на которых основывается весь порядок природы. Ибо если душа действует на тело, то будет произведено некоторое движение без предшествующего движения и следует предположить, будто душа производит движение в теле только посредством своей воли. Но таким образом могла бы возникнуть новая сила, которой до этого в мире не было. Но увеличение в мире силы противоречит законам природы. Равным образом и наоборот: если тело действует на душу, то движение порождает мысль и тем самым оно прекращается, не создавая движения в другой части материи, а следовательно, в таком случае уменьшилась бы или исчезла сила, которая существовала в мире до этого. Т. е. опять был бы нарушен закон сохранения одинакового количества силы в мире, что противоречило бы природе и привело к ошибочному мнению, будто Бог построил природу на противоречивых основаниях/.
§ 763. /Декарт сначала признавал взаимодействие тела и души, т.е. допускал переход и превращение телесной силы в духовную и наоборот, но затем он нашел ответ в воле Бога, который по поводу (durch Veranlassung) движения в теле одновременно производит в душе мысли и наоборот. Таким образом, согласно Декарту, телесные движения и ощущения или мысли не являются непосредственной причиной друг друга, а служат лишь поводами для возникновения того и другого, посредством действия Бога в каждом из них/.
§ 764. /Хотя многие согласны с Декартом в том, что тело и душа действуют друг на друга не естественным способом, а посредством сильной воли Бога, тем не менее многое противоречит этому. Если движение в телах и мысли в душе производятся благодаря непосредственной силе Бога, то их действия лишаются собственной силы и не отличаются от действий Бога, но то, что не основано в сущности и природе души и тела, — является чудом (§ 633, 759) и необходимо допустить постоянно продолжающееся чудо в виде общения души и тела друг с другом. Таким образом, мнение Декарта так же противоречит законам движения и сохранения одинакового количества силы во всей природе, как и точка зрения естественного влияния, а главное, он не понимает природы простых вещей и способности души иметь собственную силу, посредством которой она производит свои мысли/.
§ 765. Так как душа имеет свою собственную силу, посредством которой она представляет себе мир (§ 753), и наоборот, все естественные изменения тела так же основаны в его сущности и природе (§ 630), то легко видеть, что душа производит свои изменения от себя (vor sich), и равным образом от себя имеет свои изменения и тело, без того чтобы душа действовала на тело, а тело на душу или чтобы Бог посредством своего непосредственного действия устанавливал соответствие ощущений и желаний души с изменениями и движениями тела. Таким образом, мы приходим к объяснению, которое дал г-н Лейбниц относительно общения тела с душой и которое он назвал предустановленной гармонией или соответствием (vorherbestimmte Harmonie oder Übereinstimmung).
§ 766. /Предустановленная гармония — не пустое слово, но подтверждается в опыте (§ 527, 531 и сл.) и должна быть объяснена ее возможность, дабы устранить точку зрения естественного влияния или непосредственного действия Бога/.
§ 767. Следует заметить, что все изменения в мире следуют друг за другом в неизменном порядке (§ 544), и поскольку и в душе предшествующее состояние должно содержать в себе основание для последующего (§ 108, 742), то точно так же и ощущения в душе должны следовать друг за другом в неизменном порядке. Так как ощущения представляют изменения в мире (§ 749), то необходимо, чтобы они [и изменения в мире] с самого начала сразу были приведены друг с другом в гармонию, которая после этого может постоянно продолжаться и далее, как это было замечено уже самим Лейбницем. Я говорю здесь только об ощущениях, а не о других действиях души, поскольку не они, а именно ощущения согласуются с изменениями в органах чувств.
§ 768. Однако поскольку как душа так и тело могут существовать независимо друг от друга (§ 765), хотя по своей природе и сущности они друг с другом связаны (zusammen gehören), поэтому они существуют друг возле друга не необходимо. Тем не менее они не могут сходиться лишь приблизительно (nicht ohngefehr können zusammen kommen), а потому между душой и телом не может иметь места никакой гармонии там, где не существует разумной и отличной от мира сущности, которая их объединяет (zusammen gebracht). А потому отсюда непротиворечиво следует, что существует творец (Urheber) мира и природы, т. е. Бог. Исходя из этого, можно показать и все божественные свойства, однако мы считаем целесообразным сделать это позже другим способом.
§ 769. Поскольку душа имеет силу представлять себе мир (§ 753), эти представления должны иметь также сходство с теми вещами, которые существуют в мире. Если бы они не имели никакого сходства, то душа представляла бы себе не мир, а нечто другое. Образ, не имеющий сходства с вещью, которую он должен представлять, является образом вовсе не этой вещи, а какой-то другой
(§ 17,18).
§ 770. Поскольку мир состоит исключительно из составных вещей, которые различаются исключительно только по фигурам, величинам и движениям (§ 72), то и ощущения должны представлять телесные вещи не иначе как по этим их свойствам (§ 769).
§ 771—773. /Если мы можем различить эти фигуры, величины и движения, то наши ощущения отчетливы (§ 206), если же в силу их малых величин мы не можем их различить, то наши ощущения неотчетливы (§ 214). Это подтверждается опытом, когда мы используем увеличительное стекло. Если мы не можем различить эти свойства вещей, то из их смешения возникают ощущения, которые мы не можем объяснить/.
§ 774—776. /Порядок следования вещей в мире и ощущений в душе — один и тот же, т. е. то и другое происходит в одинаковом порядке и в одинаковое время. Ощущения в душе возникают в тот же момент, когда происходит изменение в органах чувств, а движение в органах чувств следуют в тот же момент, когда этого хочет душа. То и другое происходит в одновременно и вместе, и изменение одного не может возникать раньше или позже изменений другого/.
§ 777. Так как тело решительно ничего не привносит к ощущениям в душе, то все они могли бы следовать именно так (so würden alle eben so erfolgen), как если бы даже вовсе не существовало никакого мира. Это признавал уже Декарт и задолго до него идеалисты, которые не допускали ничего кроме душ и духов, а миру не оставляли никакого другого места, кроме как в мыслях. Это, однако, разъясняется из того, что было показано выше, а именно, что мы могли бы все видеть, слышать и иным способом ощущать [как находящееся] вне нас, если бы даже никаких телесных вещей вне нас не существовало бы (nichts da wäre) (§ 765).
§ 778. /Движение тела, передаваемое с помощью нервов от органов чувств к мозгу, происходит тогда, когда происходит и ощущение в душе, причем движение тела сообразно [gemäß ist] движению желаний души. Но часто мы находим, что, когда мы нечто видим или слышим, в нашем теле происходят движения, которые осуществляются не только без нашей воли, но и против нее. — Например, мы бежим от звука выстрела без всякого участия души, в силу одного лишь движения тонкой материи в слуховых нервах. Это признают даже сторонники теории естественного влияния/.
§ 779. /В человеческом теле движения происходят естественным образом, т. е. согласно сущности, силе и природе тел, а также правильному ходу природы, который не может нарушать ни душа, как это утверждает теория естественного влияния, ни Бог, как считают сторонники теории непосредственного действия Бога (§ 762, 764)/.
§ 780. /Из этого явствует, что все движения тела происходят так, как если бы не было никакой души, поскольку посредством своей силы она к ним ничего не привносит. Правда, то, что происходит в нашем теле в этом случае, жы и не сознаем (§ 138)/.
§ 781. /В этом состоит высший и важный пункт, который многие не в состоянии понять и потому отвергают теорию предустановленной гармонии между телом и душой. Трудности в этом вопросе возникают из того, что кажется непонятным, каким образом с помощью слов и знаков мы можем высказывать и сообщать другому всеобщие истины и разумные выводы. Это кажется так же непонятным и даже невозможным, как и то, что тело, которое есть всего лишь лишенная разума машина, может, тем не менее, говорить разумно. Ведь как непонятно то, каким образом все изобретения, которые производятся утонченным рассудком и глубокой проницательностью, изобретатель с помощью слов делает известным другим, так непонятно и то, каким образом тело, лишенное проницательности и рассудка и без всякого содействия души, может открыть все истины, в том числе относящиеся к познанию Бога и души. Это происходило бы таким же образом, как если бы машина посредством одних лишь движений некоторой материи совершала бы то же самое, что совершает посредством своей духовной силы душа, т. е. могла бы познавать и изобретать всеобщие истины, делать разумные выводы и т. д. Кроме того, действия тела подчиняются законам движения, которые определяются его сущностью и природой и изменить которые оно не в силах, а следовательно, остается непонятным, каким образом оно могло бы иметь рассудок для познания и размышления/.
§ 782. Нельзя отрицать того, что эти трудности обладают большой убедительностью (grossen Schein). Однако если мы точнее исследуем свойства мыслей души, то они вполне могут быть устранены. Поэтому мы хотим исследовать далее, каким образом из силы души представлять себе мир, в ней происходят воспринимаемые нами изменения.
§ 783. Поскольку душа не имеет постоянно одинаковые мысли, о чем мы узнаем каждый день, час и мгновение, а изменяться в вещи могут только границы (§ 109), всякое ее различие происходит от изменения границ ее силы (§ 745), а потому душа является конечной вещью, и она не может быть сразу всем тем, чем она может быть, но должна постепенно переходить от одного состояния к другому.
§ 784. Мы не находим в душе ничего другого, кроме силы представлять себе мир (§ 753, 754) а это и есть именно то, что в ней продолжается и делает ее сущностью, существующей для себя (§ 743). Поэтому все изменения, которые в ней воспринимаются, суть не что иное, как различные ограничения той самой силы, посредством которой она определена, поскольку в себе и для себя самой она относится к миру в целом во всем его пространстве и времени (§ 107). Основание ее ограничения находится в положении ее тела в мире (§ 753) и, поскольку оно [это состояние] изменчиво, во всех его изменениях.
§ 785. /Гак, душа есть простая и конечная вещь, она не может пред-ставлятъ себе мир со всеми его изменениями отчетливо и в одно мгновение, поскольку в мгновенном состоянии мира в нем происходит очень много такого, что требуется различить, душа вынуждена к тому, чтобы представлять себе отчетливо только некоторую часть [etwas] из этого изменчивого в соответствии с положением своего тела и его изменениями/.
§ 786. /Основанием смены наших ощущения является изменение состояний телесных вещей в мире, которые мы ощущаем. А так как представления души имеют сходство с телесными вещами в мире (§ 769), то они относятся к ним как картины или образы к вещи, которую они представляют (§ 751). Основанием наших представлений и их изменений являются как состояния и изменения воспринимаемых тел в мире, так и положения нашего тела в мире/.
§ 787. /С этим основанием согласны не только те, которые признают действительное существование мира вне души, но и идеалисты, несмотря на то, что они отрицают существование мира вне души. Поэтому их мнение не может нанести ущерба естественным наукам (natürlichen Wissenschaften), которые дают правильное понимание души и мира/.
§ 788. /Возможно столько же душ, сколько существует способов представления мира конечными силами тел, одаренными органами чувств и занимающих определенное положение в мире/.
§ 789. /Это относится и к животным, которые также имеют душу, поскольку являются простыми сущностями и обладают силой представлять мир согласно положению в мире своего тела, одаренного органами чувств/.
§ 790. /Сила души представлять мир зависит от наличия органов чувств, от их состояния и т. п. Слепой не может видеть, глухой — слышать и т. п./.
§ 791. /Это вносит заметный беспорядок в отношение между душой и телом, поскольку в этом случае оказываются невозможными движения тела, которые возникают из воли и сообразуются с желаниями души, а последние происходят из представления вещей, которые, в свою очередь, зависят от органов чувств, их состояния и движения/.
§ 792—793. /Для понимания того, что требуется для ощущений души и правильности ее представления о вещах, нужно исследовать положение ее тела в мире, состояние его органов чувств и т. п./.
§ 794—798. /Поскольку сознание зависит от ясности и отчетливости ощущений, поскольку животные обладают такими же органами чувств, как и человек, и способны иметь ясные и отчетливые ощущения, они способны и сознавать последние. Во время сна душа не имеет ясных и отчетливых представлений и не может сознавать и мыслить, говорить и воображать/.
§ 799. /Поскольку в грезах (Träume) представляется то, что не дано, они зависят от способности воображения и тех правил, какими они из ощущений создают образы (составные и простые грезы)/.
§ 800—806. /Если греза основана в сущности души, то она естественна. Если же она возникает без ощущений и против правил воображения, то она не основана в сущности души и является сверхъестественной и чудом в душе. Поскольку представления грез могут быть ясными и отчетливыми, постольку грезы сознаются, хотя и с очень небольшой степенью в зависимости от ясности и отчетливости ощущений, степени их упорядоченности и т. п. Этим грезы отличаются от сна, в котором нет никакой ясности, отчетливости и упорядоченности ощущений. Такое состояние Лейбниц признавал у своих единиц/.
§ 807. Способность воображения не производит ничего другого, кроме того, что мы до этого ощущали или мыслили (§ 238), и потому его образы суть не что иное, как представления прошедших состояний мира (§ 769).
§ 808. Но поскольку в душе имеется только единственная сила, из которой происходят все ее изменения (§ 745), ее сила представлять мир относится ко всему миру как в пространстве, так и во времени, а следовательно, не только к настоящему, но и к будущему и прошедшему состоянию мира (§ 753).
§ 809. /Однако, поскольку душа является ограниченной силой, она способна представлять прошедшее и будущее лишь в той мере, в какой они имеют что-либо общее друг с другом и в какой настоящее имеет основание в прошедшем, а будущее в настоящем/.
§ 810. /Способность воображения может представлять себе то, что не основано в прошедшем, не следует из него и не имеет с ним ничего общего, а потому может производить то, что не может быть одновременным или последовательным в природе/.
§ 811. /Однако эта способность воображения не противоречит закону достаточного основания, поскольку он относится не только к действительному, но и к тому, что возможно и может стать действительным в другом мире/.
§ 812. /Все ощущения в душе объединяются (wird vergesellschaftet) в теле, а именно в мозгу с помощью особого движения тонкой подвижной материи (§ 778). А так как между душой и телом сохраняется постоянная гармония (§ 765), то и в мозгу должно возбуждаться то движение, которое ранее было возбуждено в нем душой и ее ощущениями/.
§ 813—814. /Поскольку не может быть памяти без способности воображения, а душа в своих образах и ощущениях сообразуется с движением тонкой и подвижной материи, понятно, почему память и воображение сообразуются с состояниями мозга. Нарушение состояния тела и мозга ведет к повреждению памяти и способности воображения мозга/.
§ 815. /Поскольку душа сообразуется с нервами и мозгом, а из представлений души возникают ее желания и воления, и соответствующие им движения тела возникают в нем посредством движения тонкой и подвижной материи нервов и с ее помощью сохраняется и гармония между душой и телом/.
§ 816—817. /Лекарства способствуют улучшению состояния нервов и мозга и потому улучшению гармонии между душой и телом. Но отсюда не следует, что душа имеет сущность, составленную из материи, н что она может быть улучшена лечением/.
§ 818. В силу гармонии с телом ощущения имеют свое основание в теле (§ 29, 765), а следовательно, по видимости, вне души (§ 45). Поэтому их причисляют к страдательному (unter die Leidenschafften) (§ 104). Между тем, поскольку в действительности они производятся душой (§ 753) и находятся с телом только в гармонии (§ 765), они являются действиями душ (Taten der Seelen) (§ 104), и душа, поскольку она ощущает, обнаруживает себя как деятельная сущность.
§ 819. Поскольку душа производит ощущения посредством своей собственной силы (§ 765), образы и понятия телесных вещей привходят в нее не извне, но она имеет их на самом деле уже в себе, а именно тем способом, каким это возможно в ней как в конечной вещи (§ 783), но не в действительности, а только по возможности (dem Vermögen nach) (§ 109),и развертывает их из своей сущности в порядке, только как бы совпадающем с телом, поскольку она сама определяет себя к тому, чтобы превратить возможное в действительное.
§ 820. /Ошибочность мнения Аристотеля и Локка, согласно которому из того, что душа подчиняется (leidet) телу, когда оно ощущает, они вообразили, будто понятия телесных вещей привходят в душу извне и потому без тела душа иметь их не может. Они сравнили душу с восковой доской, которая остается гладкой, пока внешняя сила не отпечатает на ней фигуры/.
§ 821. /Образы воображения относят к действиям души, поскольку они возникают из наших намерений. Но нередко они возникают и против нашей воли, и в этом случае возникает видимость, будто их основание следует искать вне души, и относят воображение к ее страдательной стороне. Однако на самом деле все образы воображения производятся деятельной сущностью и собственной силой души и свое основание имеют в душе/.
§ 822. В каком-либо образе (§ 751) и вообще в вещи, представляющей нечто другое, все согласуется друг с другом, если в нем не имеется ничего такого, чего нельзя было бы найти в представляемой вещи, поскольку в представлении этой другой вещи и состоит, почему этот образ существует. А потому совершенством образа или вообще вещи, представляющей нечто другое, является сходство с представляемым (§ 18). И потому чем больше [в образе] встречается сходства, тем больше содержится в нем совершенства.
§ 823. Равным образом и ощущения суть не что иное, как представления наличного состояния мира, сразу сочетающие в себе все, что ощущает душа (§ 753). И поэтому совершенство ощущений также состоит в их сходстве наличным состоянием мира, и чем больше обнаруживается такого сходства, тем совершеннее считается ощущение.
§ 824—827. /Степень совершенства ощущений зависит от степени их отчетливости, т. е. возможности различать в представлении вещи ее части, фигуру, величину и т. п. Чем более отчетливы ощущения, тем полнее их сходство с представляемыми вещами и с их истинными свойствами. В этом случае они представляют вещь такой, как она есть (wie sie ist). Различия совершенства различных чувств: зрение и слух более отчетливы, нежели вкус и обоняние/.
§ 828. Чем более отчетливо все ощущение о каждой из ощущаемых вещей представляет все сразу и одновременно, тем оно совершеннее (§ 826), а следовательно, тем совершеннее и простая сущность, которая посредством своей силы эти ощущения производит.
§ 829. /Таким образом, существует двоякое основание для оценки совершенства тех вещей, которые представляют себе мир посредством своей силы. Во-первых, количество сразу представляемых ею вещей или величины пространства и времени (§ 46, 94), во-вторых, большая или меньшая степень отчетливости способа представления этих частей, распространяемая как на большие, так и на малые части пространства и времени/.
§ 830—831. /Могут существовать менее совершенные души, чем души людей (например, животных), и более совершенные, чем наши, которые могут существовать вне земли на других планетах (Welt-Körper)/.
§ 832. Выше (§ 273) уже показывалось, каким образом мы приходим к общим понятиям (allgemeinen Begriffen). Но теперь еще отчетливее проясняется, каким образом они возникают из единой силы души представлять мир. Здесь я хочу повторить это более обстоятельно. Телесные вещи в мире принадлежат частично к одинаковым видам, а частично к одинаковом родам, как это показывает даже опыт. Вещи, относящиеся как к тем, так и к другим, имеют в себе нечто сходное (§ 182), а следовательно, нечто друг с другом общее (§ 18). Поэтому если нам дается вещь одного вида или рода, которую мы уже до этого ощущали посредством действия представляющей силы души (§ 753), то одновременно и способность воображения, которая является той же самой единой силой души (§ 747), доставляет нам знание о том, что мы уже ранее имели ощущение (§ 238) вещи того же вида и рода (§ 248). И так как благодаря этому мы и представляем себе сходное как то, что имеет друг с другом общее, (§ 18), то мы имеем понятия видов и родов (§ 182), а следовательно, общие представления.
§ 833. /Таким образом, для достижения общих знаний требуется сильная способность воображения и сильная память, благодаря которым то, что прежде мы ощущали недостаточно ясно и отчетливо, можно представить и вспомнить более ясно и отчетливо/.
§ 834—835. /Для достижения общих знаний мы посредством слов или других знаков даем вещам одного вида или рода одинаковые имена и тем самым как бы обособляем то, что есть между ними сходного. Так как слова, обозначающие общие познания, состоят из букв и звуков, которые мы видим или слышим в органах чувств, и связаны с движениями в мозгу, то тем самым общие знания представляются в теле и согласуются с общими знаниями души/.
§ 836. Когда мы впервые изобретаем слова, мы посредством созерцания вещей приводимся в движение, посредством которого органы тела формируют определенные, требуемые для речи звуки, которые и служат знаками, эти вещи обозначающими. Поэтому из движений в органах чувств и далее в мозгу возникают те движения, которые требуются для формирования звуков в органах чувств. Звуки в них слышатся и посредством этого в ушах, а затем в мозгу вновь возбуждается движение, которое ассоциируется (vergesellschafftet) с другими движениями, возникающими из других чувств. Поэтому мозг устроен таким образом, что когда эти два вида движения возникают одновременно друг с другом, то после этого из одного движения, возбужденного чувствами, снова следует другое, [порождающее звуки в органах слуха и языка] (§ 812). Отсюда очевидно, каким образом возможно, чтобы наше тело в качестве всего лишь машины может производить те слова, которые всегда подходят к вещам и обозначают душе общее знание. То, что некоторые пытаются против этого возразить, показывает, что они не точно обдумали сказанное. Примеры же, которые они приводят против этого, как раз подтверждают то, что утверждаю я. /.../
§ 837. Таким же образом обстоит дело и тогда, когда мы учимся речи у других. Мы ощущаем вещь и одновременно слышим слово, которым она обозначается (§ 297), и начинаем говорить. В этом случае в нашем мозгу так же имеет место двоякого рода движение, которое возникает из двух или более различных движений, которые происходят в органах чувств, а из этих движений возникает движение в органах речи. И когда после этого посредством изменения в органах чувств возникает одно из этих двух движений, то из него возникает и другое движение (§ 812) и, наконец, движение в органах чувств языка (Gliedmassen der Sprache).
§ 838. Верно, однако, что, поскольку эти движения происходят в очень тонкой материи, которую мы не можем воспринимать, мы не можем подробно их объяснить. Мы не можем воспринять этого движения, поскольку мы непосредственно не можем показать, откуда и как оно возникает, так как нам собственно неизвестны внутренние свойства мозга и его связь с нервами. Тем не менее все [это] остается естественным (§ 664), и здесь не принимается ничего, что могло бы превышать силы тела и что не могло бы быть понято, если бы мы могли достичь способа их связи даже в самой тонкой материи.
§ 839. После того как мы однажды обрели речь, мы представляем себе обычно слова вместо вещей и вместе с тем высказываем свои суждения о вещах (§ 319, 321). Поэтому при фигурном знании ни в понятиях, ни в суждениях не происходит ничего такого, что не могло бы иметь в теле эквивалентного движения и даже действительно его имеет (§ 836, 837). И потому фигурное познание не противоречит гармонии между телом и душой.
§ 840. /Как только мы мыслим слова, в мозгу также возникает определенное движение, которое с ними согласуется, а из этого движения возникают движения в органах речи, посредством которых мы говорим то, что мыслим (§ 837). Когда мы мыслим слова, то возникает усилие говорить, а также соответствующие движения в горле, дыхательных путях и других частях тела, вплоть до сердца, благодаря чему и произносятся слова. Поэтому и существует мнение, что мысли возникают из сердца/.
§ 841. /Для умозаключения требуются высказывания, получаемые с помощью ощущений и производимые способностью воображения согласно его правилам. Для осуществления выводов требуется та же сила души, которая представляет настоящее и прошлое состояние мира либо само по себе, либо посредством знаков и слов, из которых возникают высказывания, входящие в состав умозаключения/.
§ 842. Все представления души, независимо от того, являются ли они вещами или обозначающими их словами, а также того, относятся ли они к ощущениям или воображению, сопровождаются особыми движениями в теле и таким образом вещи, представляемые душой, одновременно представляются телесным образом и в нашем теле (§ 778). А так для умозаключений не требуется ничего другого, кроме этих представлений (§ 841), то и все умозаключения так же оказываются особыми движениями мозга, а потому и в данном случае сохраняется постоянная гармония между душой и телом.
§ 843. /Мыслимые нами слова согласуются с движением мозга, а также органов, речи или рта, посредством которых образуются слова. Из этого явствует, что посредством силы тела рот без вмешательства души может производить все необходимые для умозаключений слова, т.е. говорить разумно без влияния души/.
§ 844. /Тем самым устраняются все трудности, связанные с пониманием предустановленной гармонии (§ 781), а также все возражения против нее. Из сказанного становится ясным, что все, что относится к рассудку и разуму может быть объяснено из единой силой души представлять себе мир, а все что происходит в теле не выходит за пределы того, что содержит в себе природы и сущность машины. Но так как тело не сознает свои движения и возникающие в силу этого представления, то ему нельзя приписывать ни рассудка, ни разума, но то и другое остается достоянием души/.
§ 845. /В нашем объяснении данного вопроса не принимается ничего такого, чего не принималось бы сторонниками как естественного влияния так и божественного действия. А именно, первые утверждают, что посредством внешних вещей мире происходит не только движение в органах чувств, но и телесные представления в мозгу относительно того, что мы ощущаем. Они соглашаются и с тем, что когда мы нечто ощущаем или воображаем, то в мозгу происходят те же самые движения или телесные представления, которые уже были или которые возникают вновь, причем это относится и к воображаемым нами словам, которые также возбуждают в мозгу соответствующие движение и телесные представления. Однако они не понимают и не признают того, что различные движения тела, его нервов и мозга и т. д. могут вызываться не только другими движениями тела, но и посредством души, которая также является основанием и инструментом для этого. Сторонники же непосредственного действия Бога не сомневаются в том, что касается движений в мозгу, однако они считают, они определяются не подвижной материей мозга, но что именно Бог определяет к движению текучую материю в мозгу, а через нее и движение в органах тела и речи. Мы считаем это сверхъестественным или чудом и ограничиваемся только естественным, а именно тем, что каждое движение может возникать только от другого движения
(§ 664)/. в
§ 846. Откуда ряд мыслей берет свое начало. /.../ Не только образы воображения, но и всеобщие понятия берут свое начало от ощущений (§ 809, 832). А так как ощущения принадлежат к созерцающему познанию (§ 316), то и всякое наше размышление берет свое начало от него. Поэтому прежде чем мы начинаем думать о вещи, мы должны найти основание для этого в наших ощущениях: это имеет место также и во всех геометрических доказательствах, в которых всегда нечто берется из созерцания фигур, которое и служит началом мыслей (см.: Ratio praelectionum in mathesin et philosophiam universam. Sect. 1.
C. 2. § 37. P. 34).
§ 847. Если мы хотим указать достаточное основание мыслей, которые возникают в нашей душе, то мы всегда должны видеть троякое основание того, что касается познания вещей. А именно: первое основание есть гармония ощущений души с [соответствующими] изменениями в органах чувств (§ 219, 220); второе основание есть правило воображения (§ 238); третье основание — умозаключения, которые основываются на двух предшествующих, что было уже выше объяснено на примере (§ 342).
§ 848—849. /Рассудок как способность отчетливого представления возможного (§ 277) берет свое совершенство от совершенства души. Этим, а также его способностью представлять все сразу измеряется степень совершенства его понятий, суждений и выводов/.
§ 850. /Проницательность (Scharffsinnigkeit) — способность к обнаружению и точному определению видов сходства и отличия одного от другого. Это условие отчетливости как созерцающего, так и фигурного познания, а степень проницательности рассудка тем выше, чем больше в созерцающем познании он может обнаружить различий в представляемой вещи, а в фигурном — чем больше он может все это объяснить/.
§ 851. Высшая степень проницательности имеется там, где все в вещи могут различить и отчетливо понять вплоть до последних мелочей и таким образом получить совершенно полное (ganz vollständigen) понятие (Log., § 16, гл. 1). Следовательно, это имеет место тогда, когда рассудок является совершенно чистым (ganz rein ist) (§ 282).
§ 852. Поскольку наш рассудок никогда не является совершенно чистым (§ 285), он не может также достичь и высшей степени проницательности. И потому мы не можем проникнуть (ergründen) во все, что существует в вещах; ведь мы говорим, что мы проникли в нечто тогда, когда мы отчетливо понимаем все, что в нем имеет место. Также и невозможность вещи нельзя понять потому (Man kann die Unmöglichkeit der Sache auch daher begreifen), что в природе материя действительно делима на бесконечные части (§ 684).
§ 853. /Поскольку отчетливость выводов зависит от возможности дальнейшего доказательства их посылок, высшая степень совершенства выводов достигается тогда, когда их посылки оказываются пояснениями слов или пустыми предложениями, которые уже нельзя доказать, поскольку первые произвольны, а вторые существуют благодаря основанию противоречия (§355, 10)/.
§ 854—857. /Отчетливость в выводах — основательность (Gründlichkeit), которая зависит от доказанности посылок. Высшая степень основательности — чистота (Lauterkeit) разума. Человеческий рассудок не достигает высшей степени основательности, поскольку в своем познании природы он берет некоторые основания, для выводов он заимствует из опыта. С основательностью выводов связано их совершенство рассудка, которое зависит от величины ряда выводов, связанных друг с другом в доказательствах. Однако совершенство доказательств отличается от совершенства рассудка, степень которого тем выше, чем более короткие пути находит он для своих доказательств/.
§ 858—860. /Легкость обнаружения сходного есть остроумие (Witz) (§ 366), которое зависит от проницательности, воображения, памяти, их взаимодействия и степени их совершенства/.
§ 861. Искусство изобретения (Kunst zu erfinden) основано в остроумии, рассудке и особенно в навыке делать выводы. Это было показано выше (§ 367). Совершенство искусства изобретения возникает поэтому из совершенства остроумия и рассудка. Чем больше остроумия и основательности, тем больше степень искусства изобретения. Поскольку здесь речь идет о таком искусстве изобретения, которое противоположно искусству опытов (Versuch-Kunst), и поскольку нечто открывают не посредством одной лишь внимательности к нашим ощущениям, а скорее путем обнаружения других истин с помощью правильных выводов из некоторых уже известных и связанных с ними истин, для совершенства искусства изобретения или, скорее, для его быстрейшего осуществления также необходимо большое знание. Кто много знает, тот может много находить, если он обладает искусством изобретения. И наоборот, тот, кто обладает ничтожным знанием предмета (Materie), тот посредством искусства изобретения ничего не может обнаружить. /Пример с математиками, которые не отваживаются выйти за пределы своей науки и открыть истины в других науках/.
§ 862. /О различии между теми, кто находит истины посредством опытов по большей части своими стараниями и прилежанием, и теми, кто изобретает нечто посредством остроумия и рассудка, используя для этого проницательность и навыки к выводам. Для этого необходимы особые обстоятельства времени и особое состояние изобретателя, способного возжечь большой свет [в познании] (ein grosse Licht anzündet)/.
§ 863. /Неверно оценивать изобретателя с точки зрения пользы его изобретения или по достигнутым им результатам, поскольку последние могут быть получены без большого остроумия и рассудка. Древние мыслители (например, Архимед) прилагали много напрасных усилий для познания тех истин, которые сегодня легко могут быть обнаружены с помощью алгебры/.
§ 864. /Для оценки изобретателя важно лишь то, насколько много он внес в искусство изобретения, поскольку именно оно и создает изобретателя, а не приносимая им для человеческого рода польза, поскольку для ее достижения часто требуется не рассудок, а слепое везение или прилежание/.
§ 865. Благодаря тому, что мы можем одновременно отчетливо представлять себе различные вещи, мы обладаем постижением (Einsicht... haben) связи истин, т. е. мы понимаем, каким образом одно основано в другом; но еще более это происходит в фигурном познании посредством выводов (§ 340). Поскольку разум и является таким постижением связи истин (§ 368), он также возникает из представляющей силы души, а именно из особой степени ее совершенства
(§ 856).
§ 866. Поскольку нельзя иметь никакого постижения связи вещей без внимательности к ним, благодаря которой их представляют себе сразу, а то, что в них воспринимают, — обдумывают, без внимания и обдумывания не может быть разума (§ 368).
§ 867. /Поскольку слова служат для отчетливости общего знания (§319), на чем и основывается разум, для применения разума требуется язык и применение других знаков или слов. Без использования слов, но посредством одного лишь созерцающего познания вещей, трудно и даже невозможно обнаружить их связь, особенно когда для этого требуются выводы /.
§ 868. /Без обучения языку невозможно правильное применение разума. Поэтому воспитанные среди диких животных люди или от рождения глухонемые, не могут пользоваться разумом, а когда научаются говорить, не помнят о своем прошлом состоянии/.
§ 869—872. /По этой причине животные не имеют разума, хотя они обладают воображением и памятью и потому благодаря дрессировке могут осуществлять такие действия, которые имеют видимость разумных/.
§ 873. Отчетливость мыслей есть показатель (Anzeige) совершенства души, а неотчетливость — знак ее несовершенства (§ 848). Так как душа сознает себя как при отчетливых, так и при неотчетливых мыслях (§ 728), то в первом случае она имеет созерцающее знание своего совершенства, а во втором — несовершенства (§ 316). Так как созерцающее знание совершенства возбуждает (erregt) удовольствие (Lust), а несовершенства — неудовольствие (§ 404, 417), то отчетливое знание доставляет удовольствие, а неотчетливое — неудовольствие.
§ 874. /Если при обучении наукам или искусствам все можно отчетливо понять и представить, то этот процесс доставляет удовольствие, если — нет, то возникает огорчение/.
§ 875—877. /Сила души сознавать внешние тела и стремиться к изменению своих представлений о них относится также и к ее способности сознавать свое тело и стремиться к изменению как своих представлений о нем, так и его состояний в мире. Это происходит согласно закону достаточного основания, по которому настоящее следует из предшествующего, а также благодаря свободе, которая также принадлежит к достаточным основаниям действий души/.
§ 878. Отсюда [из изменений состояний тела] можно понять, что чувственные желания и воля не нуждаются ни в какой особой силе, отличной от представляющей. Мы видели выше, что чувственные желания, как и воля, возникают из представлений блага (des Guten) (§ 434, 492). Так как от представляемого блага мы получаем удовольствие (§ 404, 422), то посредством этого душа определяет себя стремиться производить (sich zu bemühen... hervorzubringen) ощущение о нем (davon), или (что то же самое) определяет себя к тому, чтобы производить это ощущение. И в этом стремлении состоит склонность (Neigung), которая иногда называется желанием, а иногда волей, и потому оно есть не что иное, как стремление производить ощущение, которое мы знали заранее или как бы предвидели.
§ 879. /Пример: возникновения желания снова выйти на прогулку, помня о хорошей погоде во время предыдущей прогулки и полученном от этого удовольствия/.
§ 880. /Чувственное отвращение и нежелание возникают из представления зла, от которого мы получали неудовольствие (§ 436, 493, 427). В этом случае душа стремится воспрепятствовать возникновению таких ощущений (например, чувства неудовольствия от плохой погоды во время прошлой прогулки)/.
§ 881—882. /Аффекты — значительная степень чувственных желаний и отвращения. В приятных аффектах представляется большое благо, в неприятных — большое зло. Если представления о том или другом неотчетливы, то у души нет основания, по какому она должна определять себя скорее к одному, нежели к другому, тогда душа запутывается в своих стремлениях и не знает, что она должна делать/.
§ 883. То, что было сказано о свободе выше (§ 314 и сл.), сохраняет свою значение и относительно предустановленной гармонии. А именно: душа понимает свойство своих желаний или своих действий; сами по себе действия не являются необходимыми, но только случайными; а их мотивы также не делают их необходимыми, но только достоверными (gewiß), а душа имеет основание своих поступков в себе. Так как душа, когда она нечто желает (will) или не хочет (§ 878, 880), нигде не определяет себя саму больше чем при предустановленной гармонии, то нигде она не является и более свободной от всякого внешнего принуждения, [нежели в предустановленной гармонии]. Но она остается свободной также и от всякого внутреннего принуждения, поскольку ее мотивы не обладают никакой неизбежной необходимостью, но душа может еще и уклоняться (abgehen) от них, как это часто действительно происходит. Таким образом, здесь она имеет наибольшую свободу, какую можно мыслить: в чем убедились уже многие, способные понять дело (Sache); с этим согласны даже и все остальные, поскольку они не знают ничего, что возразить против того, что само по себе не может исчезнуть так быстро, как туман.
§ 884. Верно, конечно, что тело определяется к своим движениям извне, а именно от тех вещей, которые действуют на органы чувств; оно не может также и противостоять движениям, но должно производить их необходимо (§ 778). Таким же образом и те движения, которые считают или называют добровольными (freiwillige) и посредством которых исполняются желания души, также являются в теле необходимыми. Однако это происходит без ущерба для свободы души. Ибо совершенно безразлично, определяет ли душа свое тело к движениям посредством своей силы или ход природы устроен так, что телесные вещи приводят его в движение сообразно воле души. Из-за этого ничего не изменяется ни в душе, ни в теле, но каждое из них остается при своем, как и другое (es bleibet bey jedem das seine einmahl wie das andere). Если душа определяет тело к движениям, то оно точно так же не может ей противостоять, как оно не способно противостоять и внешним вещам, которые побуждают его к движениям.
§ 885. Но возможно, что ход природы устроен так, чтобы тела людей и животных определялись к некоторым движениям сообразно тем желаниям и воле, какие они имеют, причем без вреда для свободы людей. Ибо как желания и воля в душе не имеют никакой безусловной необходимости (§ 515, 516), так и в движениях тела и во всем ходе природы так же не имеет места (§ 577) такая необходимость. Но в первом случае имеет место произвол, т. е. желания и воля являются произвольными и свободными, а во втором — случайные движения. Вместе с тем оба обладают достоверностью, благодаря которой они возникают и не остаются внешними [друг другу] (§ 517, 561). И в силу этой достоверности получается так, что случайное в теле и мире согласуется с произвольным в душе. Те же, кто не смог найти верный [путь], не понимают случайности телесных вещей и одновременно не достаточно усматривают свободу. Если бы они понимали, что называется свободой в душе, а что является случайным в телесных вещах, то у них не оставалось бы никаких трудностей. Ведь они не задумываются о том, что своим утверждением, будто предустановленная гармония уничтожает (aufhiebe) свободу, они уничтожают и случайность вещей и вместе с фаталистами вводят безграничную необходимость, в силу чего мир превращается в самостоятельную и необходимую в отношении своей действительности сущность. В силу этого исчезает указатель для пути, каким можно возвыситься от мира к Богу, что мы подробнее увидим в главе о Боге.
§ 886. Из этого вновь становится очевидным то, что уже было замечено выше (§ 768), а именно что предустановленная гармония между телом и душой не может существовать без творца мира и природы, т. е. без Бога. Если свобо-доволие в душе должно согласовываться со случайным в теле и в мире, то должна существовать сущность, отличная от души и мира, но которая производит их оба согласно своей благосклонности (Wohlgefallen) и сообразует их друг с другом.
§ 887. Я указал выше (§ 80) и буду это доказывать в учении о Боге, что в объяснении естественных вещей, относится ли оно к душе или телу, никогда нельзя просто ссылаться на волю и всемогущество Бога. Впрочем, некоторые будут считать, что я сам делаю это здесь (§ 886), поскольку принимаю, что Бог посредством своей власти согласует тело и душу в их движениях и желаниях. Однако, если они верно оценят сказанное мною, они увидят, что я никогда не привожу волю и власть Бога в качестве достаточного основания согласия добровольного и произвольного в душе со случайным в теле и в мире. Ведь я уже ранее показал (§ 885), что это согласие возможно [только тогда], когда не содержит в себе (in sich fasset) ничего противоречащего (§ 12). Ниже я покажу, что возможное может осуществляться также и посредством всемогущества Бога. Ведь то, что все вещи действительно существуют происходит конечно из всемогущества Бога, а то, что существуют именно эти, а не другие вещи, происходит от его воли. Однако ниже мы увидим, что воля Бога основана в его мудрости, а возможность вещей проистекает из божественного рассудка.
§ 888—891. /Животные имеют желания и аффекты, а также произвол, возникающие из чувств, но не волю и истинную свободу, которые возникают из рассудка и разума и требуют отчетливого представления о благе (§277, 492). Поэтому животные пребывают в рабстве/.
§ 892. /Рассудок и разум, а также возникающие из них воля и свобода суть главное, что отличает душу человека от душ животных. Чем больше человек зависит от своих чувств и воображения, тем больше он пребывает в рабстве и тем он ближе к животным/.
§ 893—894. /Хотя в душах как людей, так и животных имеется только одна единственная сила, которая составляет сущность и природу души как тех, так и других и из которой возникают все изменения в их душах (§ 745, 755, 756, 789), тем не менее различие между ними состоит в том, что люди представляют мир с большей степенью ясностью и отчетливости /.
§ 895. /Различие степени представляющей силы у людей не столь велика, чтобы оно затрагивало сущность этой силы, как это имеет место в случае различия между представляющей силы животных и людей. У последних степень ясности и отчетливости представлений столь велика, что делает души людей способными к общему знанию и наделяет свободной волей, чего не может достичь никакое животное/.
§ 896. Существо, которое обладает рассудком и свободной волей, мы обычно называем духом (Geist). Поскольку души животных не имеют никакого рассудка и воли (§ 892), то они являются и никакими духами. Люди же обладают тем и другим и потому суть духи.
§ 897. Поскольку души животных обладают представляющей силой, которой нет в телах или в составленных из материи вещах (§ 741), то их души суть простые вещи (§ 74), а не составлены,из материи.
§ 898. Мне хорошо известно, что некоторые пытаются называть духами все, что не состоит из материи. И потому они называют духами также души животных, и в этом смысле они должны были причислять к числу духов все простые вещи, а также единицы (Einheiten) г-на Лейбница (§ 599). И хотя от названия ничего не меняется в самой вещи и потому, если мы присвоим душам животных и вообще всем простым вещам название духа, то тем самым мы ровно ничего к ним не добавили бы. Тем не менее, я считаю целесообразным, чтобы имя духа сохранилось только за теми, простыми вещами, которые обладают рассудком и волей, дабы из-за непостоянства языка смешивались свойства простых вещей и некоторым из них приписывалось бы нечто такое, что им не принадлежит. Ведь
в таком случае возникали бы некоторые высказывания, содержащие предосудительные слова, которые давали бы либо повод к заблуждению, либо вели к трудностям. Например, если называть все простые вещи духами, то тогда материя должна быть ничем иным как кучей духов (ein Haufen Geister), поскольку она возникает из кучи простых вещей (§ 607). Если же утверждают, будто материя состоит из одних лишь (lauter) духов, то согласно этому многие могли бы вообразить, будто части материи обладают рассудком и волей, каковые имеются в их душе, и потому материя также является духом. Поэтому сущность духа, каковым является наша душа, следует отличать от сущности других простых вещей и от элементов материи (§ 894), а вещи, которые существенно друг от друга отличаются следует называть различными именами и не наделять именем духа наделять вещи, которые имеют различную сущность. И именно из этого несомненно исходил г-н Лейбниц, когда он элементам материи присвоил исключительно имя единиц.
§ 899. Не удивительно, что здесь отсутствуют подходящие имена, поскольку до сих пор эти вещи не достаточно исследованы и друг от друга отличены. Но поскольку мы познакомились с сущностью и природой души (§ 754, 755) и узнали, что ее сила может определяться различным способом (§ 788), то мы должны хорошо различать разные виды вещей, которые обладают силой представлять мир и частично сохранять за ними те имена, которые они уже имели, а частично предоставить каждому свободу называть другие вещи так, как он этого желает.
§ 900. /Поскольку все вещи отличаются друг от друга по степени представляющей силы, а представления телесных вещей, из которых состоит мир, могут быть либо ясными или темными, а ясные отчетливыми или неотчетливыми (§ 198, 199, 206, 214) то все виды таких вещей могут быть различены следующим образом. К первому виду относятся те, которые имеют лишь темное представления о мире и ничего в нем не различают. Эти вещи обладают низшей степенью совершенства, поскольку темные представления являются наихудшими (§ 199) , в них ничего не сознается и нет никаких ощущений и мыслей (§ 731, 194). Если мы в состоянии темных представлений мы пребываем во сне (§ 795), то этот первый вид вещей находится в состоянии постоянного сна. Таковыми Лейбниц считал простые вещи в мире, которым он дал имя единиц, а мы элементов. Ниже мы рассмотрим, не являются ли темные и лишенные сознания представления тем состоянием душ людей и животных, в котором пребывают души до своего вхождения в тело/.
§ 901. /Ко второму виду относятся те вещи, которые обладают ясными, но не отчетливыми представлениями, в которых различаются друг от друга многие [части] представления в целом, но не его частности Здесь отчетливостью обладает все представление, а не его части. Таковы души животных/.
§ 902. /К третьему виду вещей относятся те, которые представляют мир ясно и отчетливо, т. е. в них можно многое отличить друг от друга как в целом, так и частностях. Таковы наши души, которые кроме
чувств, воображения и памяти, обладают рассудком, разумом и волей и называются духами/.
§ 903. /Однако, поскольку отчетливость может иметь очень различные степени и возможны различные ее виды, душами мы называем такие духи* представляющая сила которых ограничена положением тела в мире и состоянием органов чувств/.
§ 904. Если сразу и отчетливо представляют состояние всего мира как в пространстве, так и во времени, причем не только этого, который действительно наличествует, но также и всех других, которые всегда лишь могут быть, то такой дух имеет самую высокую степень совершенства, какая только возможна. И потому он является также всесовершеннеишим духом (allervollkommenste Geist) (§896). Мы покажем, что таковым духом является-. Бог. И можно предвидеть, что этот дух является бесконечной сущностью (§109).
§ 905. Только духи имеют разум (§ 892, 896), а так какой есть постижение связи истин (§ 368), то он достигает высшей степени совершенства, когда он распространяется на все истины. Для постижения связи истин требуется отчетливое представление того, как они основаны друг в друге (§ 142). Представление имеет высшую степень тогда, когда в нем все представляется отчетливо (§ 829), и потому всесовершеннейший разум является постижением связи всех истин.
§ 906. Человек не обладает никаким совершенным разумом (§ 905), поскольку невозможно, чтобы он мог. постичь связь всех истин, так как он не все понимает отчетливо (§ 275).
§ 907. Воля совершенна тогда, когда все и каждое желания согласуются друг с другом и никакое не противоречит другому (§ 152). Это может иметь место, если основанием ее движения служит представление лучшего. Ибо если мы представляем себе лучшее полностью, то невозможно, чтобы мы однажды могли желать нечто, чего бы мы в другой раз не желали (§ 496). И потому совершеннейшая воля та, которая имеет основанием своего движения полное представление лучшего.
§ 908. /Полное представление лучшего есть то, что позволяет лучше обдумать взаимосвязь всех связанных друг с другом истин или, например, событий в жизни/.
§ 909. /Человек не может обозреть всю свою жизнь и не может также оценивать лучшее [вообще] (beste), но лишь лучшее (bessere) из того, что он знает. Поэтому человек не имеет также никакой совершенной воли в высшей степени/.
§ 910. Желание состоит в стремлении произвести некоторое ощущение (878). То, что представляется посредством этого ощущения,, и есть то, что мы обычно называем целью. И потому цель (Absicht) есть та, что мы думаем достичь посредством нашего желания, и мы можем не без основания сказать: воля стремится к цели и пытается достичь ее.
§ 911. Поскольку воля происходит из разума (889), а чувственные желания из чувств и способности воображения (434), разумный человек постоянно поступает, исходя из целей (aus Absichten), и напротив, раб и животное — без целей
321
11 Зак. 642
(§ 491, 892, 910) или, по крайней мере, без известных им целей. Ниже мы покажем, что не только все движения животных, но и вообще все действия телесных вещей направляются Богом на некоторые цели (§ 1027).
§ 912. /Промежуточное (mittleren) ощущение, которое должна иметь душа, прежде чем она может прийти к тому, что она стремится произвести, представляет те вещи, которые мы обычно называем средством. Таким образом средство (Mittel) есть то, посредством чего мы получаем цель и что содержит в себе основание, благодаря которому цель достигает своей действительности. Например, прогулка как средство достижения удовольствия или пребывание в Академии — средство получения образования/.
§ 913. /Предшествующие цели могут служить средством для последующих. В мире все вещи друг с другом связаны таким образом, что одно всегда содержит в себе основание, по какому возникает другое (§ 548). Поэтому то, что мы делаем нашей целью, опять-таки содержит в себе основание, по какому далее следует нечто другое и первая цель оказывается средством для достижения другой цели/.
§ 914. Тот, кто умеет поставить цели так, чтобы одна всегда была средством для другой, а средством могло достичь искомой цели, тот — мудрец (Weise). Таким образом, мудрость (Weisheit) состоит в таком построении науки о целях, при котором одна служит средством для другой, а также в выборе таких средств, которые ведут нас к нашим целям. /.../ Если тот, кто принимается за дело, достигает своих целей, то обычно мы говорим, что он действует мудро (weislich).
§ 913. Напротив, тот кто ставит свои цели так, что они противоречат друг другу, или выбирает такие средства, которые препятствуют достижению целей, то говорят, что он действует глупо. Отсюда понятно что такое глупец (Тог) или глупость (Torheit).
§ 916—920. /Степени мудрости зависят от числа согласованных друг с другом целей и ведущих к их достижению средств. Совершенство мудрости состоит в том, чтобы выбранные средства вели к полному достижению всех поставленных целей, причем наиболее коротким путем/.
§ 921. О других совершенствах души речь идет в другом месте, а именно в «Мыслях об образе жизни человека» (Vernünftige Gedanken von der Menschen Thun und Lassen. Halle, 1720), где говорится об обязанностях перед рассудком и волей. Тем не менее мы отметим и здесь, что души скота, равно как и людей, — суть простые вещи (§ 742, 789) и они естественным способом не могут ни возникать (§ 87, 88), ни прекращаться [aufhören] (§ 102). И потому все они по своей сущности и природе — нетленны (unverweslich). А именно тленность (Verweslichkeit) есть разъединение (Trennung) частей и потому противоположна уничтожению (Vernichtung), когда от того, что действительно существовало, более ничего действительного не остается.
§ 922. С прекращением своего тела души не гибнут (untergehen), ибо в случае распада частей материи, из которых состоит тело, душа не может быть уничтожена: ведь хорошо известно, что ни малейшая пылинка, на которые распадается материя, при этом не уничтожается, а также и то, что тело не содействует даже малейшим действиям души (§ 761, 762). Поэтому и душа как простая сущность может прекратиться не иначе как через уничтожение (§ 102).
§ 923. Поскольку у душ животных нет рассудка и общих знаний (§ 892, 286) и потому они не могут помнить свои прошлые состояния и (§ 867, 868), они не сознают, что они являются теми же самыми, какими были ранее в том или ином состоянии.
§ 924. Личностью (Person) называется вещь, которая сознает, что она есть та же самая, какой была ранее в том или другом состоянии. Поэтому животные не являются личностями, и напротив, поскольку люди сознают, что они являются теми же самыми, какими были ранее в том или ином состоянии, они являются личностями.
§ 925. /Поскольку все изменения простой вещи основаны друг в друге (§ 128), и в душе как простой вещи (§ 742) ее состояние после смерти тела должно быть связано с ее состоянием при жизни. Это похоже на смену ее ясных и темных представлений при жизни во время бодрствования и сна (§ 795, 804). Однако, как верно заметил г-н Тюммиг, ни в коем случае нельзя заключать от состояния души в теле к ее состоянию после жизни, поскольку со смертью тела с ней происходят большие изменения, равно как и при зарождении ее тела в материнском теле. Но пока эти изменения мы определить не можем/.
§ 926. /Души людей сохраняют свою личности и после смерти тела, и потому они бессмертны (unsterblich). Нетленное есть бессмертное, если оно постоянно сохраняет состояние своей личности. Поэтому души животных не бессмертны, хотя и нетленны/.
§ 927. /Материя также нетленна, но не бессмертна. При смерти тело прекращается, т.е. разъединяется на части материи, но сама материя не уничтожается, а остается, как и прежде, в мире и потому нетленна. Душа же теряет с телом лишь способ своего ограничения/.
Глава VI О БОГЕ
§ 928. Существует (Es ist) необходимая вещь.
Мы существуем (Wir sind) (§1). Все, что существует, имеет достаточное основание, почему оно скорее существует, нежели не существует (§ 30). Поэтому должно быть достаточное основание и того, почему мы существуем. И если мы такое основание имеем, то оно должно быть либо в нас, либо вне нас. Если оно находится в нас, то мы существуем необходимо (§ 32), но если оно находится в другом, то основание, по какому существует [это другое], должно находиться в нем самом (in sich) и потому должно быть необходимым. Следовательно, существует (gibt es) необходимая вещь. Если вопреки этому кто-то считает, что основание нашего существования также может находиться в нечто, которое не имеет основание своего существования в себе, тот не понимает, что такое достаточное основание. Ведь о такой вещи нужно снова спрашивать дальше, в чем оно имеет основание своего существования, и, таким образом, мы в конце концов приходим к нечто, которое вне себя не нуждается ни в каком основании своего существования. Но, поскольку тем самым мы обнаруживаем, что таковым основанием [можем] служить либо мы сами, либо что-то другое, мы должны исследовать его свойства, чтобы узнать, присущи они нашей душе или нет, [либо, чему-то другому].
§ 929. Существует самостоятельная вещь (Es gibt ein selbstständiges Ding).
Та вещь, которая имеет основание своей действительности в себе и, следовательно, такова, что невозможно, чтобы она не могла существовать, называется самостоятельной сущностью (selbstständiges Wesen). Поэтому очевидно, что самостоятельная сущность существует (§ 928).
§ 930. Она содержит в себе основание, почему существуют остальные (übrigen)- о u
То, что существует самостоятельно, имеет основание своей действительности в себе (§ 929). Поэтому то, что не является самостоятельным, но происходит от другого, имеет основание своей действительности вне себя, а именно в самостоятельном. Следовательно, самостоятельная сущность должна иметь в себе основание, по какому существуют остальные вещи, которые не являются самостоятельными.
§ 931. Она вечна (ist ewig).
То, что существует необходимо, не может иметь ни начала, ни конца, но существует вечно (§ 39). Поскольку самостоятельная сущность необходима, она не может иметь ни начала, ни конца, но вечна.
§ 932. Вечность неизмерима (unermeßlich).
Поскольку продолжительность (Dauere) самостоятельной вещи нельзя измерить посредством никакой другой продолжительной [вещи], вечность неизмерима. Если хотят нечто измерить, то в качестве масштаба нужно взять нечто точно такого же вида, которое, будучи взятым несколько раз (etliche mahl), окажется равным ему [измеримому] (§ 62). Но в данном случае мы не можем найти никакого подобного масштаба. Мы можем взять продолжительность сколь угодно долгого времени и умножить его на сколь угодно большое число, и, тем не менее, посредством этого мы не сможем обнаружить, как долго существует то, что не имеет никакого начала, и как долго будет существовать то, что не имеет никакого конца, т. е. того, что вечно (§ 39). /Пример неизмеримости вечности, которая несопоставима даже с тем временем, которое требует-ся для заполнения песчинками объема шара, равного по диаметру расстоянию от земли до звезд/.
§ 933. Самостоятельная сущность является первой и последней.
Поскольку самостоятельная сущность не имеет никакого начала и не может иметь никакого конца, ничто не может существовать до нее и прийти после нее. Ибо если бы нечто существовало до нее или возникло после, то она должна была бы когда-то не быть или могла бы прекратиться (aufhören), что нелепо. Поэтому она является первой, до которой нет ничего другого, и последней, после которой далее ничего не возникает. Поэтому самостоятельная сущность является первой и последней.
§ 934. Она нетленна.
То, что не может иметь конца, — нетленно (§ 921). Самостоятельная сущность не может иметь конца, следовательно, она нетленна.
§ 935. Она нетелесна.
Составные вещи могут возникать и прекращаться (§ 64). Самостоятельная сущность не может ни возникать, ни прекращаться и потому не есть [нечто] составное и, следовательно, не может быть телом (§ 606).
§ 936. Она есть простая вещь.
Так как никакие другие вещи не могут существовать как [одновременно] простые и составные (§51,75), а самостоятельная сущность не может быть ничем составным, то она должна быть простой вещью.
§ 937. Она существует посредством своей собственной силы.
Все, что существует, существует либо посредством своей собственной силы, либо посредством силы чего-то другого. То, что существует посредством силы другого, то имеет основание, почему оно существует в чем-то другом, а именно в том, посредством силы чего оно существует (§ 29). Самостоятельная сущность имеет основание своего существования в себе самой (§ 929) и потому не может существовать через какую-либо другую силу, следовательно, она должна существовать посредством собственной силы.
§ 938. Она существует независимо (independent) от всего.
Поскольку самостоятельная сущность существует посредством своей собственной силы и обладает своей действительностью от себя (von sich), а не от другого (§ 14), она может существовать, если бы даже наряду с ней одновременно не существовало бы ничего другого. Следовательно, для своего существования она не нуждается ни в какой посторонней помощи и, следовательно, существует полностью независимо от всех вещей. Если мы говорим, что нечто зависит от другого, то основание того, что имеется в нем, находится в другом. Если оно имеет основание своей сущности и действительности в другом, то оно целиком от него зависимо. Мы придерживаемся этого значения также в обычной жизни, ибо когда говорим, что кто-то в данном случае зависит от другого, то тем самым мы указываем, что он не может предпринять ничего, чего бы не желал другой, и, следовательно, основанием его намерения является воля другого.
§ 939. [Самостоятельная сущность] не является миром.
После того как мы открыли некоторые свойства самостоятельной сущности, мы можем показать, что ни мир, ни наша душа не могут быть самостоятельной сущностью. Мир не является необходимым (§ 576), а самостоятельная сущность необходима (§ 928—929). Следовательно, самостоятельная сущность не является миром (§ 17). Опять же, поскольку мир является составной вещью (§551), а самостоятельная сущность является простой, а вовсе не составной вещью (§ 936), поэтому она не является миром (§ 17). Нельзя также приписывать никакой самостоятельности элементам мира, поскольку они столь же случайны, как и мир, так как другой мир должен также иметь и другие элементы, поскольку согласно закону достаточного основания (§ 30) всякое различие в составном происходит в конце концов из различия простого, как это было показано в другом месте (§ 351. Annot. Met.).
§ 940. Мир зависит от нее [самостоятельной сущности].
Так как самостоятельная сущность отлична от мира, а мир не является самостоятельным, то основание своей действительности мир должен иметь в ней и, следовательно, быть от нее зависимым.
§ 941. Она отлична от нашей души.
Сущность и природа души состоит в представляющей силе (§ 765, 756), которая сообразуется с состоянием тела в мире и с возбужденными согласно этому изменениями в органах чувств (§ 753). Таким образом, она имеет основание своих представлений вне себя, а именно в мире (§ 786). Поэтому душа зависит от мира (§ 938). Но так как самостоятельная сущность независима от всех вещей, то душа не может быть самостоятельной сущностью (§17). И таким образом, самостоятельная сущность отлична также и от нашей души.
§ 942. Для кого (Bei welchem) это доказательство имеет значение (gilt).
Нельзя отрицать, что в этом доказательстве предполагается, что мир действительно присутствует (vorhanden) вне нашей души и существует не только посредством ее мыслей (und bestehe nicht bloß durch ihre Gedanken), с чем согласится большинство (welches die meisten zugeben). Поскольку мы доказали выше (§ 777), что душа могла бы видеть мир вне себя, если бы даже его вовсе не было, ведь его действительное присутствие ничего не привносит к тому, чтобы душа представляла себе именно его, но [так как] идеалисты не предоставляют миру никакого другого пространства, кроме как в мыслях души и духов, то я считаю не вполне бесполезным привести и другое доказательство [его существования], а именно такое, чтобы оно удовлетворяло одновременно и идеалистов. Ведь в такой важной материи, которую мы в данном случае обсуждаем, нужно ориентироваться на каждого, насколько это только возможно.
§ 943. Другое доказательство.
Если мир существует не действительно, но только в мыслях души, то вполне верно, что основание, по какому душа представляет себе этот, а не другой мир, следует искать в ее сущности (§ 33). Но, поскольку сущность и природу души составляет ее представляющая сила (§ 755—756), а сущность необходима (§ 38) и неизменна (§ 42), душа производит именно эти, а не другие представления и причем именно в этом, а не в другом порядке, поскольку ее сила не может произвести ничего другого. Между тем возможны еще и другие миры (§ 569), которые представляются столь же хорошо, как и этот, и поскольку даже наша душа может представить себе как один, так и другой из них (§ 571), возможны также и другие виды душ. Таким образом, мы должны иметь достаточное основание (§ 10), по какому теперь и здесь и именно в этом порядке даны эти, а не другие души. Но так как это основание не может быть найдено в душе именно потому, что вполне возможен другой вид души, нежели эта, то основание, по какому здесь существует именно она, следует искать в чем-то другом, отличном от нее. Но самостоятельная сущность имеет основание своего существования в себе (§ 930), а не вне себя, а потому душа не может быть самостоятельной сущностью (§ 17).
§ 944. Эгоисты опровергнуты.
Вполне верно, что эгоист не может указать никакого основания, по какому теперь и здесь существует душа именно такого вида, а не какого-либо другого, и потому считает, что он есть единственная действительная сущность и кроме него нет никакой другой (§2), однако его заблуждение можно легко изобличить. Эгоист одновременно является идеалистом и потому не оставляет миру никакого другого пространства, кроме как в своих мыслях (§ 777). Но так как он представляет себе многие человеческие тела, как свои [собственные], и считает, что способы, какими определяются его представления, могли бы превратиться в другие [способы представления], если бы он обладал каким-либо другим из этих тел (§ 753), то он не может отрицать, что души, которые представляют себе мир согласно состоянию других тел, столь же возможны, как и его [собственная]. Таким образом, неверно, что существовать может только он один и никто другой; он не находит даже и никакого основания, по какому мог бы отрицать, что другие не столь же действительны, как и он, поскольку и у остальных он находит все то, что находит в себе. А потому если он хочет найти основание своего существования, то он должен также признать, что существуют и другие, поскольку у них для этого имеется точно такое же основание, как и у него.
§ 945. Каковым должен бы быть Бог (Was Gott sei).
Таким образом, достоверным остается то, что самостоятельная сущность отличается как от мира и его элементов (§ 939), так и от нашей души (§ 943) и в ней следует искать основание действительности обоих. И эта отличная от обоих сущность есть та, которую мы обычно называем (zu nennen pflegen) Богом. Таким образом, Бог есть самостоятельная сущность, в которой следует искать основание действительности мира и душ, и его следует отличать как от душ людей, так и от мира.
§ 946. Существует один Бог.
Поскольку достоверно, что есть одна такого рода самостоятельная сущность (§ 945), существует также один Бог.
§ 947. Некоторые свойства Бога.
Поскольку самостоятельная сущность вечна (§ 931), Бог также вечен и его вечность неизмерима (§ 932). Так как самостоятельная сущность есть первое и последнее, до которой ничего не существовало и после которой никакая другая не возникает (§ 933), то Бог также есть первое и последнее, до которого ничего не существовало и после которого никакого другого более не возникнет. Поскольку самостоятельная сущность нетленна и нетелесна, но есть простая вещь (§ 934, 935, 936), и Бог нетленен, нетелесен, но есть простая сущность. И как самостоятельная сущность существует благодаря своей собственной силе, от всего независима и ни в чем ни от кого не нуждается (§ 937, 938), то и Бог существует благодаря собственной силе, от всего независим и ни в чем ни от кого не нуждается.
§ 948. Два сходных мира не могут существовать одновременно.
Если бы два сходных мира существовали одновременно в действительности, то происходящие в них изменения происходили бы или одновременно, или в различное время, но тогда не было бы никакого основания, почему в первом случае мир заполняет это, а во втором — другое пространство. Но, поскольку в одном мире все было бы точно так же, как и в другом (§ 18), все [в них] оставалось бы одинаковым, если бы даже менялось положение миров [в пространстве]. Но, поскольку ничто не может происходить без достаточного основания (§30), два сходных мира не могут существовать одновременно друпвозле друга, поскольку в таком случае в каждом пространстве одного мира в одно* и то же время воспринималось бы то же самое, что имелось бы в том же пространстве и в то же время другого мира. И тогда не было бы никакого основания, почему Бог создал два мира, поскольку посредством двух [миров] он получал бы не больше, нежели посредством одного. Если же считают, будто он намеревался сделать больше чем одну попыток испытания своей силы, то мы увидим далее, что тогда должно было бы быть больше оснований, чтобы он мог бы произвести две различные попытки. Но так как ничего не может быть без достаточного основания (§ 30), то невозможно, чтобы Бог произвел два сходных мира наряду друг с другом. Когда ниже мы рассмотрим власть (Macht) Бога (§ 1020), то увидим, что два мира не являются большим испытанием власти Бога, нежели один. Но я не утверждаю, что это безусловно невозможно, чтобы могло быть произведено два сходных мира, »но это должно быть доказано на основании противоречия, а не [закона] достаточного основания.
§ 949. Также два различных [мира не могут существовать одновременно].
Если существуют два различных мира, то ни один не связан с другим, ибо иначе это были бы не два мира, а только один (§ 549). Но если ни один не связан с другим, но каждый совершенно независим от другого (§ 938), то не последовало бы никаких изменений, если бы даже смешивались их места. Ибо в каждом из них все продолжалось бы точно так же, как и ранее, поскольку ни один из них не имел бы ничего общего с другим. И потому нет никакого достаточного основания, по какому скорее один, нежели другой, существовал бы в этом, а не в другом месте. И поскольку ничто не может быть без достаточного основания (§ 30), два различных мира не могут существовать одновременно.
§ 950. Возражение и ответ.
Некоторые могли бы предположить, будто есть еще одно основание, по какому могли бы одновременно существовать различные миры. А именно в том, что* поскольку'они отличны друг от друга, один из них не столь совершенен, как другой (§ 712 и сл.). Но, поскольку совершенство души достигается постепенно (§ 525), можно было бы сказать, что различные миры были бы нужны для того, чтобы души постоянно переходили от менее совершенного к более совершенному и благодаря и^ рассмотрению сами постепенно возвышались бы к большему совершенству. Однако сколь бы такой остроумным ни казался этот замысел вначале, тем не менее эта иллюзия исчезает сразу, как только обдумаем, сколь бесконечно много скрыто в этом мире совершенства, которого никогда не достигнет душа человека с ее очень ограниченной силой (§ 702). А потому от зрелища (Schau-Platz) одного мира к зрелищу другого душа переходила бы без достаточного основания, поскольку в первом содержалось бы ровно столько [совершенства], сколько его было бы и в другом. А поскольку представления души о первом мире были бы связаны с теми, которые душа имела бы о другом (§ 30, 29), и эти миры были бы друг с другом связаны (§ 786) и были бы не различными мирами, а лишь различными зрелищами одного мира (549).
§ 951. Почему один мир существует вместо другого (für der andern).
Основание, по какому этот мир достигает своей действительности вместо другого (§ 945), следует искать в Боге. Так как один мир более совершенен, чем другие (§ 712 и др.), то основание этого не может состоять ни в чем другом, как в том, что Богом двигало большее совершенство произвести один вместо другого.
§ 952. Бог представляет все миры.
Поэтому необходимо, чтобы Бог мог отчетливо представлять себе все миры сразу, ибо иначе было бы невозможно, чтобы он мог бы познать большее совершенство. Совершенство состоит в согласованности тех вещей, из которых состоит мир, и его событий (§ 701). Поэтому тот, кто хочет понять совершенство мира, тот должен отчетливо и во всех деталях представлять себе все, что заполняет в нем пространство и время (§ 548). Но тот, кто хочет судить, в каком [из миров] имеется большее совершенство, тот должен одновременно представлять себе и сопоставлять друг с другом все миры со всеми их состояниями, какие они могут иметь последовательно.
§ 953. Бог знает все, что является возможным.
Так как мир есть не что иное, как ряд изменчивых вещей, которые существуют вместе или последовательно, но в совокупности друг с другом связаны (§ 544), а вещью называется все, что возможно (§ 16), то все миры охватывают в себе все, что возможно. А именно: различные виды миров возникают потому, что-к ним подходит (als angehet) все то, что возможно как составленное [именно] таким видом и способом. Поскольку Бог может представлять себе все миры, он знает также все, что возможно.
§ 954. Бог имеет рассудок.
Рассудок есть сила отчетливо представлять возможное (§ 277). Так как Бог представляет себе все возможное, то он также имеет рассудок.
§ 955. Каков (Was... ist) рассудок Бога.
Поэтому рассудок Бога есть одновременное и отчетливое представление всего того, что является возможным (§ 952—953). Следовательно, рассудок Бога бесконечен* (§ 109).
§ 956. Отсюда становится ясным различие между рассудком Бога и душой человека, а также вообще всех отличающихся от него вещей, которые одарены рассудком. Ибо Бог знает все, что возможно (§ 953), а человек только нечто (§ 753). Бог знает все отчетливо, а человек знает многое — неотчетливо и даже темно (§ 275). Бог знает все сразу (§ 955), человек — одно после другого. Итак, рассудок человека есть частично отчетливое представление некоторых вещей, [следующих] одна за другой, следовательно, человеческий рассудок конечен (§ 109).
§ 957. Как измерить (erwegen) величину божественного рассудка.
/Если мы хотим хотя бы в некоторой мере представить и понять величину божественного рассудка, то мы должны сравнить его с человеческим рассудком, который сталкивается с большими трудностями в познании мира. С помощью телескопа и микроскопа мы можем усмотреть и различить в мире значительно больше, нежели при обычном наблюдении, и, тел* не менее, многое остается для нас недоступным. Божественный же рассудок может созерцать все в мире одновременно и сразу в гораздо большем объеме, причем не только в нашем, но и в бесконечных видах других возможных миров/.
§ 958. Рассудок Бога неизмерим как вечность и бесконечность.
/Если даже мы представим себе рассудок значительно более совершенный, чем наш, то все равно мы не сможем измерить с его помощью божественный рассудок. Это было бы точно так же, как в примере с вечностью (§ 932), а потому мы имеем основание утверждать, что божественный рассудок неизмерим, как и вечность/.
§ 959. Бог не имеет никаких чувств и способности воображения.
Поскольку Бог отчетливо знает все возможное сразу и для него нет ничего неотчетливого, он не имеет ни чувств, ни воображения (§ 277).
§ 960. Чем божественные представления отличаются от человеческих.
Поскольку Бог не имеет никаких ощущений (§ 959, 220), он и представляет себе совсем иначе все то, что мы обычно представляем неотчетливо и темно, т. е. всего лишь ощущаем (например, цвета). А именно, поскольку божественный рассудок обладает исключительной отчетливостью, он разъясняет все то, что мы представляем себе спутанным.
§ 961. Как он знает ощущения человека.
Так как он представляет себе также и души людей, то благодаря этому он усматривает в них и их неотчетливые и темные представления или их ощущения и образы.
§ 962. Отличие его знания от нашего.
Поскольку он все знает отчетливо (§ 954), для него ничего не остается скрытым, как это происходит у нас; напротив, для него открыто все, и он видит не только внешнее вещей, но и самое глубинное в них.
§ 963. Бог имеет созерцающее познание.
Таким образом, поскольку он все знает не только отчетливо вплоть до самого глубинного [вещей] (innerste), но и сразу (§ 955, 962), о всех вещах он имеет не только созерцающее, но одновременно также и все фигурное знание, какое только возможно (§ 961), а потому он не нуждается в том, чтобы обнаруживать что-либо посредством выводов (§ 340), поскольку и эти выводы он представляет себе все в совокупности (insgesammt) (§ 953).
§ 964. Бог знает весь мир в мельчайших частях.
В каждом мире все друг с другом связано, как в пространстве, так и во времени (§ 548). Но так как Бог представляет себе все отчетливо (§ 952), то он должен знать также связь каждого со всем в мире. А это требует от него также и отчетливого понятия о каждой случайной вещи (§ 579, 580). И таким образом, Бог видит весь мир как в пространстве, так и во времени в каждой его малейшей вещи, а следовательно, он представляет себе каждый мир целиком вплоть до его любой, даже наименьшей, части и в их бесконечном количестве, однако всегда с некоторыми различиями [между ними].
§ 965. Рассудок Бога совершенно чист [rein], и в нем есть чистый свет (lauter Licht).
Поскольку он знает все отчетливо (§ 954) и свободен от всех ощущений и образов (§ 959), его рассудок совершенно чист (§ 959) и обладает чистой ясностью и светом, какого не может достичь ни один человек (§ 956).
§ 966. Он всесовершенный (allervollkommenste).
Рассудок тем более совершенен, чем больше вещей и в каждой из них больше [частей] он может представить себе отчетливо (§ 848). Поскольку божественный рассудок представляет себе все вещи и все, что в них находится, наиболее отчетливо и при этом еще и сразу (§ 955), то нельзя представить более совершенный рассудок, чем божественный. Поэтому он является всесовершенным.
§ 967. Бог знает также все то, что происходило бы при условиях, которые не исполняются.
Все, что возможно, но в этом мире не происходит, принадлежит к другому миру (§ 570). Но, так как Бог отчетливо знает все миры (§ 952), то он видит также и то, что могло бы произойти при условии, которое в этом мире не исполняется. Например, если бы я поселился в другом месте, но не в Галле, то происходили бы многие вещи, которые теперь не происходят (nachgeblieben sind), и, наоборот, не имели бы места те, которые происходят теперь. И хотя в этом мире не случилось так, чтобы я поселился в другом месте, однако в другом мире, который имеет много общего с настоящим, это могло бы произойти, если бы я решился на это посредством применения моей свободы. Но и в этом случае Бог видит, что могло бы произойти, если бы я выбрал другое место своего пребывания.
§ 968. Как Бог заранее знает будущее.
Предшествующее состояние в мире всегда содержит в себе основание будущего состояния (§ 544, 545). И поэтому тот, кто отчетливо знает предшествующее, тот может усмотреть из него последующее, прежде чем оно наступит (§ 29, 278), и потому может заранее знать будущее. Например, если я знаю сегодняшнее расположение солнца и луны на небе, то, как учит астрономия, исходя из этого я могу найти, где они будут находиться в другое время. А отсюда можно далее найти, что если солнце и луна сойдутся таким образом, что луна закроет солнце, а потому затмение солнца это можно знать заранее, прежде чем оно произойдет. А именно в любое время следующее состояние можно понять из предшествующего. Бог отчетливо знает первое состояние мира (§ 955) и, исходя из этого, знает следующее, а из него далее то состояние, которое последует из него, и так далее, а именно все, Бог знает все будущие состояния. А потому он знает все заранее, прежде чем оно наступает, а так как порядок всего того, что следует друг за другом, составляет время (§ 94), а Бог все в этом порядке представляет себе отчетливейшим образом (§ 955), то он точнейшим образом знает также и время наступления каждого [состояния]. Таким образом, Бог заранее знает все будущее.
§ 969. Предварительно знание (Vorher-Wissen) Бога не вносит в вещи никаких изменений.
Из того, что нечто знают заранее, ничего в вещи не изменяется, но она остается такой, какой она есть. Например, если мы знаем, что должно произойти солнечное затмение, то это наше предварительное знание ничего не привносит в это событие: солнце и луна сохраняют свой ход, как и прежде, каким оно было до того, как я об этом узнал. И потому из того, что Бог знает все заранее, ни одна вещь нисколько не изменяется, но все остается само по себе (an sich) таким, как оно есть. Вещи заранее определены к своим свойствам своей сущностью и связью с другими вещами и потому созданы как достоверные (gewiß gemacht) (§ 561). После того как от происходящего в мире душа получает повод (§ 570), она определяет себя посредством своей свободы (§ 519), благодаря чему ее действия сохраняют достоверность (§ 517). В силу этого и получается так, что Бог может знать эти действия заранее, прежде чем они происходят, однако в силу этого они не принуждаются к своему возникновению, и тем меньше, чем больше сама достоверность, относительно которой предварительное знание не может обманывать, не делает вещи безусловно необходимыми (§ 564).
§ 970. [Предварительное знание] не наносит вреда случайности в природе и свободе души.
Так как предварительное знание Бога событий в мире и в душе ни в малейшей мере не меняет в них то, каковы они суть сами по себе (wie sie an sich sind) (§ 969), то случайное остается случайным и в мире, а добровольное (freiwillig) остается таковым и в душе. А именно: предварительное знание остается вне вещей и не создает никаких событий, ни их достоверности, но только предполагает их. /Пример с исполнением в назначенный срок казни приговоренного к смерти преступника; предварительное знание об этом не исключает случайности и произвольности данного события/. Наше предварительное знание о происходящем не является причиной того, что оно случается, но лишь позволяет заранее знать с достоверностью, что если все требуемое для этого, достаточно определено, то оно должно произойти.
§ 971. Откуда возникают трудности в этих вопросах.
Трудности в этих вопросах создают себе те, которые не задумываются о том, что как случайное, так и добровольное имеют свое достаточное основание, посредством которого они определены к достижению своей действительности (§ 14), что было показано ранее (§ 561, 496). Они не задумываются также о том, что как события в природе (§ 561), так и желание или нежелание в душе (§ 517) сохраняют свою достоверность, в силу чего в тех и в других (§ 564, 516) не возникает никакой необходимости. По этой причине и создается мнение, что либо Бог не может ничего знать заранее, либо всюду царит необходимость.
§ 972. Бог всеведущ (allwissend). Что такое всеведение (Allwissenheit).
Так как Бог знает все, что возможно (§ 953), а также полностью понимает, каким образом все возможное может достичь своей действительности (§ 964), и заранее знает будущее (§ 968), а сверх этого более ничего познать невозможно, то Бог обладает всеми знаниями, какие могут быть, и потому называется всеведущим. Поэтому всеведение Бога есть отчетливое или полное знание всего возможного, а также того, когда и почему оно может достичь или не достичь своей действительности.
§ 973. Один только Бог есть совершенный мудрец (Welt-Weiser).
Знание мудреца состоит в знании того, может ли вещь быть и почему (§ 3 Proleg. Log.). Но так как события в мире развиваются, и, как утверждают в математике, развиваются бесконечно, и при этом одно основано в другом (§ 379), то человек [в знании этого развития] не может продвинуться дальше того, что он может себе представить относительно связи этих вещей. Напротив, Бог постигает эту связь полностью и потому имеет полное знание мудрости, а так как в этом никто не может стать ему равным, то он только один есть и остается совершенным мудрецом.
§ 974. Бог обладает наивысшим (allerhöhste) разумом.
Бог полностью усматривает связь вещей (§ 972), поскольку он понимает, каким образом все от наибольшего до наименьшего связано друг с другом в пространстве и времени (§ 952). А так как немыслим никакой другой более высокий разум, нежели тот, который состоит в такого рода усмотрении (§ 905), то Бог обладает также наивысшим разумом.
§ 975. Происхождение сущности вещей.
Поскольку Бог посредством своего рассудка представляет себе все миры и посредством этого все возможное (§ 952, 953), его рассудок является, источником сущности всех вещей (§ 35), а когда он производит эти представления, он делает их чем-то возможным. И нечто возможно именно потому, что оно представляется божественным рассудком. И так как выше показано, что сущность вещей — вечна (§ 40), то мы видим, что сущность всех вещей возникает из вечности, а именно — в рассудке Бога. Таким образом, можно сказать, что сущность всех вещей всегда действительно имеется в наличии и присутствует от вечности, хотя сами вещи присутствуют не постоянно и возникают из вечности только постольку, поскольку к их сущности должна добавиться еще и действительность (§ 14), если они должны существовать здесь (wenn sie da sein sollen). § 976. Всякая истина от Бога.
Поскольку все в мире основано друг в друге, в этом [всем] (in ihnen) имеется чистая истина (§ 142, 544). Но так как эту связь производит божественный рассудок (§ 975), то он производит и истины. И поскольку всякая истина от Бога, она относится к любым вещам, как она того требует (sie mag für Dinge betreffen, was sie will). Поэтому следует быть подальше от тех, кто пренебрегает истиной и считает ее не божественным, а человеческим [делом]! Поэтому изобретателей истин можно считать теми людьми, посредством которых Бог говорит с нами и открывает скрытые в нем от вечности истины. Именно в таком смысле Гассенди (в его Oratone inagurali, cum Professionem Mathematum autpicaretur) занимет среди философов математики такое же положение, какое пророки имеют среди богословов.
§ 977. Всякое совершенство также [от Бога].
Поскольку в каждом мире все в пространстве и времени основано друг в друге (§ 548), все в нем друг с другом согласовано, хотя в одном мире не в той же степени, как в других. Но, поскольку из этого возникает совершенство вещей (§ 152), все миры и находящиеся в нем вещи обладают своим совершенством от рассудка Бога (§ 975), который и есть источник всякого совершенства.
§ 978. Бог сознает самого себя.
Так как все представления божественного рассудка имеют высшую степень отчетливости (§ 956), то он может наиболее полно и отличить все друг от друга (§ 206). А потому он сознает все то, что представляет его рассудок (§ 729), а также самого себя (§ 730).
§ 979. Бог познает самого себя.
Тот, кто сознает самого себя и то, что он делает, тот познает себя, ибо мы познаем самих себя именно потому, что сознаем самих себя и действия нашей души. А поскольку представления в рассудке Бога суть его действия, поскольку он производит их посредством своей силы, Бог сознает самого себя и то, что он делает. И потому он также и познает самого себя.
§ 980. Бог имеет свободную волю.
Среди бесчисленных миров, какие возможны, Бог выбирает только один и предпочитает другим с той целью, чтобы он достиг своей действительности (§ 951). Но так как никакой выбор не может произойти без свободной воли (§ 519), то Бог также должен обладать свободной волей.
§ 981. Мотив его воли.
Поскольку ничто не может происходить без достаточного основания (§ 30), должно также иметь место и основание, по какому Бог предпочитает один мир другому. Так как различные миры в качестве вещей одного рода могут отличаться друг от друга не иначе как по степени совершенства (§ 172), то таким основанием может быть не что иное, как большая степень совершенства, какую Бог находит в этом мире, который он предпочитает другим. И потому мотивом его воли (§ 496) служит наибольшее совершенство мира (§ 496).
§ 982. Наличествующий (gegenwärtige) мир — лучший.
Из этого также явствует, что среди всех наличный мир является лучшим, ибо лучшим мы называем то, в чем находится наибольшее совершенство (§ 422). Если бы был возможен более лучший мир, нежели этот, то не могло бы случиться так, чтобы он предпочел ему менее совершенный. Ибо там, где предпочитают менее совершенное более совершенному, то это происходит по незнанию (Unwissenheit), ибо в противном случае не было бы никакого достаточного основания, почему так произошло, если это должно происходить с помощью знания (mit Wissen). Но так как Бог знает все миры (§ 952), то он не может по незнанию предпочесть худший лучшему.
§ 983. Как можно устранить возникающие здесь сомнения.
Я хорошо знаю, что многие придерживаются мыслей, что мир мог бы быть лучше, нежели он есть, поскольку время от времени (hin und wieder) они находят нечто, что, по их мнению, могло бы быть лучше. Об этом более подробно будет сказано ниже, где будут объяснены достаточные основания происхождения зла и его допустимости (Zulassung). Теперь же для тех, кто впадает в такие мысли, я хочу указать лишь на то, что мы, люди, не в состоянии понять и подробно объяснить совершенство мира (§ 702) и что мы можем заблуждаться в суждении о совершенстве не только всего мира, но также и отдельных вещей и даже нашего собственного состояния (§ 703—705). Здесь я хочу также напомнить о том, что говорилось вообще о совершенстве всех вещей, а именно, что несовершенство частей может служить совершенству целого (§ 170); пояснению этого может служить и то, что говорилось о несовершенстве глаза (§ 710). Совершенство мира состоит в согласованности всего того, что существует одновременно и следует друг за другом (§ 701), и потому оно не может оцениваться на основе отдельных вещей.
§ 984. Свойство свободы в божественной воле.
Вновь возвращаясь к воле Бога, повод для отклонения от которой нам дает ее мотив (§ 981, 982), следует заметить, что в божественной воле мы находим все то, что выше мы говорили о свободе человеческой воли (§ 514, 515, 516, 518). То, что Бог желает, он полностью понимает: ибо в мире, который он предпочел другому, он знает не только от наибольшего до наименьшего из того, что он нашел в нем как в пространстве, так и во времени (§ 952), но знает также и степень его совершенства и потому точнейшим образом может измерить вытекающее отсюда его преимущество перед другими мирами (§ 964). Выбор этого мира не является безусловно необходимым, поскольку было еще много других [миров], все из которых столь же возможны, как и этот, который Бог предпочел (§ 569). И несмотря на то, что к выбору последнего он имеет мотив, тем не менее, отсюда не возникает никакого принуждения, поскольку этим мотивом служит одно лишь знание большего совершенства. А поскольку это представление производит божественный рассудок (§ 955) и, кроме того, Бог независим от всех вещей вне него (§ 938), к своему желанию он определяет себя сам, хотя и исходя из предшествующего, однако без всякой внешней или внутренней необходимости: ведь последняя имеет место там, где вещь может возникнуть не более чем одним способом, а первая там, где вне меня имеется нечто, которому я не могу противостоять.
§ 985. Воля Бога самая совершенная.
Поскольку Бог выбирает лучший мир (§ 982), и мотив его воли является лучшим. Но так как воля с таким мотивом является самой совершенной (§ 907), то и и воля Бога является таковой. Различие воль следует искать в их мотивах
(§ 492, 496).
§ 986. Связь самой совершенной воли с действительностью лучшего мира.
Если бы Бог выбрал бы не лучшее, то нужно было бы выдумать более совершенную волю, нежели его. И потому тогда нужно было бы либо поставить под сомнение наибольшее совершенство божественной воли, либо признать, что этот мир, который достиг своей действительности, — лучший. Точно так же связаны друг с другом и высшие степени совершенства божественной воли и действительности лучшего мира.
§ 987. Устранение сомнений в свободе божественной воли.
Сказанное нами о совершенстве создает некоторые трудности для тех, у кого нет привычки к достаточно глубокому пониманию дела. А именно: некоторые думают, будто из-за совершенства своей воли Бог лишен всякой свободы. Ведь если Бог не желает ничего другого, кроме лучшего, то некоторые считают, будто он принужден своей природой желать только лучшее, поскольку иначе он мог бы желать также и нечто иное, чем лучшее. Можно, однако, легко показать, что тем, что он желает только лучшего, он не принуждается, поскольку лучшее он желает охотно (gern), а то, что он желает охотно, он желает без принуждения. Мы обнаруживаем это даже в себе, что мы охотно делаем то, что считаем благим и тем более охотно, чем оно, по нашему мнению, лучше. Но кто мог бы сказать, что он принужден к тому, что он делает охотно? Здесь следует повторить, что было вкратце показано раньше о том, что именно требуется для принуждения (§ 984). Ведь, поскольку лучшее выбирают охотно, нет никакого внешнего принуждения, но поскольку имеется еще и худшее, его можно было бы принять вместо лучшего, а следовательно, здесь нет никакого и внутреннего принуждения. Таким образом, свобода основывается именно на том, что мы выбираем то, что считаем лучшим. /Это можно пояснить на примере человека, поскольку свобода его воли подобна свободе божественной воли. Так, из трех монет мы выбираем ту, которая нам больше нравится или которую мы считаем лучшей, и делаем это на основании собственного представления, а не потому, что кто-то посторонний, движет нашей рукой и заставляет брать ту монету, которая нам нравится меньше, чем другие. Так же и Бог выбирает лучший мир, не нарушая основания истины, поскольку выбрать худший мир он может только по ошибке или недосмотру. Ведь невозможно, чтобы несовершенный мир мог нравиться ему больше (§ 404) или мог иметь в себе нечто такое, что имело бы преимущество перед более совершенным. Но здесь речь идет о том, что является лучшим по отношению к целому миру, а не к отдельным вещам/.
§ 988. Происхождение действительности.
Поскольку к выбору одного мира перед другим Бога побуждает совершенство мира (§ 651), а действительности достигает только то, что он выбрал (§ 949), воля Бога является источником действительности вещей.
§ 989. Когда и как следует ссылаться на волю Бога.
Поскольку божественный рассудок является источником сущности или возможного (§ 975), а божественная воля — источником действительности (§ 988), постольку, когда спрашивают о том, как нечто возможно, на нее никогда не следует ссылаться, но лишь тогда, если желают узнать, почему нечто является действительным. Но равным образом и здесь нельзя ссылаться на волю Бога как на безусловно [необходимую], поскольку своим мотивом она имеет большее совершенство вещей (§ 981). Но кроме того, так как одно состояние вещей в мире возникает из другого (§ 544) и поэтому достаточные основания действительности частных случаев имеются также и в самом мире (§29), то [в этих случаях] никогда не следует ссылаться на волю Бога, как если бы речь шла о целом мире вообще. Я говорю здесь, как и во всей книге, только о тех вещах, которые происходят естественным образом.
§ 990. Возможность доказывается без воли Бога.
Поскольку ничто не становится возможным посредством воли Бога (§ 989), и возможность вещей может быть доказана без воли Бога. В математике, и особенно в геометрии, имеется много основательных доказательств, однако нигде в их основу не кладется воля Бога.
§ 991. В науках не следует ссылаться на волю Бога.
В науках мы рассуждаем не об отдельных, а об общих вещах (§ 361). Отдельные вещи действительны, общие — только возможны (§ 273), и потому в них речь идет не о действительности, а только о возможности. И потому в науках никогда нельзя просто ссылаться на волю Бога (§ 990), чтобы именно в ней находить основание того, почему нечто возможно или может происходить.
§ 992. Когда в науках выдумывают (dichtet).
Если в науках принимают нечто, что не имеет никакого другого основания кроме воли Бога, то это нечто является чем-то выдуманным (erdichtetes) (§ 242) или скрытым качеством (verborgene Eigenschaft), которое по своей природе непонятно.
§ 993. Возражение и ответ.
Некоторые могут на это возразить, что Писание приписывает самому Богу много непосредственных действий в природе. Например, они утверждают, что Бог предуготовливает (zubereitet) наше рождение в материнском теле, создает дождь (gebe Regen), позволяет траве расти и т. п. Однако на это легко ответить. Но Писание не стремится учить людей познанию природы, причинам и способам происхождения естественных вещей, но лишь тому, что все эти истины нужно прочно связывать (einzubinden) [с пониманием того], что ничто в мире не происходит просто так (von ohngefehr), но все происходит по воле Бога, согласно его предварительному обдумыванию и решению, что все должно возникнуть для того, чтобы направлять чувство человека и чтобы он мог различать то, что в мире лучше подобает счастью и несчастью. Писание нацелено на благочестие (Frömmigkeit), а не на ученость, а потому нуждается в истинах, которые подобают всем людям — ученым и неученым, и могут непосредственно служить мотивом воли. Эту общую истину мы уже ведь доказали тем, что вывели возможность вещей из рассудка Бога, а действительность из его воли (§ 988). Писание говорит главным образом о действительности, мудрость — о возможности (§ 991).
§ 994. Заблуждение относительно произволящего существа (willkührlichem Wesen).
Поскольку воля Бога имеет дело только с действительностью вещей, а не с их сущностью или возможностью (§ 988, 973), заблуждаются те, кто воображает, будто Бог устраивает сущность вещей по своему расположению (nach Gefallen) или по своему желанию (Belieben) может изменять их так, как он хочет.
§ 995. Откуда возникло [это заблуждение].
Это заблуждение возникает из недостаточного понимания свойства [нашей способности] к изобретениям (Erfinden). Когда мы хотим что-то придумать, то сначала мы предполагаем для вещи некоторую цель, которую она должна достигнуть, а после этого исследуем, какими свойствами она должна обладать, чтобы эту цель достичь. Например, берясь за изобретение астрономических часов (Planeten-Uhr), как это делал Гюйгенс (Automato planetario), прежде всего думают о том, чтобы они показывали ход планет, каким мы их наблюдаем на небе. После этого мы заботимся о том, какие нужны шестеренки для верного показания хода планет. И если при изобретении нам не все нравится в их устройстве, то в соответствии со своим намерением мы вносим изменения в их
337
12 Зак. 642
механизм, пока он не станет таким, каким мы его желали. Таким же образом люди представляют себе и Бога и то, каким образом он производит сущность вещей. Однако ошибка при этом состоит в том, что мы не задумываемся о том, что посредством нашего изобретения и желания улучшить вещь мы не делаем вещь впервые возможной, но приходим к мысли о ней посредством других мыслей, которые определяются тем, что уже было возможным и существовало от вечности, прежде чем мы об этом подумали. Астрономические часы, изобретенные Гюйгенсом, не стали возможными только потому, что он их придумал (nachgedacht), но они существовали уже от вечности в божественном рассудке, который произвел [их понятие], как и все другие истины (§ 976). И если мы что-то изменяем в способе соединения [частей механизма часов] или какой-либо другой вещи, то мы не изменяем сущность вещи, хотя она и состоит в этом способе соединения [частей] (§ 59), но посредством размышления мы от сущности астрономических часов или вообще от сущности какой-либо вещи приходим к сущности другой вещи, которая отличается от первой только своими изменениями. Если механик, который хочет создать астрономические часы, знает все [из них], какие только возможны, и может в совокупности представить себе все их сразу, а тогда он и может выбрать из них такие, которые более всего подходят для его цели. Таким же образом следует представлять и вещи [мыслимые] Богом, если хотят думать о нем и его совершенстве достойным образом.
§ 996. Все изобретения происходят собственно от Бога, а не человека.
Из сказанного понятно, что только Бог является единственным и истинным изобретателем, чей рассудок производит все, что является возможным (§ 976); и напротив, только от бесконечных изобретений Бога люди получают созерцание того или иного, направляя на них свои мысли. Поэтому человек не может ничего приписать себе такого, что он мог бы выдумать от себя (von ihm... ausgedacht), но, если он посредством размышления к чему-то приходит, он должен рассматривать это как дело Бога (Gottes-Werk) и считать свое размышление путем к усмотрению творения Бога.
§ 997. Что такое Божья воля (Rat-Schluß).
Воля Бога относительно действительности мира называется Божьей волей, а мы говорим, что мы должны что-то решать (beschlossen), если хотим, чтобы оно достигло действительности или произошло.
§ 998. Божья воля только одна-единственная (ein einiger).
Поскольку все в мире от наибольшего до наименьшего связано друг с другом как в пространстве, так и во времени (§ 548) и потому мир следует рассматривать как единую вещь (§ 549), имеется также и только одна-единственная Божья воля.
§ 999. Она распространяется на все.
Поскольку все, что в мире существует, Бог знает отчетливо и усматривает всю его связь (§ 972), из согласованности которой вырастает совершенство мира (§ 152), движущее его волю (§ 981), Божья воля распространяется на все и ничто в мире не может возникнуть, кроме того, что она решила, или остаться вне этого решения.
§ 1000. Отличие Божьей воли от наших решений.
Здесь обнаруживается отличие Божьей воли от наших решений. Если мы что-то решили, то наше решение распространяется настолько, насколько мы вещи знаем отчетливо, не думая об остальных вещах. Но при исполнении нашего решения в него против нашей воли привходят другие вещи, которые мы не полностью знаем, но которые связаны с теми, относительно которых у нас имеется решение. Напротив, у Бога, который усматривает все вещи (§ 953), не может возникнуть ничего другого, кроме того, относительно чего он принял решение (§ 997).
§ 1001. Божья воля не может не сбыться (nicht fehlschlagen).
По этой причине может случиться так, что даже разумные решения человека могут быть, но неудачными или несбыточными. Напротив, в Божью волю не может вмешаться ничего, что могло бы препятствовать ей. Удача и неудача не могут вмешиваться в нее, как это случается у человека.
§ 1002. Что такое удача (Glück) и неудача.
/Удача и неудача суть не что иное, как связь таких причин, которые мы не можем предвидеть (например, случайная находка кошелька с золотом или, напротив, его потеря). Отсюда ясно, что у Бога они не могут иметь места, поскольку он предвидит все заранее и потому у него не может быть удачи или неудачи (§ 968)/.
§ 1003. Когда удача или неудача происходят от Бога.
Поскольку всю связь вещей Бог усматривает от вечности (§ 972), а то, что должно возникнуть, устанавливает своей волей, тотчас становится понятным, что всякая удача и неудача происходят от Бога. Но что Бог предпринимает при этом, станет ясно из анализа его мудрости.
§ 1004. Первый путь познания воли Бога.
Поскольку основанием воли Бога служит совершенство (§ 981), невозможно, чтобы он желал нечто противоречащее его совершенству или совершенству мира, а следовательно, и его отдельных вещей в их связи друг с другом (§ 701). Если бы это было не так, то тогда он мог бы предпочесть совершенному то, что он знает как несовершенное, а его воля не была бы направлена на лучшее, что противоречило бы тому, что было сказано выше (§ 985). Таким образом, воля Бога познается посредством рассмотрения его природы, а также сущности и природы вещей, которые от него зависят.
§ 1005. Необходимые напоминания.
/Однако, поскольку мы вовсе не можем обозреть совершенство вещей в их связи друг с другом, мы довольствуемся в этом вопросе по большей части вероятностью. Тем не менее и такая возможность знания предоставлена нам Богом как наиболее предпочтительная из всех других для познания совершенства/.
§ 1006. /Из того, что Бог не может желать того, что противоречит его собственному совершенству и совершенству мира, не следует, что мы всегда можем увидеть совершенство мира и его вещей одновременно с совершенством Бога. Чаще мы можем видеть первое и отсюда заключаем к тому, что сообразуется с волей Бога/.
§ 1007. Второй путь к познанию воли Бога.
Поскольку все вещи обладают своей действительностью посредством воли Бога (§ 988), и в особенности посредством нее сохраняется их существующая связь в мире (§ 981), все, что происходит, является сообразным с волей Бога, однако лишь настолько, насколько оно рассматривается в связи со всем остальным и лишь постольку, поскольку именно этого, а не другого желал Бог (§ 998). Таким образом, мы имеем второй путь к познанию воли Бога: а именно мы должны обратить внимание на то, что происходит в мире, и особенно на то, каким образом то, что существует одновременно и следует одно за другим, согласуется друг с другом. Таким образом, из этого мы можем создать правила [познания] того, что может желать Бог.
§ 1008. Благодаря этому познаются законы природы.
Когда мы таким образом обратим внимание на то, по каким общим основаниям все в природе определяется, то найдем, от чего это по воле Бога зависит: таковыми окажутся правила, которые по праву называют законами природы, поскольку Бог предписывает их природе, так как они также вполне могли бы быть иными. Эти правила мы уже приводили выше (§ 709).
§ 1009. Насколько Бог предписывает то, что следует из поведения человека.
Поскольку все в мире происходит так, как этого желает Бог (§ 988), и все дурные и добрые поступки (Begebenheiten), которые связаны с образом жизни людей, следует рассматривать не иначе как то, что происходит благодаря воле Бога, причем именно так и не иначе. А именно я вправе сказать, что Бог желает, чтобы из такого поведения (Bezeigen) людей для них следовало бы именно такое зло и несчастье, и наоборот, из другого поступка для них возникало бы такое-то добро и счастье. Таким образом, добро и зло, счастье и несчастье есть то, что Бог посылает человеку за его поведение (um seines Verhaltens willen).
§ 1010. /Почему здесь нужно исследовать признаки (Kennzeichen) Божьего Откровения.
Таковы два естественных пути, посредством которых можно достичь познания Божьей воли. Однако неверно повсюду искать свидетельства его непосредственного откровения, как это ошибочно делалось во все времена и у всех народов и на чем построена вся христианская религия. Поскольку Божье Откровение, которое состоит в истине, следует отличать от пустого воображения и ложных уверений (Vorgeben), истинное Откровение должно иметь в себе нечто такое, чего нет в этих последних (§ 17). Поэтому нужно исследовать, в чем состоит это различие/.
§ 1011. Первый признак Божьего Откровения.
Божье Откровение можно рассматривать двояко: 1) с точки зрения результата (Sache) Откровения, 2) способа Откровения. Что касается первого, то та вещь, которая открывается (offenbahren soll) Богом, должна быть чем-то таким, что человеку в высшей степени нужно знать, но к познанию которой он не в состоянии прийти посредством существующих средств и путей. Ведь если Бог нечто обнаруживает человеку непосредственно, то познание этого нечто не вытекает из представляющей силы его души и потому происходит сверхъестественно (§ 758), и это есть откровение чуда в душе (§ 759). Но так как чудо влечет за собой слишком много как в мире (§ 639), так и в душе и в их соответствии друг с другом (§ 765), то нет никакого основания, по какому Бог должен устанавливать в природе посредством чуда нечто, что может происходить естественным путем, и по какому равным образом он должен снова творить чудо, тогда как то, что уже происходило, вполне сохраняется и теперь без того, чтобы получить это посредством чуда. Мы увидим далее, что это также свидетельствует (im Wege stehet) о мудрости Бога. Поэтому ясно, что путем Откровения Бог не обнаруживает ничего [из того], что мы можем познать посредством разума.
§ 1012. Необходимое напоминание.
Вполне возможно, чтобы в Божьем Откровении встречались такие вещи, которые можно познать также и посредством правильного применения разума, но, поскольку они связаны с другими [вещами], к познанию которых мы не можем прийти посредством разума и опыта; однако же эти вещи суть не только те, которые даются одним лишь Откровением Бога, но только дополнительно даются вместе с ними. И потому Божье Откровение нужно прорабатывать не по частям, а брать вместе со всем тем, что к нему относится.
§ 1013. Второй признак [Божьего Откровения].
Поскольку Бог не может желать ничего кроме того, что соответствует его совершенствам (§ 1004), обнаруживаемое Богом посредством откровения не должно противоречить его совершенствам. А то, что противоречит свойствам совершенства, он не может [обнаруживать] в откровении. Поскольку то, что противоречит самому себе, есть признак незнания, а Бог является всезнающим (§ 972), в Божьем Откровении не может иметь места никакого противоречия.
§ 1014. Третий признак [Откровения].
Далее, поскольку божественный рассудок является источником всех истин (§ 976) и в силу своего совершенства он не может производить ничего противоречивого (§ 152, 966), постольку и в том, в чем Бог обнаруживает свое откровение, не может быть ничего противоречащего истинам разума. Здесь нужно принять во внимание, что речь идет о действительных истинах разума, а не о тех, которые мы лишь считаем таковыми или, напротив, принимаем за противоречия, каковыми они на деле не являются. Так как выше мы нашли, что существуют двоякого рода истины — необходимые и случайные (§ 38, 578), причем необходимые не могут быть иными (nicht anders) (§41), а случайные — вполне могут быть и иными (§ 175), то допустимо (gehet es ап), что божественное откровение может противоречить случайным истинам, поскольку посредством чуда может осуществляться их противоположность (§ 633), невозможно, однако, чтобы откровение могло противоречить необходимым истинам. /...Например, Бог не может изменить математические истины, в частности, отношение диаметра к длине окружности, которое является необходимой истиной, и его величина не может быть изменена Божьим Откровением. И напротив, оно вполне может изменить естественный ход случайных вещей, например, посредством чуда изменить или остановить движение солнца вокруг земли/.
§ 1015. Четвертый признак [Откровения].
Наконец, поскольку никакая истина не может противоречить другой (§ 1014), невозможно также, чтобы Божье Откровение могло обязывать людей к такому образу действий, которое вступало бы в противоречие с законом природы или спорило с сущностью души, которая сама по себе является неизменной (§ 42). И поэтому то, что в человеческом поведении происходит от разума, должно согласовываться с тем, чему учит Божье Откровение.
§ 1016. Пятый признак.
Что касается способа, [каким осуществляется] Откровение, то здесь следует поразмыслить, может ли человек прийти естественным путем к познанию тех вещей, которые он считает проявлением Откровения. Если это можно объяснить естественным способом, то оно не является непосредственным Божьим Откровением, которое осуществляется сверхъестественным образом.
§ 1017. Что следует принимать во внимание при осуществлении (in der Ausübung) [откровения].
Здесь полезно вспомнить то, что было сказано выше о естественных грезах (§ 800), а тот, кто понимает указанные выше и обстоятельно объясненные правила способности воображения (§ 238, 807 и сл.), тот сможет легко отличить подлинное видение (wahre Gesichter) от ложных фантазий (Einbildung), поскольку первые превышают способность воображения и не сообразуются с его правилами, в противном случае подлинное видение не отличалось бы от естественного воображения.
§ 1018. Шестой признак [Откровения].
Бог не может делать излишние (überflüßige) чудеса, поскольку они влекут за собой слишком много непостоянного (§ 639), и потому не может непосредственно совершать то, что он может исполнять упорядоченным способом (ordentlicher Weise). Поэтому способ Откровения должен придерживаться сил природы настолько, насколько только возможно. Например, если откровение случилось бы посредством грезы, то началом грезы чудо оказалось бы в том случае, если бы она не возникла из предшествующего ощущения (§ 799), и напротив, греза могла бы продолжаться по правилам способности воображения, если бы она осуществлялась в одном непрерывном ряду. К этому принадлежит то, о чем говорят наши богословы, а именно, что в способе написания [Откровения] (in der Schreib-Art) Бог руководствовался (habe sich ...gerichtet) состоянием пророков.
§ 1019. Седьмой признак.
Здесь следует напомнить о том, что в Божьем Откровении должно быть принято во внимание то, что по праву требуется в каждой написанной с умом книге. А именно: так как слова суть знаки, которыми обозначаются вещи (§ 291), то не следует употреблять больше слов, чем необходимо для вещи, а сами слова должны быть понятны; обо всем, относящемся к этому, можно осведомиться в другом месте (Log., § 3 и сл., гл. 12). Все расположение (Einrichtung) слов должно согласовываться с правилами общего искусства языка, равно как и искусства речи.
§ 1020. Бог обладает властью (Macht).
Поскольку мир получает свою возможность благодаря рассудку Бога (§ 975), посредством его воли мир выбирается среди других (§ 980), а посредством силы (Kraft) — получает свою действительность (§ 988), постольку Бог должен обладать силой или способностью делать возможное действительным. Так как такая сила или способность называется властью, то ясно, что Бог обладает властью или является могущественным (mächtig). Идеалист не может ничего против этого возразить. Ибо если он отрицает, что вне души существует мир, то он все равно должен допустить для него место в душах людей, а следовательно, Бог должен сделать действительными еще и души, которые могут представлять мир конечным или очень ограниченным способом.
§ 1021. Бог всемогущ (allmächtig).
Но так как один мир так же возможен, как и другой (§ 569, 972), и ни один из них не имеет в себе ничего такого, что могло бы произвести действительность (§ 988), то Бог может сделать действительными другие миры, точно так же как и существующий. Так как все миры вместе содержат в себе все, что возможно (§ 953), то он может сделать действительными все вещи. Такая способность сделать действительным все возможное называется всемогуществом (Allmacht) и ясно, что бог всемогущ.
§ 1022. Всемогущество не распространяется на невозможные вещи.
Но всемогуществу Бога не принадлежит [дара], сделать невозможные вещи возможными. Например, поскольку сущность вещей неизменна (§ 42), невозможно, чтобы она могла изменяться (§ 10). Однако неспособность Бога изменять сущность вещей вовсе не означает его бессилия (Ohnmacht). Таким же образом невозможно, чтобы безусловно необходимые истины изменялись, ибо если бы они могли меняться, то они не были бы безусловно необходимыми (§ 41). Но то, что Бог не может сделать возможным противоречащее необходимым истинам, не противоречит его всемогуществу, как и то, что он не может сделать так, чтобы дважды два было больше или меньше чем четыре. Рассудок Бога создает возможность (§ 975), а следовательно, как можно желать, чтобы власть Бога уничтожала то, что производит его рассудок?
§ 1023. Почему Бог не все делает действительным.
Хотя Бог и может делать действительным (§ 1021) все возможное, однако он этого не делает. Ибо поскольку все становится действительным только благодаря силе его воли (§ 988), а он не желает ничего другого, кроме того, что является лучшим в общей связи вещей (§ 982), поэтому он и производит только лучшее, а все остальное сохраняется (bestehet) только в его рассудке
(§ 955).
§ 1024. Бог может делать [все], что он желает.
Таким образом его власть распространяется столь же далеко, как и его воля. Если нечто возможно, а он не делает его [действительным], то это происходит только потому, что он этого не желает. Напротив, мы — люди — многое желаем, но оно не осуществляется (muß Zurückbleiben), поскольку наша власть не распространяется столь далеко.
§ 1025. Бог имеет наибольшую власть.
Поскольку нельзя придумать никакой большей власти, нежели та, которая распространяется на все желаемое, Бог имеет наибольшую степень власти. И поскольку она распространяется сразу на все, что только возможно, степень его власти безусловно наибольшая. Власть Бога выше чем все, что может мыслиться (§ 957). ^
§ 1026. [Бог] действует согласно цели.
Из того, что рассудок Бога производит, он приводит к действительности не все без различия, но только то, что он заранее обдумал в качестве того, что должно возникнуть (§ 990). Так как к этому его движет совершенство мира (§ 981), а оно происходит из согласованности вещей и их свойств (§ 152), то с помощью мира он стремится сохранить эти свойства и возникающие из них совершенства, а потому все вместе их можно рассматривать как его цели (§ 910). Таким образом, ясно, что Бог действует согласно целям. Это можно доказать и иначе. Каждая разумная сущность действует согласно целям (§ 911). Бог — самая разумная сущность (§ 974), и, следовательно, он должен полностью действовать согласно целям. И я утверждаю, что он полностью действует согласно целям. И хотя мы, люди, также действуем согласно целям, но, поскольку мы не обладаем совершенным разумом (§ 906) и потому связь того, что мы ищем, с другими вещами усматриваем не полностью (§ 368), в наши действия примешивается многое такое, чего мы не предполагали, а потому многое возникает вне наших целей. Однако, поскольку Бог полностью понимает всякую связь (§ 972), для него нет ничего такого, чего бы он не предвидел (§ 968) и не делал своей целью.
§ 1027. В природе есть очевидные (lauter) цели.
Отсюда явствует, что природа полна божественных целей, которые Бог стремится достичь посредством сущности вещей. Например: посредством устройства глаза, в котором и состоит его сущность, достигается то, что в нем отражаются все телесные вещи, от которых отбрасываются лучи света; поэтому мы вправе говорить, что получение (Abmahlung) этих образов и есть та цель, какую Бог имеет относительно глаза.
§ 1028. Цели Бога являются следствиями (Folgerungen) из сущности вещей. w
Поскольку Бог знает все, что может следовать из сущности вещей (§ 962), и ради этого их производит (§ 981), необходимые следствия из сущности вещей являются целями Бога. И потому очень заблуждаются те, которые отрицают существование целей в природе на том основании, что то, что называют целями, необходимо следует из сущности вещей. Наши цели также являются не чем иным, как необходимыми следствиями из сущности тех вещей, которые мы выбираем в качестве средства их достижения. И только из-за несовершенства нашего рассудка мы думаем о последних [целях], прежде чем о первых [средствах], а от последних приходим к первым ради связи, которую оба имеют друг с другом. Если бы наш рассудок был столь совершенен, чтобы мог представлять себе одновременно средства и цели, то мы, как и Бог, могли бы видеть сразу, что цели вытекают из средств. Но это не мешало бы нам выбирать последние для целей, а первые для средств.
§ 1029. В отношении Бога польза и цель одинаковы.
Легко далее заметить, что хотя польза и цель отличаются друг от друга, но только по отношению к нам, а не к Богу. Мы называем пользой (Nutzen) вещи следствие из ее сущности, которое мы до этого не имели в виду, когда намеревались его произвести. Например, изобретатель часов имел своей целью знание времени, но когда часы были готовы, они использовались также и в качестве украшения. Но так как в большинстве случаев находили нужным [только] знание времени, то часы обрели многообразную пользу, о которой изобретатель вовсе и не думал. Таким образом, польза вещи отличается по отношению к человеку от его цели. Напротив, для Бога этого не бывает. Он обозревает все и заранее знает, что из этого может последовать при всех возможных условиях (§ 968). И так как он желает также и всего достичь (§ 981), то всякая польза вещи является также и целью Бога, без которой он не стал бы ее выбирать (§ 910).
§ 1030. Счастливые и несчастные случаи (Unglücksfälle) являются божественными целями.
Таким образом, счастливые и несчастные случаи также относятся к божественным целям, поскольку Бог выбирает мир, в котором его цели согласуются со всеми остальными вещами, которые принадлежат к совершенству мира (§ 152,
981).
§ 1031. [Его целью является] также и польза от произведений искусства.
Равным образом очевидно, что по отношению к Богу целью является даже польза от произведений искусства. И хотя мы ее также не видим заранее, однако Бог ее усматривает (§ 968) и своей волей устанавливает, что эта польза должна возникнуть (§ 999). Таким образом, в наших делах (Werken) Бог видит дальше, чем мы, и тем самым заранее знает то, чего мы не понимаем. Поэтому своим незнанием мы должны служить исполнению его воли (Rates).
§ 1032. Сущность и природа вещей являются средствами Бога.
Посредством сущности вещей в мире и их природы Бог осуществляет свои цели, поскольку он производит именно эти, а не другие вещи с тем, чтобы из них следовали именно эти, а не другие события (§ 981). И поскольку в них содержится основание, благодаря которому Бог достигает своих целей, то сущность и природа вещей является средством, в которых нуждается Бог для достижения своих целей в мире (§ 912).
§ 1033. В мире одно служит средством для другого.
Поскольку в мире все друг с другом связано как в пространстве, так и во времени (§ 548), а потому предшествующее неизменно содержит в себе основание, по какому возникает последующее (§ 595), предшествующее в мире служит средством для последующего (§ 912). Равным образом обстоит дело с вещами мира и в отношении пространства.
§ 1034. Как устроены цели в мире.
Но, поскольку все, что происходит в мире, является божественными целями (§ 1028), из этого явствует, что Бог организует цели в мире таким образом, чтобы предшествующее служило средством для последующего.
§ 1035. Как Бог создает средства.
Так как сущность и природа вещей являются средствами, посредством которых Бог осуществляет свои цели в мире (§ 1032), а все цели есть то, что вытекает из сущности и природы вещей, то посредством средств Бог всегда и полностью достигает своих целей.
§ 1036. Бог мудр (weise).
Наука о целях устроена таким образом, чтобы одно служило средством для другого и выбирались именно такие средства, которые ведут к целям, а это есть то, что мы обычно называем мудростью (§ 914). А так как Бог обладает такой наукой (§ 1027), то он мудр.
§ 1037. Почему мир является делом (Werk) мудрости Бога.
Мир и все, находящееся в нем, по своей сущности являются средством для воли Бога, посредством которых он осуществляет свои цели (§ 1032). Но их сущность делает их машинами (§ 557). И потому мир и все, в нем находящееся, служат для Бога средством, посредством которых он осуществляет свои цели, поскольку [мир и все его вещи] суть машины. Из этого явствует, что поскольку они являются машинами, они становятся делом мудрости Бога (§ 1036). И тот, кто все в мире понятно объясняет, как это обыкновенно имеет место (zutun pfleget) в отношении машин, тот приходит к мудрости Бога; и наоборот, тот, кто этого не делает, — отклоняется от мудрости Бога. Отсюда выясняется наивность тех, которые ошибочно полагают, будто тем самым прокладывается дорога к атеизму, поскольку мир и находящиеся в нем тела рассматриваются (machet) как машины. Из этого наглядно можно видеть, что так может рассуждать только тот, кто неверно знает сущность или Бога, или природы, или их обоих вместе. Ошибочное толкование, которое у некоторых здесь возникает, устраняется посредством пояснения слова «машина» (§ 557).
§ 1038. Каков был бы мир, [понимаемый] только как продукт власти Бога.
Если бы мир не был машиной, т. е. в нем не было бы все друг с другом связано в пространстве и времени, то в нем одно не относилось бы к другому как цель и средство (§ 1028, 1032). Следовательно, мир не оставался бы более продуктом мудрости Бога (§ 1038), но всего лишь продуктом его власти.
§ 1039. Мир со многими чудесами ничтожнее (geringer), нежели с немногими.
Все, что в сущности и природе мира и составляющих его тел обосновано, то и является естественным (§ 630). А если все в мире происходит естественно, то он является продуктом мудрости Бога (§ 1039). Напротив, если случаются события, которые не имеют основания в сущности и природе вещей, то это происходит сверхъестественно или посредством чудес (§ 632—633), а такой мир, где все происходит посредством чудес, является продуктом одной лишь власти, но не мудрости Бога (§ 1038). И поэтому тот мир, в котором чудеса являются большой редкостью, следует ценить выше, нежели тот, в котором они встречаются часто. Я говорю здесь о событиях мира, [которые имеют место] в царстве природы, и придерживаюсь мнения Августина, согласно которому они не должны объясняться посредством чудес. Поэтому я считаю, что мудрость является большим совершенством, нежели власть: ибо тот, кто имеет власть, может делать то, что он желает, а тот, кто имеет мудрость, тот может все делать с помощью хороших оснований, что не может считать недостатком (ausgesetzen) ни один разумный человек (Verständiger). Для Бога недостаточно того, что он нечто делает; но сущность со столь совершенным рассудком, который постигает все (§ 972), а также со столь совершенной волей, которая желает только лучшее (§ 981), [такая сущность] должна также действовать во всем так, чтобы в нем не могло быть никаких недостатков. Мы не должны делать вывод о Боге исходя из людей, которые действуют так, как они могут, т. е. с некоторым непониманием (aus einigem Unverstände) и недостатком доброй воли и не прислушиваются к другим, которые советуют им не вредить себе или вступать в противоречие с собственными интересами. Мы представляли бы себе Бога с точки зрения его сущности очень недостойным образом, если бы сравнивали его с королем, который злоупотребляет своей властью из-за неразумия и аффектов, т.е. использует ее иначе, чем требуют правила мудрости. Разумный не пожелает содействовать ничему такому, к чему способна его власть, если она не сообразуется с мудростью, причем по тем причинам, о которых пойдет речь ниже.
§ 1040. Чудеса не являются чем-то большим, нежели естественные события.
Из этого одновременно узнают, что для чудес требуется меньше божественной силы, нежели для естественных событий. Ибо для чудес требуются только власть бога и знание одной вещи, а для естественных событий необходимо божественной всезнание, посредством которого он связывает все в мире со всем (§ 972), а также его мудрость (§ 1036) и власть (§ 1020). Поэтому верно мыслят те учители Церкви, которые утверждают, что чудеса, которые ежедневно происходят в природе, т. е. являются естественными событиями, являются куда большими чудесами, нежели сверхъестественные события.
§ 1041. Почему Бог предпочитает и выбирает естественные чудеса.
Поскольку Бог, обладающий высшим разумом (§ 974), никогда не может действовать без целей (§ 911), то он никогда не может в своих действиях обойтись и без мудрости (§ 1036). И потому невозможно, чтобы он осуществлял посредством чудес нечто такое, что может происходить естественным образом. Естественный путь как лучший (§ 1040) должен всегда предпочитаться пути чудес (§ 983). И чудеса могут иметь место лишь тогда, когда Бог не может достичь своей цели естественным способом.
§ 1042. Когда чудеса одновременно являются делом мудрости Бога.
В этом случае чудеса также возникают не только из власти Бога, но одновременно и из его мудрости (§ 914), поскольку он использует их как средство достижения цели, которую он затем связывает с естественными целями, в силу чего чудеса одновременно вносятся (gebracht) в связь с вещей и повышают совершенство мира (§ 701).
§ 1043. Как выдуманные чудеса можно отличить от подлинных.
Для их различения у нас имеется только один признак. А именно: в таких случаях чудеса показывают, что или достаточно природы для достижения желаемой цели, или что старое чудо, о котором имеется известие, может осуществить то же самое, что может и новое [чудо], а потому невозможно, чтобы Бог творил те же самые чудеса (§ 1041), а потому указанные чудеса являются либо выдуманными, либо естественными событиями, которые считаются чудесами только по неведению.
§ 1044. Бог имеет в мире одну главную цель.
Поскольку Бог мудр (§ 1036), а мудрость требует, чтобы в конце концов все частные цели стали средством для достижения главной цели (§ 914), Бог должен был иметь в мире главную цель, ради которой он привел его к действительности и для достижения которой выбранный им мир служит средством.
§ 1043. Какова эта цель.
Поскольку мир является средством, посредством которого достигается цель (§ 1044), а средство отличается от цели (§ 910—912), эта цель не может встретиться в мире. А потому ее следует искать в Боге, который находится вне мира и отличается от него (§ 943). Но, поскольку Бог независим от всех вещей вне него (§ 947), посредством мира в Бога нельзя ничего привнести, чего бы он уже не имел до этого. И потому не остается ничего другого, как представить мир в качестве зеркала совершенства Бога. И это и есть та цель, которую Бог может достичь посредством мира, и потому мир обычно называют откровением величия (Offenbahrung der Herrlichkeit) Бога. Потому и можно сказать, что Бог создал мир для обнаружения своего величия. Поэтому величие Бога называют полной сферой всех его, взятых вместе, совершенств.
§ 1046. Творения (Kreaturen) являются зеркалами божественных совершенств.
Поскольку мир и все, находящееся в нем, было приведено Богом к действительности ради того, чтобы из этого можно было узнать совершенства Бога (§ 1045), все творения (а творением называется вещь, которая имеет свою действительность посредством силы Бога) являются зеркалами совершенств Бога. И поэтому при созерцании творений, от них всегда можно возвыситься к Богу, т. е. от того, что в них находят, получают повод мыслить о совершенствах Бога, которые утверждаются и объясняются с помощью творений как проб.
§ 1047. Почему Бог создает только один мир и именно лучший.
Поскольку мир, в котором могло бы чего-то недоставать, не имел бы права быть зеркалом божественным совершенства, поскольку он был бы одновременно и зеркалом несовершенной сущности, а не Бога, обнаруживается, что Бог не создает никакого несовершенного мира, но только лучший, а следовательно, и только один в качестве единственного средства достижения своей главной цели
(§ 1045). e в
§ 1048. Бог обладает самой совершенной мудростью.
Благодаря своему всезнанию Бог знает все возможные цели, а также средства, какими они могут быть достигнуты (§ 972). И поскольку он не желает ничего, кроме лучшего (§ 985), он должен также иметь лучшие цели и выбирать для этого лучшие средства. А поскольку он также и свои цели устраивает таким образом, чтобы они всегда служили средством для других целей, а в конечном итоге все в совокупности могли рассматриваться в качестве средства для его главной цели, постольку Бог обладает самой совершенной мудростью
§ 1049. Бог и природа ничего не делают напрасно (umsonst) и следуют кратчайшим путем.
Поскольку Бог и природа не могут ничего делать от скуки и всегда должны выбирать кратчайший путь (§ 918), следует вспомнить то, что говорилось выше о кратчайшем пути (§ 919), а именно это нужно обсудить в отношении всех целей и обстоятельств.
§ 1050. Предустановленная гармония возвышает мудрость Бога над всем.
В особенности она возвышает мудрость Бога над всем, что можно мыслить. В предустановленной гармонии все движения тела, которые сообразны его желаниям (§ 779), следуют из сущности тела посредством его силы без содействия души. Когда же мы говорим разумно (§ 843), то и все мысли души, будь они образами, общими понятиями, суждениями или умозаключениями (§ 779, 812, 835—843), — представляются в теле, причем так, будто все в теле выражает себя вовне именно таким образом, как это происходит или могло бы происходить, если бы даже не существовало никакой души (§ 780). Поэтому существует неисчислимо много целей, которые все сохраняются при создании (Zusammensetzung) тела. А поэтому наше тело создано с невыразимой мудростью, которую мы не способны постичь (§ 916), что обнаруживается нам еще больше, когда мы вспомним, что душа определяет движения в теле добровольно
(§ 883).
§ 1051. Почему Бог должен предпочитать предустановленную гармонию своему непосредственному действию.
Поскольку Бог создает мир, чтобы посредством него показать свое совершенство (§ 1045), наилучшим образом это может осуществиться только через предустановленную гармонию (§ 1050, 768, 886), посредством которой как в душе, так и в теле все происходит естественным образом (§ 757, 779). Тогда как, наоборот, при непосредственном действия Бога в них в каждый момент происходят чудеса (§ 764). Но так как благодаря своей мудрости Бог должен предпочитать чудесам естественное (§ 1041), то отсюда вполне очевидно, что своему непосредственному действию он должен предпочесть предустановленную гармонию.
§ 1052. Мы не можем отбросить предустановленную гармонию по причине ее непонятности.
Хотя при предустановленной гармонии тело создается с невыразимой мудростью, чего мы не в состоянии постичь (§ 1050), тем не менее по этим причинам мы вовсе еще не должны ее отбросить. Ибо она показывает совершенства Бога, каковы они суть сами по себе, и именно в столь высокой степени, что их невозможно постичь. Почему мы должны быть против чего-либо лишь потому, что оно показывает (macht) величие Бога слишком большим? Ведь Бог создает мир до самого конца единственно и только затем, что этим он хочет обнаружить свое величие (§ 1045). Поэтому это скорее должно служить важным основанием для принятия предустановленной гармонии и этого достаточно, чтобы мы в чем-либо усмотрели ее возможность.
§ 1053. Что такое творение (Schöpfung).
Бог обладает вещами, которые посредством его рассудка всего лишь возможны, а посредством его власти становятся действительными (§ 1020). Это действие Бога называется творением, о котором мы не можем иметь никакого понятия, поскольку не имеем никакой силы нечто творить. Однако знаменитый йенский математик Эрхард Вейгель показал в своей Philosophia Mathe matica, что с помощью способности воображения в некоторой степени можно представить, что наши образы так же относятся к нашей душе, как творения к Богу, если мы при этом не упускаем из виду закон достаточного основания (§ 245). Ведь тогда в мыслях, содержащих истину, мы по нашему желанию производим вещи, которых до этого не было, а посредством силы души сохраняем их в наличии столь долго, сколько желаем, хотя, однако, мы не можем придать им действительности вне души, как это делает Бог в своем творении и в чем собственно оно и состоит.
§4054. Что такое сохранение (Erhaltung) мира.
Поскольку все, что существует вне Бога, существует только посредством его собственной силы (§ 945, 947), все постоянное (fortdauerndes) в мире, т. е. души (§ 743) и другие простые вещи (§127) или элементы (§ 582), Бог должен [непрерывно] продолжать (fortfahren) делать действительным, поскольку им не может быть приписана собственная действительность (§ 939, 941), ведь иначе они должны были бы возникать самостоятельно, что им ни в коем случае не свойственно (§ 43). В этом и состоит сохранение мира, которое, следовательно, в себе и для себя (vor und an sich) не может отличаться от творения и в этом смысле по праву называется продолжающимся творением.
§ 1055. На чем существует (W<?rauf sich... existiert) сохраняющая сила Бога.
Кроме имеющегося в душах и элементах постоянного, мы находим также и его ограничения (§ 585, 783), посредством смены которых в этих вещах происходят изменения и даже возникают тела в природе (§ 107, ИЗ). Однако своей действительности они достигают вместе с тем, что в них постоянно и не нуждается ни в каком особом действии Бога. Например, Бог сохраняет элементы материи какого-либо шара, из которых посредством их связи с окружающими телами можно получить [другую] фигуру, к [возникновению] которой Бог не может ничего добавить непосредственно. Поэтому посредством своей силы Бог производит то, что является постоянным в душах и элементах, изменения же возникают посредством силы, которые они сохраняют (erhalten) благодаря божественному действию. Поэтому без божественного действия действительность этой силы непостижима, поскольку она не имеет для себя никакой необходимости, однако ее изменения постижимы без непосредственного влияния Бога, но посредством ее [действительности] сущности и ее силы, содержащейся в ней от Бога. /Пример с часами, при создании которых мастером, действие природы по отношению к этому процессу имеет такой же характер, как действие Бога в отношении природы, т. е. материя часов безразлична к процессу создания часов/. Бог производит лишь то, что в творениях является постоянным и существующим для себя, происходящие же в них изменения возникают из их сущности и их природы. А из этого понятно, что в таких вещах следует приписывать Богу, а что — природе. Но здесь речь идет только о естественных изменениях (§ 630, 738), и потому этим не наносится ущерба тому, что может осуществить Бог в царстве благодати по отношению к изменениям души или посредством чудес в природе и что ни один мудрец не может вывести из разума.
§ 1036. Бог не содействует несовершенству, бедам и злу (Übel und Bösen).
/Поскольку ограничения вещей не необходимы и возникают не из воли Бога, а из сущности самих вещей, и их несовершенства возникают из ограничений, как незнание — из несовершенства рассудка, а не из действий Бога. Таким образом, несовершенство вещей ни в коем случае не является действием сохраняющей силы Бога, но должно быть приписано исключительно самим вещам. Зло и беды также не имеют ничего общего с Богом, но возникают из ограничений вещей и являются собственным достоянием творений/.
§ 1057. Бог допускает зло.
Но, поскольку Бог все-таки производит те вещи, из ограничений которых возникают несовершенства и беды (§ 988), он допускает зло. Поэтому нужно исследовать, по каким причинам это происходит: ведь мы можем предполагать, что он по меньшей мере может препятствовать этому посредством чудес, и потому вообразить себе, что он скорее совершит чудо, нежели допустит возникновение в мире зла и бед.
§ 1058. Первая причина, почему он может допускать зло.
Мы установили выше, что этот мир является лучшим из всех возможных (§ 982), но посредством опыта мы находим, что в этом мире существует много несовершенства, много зла и бед. Отсюда явствует, что и лучший мир также не может быть без несовершенства, зла и бед. Но, поскольку Бог не может предпочитать несовершенное совершенному (§ 981), то становится нужным, чтобы он допускал несовершенства, зло и беды, которые находятся в этом мире. Довольно того, что таким способом он сохраняет больше блага, чем его могло бы быть, если бы он их не хотел допустить, поскольку в таком случае он должен был бы привести к действительности другой мир, в котором было не столь много блага, как в этом; что имело бы место, если мы на некоторое время допустили, что возможен мир, в котором вовсе нет никакого зла. Но это правило состоит в мудрости: зло допускается, если бы само благо не препятствовало нежеланию его допущения.
§ 1059. Почему Бог не препятствует злу посредством чудес.
То, что Бог не препятствует злу и бедам посредством чудес, происходит из его мудрости. Ведь выше уже доказано, что в силу своей мудрости он должен предпочитать естественный ход природы чудесам (§ 1041). А так как Бог вообще не может одновременно нечто желать и не желать (§ 10), то он также не может желать, чтобы мир обладал своей действительностью, но также и не желать, чтобы события в нем происходили согласно его сущности и природе, особенно потому, что тогда мир более не оставался бы полным зеркалом мудрости Бога, ради чего он ведь и был создан (§ 1041, 1039, 1045).
§ 1060. Вторая причина, почему Бог допускает зло.
Свою мудрость Бог доказывает именно тем, что зло, возникающее без его содействия из ограниченности творений, он согласует с исходящим от него благом (§ 914). А именно: он нуждается в зле как в средстве для блага, создавая мир таким образом, чтобы все в нем лучше согласовывалось друг с другом и, следовательно, чтобы в мире было больше совершенства, нежели его могло быть в ином случае. Поясним этом примером: мы находим в природе, что после неплодородных годов снова следуют очень плодородные. Поскольку в мире всегда одно состояние вытекает из другого, очевидно, что плодородных годов не было бы в той мере, если бы им не предшествовали неплодородные (§ 548). Бог нуждается в последних как в средстве для первых. Кроме того, он устраивает так, чтобы неплодородные года бывали чаще плодородных, поскольку люди заслуживают наказания за свои злые проявления и поскольку он заранее видит, что в хорошие года люди позволяют себе отклоняться от добра, а потому посредством допущения бед он не только способствует благу, но и посредством наказания удерживает людей от зла и защищает от него добро.
§ 1061. Откуда возникают затруднения в этом вопросе.
/Трудности здесь возникают из ложного толкования истинного положения дел. 1) Обычно предполагают, что, поскольку мир возможен, в нем не должно никакого зла, т. е. телесные вещи должны быть связаны друг с другом таким образом, чтобы из них не возникло ничего противоречащего этой их связи. Но это никак не может быть доказано. Мы не можем обозреть всю взаимосвязь вещей в мире, а потому и понять и объяснить другим, как должен быть устроен мир, чтобы в нем не было ничего злого или противоречащего благу. Такого мира нигде в действительности не существует (§ 949), чтобы его можно было кому-либо показать. При этом без всякого основания ссылаются на всемогущество Бога, поскольку мы не знаем, возможен или нет такой мир и может ли Бог создать его посредством своего всемогущества (§ 1022). Напротив, я уже показал, что мир, в котором нет никакого зла, либо невозможен, либо в нем должно быть меньше совершенства, нежели в существующем мире (§ 981, 982). 2) Если допускают, что более совершенным является тот мир, в котором нет никакого зла, то в этом случае о совершенстве мира судят, отвлекаясь от связи вещей в нем, без чего, однако, нельзя составить никакого верного суждения (§ 703). 3) Требуя от Бога, чтобы своими чудесами, он не допускал зло, но, напротив, препятствовал ему, люди сами забывают, что зло происходит потому, что они сами препятствуют добру. 4) Неверно обвинять Бога и в допущении греха на земле, поскольку Бог не может ничего менять в сущности вещей, но может только согласно своей мудрости отбирать то, что он находит наилучшим (§ 981, 994). 5) Способность или возможность грешить вытекает из сущности людей, в которой Бог ничего не может изменить, заменить их существами другого вида или поставить их в другие обстоятельства, нежели те, которые существуют на земле, как, например, в иной жизни, где нет возможности для греха. Но все это противоречило бы его мудрости и достаточному основанию, по какому он создал именно таких людей и заселил ими нашу землю, а не ограничился бы созданием мира без людей, т. е. совершенной машиной. Здесь надо рассуждать не о том, что безусловно возможно или невозможно, а о том, что допустимо [angehet] или недопустимо с точки зрения мудрости Бога/.
§ 1062. Сколько благ (Gutes) Бог оказывает творениям.
Бог создал лучший (§ 982) или самый совершенный мир (§ 951). А так как совершенство целого возникает из совершенства частей и их согласованности друг с другом (§ 162), то и каждая вещь в мире содержит столько совершенства, сколько возможно (§ 162). Поскольку все существует посредством божьего указания (Rat) и силы (§ 1055), каждой вещи он сообщает столько совершенства, а следовательно, оказывает столько блага (§ 422), сколько возможно.
§ 1063. Благо (Güte) Бога — наибольшее.
Готовность оказывать добро (Gutes) другим называется благом. Но так как нельзя оказывать больше добра, чем возможно, то каждой вещи Бог выказывает столько добра, сколько возможно (§ 1062), и потому Бог обладает высшим благом и по отношению к творениям в высшей степени благ (gütig).
§ 1064. Откуда возникают сомнения в этом.
Трудности в понимании этого возникают отчасти из того, что воображают, будто вещь могла бы иметь больше совершенства, чем она получила, отвлекаясь при этом от связи вещей, что лишено оснований. Отчасти же от того, что ошибочно считают, что Бог должен был бы больше препятствовать злу, забывая, что он допускает его исходя из мудрости и даже ради блага (§ 1059, 1063), поскольку он не может предпочесть какую-либо одну часть или многие части целому, а еще меньше посредством чуда препятствовать злу в одних частях в ущерб другим. Отчасти также не задумываются о том, что всякое зло возникает только из творений, без участия Бога (§ 1056). Нередко также за злое принимают то, что таковым не является, и, наоборот — благом считают то, что на деле является вредным, поскольку мы не видим заранее, что за каждым может последовать (§ 428); сюда же следует отнести и непонимание того, что противоречащее нашему благополучию Бог допускает в качестве средства, способствующего достижению нашего общего блага (Wohlfahrt) (§ 1060). Тот, кто обдумает все это, тот отбросит всякие сомнения относительно доброты Бога, но найдет пути к пониманию того, что Бог выказывает столько добра, сколько возможно.
§ 1065.Бог обладает высшей степенью удовольствия (Vergnügen).
Созерцающее знание совершенства доставляет удовольствие (§ 404). Поскольку Бог усматривает все совершенство, как свое собственное, так и всех других вещей сразу и полностью (§ 964), он должен обладать высшей степенью удовольствия, которая не может возрасти, поскольку [изменение степени] возможно лишь при возрастании либо количества и объема совершенства, либо отчетливости знания и связанной с ней достоверностью знания, имеющегося о совершенстве (§ 409—410).
§ 1066. Удовольствие Бога постоянно.
Поскольку Бог знает все сразу и отчетливо (§ 955), невозможно, чтобы вещь давалась ему по-разному в разные моменты времени. Поэтому его удовольствие постоянно и неизменно (§ 407) и не может превратиться в отвращение, как у людей.
§ 1067. В чем состоит сущность Бога.
Все, что до этого говорилось о Боге, исходит из того, что он может представлять сразу и отчетливо все возможное. И потому его сущность состоит в силе представлять сразу и отчетливо все возможное, т. е. все миры (§ 33). И в этом состоит сходство божественной сущности с сущностью нашей души (§ 733).
§ 1068. В чем их отличие.
Всем, что происходит из этой представляющей силы, Бог обладает в высшей степени, т. е. он имеет самый совершенный рассудок и волю (§ 966, 985), человек же обладает [всем этим] в совсем малой степени (§ 848, 852). Кроме того, представляющая сила Бога выше даже того, чем можно ее представить (§ 1067), (ведь каким образом можно было бы желать представить себе нечто большее, нежели то, что представляет себе сразу все, а именно совершенно отчетливо или полностью?), тогда как представляющая сила человека очень ограничена (§ 753). Поэтому сущность Бога отличается от сущности человеческой души тем, что первый обладает высшей степенью совершенства, какая только возможна, человек же достигает только очень ничтожной его степени, которую по сравнению с наивысшим можно рассматривать как ничто (für nichts zu achten).
§ 1069. Что такое Бог.
То, что можно сказать о Боге, исходя из знания, полученного от рассмотрения мира и понятия, позволяющего вывести из себя все остальное, заключается в том, что Бог есть сущность, которая представляет все возможные миры сразу и с высшей степенью отчетливости. Я знаю, что сказанное здесь о Боге, некоторым кажется слишком малым, однако если они обдумают и смогут понять все вышесказанное, то они смогут вполне убедиться, что здесь содержится не только все то, чем обычно восхваляют Бога, но и то, что только из [понятия о] его представляющей миры силе с большей ясностью и отчетливостью обнаруживается еще многое такое, чего, может быть, раньше никогда не обнаруживалось. Возможно даже, что кто-то полагает, что он с помощью разума может узнать о Боге больше, чем было показано нами, однако исходя именно из этого я готов показать, имеется ли для этого основание или нет, а также добавить уверенности тому, кто считает себя неспособным что-либо прибавить к сказанному, а тем, кто считает себя к этому способным, быть предусмотрительным и не впадать в сомнение, как это бывает.
§ 1070. Бог не имеет никаких аффектов.
Поскольку представления Бога обладают исключительной отчетливостью (§ 952), а аффекты возникают из неотчетливых представления (§ 441), у него нет никаких аффектов. Но, поскольку из отчетливых представлений возникает свободная воля (§ 514), Бог обладает свободной волей без тех беспокойных движений, которые возбуждаются в человеке аффектами.
§ 1071. В какой мере можно применять термин аффекты по отношению к Богу.
/Говоритъ о наличии аффектов у Бога можно лишь в той мере, в какой это позволяет его сходство с нашей душой. Например, любовь есть готов-ностъ получать удовольствие и радость от счастья другого (§ 449). Бог также получает удовольствие и радость от представления о совершен-стве и благе своих творений, а его предварительное знание об этом двигало им при создании действительного мира (§ 446, 95h 964). Это позволяет говорить также и о счастье и любви, которые Бог испытывает к своим творениям, что имеет сходство с аффектами, но без ущерба для его совершенства/.
§ 1072. Бог бесконечен.
Поскольку все возможное Бог представляет сразу и с полной отчетливостью (§ 955), а все, что может быть присуще этому представлению возможного, содержится в нем сразу или обоснованно (§ 1067), Бог сразу является всем тем, чем он может быть, а потому без каких-либо ограничений, а потому — он бесконечен (unendlich) (§ 109).
§ 1073. Бог неизменен.
Из этого далее явствует, что Бог (неизменен (unveränderlich). Ибо если бы он в чем-то изменялся, то тогда он был бы чем-то таким, каким он до этого не был, а следовательно, не был бы сразу всем, а потому « не бесконечным (§ 109), что противоречит доказанному ранее ( § 1072).
§ 1074. Бог вне времени.
Поскольку для Бога все дано одновременно (§ 1072), для него ничто не предшествует и не следует позже. А так как время состоит в порядке вещей, которые следуют друг за другом (§ 94), то Бог — вне времени. Для него нет никакого различия между сегодня и вчера, вчера и завтра, но он есть и остается всегда одним и тем же.
§ 1075. Вечность мира отличается от вечности Бога.
Если бы даже Бог создал мир вечным (von Ewigkeit), как утверждал Аристотель, то он был бы вечным не таким же образом как Бог, поскольку существовал бы в бесконечном времени, Бог же — вне времени. И потому он отличался бы от Бога и по своей продолжительности (Dauer).
§ 1076. Откуда мы имеем понятие о Боге и его свойствах.
Поскольку сущность Бога имеет сходство с сущностью нашей души (§ 1067), а душа познает самое себя (§ 730) и имеет о себе понятие (§ 273), именно поэтому мы одновременно имеем понятие и о Боге. Но так как наша сущность и основанные в ней свойства ограниченны (§ 783), а Бог бесконечен во всем (§ 1072), то понятия о его сущности и свойствах мы можем получить, только отбрасывая ограничения сущности и свойств нашей души.
§ 1077. Пояснение примером.
Сущность души состоит в силе представлять мир согласно положению ее тела в мире и происходящим изменениям в органах чувств (§ 755). Ограничения этой силы состоят в том, что 1) душа представляет только этот мир и никакой другой; 2) ее представление сообразуется с положением ее тела, а потому только немногие вещи представляются ей ясно, еще меньше — отчетливо, причем одно после другого. Поэтому если отбросить эти ограничения и принять все миры за один и распространить на все, находящееся в них, отчетливость и, наконец, отбросить время, с тем чтобы все представлялось сразу, то возникнет сила, которая отчетливо представляет все миры сразу, т. е. сущность Бога или первое о нем понятие, из которого можно вывести остальное (§ 1067). Таким же образом можно исследовать другие свойства Бога.
§ 1078. Как возможны понятия о Боге.
Отсюда можно понять возможность того, каким образом мы можем прийти от познания своей души к понятиям о сущности и совершенствах Бога. Это получается постольку, поскольку мы обладаем фигурным познанием (§ 316), посредством которого мы можем отделить друга от друга то, что в созерцающем познании выступает для нас как [находящееся] рядом друг с другом и друг в друге. Если мы опустим слова или знаки, посредством которых указываются ограничения, а на их место поставим другие, обозначающие освобождение от всех границ, то после этого слова и другие знаки представляют неограниченное в Боге.
§ 1079. Свойства познания Бога.
Поэтому ясно, что в этом мире мы обладаем не созерцающим, а только фигурным познанием Бога (§ 1078). Но что касается созерцающей [способности нашей души], то она присуща ей таким образом, что мы теперь (jetzung) видим Бога только через нашу душу (§ 1076) и мир (§ 1046) как зеркала [Бога].
§ 1080. Существует только один Бог.
Мы видели выше, что один-единственный Бог содержит в себе достаточное основание всего, что возможно и действительно. Поэтому тот, кто хотел бы допустить (setzen wollte) больше чем одного Бога, тот принял бы нечто без достаточного основания. Но, поскольку ничего не может быть без достаточного основания (§ 30), отсюда мы должны заключить, что существует только один Бог.
§ 1081. Польза знания того, что мир есть машина.
Из рассмотрения мира мы с помощью разума познаем только потому, что существует только один Бог, так как все в мире связано друг с другом и потому свое основание он может иметь не более чем в одной-единственной вещи. Но именно поэтому мир есть машина (§ 337). А если мы не желаем этого признавать, то тем самым мы лишаемся и знания о единстве Бога.
§ 1082. В чем состоит язычество (Heidentum) и почему оно ложно.
Язычество состоит в том, что принимается много Богов с человеческими несовершенствами, в которых и ищут основание мира и его событий. Из этого и становится ясной необоснованность и ложность язычества, а также заблуждение тех, которые относят философию или естественное познание Бога и мира к язычеству. Это удерживает от язычества и других.
§ 1083. Бог есть совершеннейший дух (Geist).
Этот единственный Бог, кроме которого мы не нуждаемся ни в каком другом, обладает рассудком, из которого происходит все возможное (§ 975), а также свободную волю, посредством которой существует все действительное (§ 988). А так как вещь, имеющая рассудок и свободную волю, является духом (§ 902), то Бог является духом, причем наисовершеннейшим, поскольку он обладает самыми совершенными рассудком и волей (§ 969, 985).
§ 1084. Бог — самый справедливый.
Поскольку, наконец, этот единственный Бог является благим (§ 1063), но одновременно и мудрым (1036), в своем высшем благе он никогда не может отходить (bei Seite setzen) от правил мудрости. Благосклонность (Gütigkeit), которая сообразуется с правилами мудрости, называется справедливостью (Gerechtigkeit), о чем подробнее говорится в Морали (§ 1022). Поэтому Бог справедлив, а так как он обладает высшей степенью добра и мудрости, то он должен обладать и высшей степенью справедливости. Кто понимает сказанное о доброте и мудрости Бога, тому не нужны дополнительные доказательства Божьей справедливости, ведь тому, кто хочет знать, наказывает ли Бог зло и поощряет ли он добро, тот может сразу понять это из указанных оснований. Ведь если человек посредством своих дурных поступков ухудшает состояние самого себя и других (§ 426), то это не может нравиться Богу (§ 417), но он должен ненавидеть такие поступки (§ 455, 1071). А поскольку он создает мир [от начала] до конца, дабы можно было познать Божье совершенство (§ 1045), в силу своей мудрости он должен устроить [мир] таким образом, чтобы из этого устройства становилась очевидной его ненависть к злым проявлениям человека, и, несмотря на доброту Бога (§ 1084), человек сталкивается с несчастьем как наказанием за зло (Мораль, § 36). Таким образом, Бог наказывает зло, поскольку при своей доброте он не забывает своей мудрости, и потому является справедливым.
§ 1085. Блаженство (Seeligkeit) Бога отличается от блаженства людей.
Теперь нужно кое-что сказать относительно блаженства Бога. Я показал в другом месте (Мораль, § 44), что блаженство человека состоит в беспрепятственном продвижении к большему совершенству. Но так как Бог неизменен (§ 1073), а также уже обладает всем совершенством в высшей степени (1083), то он не может стремиться к большему совершенству, чем он уже имеет. И таким образом блаженство Бога должно отличаться от блаженства людей.
§ 1086. Что такое блаженство Бога.
Поскольку Бог неизменен (§ 1073), он должен постоянно сохранять то, что он имел однажды. А поскольку он обладает высшим совершенством (§ 1083), он должен удерживать его постоянно. Но, кроме того, он независим от всех вещей (§ 938), и потому никто не может ему препятствовать в его действительном обладании (richtigen Besitze) своим высшим совершенством. Поэтому его блаженство состоит в действительном обладании наивысшим совершенством.
§ 1087. Блаженство Бога — наибольшее.
Так как блаженство состоит в беспрепятственном продвижении к большему совершенству (§ 1085), то легко видеть, что оно достигает высшей степени тогда, когда достигается наибольшее совершенство. А поскольку Бог его достигает (§ 1083), и его блаженство является наибольшим, какое может быть мыслимо.
§ 1088. Высшее блаженство не может быть передано никакому творению.
Ни одно творение не может достичь высшей степени совершенства, поскольку, если бы это произошло, его сущность превратилась (verkehret) бы в сущность Бога. Но мы знаем, что ни одна сущность не может превратиться (verwandeln) в другую (§42). А так как божественное блаженство состоит в обладании высшим совершенством (§ 1086), то оно также не может быть передано никакому творению.
§ 1089. Бог приносит постоянное удовольствие и удовлетворение (Zufriedenheit).
Это высшее блаженство приносит Богу постоянное удовольствие, причем в высшей степени. Причиной этого служит созерцающее познание совершенства (§ 404). Но высшее блаженство приносит также и полное удовлетворение, а поскольку Бог имеет все в высшей степени, нет более ничего такого, что он мог бы еще желать сверх того. И потому его желание выполнено полностью во всем, чего нельзя сказать ни об одном творении.
Перевод с латинского
В. А. Жучкова
Христиан Вольф
ОНТОЛОГИЯ
(Введение и пролегомены)
ОТ ПЕРЕВОДЧИКА
Перевод «Введения» и «Пролегомен» к философскому труду Хр. Вольфа «Первая философия, или Онтология» выполнен по изданию: Wolff Chr. Philosophia prima sive Ontologia. 2 Aufl., 1736. P. 12—24. «Пролегомены», написанные на латинском языке, представляют собой отдельное произведение, аналогов которому на немецком языке не существует. По этим причинам мы посчитали возможным включить данный перевод в настоящий сборник полностью, тогда как латинская «Онтология» Вольфа, в книгу не включенная, в содержательном отношении мало чем отличается от соответствующих немецких текстов. Переводчик ставил себе задачу в максимальной степени донести до читателя смысл произведения и авторскую стилистику; при этом, разумеется, пришлось пожертвовать формальной точностью. Термины, перевод которых в русском языке покамест не устоялся, приводятся в оригинале. Следует отметить то обстоятельство, что сам Вольф владел латинским языком не в совершенстве, поэтому в истории вольфиан-ства чрезвычайно важен вклад Г. Бильфингера, который корректировал латинские тексты Вольфа и к тому же популяризировал философию мэтра на латинском языке, служившим в ученой среде того времени универсальным средством общения.
А. В. Панибратцев
ВВЕДЕНИЕ
Первая философия, которую схоластики в свое время наградили самыми лестными эпитетами, сделалась предметом всеобщего презрения и насмешек, после того как возобладала картезианская философия. В самом деле, Декарт первым начал философствовать ясно и отчетливо (clare ас distincte), употребляя только те термины, которым либо соответствует ясное понятие (notio), либо же раскладывающиеся на такие понятия посредством определения. Вещи доходчиво объяснялись им с помощью внутренних оснований (per rationes intrinsecas). Что же касается первой философии, то в ней определения терминов были гораздо более непонятны, нежели сами термины, а так называемые каноны, очевидно, страдали тем же самым недостатком, то есть были темны и двусмысленны, отчего ни определения, ни каноны на практике не употреблялись.
Кроме того, в отдельных философских дисциплинах, даже в высших, терминами этими злоупотребляли, что способствовало укоренению порочного воззрения, в соответствии с которым полагают, будто бы онтология представляет собой какой-то варварский философский лексикон, где объясняются философские термины, без огромного большинства которых мы преспокойно могли бы обойтись.
Презрению, в коем ныне обретается первая философия, в немалой степени способствовало то, что Декарт так и не сумел определить онтологические термины, без которых мы, говоря откровенно, обойтись не можем. Декарт, как известно, заявил, что онтологические термины не нуждаются в определении. Они якобы из числа тех, что легче понимаются, а не поддаются определению.
Когда я поставил себе задачей создать точную (certa) философию, которая бы могла принести пользу человеческому роду, я сначала попытался исследовать причины, делающие очевидными доказательства Евклида. Форма их не так давно была обрисована в моей «Логике». И вот, я, помимо прочего, обнаружил, что названная выше очевидность зависит от онтологических понятий. Первоначала, коими пользуется Евклид, суть номинальные определения (definitiones nominales), которые сами по себе не являются истинными, или же они являют собой аксиомы, в большинстве своем относящиеся к онтологическим суждениям (propositiones ontologicae).
Итак, я понял, что вся математика (mathesis omnis) крайне нуждается в очевидности первой философии, из которой она и позаимствовала свои основания.
Когда же я попытался в моей философии доказать некоторые теоремы, выводя посредством правильных умозаключений предикат из определений субъекта, а также постарался путем последовательных доказательств свести их к недоказуемым первоначалам, то я научился на практике восходить к первоначалам онтологии, что случается как в любом роде знания, так и равным образом в математике. Теперь я уже нисколько не сомневаюсь в том, что ни философия, ни, разумеется, так называемые высшие науки не могут быть изложены с помощью научного метода (а только в этом случае философия станет ясной и полезной), если первая философия не будет предварительно сведена к означенной форме.
Мне пришлось тщательно изучить труды древних и новых математиков, а также достижения физиков, особенно в области экспериментальной философии, а именно: каким образом они к ним пришли, отправляясь от тех или иных предпосылок с помощью аналитического метода, как они сделали вывод или, по крайней мере, указали на его возможность. После чего я понял, что общие правила искусства изобретения (ars inveniendi) следует доказывать из онтологических понятий. В свое время, когда я перейду к искусству изобретения, с тем чтобы свести его выдающиеся достижения к соответствующим правилам, я буду уже говорить об этом как очевидец.
Далее, занимаясь вероятностной логикой (logica probabilium), о желательности которой неоднократно говорил Лейбниц, — а я составил о ней некоторое представление и предложил отдельные образцы, — я равным образом обнаружил, что эту логику невозможно обосновать, не прибегая к онтологическим понятиям.
Итак, я имел все основания убедиться в пользе и того более в необходимости обновления онтологии, о котором и начал усиленно размышлять.
Задачей себе я поставил отыскать отчетливые понятия (notiones distinctas) сущего как такового, а также присущих ему предикатов, если рассматривать сущее как таковое в себе или же относить его к другим сущим, поскольку они являются сущими. Из этих понятий я намеревался вывести определенные суждения (propositiones determinatas), которые, как я с достаточной полнотой показал в моей «Логике», единственно необходимы для умозаключений. Там же я показал, в чем заключается доказательный метод (methodus demonstrativa), а именно: при доказательстве каких-либо положений я пользовался только теми началами, что были установлены в предыдущих суждениях.
И вот, наконец, в свет выходит этот труд, в котором первая философия предстает в обновленном обличье. Научный метод, а я намерен держаться данного метода и здесь, и в последующих частях моей философии, требует, чтобы отдельные положения излагались там, где бы они могли быть поняты и доказаны исходя из изложенного ранее. Наряду с методом мне хотелось, насколько то представлялось возможным, сохранить принятый в моей школе порядок изложения, как я и поступил при написании «Логики». Поэтому я посчитал удобным разделить весь мой труд на две части, каждая из которых, в свою очередь, подразделяется на отделы, а те — на главы.
Так получилось, что я, по ходу изложения, буду пользоваться еще не разъясненными терминами, и, хотя это, как может показаться, противоречит требованиям научного метода, я все же не вижу здесь никакой опасности. Дело в том, что их понятия, хотя и смутные (confusae), однако же — всем понятные из общего употребления, другие же, отчетливые (distinctae) понятия, до того как будут подвергнуты обсуждению, не испытывают нужды, наподобие принципов, в доказательствах.
Нисколько не постигает цели моего труда тот, кто, придя в изумление, станет порицать меня за то, что здесь я даю определения вещам, и без того вполне легко понимаемым и удобно отличаемым от других посредством смутных понятий, а также за то, что я доказываю положения, которые никто из находящихся в здравом уме не будет оспаривать. Ноя излагаю философию о сущем вообще (de ente in genere) и не могу ограничиться перечислением абсолютных и соотносительных (respectiva) его предикатов. Помимо этого следует показать, по какой причине предикаты ему присущи, так чтобы мы априорно убедились в том, что они ему действительно присущи и присущи всегда в том случае, когда наличествуют предполагаемые предикатом ограничения (ubi eaedem determinationes, quas praedicatum supponit, adfuerint). Недостаточно ведь того, что суждения нам ясны, если этого нельзя сказать о составляющих их понятиях. Мы должны постепенно раскрыть содержание этих понятий, чтобы предикат нельзя было оторвать от понятия, выступающего в качестве субъекта.
Что касается примеров, то они хотя и поясняют суждения в пределах имеющегося опыта, однако же не придают им ни в малейшей степени необходимости, которая обращает на себя внимание только в том случае, когда из определений (determinationibus), наличествующих в понятии субъекта, с помощью правильных умозаключений можно вывести предикат. В самом деле, никто из тех, кто убедился в действенности научного метода в диспутах, не станет сетовать на мое усердие в приведении доказательств. Если же кто из читателей пожелает согласиться с чем-либо и без доказательств, то он, как я считаю, будучи настолько умен, вполне может обойтись и без доказательств, которые, между прочим, отделены мною от суждений. Пусть он оставит доказательства тем, кто не только не станет порицать излишнюю педантичность в их приведении, но и получит от них удовольствие. В обычной речи понятия онтологических терминов — смутные, что же касается отчетливых (distinctae notiones) понятий абстрактных терминов, то их в огромном большинстве случаев считают отличными от понятий смутных. В силу этого я посчитал необходимым показывать тождество (identitas) моих точно определенных понятий со смутными или, по крайней мере, с неполными (incompletae) из тех, что употребляются обычно. Поступал я так затем, чтобы было видно: значение общепринятых терминов у меня нисколько не изменяется.
Понятия я выводил не из чьих-либо мыслей, а из самих вещей, откуда, как мне кажется, и должна черпать свое знание философия. Вещам также должны были бы соответствовать и общие смутные понятия, если бы только философы, правильно уразумев суть дела, могли удачно выражать свои мысли. Неудивительно, если названное выше соответствие (consensus) обратит на себя внимание, хотя я насчет этого беспокоился мало. Пожелай кто-либо исследовать, каким образом было установлено это соответствие, то он вскоре уразумеет, что мои изыскания скорее способствовали пониманию трудов других авторов, нежели эти самые труды помогли мне в моих открытиях.
В сказанном убедиться легко, поскольку здесь проливается свет на темные места иных авторов, чтобы они были вполне поняты. Так должно происходить не в одной первой философии, но и в любом виде знания, образцы чему были мной даны в речи о моральной (practica) философии китайцев, а также в «Часах досуга». Остальные многочисленные примеры я предложу впоследствии как в этой, так и в прочих моих философских работах, чтобы лица, желающие углубиться путем неустанных трудов в мое учение, приобрели соответствующие познания.
Кое-кому, быть может, излагаемые здесь принципы онтологии покажутся бесполезными или маловажными; так вот, если они ранее не заботились о применении упомянутых принципов или, по крайней мере, им не предоставлялась соответствующая возможность, пускай они не торопятся выносить поспешное суждение насчет их употребления, поскольку убедятся в их важности, когда названные принципы будут привлечены для дальнейших доказательств. Евклидовы начала представляются гораздо более бесполезными, так что никто из несведущих в остальных предметах математики (mathesis) не может строить догадок относительно их применения. По мере изучения этих предметов ты узнаешь, как пользоваться названными началами, причем без посторонних внушений.
Здесь, как ты обнаружишь, излагаются некоторые выведенные априори принципы, касающиеся количества, на которые, вообще говоря, и сводятся Евклидовы начала. От них же получает свою очевидность и вся математика.
Прочие философские дисциплины не в меньшей степени возлагают свои надежды на принципы онтологии, без которых они лишатся очевидности, единственно необходимой для убеждения. Трудно вкратце сказать, насколько полезны могут быть онтологические понятия, которые легко почерпнуть из данного труда, для вдумчивого учителя философии. По этой причине я усвоил себе правило называть эти понятия руководящими (directrix).
К сказанному мною можно было бы добавить многое, что, впрочем, надлежит вывести из имеющегося. Усвоившие мое учение без труда перейдут к изучению иных предметов, ведь они овладели правилами научного метода и способны отныне применять их на практике. Другие мои философские труды наглядно подтверждают плодотворность принципов онтологии, поскольку подлежащие доказательству положения других областей философии основываются на этих же принципах.
Марбург. 21 сентября 1729 года
ПРОЛЕГОМЕНЫ К ПЕРВОЙ ФИЛОСОФИИ,
или онтологии
§ 1. Онтология, или первая философия, есть знание сущего как такового (in genere), насколько оно является сущим.
Определение это было дано нами во вступительном рассуждении к «Логике» (§ 73). Эта часть философии называется онтологией, поскольку речь в ней идет о сущем как таковом, имя свое, таким образом, она получила от объекта, на который направлена. Она же обыкновенно называется первой философией, потому что сообщает первоначала и первые понятия, которыми мы пользуемся в мышлении (in ratiocinando).
Ни одна наука не обретается ныне в таком презрении, как онтология. Дело в том, что схоластики своими бесплодными приемами заставили людей презирать полезнейшую и основополагающую часть философии. Однако же те, кто с присущей им скоропалительностью суждений вообще отвергли онтологию, нанесли наукам ущерб.
Стремясь смыть с онтологии клеймо презрения, я обращу некогда бесплодные приемы в весьма полезные.
§ 2. Поскольку наука есть твердый навык доказательства (habitus asserta demonstrandi) (§30 «Предварительного рассуждения»), постольку то,что излагается в онтологии, подлежит доказательству.
Бесплодными поистине оказались занятия схоластиков, поскольку им так и не удалось уяснить себе суть доказательного метода. Они пользовались смутными понятиями с еще более смутным содержанием, а это лежит весьма далеко от определенных суждений и их внутренних оснований.
§ 3. Если ты станешь возражать против того, что онтология правильно определена как наука, и скажешь, ошибочно считать, что положения онтологии следует доказывать, то я воспользуюсь противоположным аргументом (contraria ratione) и покажу, что в онтологии следует пользоваться доказательным методом, и уже отсюда сделаю вывод, что онтология есть наука.
Существуют, во всяком случае, номинальные определения, произвольные (arbitraria), и ты вполне можешь пользоваться ими словно бы началами доказательства там, где сумеешь подтвердить их реальность (ubi realitatem earum adstruxeris) (§ 790 Logica). Но онтология может быть изложена при помощи доказательного метода, как мы и покажем на практике, так что нам нет необходимости использовать иной аргумент для подтверждения реальности определения (§719 Logica). Лица, не достигшие покамест знания логики, не должны задерживаться на проверке этого определения, ради их удобства я изберу иной путь доказательства.
§ 4. В первой философии следует пользоваться доказательным методом.
Поскольку в логике, практической философии, физике, естественной теологии, общей космологии и психологии все положения следует подвергать строгому доказательству и, кроме того, в данных науках часто используют онтологические термины (§ 89, 92, 94, 96 seq. «Предварительного рассуждения»), соответственно в самой онтологии допустимо пользоваться только тем, что по достаточном объяснении будет опираться на несомненный опыт и доказательство (§ 362 Logica). И, следовательно, в ней должно пользоваться доказательным методом, т. е. научным (§ 790 seq. Logica). .
Я полагаю, что в этих славных дисциплинах действительно необходимо получать точное (certa) знание, однако хорошо известно, что пренебрежение философским методом (§ 137 «Предварительного рассуждения»), а значит, и пренебрежение методом научным (§ 792 Logica), а также отсутствие несомненного опыта и доказательности не могут дать точного знания (§ 567, 570 Logica).
Я мог бы также подтвердить высказанное положение с помощью общего аргумента, ведь, и в самом деле, в онтологии излагается только то, что может быть достаточно хорошо понято, далее, может быть познано как очевидная истина и, наконец, применено к различным случаям человеческой жизни. Онтологию, следовательно, можно излагать при помощи философского метода (§ 136, 138 «Предварительного рассуждения») и, значит, тем методом, каковым пользуются математики (§ 139 «Предварительного рассуждения»), т. е. методом доказательным. Частные аргументы, когда они сопутствуют аргументам общим, еще сильнее побуждают к согласию, к тому же они представляются более очевидными, нежели общие, особенно в том случае, если ум твой покамест не привычен к абстракциям.
§ 5. Первая философия есть знание. Все, что мы либо утверждаем, либо отрицаем в первой философии, подлежит доказательству (§4). Следовательно, первая философия есть наука (§ 594 Logica).
Насколько же эта наука находится в нашей власти, станет ясно из дальнейшего исследования и в будущем — из того, что к нему добавят другие, желающие оказать мне содействие.
§ 6. Поскольку первая философия должна изучаться с помощью доказательного метода, а все прочие философские дисциплины также излагаются посредством этого метода, как то было доказано мною ранее (§4), становится ясным утверждение «Предварительного рассуждения» (§ 73), гласящее, что без первой философии никакая философия нигде не может изучаться с помощью доказательного метода.
Я вывел первую философию из мрака забвения прежде всего затем, чтобы и прочие дисциплины не были лишены достаточного света. Из последующего изложения станет ясно, какому позору обрекли себя те, кто не могут о важнейших вещах высказать ничего, кроме жалких мыслей, те, кто не в состоянии истолковать понятия первой философии. Далее, чтобы не быть голословным, обращаю внимание на свойственную многим поспешность в суждениях, а также их нелепость, объясняемую невежеством.
§ 7. Изучать первую философию при помощи научного метода — отнюдь не значит просто возвращаться в преподавании к схоластической философии, поскольку таким образом она исправляется. Тот, кто излагает первую философию посредством научного, т. е. философского, метода (§ 792 Logica), пользуется исключительно точно определенными терминами и, разумеется, только вполне доказанными основаниями (§ 116, 117 «Предварительного рассуждения»), далее, он опирается лишь на точно определенные суждения, выведенные правильно из вполне доказанных оснований (§ 121, 118 «Предварительного рассуждения») и, следовательно, сводит термины к полным и определенным понятиям (§ 152 Logica), и притом к отчетливым (§ 88, 92 Logica), суждения же сводит к возможным и определенным понятиям (§ 320, 123 Logica).
Что касается схоластиков, то они, философствуя, пользовались недостаточно определенными терминами, понятиями по большей части смутными, причем нередко с темным содержанием, основные положения они не доказывали убедительно, успокаиваясь на достаточно общих, а значит допускающих многочисленные исключения, правилах. Все это навлекло на * схоластическую философию презрение, особенно после того, как Декарт сумел удалить из философии смутные и темные понятия. Отсюда, конечно же, становится совершенно ясно, что я ни в коей мере не призываю к возвращению схоластической философии, ведь я придерживаюсь научного метода. Напротив, я стараюсь исправить в названной философии то, что заслуживает быть исправленным. Отныне возникает польза и в жизни и в науке (§ 122, 148 «Предварительного рассуждения»), ведь то, что ранее было бесполезным (§ 138 «Предварительного рассуждения») и не приносило точного и отчетливого знания (§137 «Предварительного рассуждения»), то, что не могло быть удовлетворительно познано и не приводило к истине (§ 136 «Предварительного рассуждения»), теперь становится полезным, а рассуждения схоластиков — более понятными, достоверность их разительно усиливается, и, помимо прочего, мы начинаем различать их связь с прочими истинами (§161 «Предварительного рассуждения»). Новая онтология, таким образом, будет развиваться (§ 170 «Предварительного рассуждения»).
Лейбниц, зная о недостатках схоластической онтологии, считал ее исправление делом крайне необходимым. И, хотя он в «Acta eruditorum» за 1694 г. (с. 110 и сл.) настоятельно рекомендовал такое исправление, никто, тем не менее, не рискнул его предпринять.
Как известно, в 1664 г. Иоганн Клауберг, считавшийся, по всеобщему мнению, лучшим истолкователем Декарта, в третьем амстердамском издании ин-кварто «Метафизики сущего» попытался было улучшить первую философию, в чем, впрочем, счастливого успеха так и не достиг, хотя некий Кириак Лентул, профессор из Герборна, знаток литературы, но отнюдь не философии, спесивец с путаной головой, и трубил во все трубы, оповещая публику о картезианских изысканиях Клауберга (тому свидетельство трактат Лентула, озаглавленный «Триумф Картезия, или Новая мудрость, побеждающая нелепую клевету», который был издан ин-кварто во Франкфурте-на-Майне в 1653 г.).
Лейбниц, с присущим ему тактом, признавал отдельные заслуги Клауберга, как это видно из «Miscellaneae Leibnitianae» (изданных ин-октаво Иоахимом Фридрихом Феллером в Лейпциге в 1718 г., а именно из части второй, номера 85, что на 181 странице), но со всем тем считал, что первая философия еще подлежит исправлению.
Нет ничего удивительного в том, что эта основная, по справедливому выражению Лейбница, наука до сих пор не смыла с себя приставшее к ней пятно презрения. В самом деле, научное изложение первой философии — дело трудное, особенно если сравнивать ее с математикой. Содержание метафизических понятий, в отличие от понятий математических, не так явно открывается чувствам и воображению и к тому же ускользает от проверки.
Схоластики хотя и не смогли донести до нас вожделенный свет онтологии, кое-чего, однако же, добились. И у них имеются заслуги. А именно: я понял, что схоластические термины — отнюдь не пустые, как то обычно полагают, им соответствуют либо ясные, либо смутные понятия (§38 Logica). Далее, я обнаружил, что из этимологии терминов очень часто можно найти соответствующее термину понятие, и научился такие понятия находить (§ 914 Logica). При начале человеческого познания существуют как ясные, так и смутные понятия, без уяснения которых прогресс знания — невозможен (§ 80, 88 Logica). Прогресса этого мы добьемся только после того, когда из развития апостериори полученных смутных понятий получим понятия отчетливые (§ 678, 682 Logica). Поскольку же для того, чтобы увидеть абстрактное в конкретном, потребен проницательный ум (§ 110 Logica), нередко случается так, что способные к прогрессу никак не могут сделать первый шаг. Примеров тому достаточно найдется и в математике. Отсюда• и Лейбниц, мыслитель острого ума, образно говорил, что для ума потребен точильный камень.
§ 8. Поскольку онтология трактует сущее как таковое (§ 1), в ней должно доказывать то, что свойственно (convenit) всем сущим либо безусловно (absolute), либо при определенных условиях.
Пример. Два каких-нибудь сущих, допустим А и В, могут быть схожими или несхожими, и потому в онтологии должны найти себе объяснение понятия сходства и различия (similitudo et dissimilitudo), а уже из них выведены общие принципы сходства и различия.
§ 9. Применение онтологии распространяется повсюду, потому что определения онтологии и онтологические суждения могут быть применены к каждому сущему как в любом, так и в каком-нибудь определенном его состоянии (§8).
Поскольку же происходит так, что при доказательстве принципов мы доходим до их априорной очевидности (donec a priori évadant manifesta), мы со всем тем неизменно наталкиваемся на принципы первой философии, без которых в отдельных дисциплинах доказательное знание вряд ли представляется достижимым.
Как говорится, само учение приводит нас к истине. Евклид, между прочим, разложил свои доказательства на онтологические принципы, которыми и пользовался словно аксиомами, т. е. не прибегая к доказательству (absque probatione), как-то: целое равняется всем своим частям, взятым одновременно, целое — больше любой своей части, равные чьему-нибудь третьему — равны между собой.
Но если принципы, которые чистая математика (mathesis рига) заимствует из онтологии, как мы видим на примере «Элементов» Евклида, являются настолько очевидными (manifesta), что вполне могут употребляться без доказательства точно так же, как и заимствованные из онтологии понятия, примера ради: равенство (aequalitas), большее (majoritas), меньшее (minoritas), соразмерность (congruentia) являются сами по себе настолько ясными, что удовлетворяют принципу научности, будучи не различенными (confusae), то в философских дисциплинах дело обстоит совершенно по-другому. Смутные понятия, заимствованные философией из онтологии, остаются недостаточными и легко приводят к ошибкам. Что же касается заимствованных оттуда принципов, то их трудно уразуметь без надлежащего доказательства.
Да и сама математика отнюдь не лишена отчетливых понятий и твердо доказанных онтологических принципов, доходчивые примеры чему содержатся в изложении этой дисциплины. Здесь будет достаточным напомнить о сходстве и вытекающих из него принципах, которыми отнюдь не следует пренебрегать в геометрии, как то показано в «Элементах общей математики». Из последующего изложения станет очевидно, насколько полезной является онтология в жизни, и также то, насколько опрометчиво судят те, кто не знаком с понятиями онтологии.
§ 10. Если какие-либо онтологические термины употребительны в обычной речи, то за ними следует оставить общепринятое значение (significatus), однако же определенное и фиксированное (determinatus idemque fixus).
В философии (§ 142 «Предварительного рассуждения») и, значит, в онтологии, которая является ее частью (§73 «Предварительного рассуждения»), не следует отклоняться от общепринятых понятий. Поэтому и онтологическим терминам, из тех, что употребляются в разговорной речи, должно придавать то значение, которое им придается обычно.
В философии со всем тем надлежит двигаться от (vagus) изменчивого и неопределенного значения к значению определенному (§ 144 «Предварительного рассуждения»). Далее, за одним и тем же словом следует неизменно закреплять одно и то же значение (§ 143 «Предварительного рассуждения»). И если в разговорной речи значение онтологических терминов, из-за изменчивости такой речи, неизменным не остается, то в онтологии за отдельными терминами следует удерживать определенное значение, сохраняя его неизменным.
Каждому известно, что в разговорной речи пользуются онтологическими терминами. Кто не знает, что мы часто говорим о причине, цели, необходимом, случайном, возможном, невозможном, совершенном, едином, истинном, порядке, пространстве и т. п., каковые понятия объясняются в онтологии?
Допускается использовать эти термины в общепринятом значении, когда они передают смысл общепринятых суждений, в которых и употребляются. При этом достаточно только из значений, по большей части изменчивых, зафиксировать какое-нибудь одно, удовлетворяющее многим наиболее ясным суждениям.
§ 11. Схоластические термины, если им соответствует какое-нибудь понятие, на которое обычно не обращают внимания, должны быть сохранены.
Если им соответствует какое-нибудь понятие, то для его обозначения потребен термин (§36 Logica). Если же в разговорной речи на это не обращают внимания и искомый термин, примера ради, в ней не встречается, то возникает нужда в термине философском (§ 146, 148 «Предварительного рассуждения»). А так как однажды принятые философские термины не подлежат перемене (§ 147 «Предварительного рассуждения»), то надо сохранить некоторые из введенных схоластиками терминов.
Здесь следует повторить то, на чем я настаивал в «Предварительном рассуждении» (§ 147), когда говорил о том, что однажды принятые философские термины вообще-то не должны подвергаться перемене.
§ 12. Если используемые термины схоластиков — особенно те из них, что определены недостаточно тщательно (accurate), — определяются тщательней, то это еще не означает восстанавливать схоластическую философию.
Я освобождаю схоластическую философию не от терминов, которые в ней используются, но от недостаточно тщательных определений и неверных суждений. Тот, кто, сохраняя схоластические термины, стремится сделать более тщательными их недостаточно тщательные определения, отнюдь не возвращается к схоластике, а скорее исправляет ее важнейшую часть, поскольку в названной философии определения — гораздо длиннее.
Судить о сходстве философских направлений исходя из сходства терминов, обозначающих (denotare) то же самое, — признак тупоумия. Столь поспешные суждения объясняются отсутствием отчетливого понятия «тождество», а также полнейшим незнанием логического учения о понятиях и терминах. В самом деле, в один и тот же термин, обозначающий ту же самую вещь, люди могут вкладывать и темное, и ясное, и смутное, и отчетливое, и полное, и неполное, и более точное, и менее точное (adaequata) понятие (§ 80, 88, 92, 95 Logica). Даже те, кто пользуются одним и тем же термином для обозначения той же самой вещи, таким образом, не могут похвастаться одинаковым знанием.
И хотя в своей «Логике» я сохранил принятые схоластиками термины, не изменив их значения, никто не станет утверждать, будто бы я вызвал к жизни из загробного мира схоластическую логику, отвергнутую современностью. Если бы кто-нибудь начал порицать Кеплера за то, что он сохранил принятые в древней астрономии термины, то такой критик вызвал бы у астрономов только смех (§ 147 «Предварительного рассуждения»).
§ 13. Онтологические термины, которыми пользуются в разговорной речи, суть ясные, хотя и плохо определенные.
Мы ведь не пользуемся их определениями всякий раз, когда их употребляем. Далее, мы связываем с ними ясные понятия (§ 80, 89 Logica), хотя и смутные (§88 Logica), приобретаемые нами на практике, когда мы прислушиваемся к разговору о действительности (§ 1120 Logica). Термины эти будут весьма ясными даже при очень плохом определении (§81 Logica).
Пример. «Существование», «субстанция», «лицо» определяются схоластиками плохо. Но отсюда еще не следует, что названные термины — темные. Они, напротив, — ясные, поскольку им соответствуют приобретаемые на практике понятия, посредством которых мы и познаем, что суть «существование», «субстанция», «лицо»
§ 14. Философские термины, введенные в онтологию схоластиками, суть яс ные, хотя и не все, как бы плохо схоластики их ни определили.
369
I ' Зак М2
Действительно, по надлежащем исследовании я обнаружил, что им в большинстве случаев соответствуют ясные понятия, которые можно передать другим посредством примеров и суждений об окружающих нас вещах (§ 1120 Logica). Изобретатели упомянутых терминов, следовательно, обладали ясными понятиями.
Итак, эти термины — ясные, и таковыми они были для их создателей, они — не темные, как бы плохо схоластики их ни определяли (§81 Logica).
Пример. «Модус» определяется темно, когда говорят, что он есть форма, могущая быть подверженной отделению со стороны субъекта (separabilis ex parte subjecti) и совершенно не могущая быть подверженной отделению как таковая (ex parte sui). Однако этому слову соответствует ясное понятие, делающееся наглядным на примерах, как-то: тепло есть модус камня, и определения этого хватает для познания вещей. Так что схоластические термины, которые из-за определений представляются темными, легко понять с помощью примеров.
§ 15. Может случиться так, что термин, темный одному, будет ясным другому (§ 82 Logica), и даже так, что термин будет представляться одному более темным, а другому — менее темным (§84 Logica). Нет никакого противоречия в том (minime répugnât), что онтологические термины схоластиков, бывшие ясными их создателям, представляются темными читателю, и даже сверх того, одному читателю они могут представляться более темными, тогда как другому — менее темными.
Метафизические, иначе онтологические, термины схоластиков с укоризной называют темными, оправданием чему, однако же, служит лишь один аргумент, а именно: их не понимают ни критик, ни другие лица. Доказательством здесь, следовательно, является только то, что они — темны для тебя и для других.
Из последующих рассуждений ты, впрочем, поймешь, что термины эти были темными для их создателей лишь при доказательствах, ведь они связывали с ними не темное, а ясное понятие (§88 Logica), которое и делает ясным сам термин (§81 Logica). Термины эти при всем том не были отчетливыми и потому не могли быть сообщены другим посредством определения (§ 89, 153 Logica).
§ 16. Если кто-либо не в состоянии дать правильного определения термина, но из приведенных им примеров мы, действительно, можем извлечь (abstrahi) некое понятие, то такому человеку, как мы вправе полагать, данный термин был ясен.
Само собой разумеется, что если кто-либо приводит примеры для объяснения одного и того же термина, то он подразумевает под ними какое-нибудь общее понятие. Справедливо также предполагать, что из них можно извлечь некое общее понятие, которое и имел в виду приводивший примеры. Но если он посредством такого понятия имел знание о примерах (§48 Logica), то необходимо заключить, что понятие это было ему ясным (§80). То, что следовало доказать, таким образом, — ясно.
Пример. Приведенное мною ранее определение модуса (§ 14) не являлось тщательным (accurata). Но если привести примеры, допустим, «тепло камня» и «красный цвет стекла», оба примера свести к общему понятию, — а оно будет относиться к существованию вещи и не определяться ее сущностью, — то сразу же станет очевидным, что автору помянутого темного определения понятие было все-таки ясным. С помощью этого понятия он и рассуждал в данном случае, а именно: и тот, и другой пример следует отнести к примерам модусов.
§ 17. Если кто-либо не в состоянии правильно определить термин, а приведенные им примеры не могут быть сведены к общему понятию, то с большой вероятностью можно заключать, что термин этот для такого человека был темный.
Когда он приводит примеры для объяснения термина, предполагается, что им присуще некое понятие. Но если, допустим, такое понятие вообще отсутствует, то он либо приписал его тому и другому сущему неправильно, тогда как оно им присуще не было, либо же не сделал его достаточно ясным, а значит, связывал с ними темное понятие (§ 48, 80 Logica). И до тех пор, пока не будет приведено основание, почему мы должны принять первое, мы с большой долей вероятности выбираем второе. Итак, термин этому человеку оставался темен (§ 578 Logica).
Доказательство этого положения станет более ясным тому, кто, припомнив сказанное мною вкратце о присоединении (applicatio) определения к силлогизму (§ 1218 Logica), отнесет его к присоединению смутного понятия. Примеры здесь будут следующие. Если кто-либо, желая прояснить термин «существование», назовет существующим сущее здание, которое он непосредственно наблюдает, и равным образом здание, образ которого он создал себе в воображении, то такой человек имеет темное понятие о существовании, поскольку понятие «существование» не является общим для помянутых сущих.
§ 18. Если кто точно знает (perspicit), что присуще сущему, однако же сомневается, можно ли придать ему термин, то такому человеку термин остается темным.
В самом деле, если бы он был ему ясен, то он соединил бы с ним ясное понятие (§ 81 Logica). Зная, что присуще сущему, он бы также знал, что ему можно приписать, а это уже противоречит гипотезе.
Прочее, относящееся к этому вопросу, будет упомянуто мной в самой «Онтологии», когда обнаружится нужда в такого рода доказательствах.
§49. Природа человеческого ума (mens) такова, что он не в состоянии отделить от какого-либо сущего то, что, как он наблюдает, этому сущему присуще. В дальнейшем изложении я остановлюсь на этом подробней. Общие же понятия присущи отдельным вещам, которые мы и наблюдаем (§57 Logica). Смутные понятия, соответствующие употребляемым в повседневной речи онтологическим терминам, приобретаются естественным рассудком (mens naturalis). Мы приписываем вещам то, что суть им присуще, на основании воспоминания об аналогичных наших действиях в прошлом.
Так, сравнивая телесные вещи по величине или же — по высоте, мы приобретаем смутное понятие о равном, большем, меньшем. После того как это понятие укоренится в уме, и после частого употребления станет хорошо знакомым, мы пользуемся им, каким бы смутным оно ни было, при различении равных от неравных, большего от меньшего (§48 Logica).
§ 20. В психологии будет обращено внимание на факт, наглядно подтверждаемый опытным путем, а именно: способность находить общее в вещах единичных укрепляется не только посредством практики, но и с помощью предшествовавших познавательных актов.
Смутные понятия, соответствующие введенным схоластиками в онтологию философским терминам, приобретаются точно так же, а именно: когда вещам приписывается то, что суть им присуще, или же мы вспоминаем о том, что такое мы им приписывали, либо могли приписать, им ранее. Сказанное вполне понятно.
Примера ради, схоластики приписывали всем вещам подчинительную способность (potentiam obedientalem) на основании предшествующего познания,об ограничении акта силой сверхъестественного Божества, что будет объяснено яснее в другом месте. В дальнейшем изложении станет очевидно, насколько приобретенные ранее знания, каковыми наполнен наш ум, способствуют усилению его проницательности. Здесь же достаточно отметить, что происходит при умозаключениях, а именно применение к имеющимся в наличии или предполагаемым случаям приобретенных ранее знаний.
§ 21. Смутные, обычно употребляемые (vulgares) онтологические понятия образуют своеобразный фонд (species) естестственной онтологии. В силу вышесказанного (§ 19) естественная онтология может быть определена посредством совокупности смутных понятий, соответствующих абстрактным терминам, каковые и используются при вынесении общих суждений о сущем. Понятия эти приобретаются благодаря обыкновенному использованию способностей разума.
Отсюда становится ясным, что, хотя применение онтологии и является необходимым, те, кто не прилагают усилий для занятий ею, по видимости, этой наукой не владеют.
§ 22. Отсюда также следует, что схоластики существенно дополнили естественную онтологию.
Схоластики добавили к своим терминам отдельные смутные понятия, встречающиеся в естественной онтологии, которые отсутствовали в философии (§ 20). Тогда же было осознано, что без таких понятий не обойтись и в других науках, как бы они ни назывались, а также в обыденной речи, когда мы выносим суждения об окружающих нас вещах с помощью распространенных понятий. Итак, схоластики существенно дополнили естественную онтологию, которая ранее отнюдь не была достаточна для помянутых выше целей.
Я, разумеется, пользуюсь термином «полный» в том же самом смысле, какой придавал полному понятию (§92 Logica) и полному сочинению (§ 802 Logica).
§ 23. Точно так же как искусственная логика есть отчетливое изложение (distincta explicatio) естественной (§ 11 Logica), отчетливое изложение естественной онтологии может быть названо онтологией искусственной. Именно таковой и являлась выше мною определенная онтология (§1).
Смутные понятия естественной онтологии в онтологии искусственной делаются отчетливыми, а зависящие от них изменчивые суждения сводятся в ней к суждениям определенным.
§ 24. Искусственная онтология представляет пользу и для науки и для жизни (§ 23), поскольку придает определенность суждениям (§ 122 «Предварительного рассуждения). Она, помимо этого, предоставляет отчетливые понятия терминов, так что сочинения схоластиков и других философов становятся более понятными и приводятся к большей достоверности, а их связь с достоверными истинами делается очевидней (§ 161 «Предварительного рассуждения»). Это ясно хотя бы из того, что в онтологии применяется доказательный метод (§4,
23).
Отсюда также становится понятной необходимость искусственной онтологии и ее большая в сравнении с естественной полезность. Пренебрежение же онтологией объясняется свойственной многим поспешностью в суждениях.
§ 25. Поскольку в первой философии подлежит доказательству то, что присуще всем вещам или абсолютно, или же при каких-либо условиях (§8), а в словарях объясняются только значения слов, онтология, или первая философия, никоим образом не есть философский лексикон.
В словарях, как я полагаю, объясняется лишь значение слов, или же, что отсюда следует, слова одного языка объясняются посредством слов языка другого, как то и подобает делать в лексиконах. Здесь я, разумеется, не имею в виду нынешние порядки, когда лексиконы набиваются богословскими, историческими и научными сочинениями.
Далее, истинность этого положения подкрепляется тем, что в онтологии даются определенные суждения, полезные как в жизни, так и в науке (§ 23, 24).
Онтологии же было присвоено имя философского словаря из-за того, что в ней, по обыкновению, излагались некоторые онтологические термины, которые находили слабое применение в прочих науках. И, действительно, все применение онтологии, похоже, было сведено к объяснению общих философских терминов, тогда как термины, свойственные частным наукам, в онтологии не приводились.
Немалое пренебрежение вызывало само название «онтология», поскольку многие посчитали, что могут вообще обойтись без онтологии и большинства ее терминов. Те же термины, в которых возникнет необходимость, они полагали возможным почерпнуть непосредственно из опыта, ведь, например, слова, употребительные в обычной речи, заимствуются отнюдь не из словарей, но приобретаются в разговоре.
Вот почему первая философия не получила того почета, на который была вправе рассчитывать. Похвалы, расточаемые схоластиками в адрес онтологии, вызывали и вызывают смех, хотя и не повсеместный. Так, Лейбниц возбудил среди своих почитателей чувство изумленного замешательства, когда заявил, что онтология является первой из всех наук (princeps scientia). Столь почетное наименование говорит о том, если кого-либо не могут убедить другие аргументы, что Лейбниц, великий муж, никоим образом не считал первую философию, или онтологию, просто философским лексиконом.
§ 26. В онтологии необходимо пользоваться терминами, которые были неизвестны в древнем Лациуме (§ 146 «Предварительного рассуждения»), поскольку в этой науке истолковываются наиболее абстрактные понятия, соответствующие сущему как таковому (§1). Термины эти в разговорном языке не встречаются, ведь на такие понятия внимания обычно не обращают, вот почему в онтологии пришлось изобретать философские термины. Однако же из-за этих терминов онтология, право, не должна называться философским лексиконом варваризмов.
Варваризмами, насколько я понимаю, являются слова, которыми по необходимости замещают выражения, принятые в латинском языке. Поэтому нисколько не заслуживают такого имени слова, что были выдуманы для обозначения того, чему пока не соответствовало никакое слово.
Не в одной онтологии, разумеется, но и в любой другой науке попадаются философские термины, которые не были известны римлянам. Подобные термины изобретаются и по сей день в самых разных науках и искусствах, так как мы не можем отказаться от употребления терминов.
До настоящего времени наименование «философский лексикон варваризмов» сильно способствовало пренебрежению к онтологии, потому что люди, поспешно выносящие суждения, — а они делают их на основании терминов, соответствующих различным понятиям, — посчитали, что могут вполне обойтись при объяснении вещей неизвестных и без этого варварского языка.
Коней, пролегомен к первой философии
Перевод с латинского А. В. Панибратцева
БИБЛИОГРАФИЯ
ПЕРЕВОДЫ РАБОТ ВОЛЬФА НА РУССКИЙ ЯЗЫК
1. Вольф Хр. Логика, или Разумные мысли о силах человеческого разума и их исправном употреблении в познании правды. СПб., 1765.
2. Вольф Хр. Вольфианская Експериментальная физика с немецкаго подлинника на латинском языке сокращенная. С котораго на российский язык перевел Михайло Ломоносов. СПб., 1746 (2-е изд. — 1760).
3. Вольф Хр. Вольфианская Теоретическая физика / Пер. Бориса Волкова. СПб.,
1760.
4. Вольф Хр. Начальные основания фортификации... / Пер. Якова Козельского.
СПб., 1765.
5. Вольф Хр. Сокращение первых оснований мафиматики / Пер. Введенского.
Т. 1-2. СПб., 1770—1771 (2-е изд. — 1791).
ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ ВОЛЬФА НА ЯЗЫКЕ ОРИГИНАЛА1
1. Philosophia practica universalis mathematica methodo conscripta. Halle, 1703.
2. Anfangsgründe aller mathematischen Wissenschaften. Halle, 1710 (GW I, 12; 1973).
3. Vernünftige Gedanken von den Kräften des menschlichen Verstandes und ihrem richtigen Gebrauche in Erkenntniss der Wahrheit. Halle, 1713 (GW I, 11965; Ndr. 1995).
4. Elementa matheseos universae. 5 Bde. Halle, 1713—1741 (GW. II 29—33, 1968— 1971).
5. Mathematisches Lexikon, darinnen die in allen Theilen der Mathematik üblichen KunstWörter erkläret, und zur Historie der Mathematischen Wissenschaften dienliche Nachrichten. Halle, 1716 (GW I, 11; 1978).
6. Auszug aus den Anfangsgründen aller mathematischen Wissenschaften. Halle, 1717.
7. Specimen physicae ad theologiam naturalem applicatae, sistens notionem intellectus divini per opéra naturae illustratam. Halle, 1717, 1743.
8. Ratio praelectionum Wolfianarum in Mathesin et philosophiam universam. Halle, 1718, 1734 (GW II 36; 1977).
9. Vernünftige Gedanken von Gott, der Welt und der Seele des Menschen, Auch allen Dingen überhaupt. Halle, 1719, 1721, 1725 (GW I, 2; 1983).
10. Vernünftige Gedanken von der Menschen Thun und Lassen, zur Beförderung ihrer Glückseligkeit. Halle, 1720,1723,1728,1733,1736 (GW I, 4; 1976).
11. Erinnerung, wie er es künftig mit den Einwürffen halten will, die wider seine Schriften gemacht werden. 1720.
12. Wegen der immerwährenden Bewegung. Halle, 1720.
13. Vernünftige Gedanken von dem gesellschaftlichen Leben der Menschen und insonderheit dem gemeinen Wesen zur Beförderung der Glückseligkeit des menschlichen Geschlechtes. Halle, 1721 (GW I, 5; 1975).
14. Oratio de Sinarum philosophia practica. Halle, 1721.
15. Allerhand nützliche Versuche, dadurch zu genauer Erkenntnis der Natur und Kunst der Weg gabahnt wird. Halle, Tie I—III. Halle, 1721—1722, 1727—1728 (GW I 20, 1—3; 1982).
16. Vernünftige Gedanken von den Würkungen der Natur, den Liebhabern der Wahrheit mitgeteilt. Halle, 1723 (GW I, 6; 1981).
17. Montium ad commentationem luculentam de differentia nexus rerum sapientis et fatalis necessitatis, nec non systematis harmoniae praestabilitatis et hypothesium Spinozae lucu-lenta commentatio, in qua simul genuina Dei existentiam demonstrandi ratio expenditur et multa religionis naturalis capita illustrantur. Halle, 1723.
18. Vernünftige Gedanken von den Absichten der natürlichen Dinge. Halle, 1724 (GW 1,7; 1980).
19. Sicheres Mittel wider unbegründete Verleumdungen, wie denselben am besten abzuchel-fen. Halle, 1723.
20. Gründliche Antwort auf der theologischen Fakultät zu Halle Anmerkungen. Halle, 1724.
21. J. Fr. Buddei Bedenken über die Wolfianische Philosophie mit Anmerkungen erläutert von Chr. Wolff. Halle, 1724 (GW I, 8; 1980).
22. Nöthige Zugabe zu den Anmerckungen über Hrn. D. Buddeus Bedencken von der Wölfischen Philosophie auf Veranlassung der Buddeischen Antwort. Halle, 1724 (GW I, 8; 1980).
23. Opuscula metaphysica. Halle, 1724 (GW II 9; 1983).
24. Der venünftigen Gedanken von Gott, der Welt und der Seele des Menschen, auch allen Dingen überhaupt Anderer Theil in ausführlichen Anmerkungen. Fr./ M., 1724,1727.
25. Vernünftige Gedanken von dem Gebrauche der Theile des menschlichen Leibes, Thieren und Pflanzen. Fr./M., Lpz., 1725 (GW I, 8; 1980).
26. Anmerkungen über der Theologischen Facultät zu Tübingen Responsum wegen der Wölfischen Philosphie. Fr./M., Lpz., 1725.
27. Anmerkungen über der Philosophischen Facultät zu Tübingen Responsum wegen der Wölfischen Philosophie. Fr.,/M., Lpz., 1725.
28. Klarer Beweis, daß Herr D. Buddeus die ihm gemachte Vorwürffe einräumen und gestehen muß, er habe aus Übereilung die ungegründete Auflagen der Halleschen Widersacher recht gesprochen. Fr.,/M., Lpz., 1725.
29. Ausführliche Nachricht von seinen eigenen Schrifften, die er in deutscher Sprache von den verschiedenen Theilen der Weltweisheit herausgegeben, auf Verlangen ans Licht
gestehet. Fr./M., 1726, 1733 (GW I, 9; 1973).
30. Gesammelte kleine philosophische Schriften welche besonders zu der Natur Lehre und den damit verwandten Wissenschaften nehmlich der Arzney-Kunst gehören. Fr./M.,
Lpz., 6 Tie., 1726—1740.
31. Discursus praeliminaris de philosophia in genere. In: Philosophia rationalis sive Logica. Fr./M., Lpz., 1728,1740 (GW II1,1; 1983).
32. Philosophia rationalis sive Logica, methodo scientifica pertractata. Fr./M., Lpz., 1728, 1740 (GW II 1,1—3; 1983).
33. Horae subsecivae Marburgenses, quibus philosophia ad publicam privatamque utilitatem aptatur. Fr./M., Lpz., 3 Bde., 1729—1731 (GW II 34,1—3; 1983).
34. Philosophia prima sive Ontologia methodo scientifica pertractata. Fr./M., Lpz., 1730, 1736 (GW II 3; 1962).
35. Cosmologia generalis, methodo scientifica pertractata, qua ad solidam, inprimis Dei atque naturae cognitionem via sternitur. Fr./M., Lpz., 1731, 1737 (GW II 4; 1964).
36. Von der moralischen Erfahrung. Fr./M., Lpz., 1731.
37. Von dem Unterschiede metaphysischer und mathematischer Begriffe, die Unzulänglichkeit mathematischer Begriffe in der Philosophie darzutun. Fr./M., Lpz., 1731.
38. Vom Nutzen, die Figur der Erde zu kennen. Fr./M., Lpz., 1731.
39. Von richtiger Ausübung christlicher Handlungen. Fr./M., Lpz., 1731.
40. Von der rechten Erkenntniss der Academischen Freyheit. Fr./M., Lpz., 1731.
41. Von dem Nutzen der beweisenden Lehr-Art zu Lehrbüchern von der geoffenbarten Theologie. Fr./M., Lpz., 1731.
42. De theoria negotiorum publicorum. Fr./M., Lpz., 1731.
43. Von dem Gebrauche der demonstrativischen Lehrart in Erklärung der Heiligen Schrift. Fr./M., Lpz., 1731.
44. Psychologia empirica methodo scientifica pertractata. Fr./M., Lpz., 1732, 1738 (GW II 5; 1968).
45. Psychologia rationalis, methodo scientifica pertractata. Fr./M., Lpz., 1734,1740 (GW II 6; 1972).
46. Theologia naturalis methodo scientifica pertractata. 2 Bde., Fr./M., Lpz., 1736—1737
_ (GW II 8; 1981). _
47. Jus eligendi Ducem statibus Curlandiae et Semigalline ex principis iuris naturae vindica-tum. Fr./M., Lpz., 1736.
48. Ausführliche Beantwortung der ungegründeten Beschuldigungen D. Langens, die er auf Ordre Ihro Königl. Majestät in Preussen entworffen. Fr./M., Lpz., 1736.
49. D. Langens Kunstgriffe, durch Sophisterey den Leser einzunehmen und wem er seine Einwürfe wider die harmoniam praestabilitatam abgeborget. Fr./M., Lpz., 1736.
50. Philosophia practica universalis, methodo scientifica pertractata. Fr./M., Lpz., 17381739 (GW II10—11; 1971—1979).
51. Beantwortungen des Freyherrn von Wolf an den Herrn Prediger Meister oder le Maitre. Fr./M., Lpz., 1739.
52. Jus naturae, methodo scientifica pertractatum. 8 Bde., Fr./M., Lpz., 1740—1748 (GW II17—24; 1968—1972).
53. Schreiben von Auslegung vernünftiger Reden und Schriften. Fr./M., Lpz., 1740.
54. Programma de necessitate methodi scientificae et genuino usu iuris naturae et gentium. Fr./M., Lpz., 1741.
55. Commentatio qua Judaici Christianae divinorum de nativitate Messiae veticiniorum. Fr./M., Lpz., 1741.
56. Jus gentium methodo scientifica pertractatum. Halle, 1749 (GW II 25; 1972).
57. Philosophia moralis sive ethica, methodo scientifica pertractata. 6 Bde., 1750—1753 (GW II12—16; 1970—1973).
58. Kurtzer Unterricht von den vornehmsten mathematischen Schriften. Halle, 1750 (GW 1,15.2; 1973).
59. Versuch einer Vernunft und Schriftgemäßen Erklärung der göttlichen Wirkung sowohl in dem Verstand als Willen der menschlichen Seele in einem philosophischen Briefwechsel zwischen dem Freyherrn von Wolff und Herrn Prediger Meister sonst le Maître. Halle,
1751.
60. Physica experimentalis. Halle, 1752.
61. Institutiones juris naturae et gentium, in quibus ex ipsa hominis natura continuo nexu omnes obligationes et iura omnia deducuntur. Halle, 1754 (GW II 26; 1969).
62. Oeconomia methodo scientifica pertractata. Halle, 1754 (GW II 27—28; 1972).
63. Meletemata mathematico philosophica. Halle, 1755 (GW II 35; 1974).
64. Des weyland Reichs Freyherrn von Wolff übrige theils noch gefundene kleine Schriften und einzelne Betrachtungen zur Verbesserung der Wissenschaften. Halle, 1755 (GW I, 22; 1983).
65. Vorschläge zu einer anzurichtenden Universität. Halle, 1755.
66. Entwurf einer Academie der Wissenschaften. Halle, 1755.
67. Philosophia civilis sive politica methodo scientifica. Halle, 1756.
68. Eigene Lebensbeschreibung, hrsg. mit einer Abhandlung über Wolff von Heinrich Wut-tke. Lpz., 1841.
69. Briefwechsel zwischen Leibniz und Chr. W., hrsg. von С. I. Gerhardt. Halle, 1860.
РАБОТЫ О ВОЛЬФЕ И ВОЛЬФИАНСТВЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
1. Аликаев Р. Г. Немецкая философская терминология эпохи раннего Просвещения. М., 1982.
2. Артемьева Т. В., Микеилин М. И. Христиан Вольф и русское вольфианство // Философские науки. М., 1990. № 3. С. 63—74.
3. Асмус В. Ф. Немецкая эстетика XVIII в. М., 1962.
4. Баскин М. П. Философия немецкого просвещения. М., 1954.
5. Винделъбанд В. История новой философии в ее связи с общей культурой и отдельными науками. T. 1—2. СПб., 1908.
6. Гегель Г. В. Ф. Лекции по истории философии. Соч. T. XI. М.; Л., 1935.
7. Гейне Г. К истории религии и философии в Германии. Собр. соч.: В 10 т. Т. 6. М., 1958.
8. Герье Г. Лейбниц и его век. СПб., 1868.
9. Грооп Р. О. Прогрессивное философское наследие Германии XVII — XVIII вв. // Философские науки. 1961. № 1. С. 86—97.
10. Грудницкий Г. Д. Проблема познания в философии немецкого просвещения // Вестник Белорусского ун-та. Серия III. 1983. № 3. С. 24—27.
11. Гулыга А. В. Из истории немецкого материализма (последняя треть XVIII в.). М., 1962.
12. Гурьева И. Ю. Некоторые аспекты философских концепций немецкого просвещения // Вопросы историографии всеобщей истории. Томск, 1986. С. 101 — 113.
13. Деборин А. М. Христиан Вольф — популяризатор немецкого просвещения // Деборин А. М. Социально-политические учения нового времени». М., 1967.
Т. 2. С. 96—107.
14. Длугач Т. Б. И. Кант: от ранних произведений к «Критике чистого разума». М.,
1990.
15. Жучков В. А. Проблема метафизики у раннего Канта. Истоки критицизма // Вопросы теории познания в буржуазной философии XVIII—начала XIX вв. М., 1978. С. 17—45.
16. Жучков В. А. Немецкая философия эпохи раннего Просвещения. М., 1989.
17. Жучков В. А. Философия Просвещения и кризис метафизической философии // Некоторые характеристики философии эпохи Просвещения. М., 1989.
С. 16—43.
18. Жучков В. А. Философия немецкого просвещения // История философии: Запад—Восток—Россия. Книга вторая: философия XV—XVIII вв. М., 1996. С. 281—300.
19. Жучков В. А. Из истории немецкой философии XVIII века (предклассический период). М., 1996.
20. Зибен В. В. О причинах «возрождения» интереса к учению Христиана Вольфа в ФРГ / Социальная детерминация философских концепций. Социальная детерминация познания. Тарту, 1984 // Ученые записки Тартуского гос. ун-та. Труды по философии. Вып. 693. С. 26—36.
21. Зибен В. В. К вопросу о теоретических источниках философии Христиана Вольфа / / Там же. С. 37—56.
22. Зибен В. В. Разум и рассудок в философии Христиана Вольфа // Ученые записки Тартуского гос. ун-та. Тарту, 1990. Вып. 25. С. 15—28.
23. История философии. Т. 3. М., 1943.
24. Кошелева О. £., Морозов Б. Н. Неизвестные русские учебные курсы философии середины XVIII в. // Историко-философский ежегодник. М., 1991. С. 53— 74.
25. Липерт А. Кант и теория познания немецкого просвещения // Философские науки. 1976. № 3. С. 116—123.
26. Нарский И. С. Философско-эстетические идеи А. Баумгартена как один из стимулов теоретического развития Канта / / Кантовский сборник. Калининград, 1985. Вып. 10. С. 40—51.
27. Неустроев В. П. Немецкая литература эпохи Просвещения. М., 1958.
28. Панибратцев А. В. У истоков российской науки. Академик Г. Бильфингер. М., 1999.
29. Паульсен Ф. Германские университеты. СПб., 1904.
30. Троицкий М. Немецкая психология в текущем столетии. T. 1—2. М., 1883.
31. Фишер К. История новой философии. Т. 3. Лейбниц, его жизнь, сочинения и учение. СПб., 1905.
32. Фишер К. История новой философии. Т. 4—5. И. Кант и его учение. СПб., 1901—1905.
33. Христиан Вольф и русское вольфианство / / Философский век. Альманах № 3. СПб., 1998.
34. Шпет Г. История как проблема логики. М., 1916.
ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА О ВОЛЬФЕ И ВОЛЬФИАНСТВЕ
1. Ahrbeck Н. Chr. Wolffs Bedeutung für die Reform des akademischen Unterrichts / / Vierhundertfünfzig Jahre Martin Luther Universität Halle; Wittenberg. Bd. 2. 1952. S. 41—47.
2. Albrecht M. Kants Kritik der historischen Erkenntnis — ein Bekenntnis zur Philosophie Christian Wollfs. Bonn, 1970.
3. Albrecht W. Deutsche Spätaufklärung. Halle-Wittenberg, 1987.
4. Arndt H.-W. Der Möglichkeitsbegriff bei Chr. Wolff und J. H. Lambert. Göttingen, 1959.
5. Arndt H.-W. Christian Wolffs Verhältnis zu Leibnitz. Weimar; Heidelberg, 1987.
6. Aufklärung—Gesellschaft—Kritik. Studien zur Philosophie der Aufklärung (I) / Hrsg. M. Buhr, W. Förster. B., 1985.
7. Aufklärung—Geschichte—Revolution (II). B., 1986.
8. Aufklärung in Polen und Deutschland. Warszawa; Wroclaw, 1989.
9. Aus der Frühzeit der deutschen Aufklärung. Chr. Thomasius und Chr. Weise / Hrsg, von F. Bruggemann. Lpz., 1938.
10. Bachmann H. M. Die Naturrechtliche Staatslehre Christian Wolffs. B., 1977.
11. Baensch O. Johann Heinrich Lamberts Philosophie und seine Stellung zu Kant. Tübingen; Lpz., 1902.
12. Barthlein K. Von der «Transzendetalphilosophie der Alten» zu der Kants / / Archiv für Geschichte der Philosophie. № 58 (1976).
13. Baumann /. Wollfsche Begriffsbestimmungen. Ein Hilfsbüchlein beim Studium Kants. Lpz., 1910.
14. Baumgarten А. C. Metaphysik. 2 Aufl. Halle, 1766.
15. Baumgarten A. C. Aesthetica acromatica. Bd. I—II. 1750,1758.
16. Beck L. W. Early German Philosophy, Kant and His Predecessors. Cambridge (Mass.), 1969.
17. Becker C. Pietism’s confrontation with englightenment rationalism: an examination of the relation between ascetic protestantism and science // Journal for study of religion.
Storrs. 1991. Vol. 30. № 2. P. 139—158.
18. Beiträge zur Geschichte des vormarkxistischen Materialismus / Hrsg, von G. Stiehler. B., 1961.
19. Bender W., Dippel/. C. Der Freigeist aus dem Pietismus. Bonn, 1872.
20. Bergmann /. Wolffs Lehre von complementum posibilitatis. Untersuchungen über Hauptpunkte der Philosophie. Marburg, 1900.
21. Bianco Br. Le Wolffianismo et les lumières catholiques. L’anthropologie de Storchenau / / Archives de Philosophie. № 56 (1993). P. 353—388.
22. Bissinger A. Die Struktur der Götteserkenntnis. Studien zur Philosophie Chr. Wolffs. Bonn, 1970.
23. Blackwell R. J. Chr. Wolff Doctrine of the Soul // Journal of the History of Ideas. № 22 (1961). P. 339—354.
24. Blackwell R. J. The Structure of Wolffian Philosophy // The Modem Schoolman. № 38 (1960/1961). P. 203—218.
25. Bloch E. Christian Thomasius. Ein deutscher Gelehrter ohne Misere. B., 1953.
26. Brockdorf Cay von. Die deutsche Aufklärungsphilosophie. München, 1926.
27. Bruggeman F. Das Weltbild der deutschen Aufklärung. Lpz., 1930.
28. Büsching Anton Friedr., Beyträge zu der Lebensgeschichte denkwürdiger Personen, insonderheit gelehrter Männer. 1783.
29. Campo M. Chr. Wolff et il razionalismo precritico. Mil., 1939.
30. Carboncini S. Christian August Crusius und Leibniz-Wolffische Philosophie / / Studia Leibnitiana. Suppl. 26 (1986), S. 110—120.
31. Carboncini S. Transzendentale Wahrheit und Traum. Chr. Wolffs Antwort auf die Herausforderung durch der cartesianischen Zweifel. Stuttgart, 1990.
32. Cassirer E. Das Erkenntnisproblem in der Philosophie und Wissenschaft der neueren Zeit. Bd. 1—2. B., 1911.
33. Cassirer E. Die Philosophie der Aufklärung. Tübingen, 1932.
34. Cassirer E. Leibniz System in seiner wissenschafftlichen Grundlagen. Darmstadt, 1962.
35. Casula M. Die Beziehungen Wolff — Thomas — Carbo in der Metaphysica latina. Zur Quellengeschichte der Thomas-Rezeption bei Chr. Wolff / / Studia Leibnitiana. № 9 (1979). S. 98—123.
36. Ching/., Oxlolly W. C. Moral Enlightment: Leibniz and Wolff on China. L., 1992.
37. Christian Wolff als Philosoph der Aufklärung in Deutschland. Wissenschafftliche Beiträge. Der Martin-Lüter-Unversität. Halle-Wittenberg, 1980/32. (T. 37). Halle (Saale).
38. Christian Wolff oder von der «Freyheit zu philosophiren» und ihre Folgen. Dokumente über Vertreibung und Wiederkehr eines Philosophen / Hrsg, von Hans-Martin Gerlach. Halle, 1992.
39. Christian Wolff 1679—1754. Interpretationen zu seiner Philosophie und deren Wirkung. Mit einer Bibliographie der Wolff-Litteratur / Hrsg, von Werner Schneiders. Hamburg, 1983. (19862, Lit. bis 1985).
40. Ciafardone R. Le origine teologiche délia filosofia wolffiana e il rapporto ragione-espe-rienza // Pensiero. № 18 (1973). P. 54—78.
41. Ciafardone R. Uber das Primat der praktischen Vernunft vor der theoretischen bei Thomasius und Crusius mit Beziehung auf Kant / / Studia leibnitiana. Bd. XIV. № 1. 1982. S. 127—135.
42. CorrCh. A. Chr. Wolffand Leibniz // Journalofthe Historyofthe Ideas. № 36 (1975). P. 241—262.
43. Corr Ch. A. Did Wolff follow Leibniz? // Kant-Studien. № 65 (1974). S. 11—21.
44. Cramer К. Chr. Wolff über den Zusammenhang der Definitionen von Attribut, Modus und Substanz und ihr Verhältnis zu den beiden ersten Axiomen von Spinozas Ethik / / Spinozas Ethik und ihre frühe Wirkung / Hrsg, von K. Cramer, W. G. Jacobs u. W. Schmidt-Biggemann. 1981. S. 67—106.
45. Dellfosse H. Wolff-Index. Stellenindex und Konkordanz zu Chr. Wolff «Deutsche Logik». Frommann, 1987.
46. Dessoir M. Geschichte der neuren deutschen Psychologie. Erster Band. B., 1902.
47. Die Aufklärung in ausgewählten Texten, dargestellt und eingeleitet von G. Funke. Stuttgart, 1963.
48. Die Philosophie der deutschen Aufklärung. Texte und Darstellungen / / Hrsg, von
R. Ciafardone. Stuttgart, 1990.
49. DinklerR. Das Zeitalter der Aufklärung. Lpz.; B., 1917.
50. Dilthey W. Gesammelte Schriften. III Band: Studien zur Geschichte des deutschen Geistes. Stuttgart; Göttingen, 1969.
51. Droysen H. Friedrich Wilhelm I., Friedrich der Große und der Philosoph Chr. Wolff / / Forschungen zur Brandenburgischen und Preußischen Geschichte. № 23 (1910).
S. 1—34.
52. Duysing B. Chr. Beitrag zur Berufung des Philosophen Wolff nach Marburg // Justi K. W. Hessische Denkwürdigkeiten. 3 Teil. (1802). S. 230—234. 4 Teil. (1805). S. 558—560.
53. École /. De la connaissance qu’avant Kant de la métaphysique wolffienne, ou Kant avant-il la les ouvrages métaphysiques de Wblff? / / Archiv für Geschichte der Philosophie. № 73 (1991). S. 260—276.
54. École /. De la Demonstration «a posteriori» de l'existence et des attributs de Dieu, ou la «Theologia naturalis, Pars I» de Chr. Wolff // Giornale di Metafisica. № 28 (1973). P. 363—388; 537—560.
55. Ecole /. De la nature de l’âme, de l’âme, de la déduction de ses facultés, de ses rapports avec le corps, ou la «Psychologia rationalis» de Chr. Wolff // Giornale di Metafisica.
№ 24 (1969). P. 499—531.
56. Ecole /. De la notion de philosophie expérimentale chez Wolff // Les Etudes philosophiques. № 4 (1979). P. 397—406.
57. École J. Des rapports de l’expérience et de la raison dans l’analyse de l’âme ou la «Psychologia empirica» de Chr. Wolff // Giornale di Metafisica. № 21 (1966). P. 589—617.
58. Ecole J. En quels sens peut-on dire que Wolff est rationaliste? // Studia Leibnitiana. № 9 (1979). P. 45—61.
59. École /. La conception wolffienne de la philosophie d’après le «Discursus praeliminariis de philosophia in genere» // Filosofia oggi. № 4 (1978). P. 403—428.
60. Ecole /. La critique wolfiènne du Spinozisme // Bulletin de l’association des amis de Spinoza. 1981. P. 9—19.
61. Ecole /. La notion d’être selon Wolff ou la «désexistentialisation de l’essence» / / Can-nocchiale. 1989. P. 157—173.
62. Ecole J. La «Philosophia prima sive ontologia» de Chr. Wolff. Histoire, doctrine et méthode // Giornale di Metafisica. № 16 (1961). P. 114—125.
63. Ecole J. Les Opuscula metaphysica de Chr. Wolff // Filosofia oggi. № 6 (1983). P. 13—242.
64. École J. Les preuves wolfiènnes de l’existence de Dieu / / Archives de Philosophie. № 42 (1979). P. 381—396.
65. Ecole /. Logique formelle et logique de la vérité dans la «Philosophia rationalis sive logica» de Chr. Wolff // Filosofia oggi. № 4 (1981). P. 339—376; № 5 (1982). P. 71—102.
66. Eiben J. Von Luther zu Kant. Der deutsche Sonderweg in die Moderne. Eine soziologische Betrachtung. Stuttgart, 1989.
67. Engfer H. /. Philosophie als Analysis. Studien zur Entwicklung philosophischer Analysis-Konzeptionen unter dem Eifluss mathematischer Methodenmodelle im 17. und 18. Jahrhundert. Stuttgart-Bad Cannstatt, 1982.
68. Erdmann B. Martin Knutzen und seine Zeit. Ein Beitrag zur Geschichte der wölffischen Schulle und insbesondere zur Entwicklung-Geschichte Kant’s. Lpz., 1876.
69. Erdmann /. E. Grundriss der Geschichte der Philosophie. Bd. 1—2. B., 1896.
70. Erdmann J. E. Versuch einer wissenschafftlichen Darstellung der Geschichte der neuem Philosophie. Bd. 4. Stuttgart, 1932.
71. Freising W. Metaphysik und Vernunft. Das Weltbild von Leibniz und Wolff. Lüneburg, 1986.
72. Garcia /. /. E. Chr. Wolffon Individuation / / History of Philosophy Quarterly. № 10 (1993). P. 147—164.
73. Gawlick G., Kreimendahl L. Hume in der deutschen Aufklärung. Umrisse einer Rezeptionsgeschichte. Stuttgart, 1987.
74. Gelfert J. Der Pflichtbegriff bei Chr. Wolff und einiger anderen Philosophen der deutschen Aufklärung mit Rücksicht auf Kant. Borna, Lpz., 1907.
73. Gerlach H.-M.f Wollgast S. Christian Wolff — ein hervorragender deutscher Philosoph der Aufklärung // Deutsche Zeitschrift für Philosophie. 1979. H. 10. S. 1239— 1247.
76. Goebel J. Chr. Wolff and the Declaration of Independence // Deutsch-amerikanische Geschichtsblätter. № 18/19 (1918/1919). S. 69—87.
77. Grünwald M. Spinoza in Deutschland. B., 1897.
78. Grewendort M. Humes Rezeption zur Zeit der deutschen Aufklärung. B., 1987.
79. Geismar M. von. Bibliothek der Deutscher Aufklärer des 18. Jahrhunderts. 3. Hefte. Lpz., 1846—47.
80. Hammerstein N. Universitäten des Heiligen Römischer Reiches deutscher Nation als Ort der Philosophie des Barock // Studia Leibnitiana. Bd. XIII. H. 2. S. 242—266.
81. Heilemann P. A. Die Gotteslehre des Christian Wolff. Versuch einer Darstellung und Beurteilung. Lpz., 1907.
82. Heimsoeth H. Metaphysische Motive in der Ausbildung des kritischen Idealismus / / Kant-Studien. Bd. XXIX. H. 1/2. B., 1924. S. 121—159.
83. Heimsoeth H. Metaphysik der Neuzeit. München; B., 1927.
84. Heimsoeth H. Studien zur Philosophie Imm. Kant. Bonn, 1971.
85. Hinske N. Kant’s Weg zur Transzendentalphilosophie. Der dreissigjärige Kant. Stuttgart; B.; Köln; Mainz, 1970.
86. Hinske N. Die historischen Vbrlagen der Kantischen Transzendentalphilosophie / / Archiv für Begriffsgeschichte. 1968. S. 86—113.
87. Hissmann M. Psychologische Versuche. Ein Beitrag zur esoterischen Logik. Halle, 1777.
88. Honnefelder L. Scientia Transcendens: die formale Bestimmung des Seiendheit und Realität in der Metaphysik des Mittelalter und der Neuzeit. Hamburg, 1990.
89. Hume und Kant. Interpretationen und Diskussionen. Freiburg; München, 1982.
90. Idealismus und Aufklärung. Kontinuität und Kritik der Aufklärung in Philosophie und Poesie um 1780 / Hrsg, von Crh. Jamme, G. Kuzu. 1988.
91. Jacobi C. Die deutsche Aufklärungsphilosophie // Gesch. der Philos. in Einzeldarstellung. Bd. 26. München, 1926.
92. Joesten K. Chr. Wolffs Grundlegung der praktischen Philosophie. Lpz., 1931.
93. Kahl-Furthmann G. Inwiefern kann man Wolffs Ontologie eine Transzendentalphilosophie nennen? // Studia philosophica. № 9 (1949). S. 80—92.
94. Kahl-Furthmann G. Der Satz vom zureichenden Grunde von Leibniz bis Kant // Zeitschrift für philosophische Forschungen. 1976. Bd. 30. H. I. S. 107—122.
95. Kant I. Zur Logik und Metaphysik / Hrsg, von К Vorländer. Erste Abteilung: Die Schriften von 1755—1765. Lpz., 1921.
96. Kim S. B. Die Entstehung der kantischen Anthropologie und ihre Beziehung zur empirischen Psychologie der Wolffischen Schule. 1994.
97. Kirsten C. Die Kategorienlehre von Chr. Wolff und Hegel. Ein Vergleich ihrer Bestimmung und methodischen Entwicklung. Tübingen, 1973.
98. Knittermeyer H. Der Terminus transzendentalis in seiner historischen Entwicklung bis zu Kant. Marburg, 1920.
99. König E. Uber den Begriff der Objektivität bei Wolff und Lambert // Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik. № 84 (1884). S. 292—313.
100. Köpper J. Descartes und Crusius über «Ich denke» und leiblisches Sein des Menschen / / Kant-Studien. 1976. Hft. 3. S. 339—352.
101. Köpper J. Einfürung in die Philosophie der Aufklärung, Die theoretischen Grundlagen. Darmstadt, 1990.
102. Kraus G. Chr. Wolff als Botaniker. Lpz., 1892.
103. Krieger P. Die Erziehung zur Individualität und Brauchbarkeit. Das Bild vom Men
schen und die Philosophie Chr. Wolff und der Arbeitspädagogik des 18. Jahrhunderts. B., 1993. „
104. Krueger /. Chr. Wolff und die Ästhetik. B., 1980.
105. Lach D. F. The Sinophilism of Chr. Wolff (1679—1754) // Journal of the History of Ideas. № 14 (1953). P. 561—574.
106. Lamacchia A. Le origini del pensiero critico da Wolff a Kant. Bari, 1972.
107. Lambert /. H. Neues Organon oder Gedanken über die Erforschung und Bezeichnung des Wahren und dessen Unterscheidung vom Irrtuum und Schein. 2 Bde. Lpz., 1764.
108. Lambert J. H. Anläge zur Architectonie, oder Theorie des Einfachen und Ersten in der philosophischen und matematischen Erkenntnis. 2 Bde. Riga, 1771.
109. Lambert/. H. Philosophische Schriften / Hrsg, von H. W. Arndt. Bd. IX. Briefwechsel. Hildescheim, 1968 (R. N. 1782).
110. Lauener H. Hume und Kant. Eine systematische Gegenüberstellung einiger Hauptpunkte ihres Lehren. Bern; München, 1969.
111. Lenders W. The analytic logic of G. W. Leibniz and Chr. Wolff: a problem in Kant research // Synthese. № 23 (1971/1972). P. 147—153.
112. Lenders W. Die analytische Begriffs- und Urteilstheorie von G. W. Leibniz und Chr. Wolff. Hildesheim, 1971.
113. Marcolungo F. L. Wolff e il possibile. Padova, 1982.
114. Martin G. Leibniz. Logik und Metaphysik. B., 1967.
115. Materialisten der Leibniz-Zeit. Ausgewählte Texte. B., 1974.
116. Meier G. F. Anfangsgründe aller schönen Künste und Wissenschaften. Bd. 1—3. Halle, 1748—1750.
117. Meier G. F. Gedanken von Zustand der Seele nach dem Tode. Halle, 1746.
118. Meier G. F. Vemunftlehre. Halle, 1752.
119. Meier G. F. Auszug aus Vernunftlehre. Halle, 1748—1750.
120. Meier G. F. Die Metaphysik in vier Theilen. Halle, 1755—1759.
121. Meier R. Gott in den rationalistischen philosophischen Systemen von Descartes und Wolff: zu einigen Identitäten und Differenzen // Wiss. Ztschr. der Martin-Luther-Univ. Halle, 1990. Jg. 39. Hft. 6. S. 47—56.
122. Menzel W. Vernakuläre Wissenschaft. Chr. Wolff Bedeutung für die Herausbildung und Durchsetzung des Deutschen als Wissenschaftssprache. 1996.
123. Merker N. Chr. Wolff e la metodologia del razionalismo / / Rivista Critica di Storia della Filosofia. № 22 (1967). P. 271—293; № 23 (1968). P. 21—38.
124. Mittelstrass /. Neuzeit und Aulklärung: Studien zur Entstehung der neuzeitlichen Wissenschaft und Philosophie. B.; N. Y., 1970.
125. Möller H. Aufklärung in Preussen. Der Verleger, Publizist und Geschichtsschreiber Friedrich Nicolai. B., 1974.
126. Möller H. Deutsche Aufklärung 1740—1815. B., 1985.
127. Morrison J. C. Chr. Wolff criticism of Spinoza // Journal for the History of Philosophy. № 31 (1992). P. 405—420.
128. Mühlpfordt C. Die deutsche Aufklärung und ihr Zentrum Halle-Leipzig // Wissenschaftliche Annalen. 2. Jg. Hft. 6. B., 1953.
129. Mühlpfordt G. Die Jungwolffianer — Anfänge des radikalen Wolffianismus. Zur Differenzierung und Wirkung der Wölffschen Schule // Deutsche Zeitschrift für Philosophie. 1982. Hft. I. S. 63—76.
130. Mühlpfordt G. Deutsch-russische Wissenschaftsbeziehungen in der Zeit der Aufklärung (Chr. Wolff und die Gründung der Petersburger Akademie der Wissenschaften) / / Vierhundertfünfzig Jahre Martin Luther Universität Halle-Wittenberg. Bd. 2. 1952. S. 169—197.
131. Mühlpfordt C. Physiologie, Biologie und Agronomie im rationalistischen Wissenschaftssystem Chr. Wolff / / Die Entwicklung des medizinhistorischen Unterrichts / Hrsg, von A. Völker und B. Thaler. B., 1982. S. 74—91.
132. Namslau C. Rechtfertigung des Staates bei Chr. Wolff. B., 1932.
133. Nuovi studi sul pensiero di Chr. Wolff / A cura di S. Carboncini e L. Cataldi Madonna.
R. , 1992.
134. Odhner H. Lj. Chr. Wolff and Swedenborg // The New Philosophy. № 54 (1951). P. 237—251.
135. Ostertag H. Der philosophische Gehalt des Wolff-Manteuffelschen Briefwechsels. B., 1910.
136. Paolinelli M. Metodo matematico e ontologia in Chr. Wolff // Rivista di Filosofia neo-scolastica. № 66 (1974). P. 3—39.
137. Paolinelli M. San Tommaso e Ch. Wolff sull’argomento ontologici // Rivista di Filosofia neo-scolastica. № 66 (1974). P. 897—945.
138. Paulsen F. Versuch einer Entwicklungsgeschichte der Kantischen Erkenntnisstheorie. Lpz., 1875.
139. Pensa M. Das deutsche Denken. Untersuchung über die Grundformen der deutschen Philosophie. Elenbach-Zürich, 1948.
140. Petersen P. Geschichte der Aristoteleschen Philosophie in protestanischen Deutschland. Lpz., 1921.
141. Pf oh W. Mattias Knutzen. Ein deutscher Atheist und revolutionären Demokrat. B.,
1965. „
142. Pichler H. Über Christian Wolffs Ontologie. Lpz., 1910.
143. Piur P. Studien zur sprachlichen Würdigung Chr. W. Ein Beitrag zur Geschichte der neuhochdeutschen Sprache. 1903 (Ndr. 1973).
144. Pöhlmann R. Neuzeitliche Natur und bürgerliche Freiheit. Eine sozialgeschichtliche angeleitete Untersuchung zur Philosophie Imm. Kant’s. Münster, 1973.
145. Poser H. Zur Theorie der Modalbegriffe bei G. W. Leibniz. Wiesbaden, 1969.
146. Poser H. Zur Begriff der Monade bei Leibniz und Wolff / / Studia Leibnitiana. Bd. 14. Wissbaden, 1975. S. 383—395.
147. Poser H. Mögliche Erkenntnis und Erkenntnis der Möglichkeit. Die Transformation der Modalkategorien der Wolffschen Schule in Kants Kritischer Philosophie / / Grazer Philosophische Studien. 20 (1983). S. 129—147.
148. Pott M. Radikale Aufklärung und Freidenker. Materialismus und Religionskritik in der deutschen Frühafklärung // Deutsche Zeitschrift für Philosophie. B., 1990. Hft. 7.
S. 639—650.
149. Putz P. Die deutsche Aufklärung. Darmstadt, 1978.
150. Redmann H. Kants Gottesgedanke innerhalb der vorkritische Periode. B., 1958.
151. Reininger R. Kant. Seine Anhänger und seine Gegner. München, 1923.
152. Religionskritik und Religiosität in der deutschen Aufklärung. Heidelberg, 1989.
153. Rescher N. Leibniz and the Concept of a System // Studia Leibnitiana. Bd. XIII. № 2. 1981. S. 114—122.
154. Riehl A. Der philosophische Kritizismus: Geschichte und System. Erster Band. Ceschi-chte des philosophischen Kritizismus. Lpz., 1924.
155. Rouighi Vanni S. L’ontologismo di Wolff. Milano, 1941.
156. Rüdiger A. De sensu veri et falsi libri. Halle, 1709.
157. Rüdiger А. Herrn Christian Wolff s Meinung von dem Wesen der Seele und A. Rüdigers Gegenmeinung. Halle, 1727.
158. Ruello Fr. Chr. Wolff et la Scolastique // Traditio. № 19 (1963). P. 411—425.
159. Sala В. C. Die transzendentale Logik Kant’s und die Ontologie der deutschen Schulphilosophie / / Philosophisches Jahrbuch der Görresgesellschaft. № 95 (1988). Freiburg; München. S. 18—53.
160. Saine Th. P. Von der Kopernikanischen bis zur Französischen Revolution. Die Auseinandersetzung der deutschen Frühaufklärung mit der neuen Zeit. 1987.
161. Schäffler H. Deutscher Osten im deutschen Geist von Martin Opitz zu Chr. Wolff. B., 1940.
162. Schaffrath J. Die Philosophie des Georg Friedrich Meier. Ein Beitrag zur Geschichte der Aufklärungsphilosophie, (Diss.). Erschweiler, 1940.
163. Schepers H. Andreas Rüdigers Methodologie und ihre Voraussetzungen. Ein Beitrag zur Geschichte der deutschen Schulphilosophie im 18. Jahrhundert. Köln, 1959.
164. Scherwatzky R. Deutsche Philosophie von 1500—1800. Lpz., 1925.
165. Schmidt J. Geschichte des geistigen Lebens in Deutschland von Leibniz bis auf Lessing’s Tod. 1681—1781. Erster Band. Lpz., 1862; Zweiter Band. Lpz., 1864.
166. Schmidt H.-M. Sinnlichkeit und Verstand. Zur philosophischen und poetologischen Begriff von Erfindung und Urteil in der deutschen Aufklärung. München, 1982.
167. Schmidt-Biggeman W. Teodicee und Tatsache. Das philosophischen Profil der deutschen Aufklärung. 1988.
168. Schmucker J. Die Ontotheologie der vorkritischen Kant / / Kant-Studien Ergänzungshefte. Bd. 112. B.; N. Y., 1980.
169. Schmucker J. Kants kritischer Standpunkt zur Zeit der Träume eines Geisterseners im Verhältnis zu der Kritik der reinen Vernunft // Beiträge zur Kritik der reinen Vernunft. 1781—1981 / Hrsg, von I. Heidemann, N. Ritzel. B., 1981. S. 1—36.
170. Schmucker J. Kants vorkritische Kritik der Göttesbeweise. Wiesbaden, 1983.
171. Schneiders W. Leibniz—Thomasius—Wolff. Die Anfänge der Aufklärung in Deutschland // Studia Leibnintiana. Suppl. XXI/1.1973.
172. Schneiders W. Vernunft und Freheit, Chr.Thomasius als Aufklärer // Studia Leibnitiana. 1979. № 10.
173. Schneiders W. Die wahre Aufklärung. Zum Selbstverständnis der deutschen Aufklärung. Freiburg, München, 1974.
174. Schneiders W. Hoffnung auf Vernunft. Aufklärung in Deutschland. 1990.
175. Schober J. Die deutsche Spätaufklärung (1770—1790). Bern; Fr./M., 1975.
176. Scho ff 1er H. Deutsches Geistesleben zwischen Reformation und Aufklärung. (Von Martin Luther zu Chr. Wolff). Fr./M., 1974.
177. Schwer. Naturbegriff und Moralbegründung. Die Grundlegung der Ethik bei Chr. Wolff und deren Kritik durch Immanuel Kant. 1988.
178. Schröder W. Spinoza in der deutschen Frühaufklärung. 1987.
179. Schulz /. H. Philosophische Betrachtungen über Theologie und Religion überhaupt und über die jüdische inbesondernheit. 2. Aufl. Fr.; Lpz., 1786.
180. Schwaiger Clemens. Christian Wolff. Die zentrale Gestalt der deutschen Aufklärungsphilosophie // Philosophen des 18. Jahrhunderts. Eine Einführung / Hrsg, von L. Kreimendahl. B., 2000. S. 48—67.
181. Schwaiger Clemens. Das Problem des Glücks im Denken C. Wolff. Frf., 1995.
182. Schwitzke H. Die Beziehungen zwischen Aesthetik und Metaphysik in der deutsche Philosophie vor Kant. B.; Scharlottenburg, 1930.
183. Seibicke W. «Technica aut Technologia«. Chr. Wolff s Anteil an der Herausbildung des modernen Technikbegriffs // Festschrift für Friedrich von Zahn. 1971. S. 179— 199.
184. Seidel W. Gottfried Wilhelm Leibniz. Lpz.; Jena; B., 1979.
185. SeitzA. Die Willensfreiheit in der Philosophie des Chr. A. Crusius. Würzburg, 1899.
186. Sommer R. Grundzüge einer Geschichte der deutschen Psychologie und Aesthetik von Wolff—Baumgarten bis Kant—Schiller. Würzburg, 1892.
187. Sulzer J. C. Vermischte philosophische Schriften. 2 Bde. 1773—1774.
188. Tetens J. N. Die philosophiesche Werke. 4. Bde. 1777. (R. N. 1979) / Hrsg, von G. To-nelli.
189. Thomann M. Chr. Wolff et le droit subjectif / / Archives de Philosophie du Droit. № 9 (1964). P. 153—174.
190. Thomann M. Influence du philosophe allemand Chr. Wolff (1679—1754) sur «l’Encyclopédie» et la pensée politique et juridique du XVIIIe siècle française / / Archives des Philosophie du Droit. № 13 (1968). P. 234—248.
191. Thomann M. Voltaire et Chr. Wolff // Voltaire und Deutschland. Quellen und Untersuchungen zur Rezeption der Französischen Aufklärung / Hrsg, von P Borckmeier u. a.
B., 1979. S. 123—136.
192. Thomann M. Die Bedeutung der Rechtsphilosophie Chr. Wolff in der juristischen und politischen Praxis des 18. Jahrhunderts // Humanismus und Naturrecht in BerlinBrandenburg-Preußen. B., 1979. S. 121—133.
193. Todesco F. Dal «calcolo logico» alla «Riforma della metafisica»: Joh. Heinrich Lambert tra Wolff e Locke // Rivista di filosofia. Torino, 1986. Vol. 77. Fase. 2. P. 337—358.
194. Tonelli C. Der Streit über die matematische Methode in der Philosophie in der I. Hälfte des 18 Jahrhundert und die Enstehung von Kant’s Schrift über die «Deutlichkeit» // Archiv für Philosophie. № 9 (1959). S. 37—66.
195. Tonelli C. La Philosophie allemande de Leibniz à Kant. Histoire de la Philosophie. Paris, 1973. P. 728—785.
196. Topitsch E. Die Voraussetzungen der Transzendentalphilosophie Kants in weltanschau-ungs-analytischer Beleuchtung. Hamburg, 1975.
197. Troeltsch E. Leibniz und die Anfänge des Pietismus (1902) / / Troeltsch E. Gesammelte Schriften. Bd. IV: Aufsätze zur Geistesgeschichte und Religionssoziologie. Tübingen, 1925.
198. E. W. von Tschirnhaus und die Frühaufklärung in Mittel- und Osteuropa / Hrsg, von E. Winter. B., 1963.
199. Ubele W. Johann Nicolaus Tetens nach seiner Gesamtentwicklung betrachtet, mit besonderer Berücksichtigung des Verhältnisses zu Kant. Unter Benützung bisher unbekannt gebliebener Quellen. B., 1911.
200. Über den Prozess der Aufklärung in Deutschland in 18. Jahrhundert. Personen, Institutionen und Medien. Göttingen, 1987.
201. Utitz E. Chr.Wolff. Halle, 1929.
202. Vittadello A. M. Expérience et raison dans la psychologie de Chr. Wolff // Revue de la philosophie. № 71 (1973). P. 488—510.
203. Vleeschauwer H. J. Chr. Wolff et le «Journal Littéraire». Contribution à la Controverse Leibniz—Newton au sujet du Calcul différentiel // Philosophia naturalis. № 2
(1952/1953). P. 358—375.
204. Vleeschauwer H. /. La gènese de la méthode mathématique de Wolff // Revue Belge de philologie et d’historié. № 2 (1931). P. 631—677.
205. Vleeschauwer H. J. Wie ich jetzt die Kritik der reinen Vfernunf entwicklungsgeschichtlich lese // Kant-Studien. № 54 (1963). S. 351—368.
206. Wahl R. Professor Bilfingers Monadologie und prästabilierte Harmonie in ihrem Verhältnis zu Leibniz und Wolff / / Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik. Ne 85 (1884). S. 66—92; 202—231.
207. Was ist Aufklärung? Thesen und Definitinen / Hrsg, von E. Bahr. Stuttgart, 1974.
208. Winter E. Frühaufklärung. Der Kampf gegen den Konfessionalismus in Mittel und Osteuropa und die deutsch-slawische Begegnung. B., 1966.
209. Winter E. Halle als Ausgangspunkt der deutschen Russlandkunde im 18. Jhdt. B., 1953.
210. Winterfeld F. A. v. Chr. Wolff in seinem Verhältniss zu Friedrich Wilhelm 1. und Friedrich dem Großen // Nord und Süd. № 64 (1893). S. 224—236.
211. Wollgast S. I. Kant und seine philosophische Quellen // Zum Kant-Verständniss unserer Zeit. B., 1975. S. 19—45.
212. Wollfast S. Zur Philosophie in Deutschland von der Reformation bis zur Aufklärung. B., 1982.
213. Wundt M. Kant als Metaphysiker. Tübingen, 1924.
214. Wundt M. Die deutsche Philosophie im Zeialter der Aufklärung / / Zeitschrift für Deutsche Kulturphilosophie. Tübingen. Bd. 2. Hft. 3.1936. S. 225—250.
215. Wundt M. Chr. Wolff und die deutsche Aufklärung. Stuttgart; B., 1941.
216. Wundt M. Die deutsche Schulmetaphysik des 17. Jahrhunderts. Tübingen, 1939.
217. Wunner S. E. Chr. Wolff und die Epoche des Naturrechts. B., 1968.
218. Zart C. Einfluss der englischen Philosophen seit Bacon auf die deutsche Philosophie des 18. Jahrhunderts. B., 1881.
219. Zeller E. Wolffs Vertreibung aus Halle. Der Kampf des Pietismus mit der Philosophie // Preussisches Jahrbuch. № 10 (1862). S. 47—72.
220. Zeller E. Geschichte der deutschen Philosophie seit Leibniz. 2-te Aufl. München, 1875.
221. Zempliner A. Die chinesische Philosophie und J. Chr. Wolff / / Deutsche Zeitschrift für Philosophie. № 10 (1962). S. 758—778.
Составители
В. А. Жучков и А. В. Панибрати,ев
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
Августин Блаженный Аврелий (Augustinus Santus, 354—430) — христианский теолог и церковный деятель 194, 346 Авицена — см.: Ибн-Сина
Авсенев Петр Семенович (архимадрит Феофан, 1810—1852) — русский философ и психолог, проф. Киевской духовной академии 206 Анаксагор (ок. 500—428 до P. X.) — древнегреческий философ и ученый 194, 220, 232 Ананьев Борис Герасимович (1907—1972) — психолог, доктор психол. наук, проф. ЛГУ 150 Аничков Дмитрий Сергеевич (1733—1788) — русский философ и публицист, проф. Московского ун-та 122,133,142,145,150,151,158,159,185,192,201 Ансельм Кентерберийский (Anselm; 1033—1109) — теолог, философ-схоластик, архиепископ Кентерберийский 194
Арсений Грек — основатель и учитель Греко-латино-славянской школы при Патриаршем дворе в царствование Михаила Федоровича 215 Аржанухин Владислав Владимирович 164, 165, 221
Аристарх из Самофракии (II в. до P. X.) — александрийский грамматик, основатель филологической школы 109
Аристарх Самосский (III в. до P. X.) — древнегреческий астроном 233 Аристотель из Стагир (384—322 г. до P. X.) — древнегреческий философ, ученый-энциклопедист, основатель перипатетической школы 9,19, 37,106,110,128,132,137,147,152, 154,167,189,190,193,194,196,197,199,200,220,310,355 Арриаге Родриго де — испанский иезуит, представитель второй схоластики 193, 194, 215 Артемьева Татьяна Владимировна 161, 162, 164
Архимед из Сиракуз (ок. 287—212 г. до P. X.) — древнегреческий ученый, математик и механик 242, 315
Асмус Валентин Фердинандович (1894—1975) — доктор филос. наук, старший научный сотрудник Института философии АН СССР 106, 147, 160
Баадер Франц Ксавер фон (Baader; 1765—1841) — немецкий ученый и религиозный философ 192, 202
Баженов Василий Иванович (1737—799) — русский художник и архитектор 223 Бак И. 150
Бантыш-Каменский Николай Николаевич (1737—1814) — русский историк, архивист 223 Баранович Лазарь — см.: Лазарь Баранович
Барсов Антон Алексеевич (1730—1791) — проф. Московского ун-та, действительный член Петербургской Академии наук 185, 192 Баумгартен Александр Готлиб (Baumgarten; 1714—1762) — немецкий философ-вольфиа-нец, родоначальник эстетики как особой философской дисциплины 71, 93, 128, 132, 208 Баумейстер Фридрих Христиан (1708—1785) — немецкий философ, последователь Хр. Вольфа 106,127,128,132,133,142—145,148,153—159,184,197—200, 208 Бауэр В. 137
Безобразова Мария Владимировна (1857—1914) — первая русская женщина-профес-сиональный философ, доктор философии 136 Бёме Якоб (Böhme; 1575—1624) — немецкий философ-мистик 109, 116, 192, 202
Бернулли Яков (Bernoulli; 1759—1789) — проф. математики, академик 272 Бетховен Людвиг ван (Бетговин, Bethowen; 1770—1827) — немецкий композитор 108 Бетяев Я. Д. 150
Бильфингер Георг Бенгард (наст, фамилия — Вендель; 1693—1750) — немецкий философ, последователь Хр. Вольфа, проф. философии и математики 23, 132, 174, 208, 210, 212,214, 359
Блекей Роберт — проф. метафизик и логики Королевского колледжа в Белфасте 127 Бобров Евгений Александрович (1867—1933) — русский философ, историк философии, переводчик Лейбница 134, 135, 146
Бойль Роберт (Boyle; 1627—1691) — английский физик и химик, богослов 168, 171 Болотов Андрей Тимофеевич (1738—1833) — русский ученый-естествоиспытатель и философ, последователь Крузия 141, 142, 164, 184 ,
Бонавентура (Bonaventura, наст, имя — Джовани Фиданца; 1221—1274) — средневековый теолог и философ, глава францисканского ордена, кардинал 194 Бонне Шарль (Bonet, 1720—1793) — французский естествоиспытатель и философ, член-корреспондент Парижской Академии наук 135 Борк (Burk; 1730—1797) — английский мыслитель и государственный деятель 128 Брант Себастьян (Brant; 1458—1521) — немецкий сатирик 109
Бруккер Иоганн Яков (Brucker; 1696—1770) — немецкий историк философии 196, 197 Брянцев (Брянцов) Андрей Михайлович (1749—1821) — русский философ-рационалист, проф. Московского ун-та, директор Педагогического ин-та 133, 142, 145, 185, 192, 201 Будде Иоганн Франц (Buddeus; 1667—1729) — проф. философии в Галле и богословия в Иене 208
Бэкон Фрэнсис (Bacon; 1561—1626) — английский философ и государственный деятель, родоначальник методологии опытной науки 118, 130, 137, 140, 142, 147, 192
о
Вальх Иоганн Георг (Walch; 1693—1773/75) — немецкий богослов, проф. в Иене 208 Варьяш Шандор (Александр Игнатьевич; 1885—1925) — родился в Венгрии, с 1922 г. жил в СССР, проф. МГУ 146
Васецкий Григорий Степанович (1904—1983) — доктор филос. наук, проф. МГУ 147, 150,152
Васкес Марсилий (Vasqez; 1551—1611) — цистерцианский монах, преподавал богословие и философию в духе томизма в Риме, Ферраре и Флоренции 197 Введенский Александр Иванович (1856—1925) — русский философ-неокантианец, психолог, логик, проф. Петербургского ун-та, председатель Петербургского филос. об-ва 133,
148
Вебер Альфред (Weber; 1868—1958) — немецкий экономист, социолог и культуролог 137 Вебер Макс (Weber; 1864—1920) — немецкий социолог, культуролог, философ- неокантианец, создатель концепции идеальных типов J20 Вейгель Эрхард (Weihei) — проф. математики в Иене 350
первой четверти XIX в. 201
Виндельбанд Вильгейм (Windelband; 1848—1915) — немецкий философ-неокантианец, глава баденской школы 106, 137—139, 147
Винкельман Иоганн Иоахим (Winckelmann; 1717—1768) — немецкий историк классического искусства 108
Винклер Иоганн Генрих — проф. философии в Лейпциге 122, 133, 144, 145, 184, 196, 197, 208
Гавриил, архимандрит (Воскресенский Василий Николаевич; 1795—1868) — первый историк русской философии, богослов и проповедник 127, 202—204
Гадамер Ханс Георг (Gadamer) — немецкий философ-герменефтик 111, 116, 120 Галактионов Анатолий Андриянович — историк философии и общественной мысли в
России, проф. ЛГУ 152,156,157—159,167
Галилей Галилео (Galilei; 1564—1642) — итальянский естествоиспытатель, один из основателей современного экспериментально-теоритического естествознания 168, 215 Галич (Говоров) Александр Иванович (1783—1848) — русский философ и психолог, преподавал в Петербургском ун-те и Царскосельском лицее 125—127 Галлер Альбрехт (Haller; 1708—1777) — естествоиспытатель и поэт, проф. медицины и ботаники в Геттингеме 128, 135 Галятовский Иннокентий — см.: Иоаникий
Гаман Иоганн Георг (Haman; 1730—1788) — немецкий критик, писатель, философ-иррационалист 105
Гассенди Пьер (Gassendi; 1592—1655) — французский философ-материалист 333 Гегель Георг Вильгейм Фридрих (Hegel; 1770—1831) — немецкий философ, создатель теории диалектики 3, 8,15, 44,105,114,121,127,137,139—141,191,194, 202 Гейнекций Иоганн Готлиб (Heinecke; 1681 —1741) — проф. философии в Галле 145 Гейнце Макс (Heinze; 1835—1909) — проф. философии в Базеле, Кенигсберге и Лейпциге 132, 138
Гельвеций Клод Адриан (Helvétius, 1715—1771) — французский философ-материалист 133, 158~ w
Генкель И. — химик и металург из Фрейбурга 106
Георгий Конисский, архиепископ Могилевский и Белорусский (в миру — Конисский Григорий Осипович; 1717—1795) — философ-вольфианец и богослов, преподаватель и ректор Киево-Могилянской академии 215, 218 Гераклит из Эфеса (ок. 520—460 г. до P. X.) — древнегреческий философ 194 Гердер Иоганн Готфрид (Herder; 1744—1803) — немецкий философ, писатель-просветитель 157, 159
Герике Отто (Guericke; 1602—1686) — немецкий физик 168 Гете Иоганн Вольфганг (Goethe; 1749—1842) — немецкий поэт 108, 109 Гизель Иннокентий (1600—1683) — проф. и ректор Киево-Могилянского коллегиума 215—218
Глюк Эрнст (1657—1705) — магдебургский пастер, руководитель школы на Покровке в Москве 214
Гогарт Уильям (Hogart; 1697—1764) — английский рисовальщик, гравер и живописец, автор «Расчленения красоты» 128
Гогоцкий Сильверст Сильверстович (1813—1889) — русский философ-теист, богослов, проф. Киевского ун-та 129—132,147,195—197, 204, 205—208 Годунов Борис Федорович (ок. 1552—1605) — царь Московский с 1598 г. 215 Голубинский Федор Александрович (1797—1854) — русский философ и богослов, основатель философской школы Московской духовной академии, где был профессором 202, 206
Голльман Г. — проф. философии, вольфианец 142, 145
Готшед Иоганн Кристоф (Gottsched; 1700—1766) — немецкий теоретик литературы, критик, проф. в Лейпциге 148,153—155,157,159, 208 Гофманевальдау Христиан Гофманн (Hofmann von Hofmannswaldau; 1613—1679) — немецкий поэт 109
Гравесанд С. — голландский математик 135
Гриммельсгаузен, Ганс Яков Христофель фон (Grimmelshausen; 1625—1676) — немецкий прозаик 109
Грифиус Андрей (Gryphius; 1616—1664) — немецкий драматург и поэт 109 Гроций, Гуго де Грот (de Groot, латинизир. — Grotius; 1583—1645) — голландский юрист, один из основателей учения о естественном праве 199 Гудлинг — шут прусского короля Вильгейма I 124, 140, 181 Гуттен Ульрих фон (Hutten; 1488—1523) — немецкий мыслитель-гуманист 109 Гюйгенс Христиан (Huygens; 1629—1695) — голландский математик, астроном и физик 272, 337, 338
Данилов Михаил Васильевич (1722—1790) — автор мемуаров и «Писем к приятелю» 149, 162,182
Деборин Абрам Моисеевич (наст, фамилия — Иоффе; 1881—1963) — философ-марксист, академик АН СССР 147
Декарт Рене (Descartes, латинизир. — Renatus Cartesius; 1596—1650) — французский философ-рационалист, один из родоначальников новой философии, математик 11, 25—31, 63,71,101,102,114,118,131,164,167,174,178,180,193,195,203,205,215,272,304,306,360, 366
Демичев Виталий Анатольевич (1930—1994) — доктор филос. наук, проф. МГУ 152— 158
Демокрит из Абдер (ок. 460 г. до P. X.—?) — древнегреческий философ-атомист, ученый-энциклопедист 194, 220
Державин Гавриил Романович (1743—1816) — русский поэт 185 Десницкий Семен Ефимович (1740—1789) — русский ученый-юрист, академик Петербургской Академии наук 192, 201
Дидро Дени (Diderot; 1713—1784) — французский писатель, философ-материалист 128, 153
Диоген Лаэртий (1-я половина III в. по P. X.) — афинский грамматик, автор единственной дошедшей до наших дней древнегреческой истории философии 197 Дионисий Ареопагит — см.: Псевдо-Дионисий Дмитриченко В. С. 153, 156 Добрынин Н. 147
Дубневич Амвросий — префект (преподаватель) философии Киево-Могилянского коллегиума 190, 195
Дунс Скотт Иоанн (Duns Scotus; 1266—1308) — монах-францисканец, теолог и философ, схоласт-августинец 194
Евгений (Казанцев), иеромонах — преподаватель Московской Духовной академии с 1810— 1814 г. 201
Евклид (315—255 г. до P. X.) — древнегреческий математик, основатель школы математиков в Александрии 64, 168, 282, 360, 363, 367 Ернесин (Ернести) Иоган Август (Ernesti; 1707—1781) — немецкий писатель, проф. классической филологии и теологии в Лейпциге 208
Жучков Владимир Александрович — ведущий сотрудник Института философии РАН 160, 161
Заборовский Рафаил — см.: Рафаил
Зеньковский Василий Васильевич (1881—1962) — русский философ и психолог, историк русской философии 150, 151, 190, 191, 209
Зигомала Иоанн (1498—?) — греческий церковный деятель, ознакомивший (вместе со своим сыном) западный мир с вероучением православного Востока 220 Золотницкий Владимир Трофимович (1743 или 1741—1797) — русский чиновник, писатель-моралист 133,135,149,157,162,182 Зуев Василий Федорович (1754—1794) — русский зоолог, академик 164 Зульцер Иоганн Георг (Sulzer; 1720—1779) — немецкий эстетик, последователь Хр. Вольфа 93,141
Зырянов Н. А. 158,159
Ибервег Фридрих (Ueberweg; 1826—1872) — немецкий историк философии 132, 138, 147
Ибн-Сина Абу Али Хусейн ибн Абдаллах (латинизир. — Авицена, Avicena; 980—1037) — философ, представитель восточного аристотелизма, ученый и врач 194 Иоаникий (в миру — Галятовский Иннокентий; ? —1688) — ректор Киево-Магилянс-кого коллегиума, представитель схоластической проповеди 218
Иоаким, патриарх (Савелов; 1620—1690) 219
Иоанн Дамаскин (ок. 675—до 753) — византийский богослов, систематизатор греческой патристики 194
Иов, митрополит Новгородский (?—1716) — открыл при своем дворе в 1706 г. училище гуманитарного профиля 221
Иосиф Туробойский — архимадрит Московского Симонова монастыря 194 Иовчук Михаил Трифонович (1908—1990) — советский философ, член-корреспондент АН СССР 142,150
Иоасаф, митрополит Киевский (Кроковский; ?—1718) — проповедник-панегирист, префект (преподаватель) Киево-Могилянского коллегиума 215, 217 Истомин Карион Заулонский (конец XVII—начало XVIII в.) — иеромонах Московского Чудова монастыря, автор букварей, переводчик и проповедник 222, 223
Калиновский Стефан — см.: Стефан Калиновский
Кальвин Жан (Calvin, латинизир. — Calvinus; 1509—1564) — деятель Реформации, основатель пуританства 219
Каменский Захар Абрамович (1915—1999) — доктор филос. наук, старший научный сотрудник Института философии РАН 202
Камерарий Иоахим (Camerarius; 1500—1574) — немецкий филолог и историк, проф. в Нюрнберге, Тюбингене и Лейпциге 110
Кампанелла Томмазо (Campanella; 1568—1639) — итальянский философ, поэт и политический деятель, создатель коммунистической утопии 220 Кант Имануил (Cant; 1724—1804) — немецкий философ, основатель критицизма 3, 9, 10, 15,17,20,22,26,45,104,105,111,114,115,120,127—129,134,137,139,140,143,145,146,191, 192,198, 202—204,208,209
Кантемир Антиох Дмитриевич (1708—1744) — русский государственный деятель, писатель, философ 127, 223
Карпе Франц Самуэль (Кагре) — австрийский философ 44, 196
Карпов Василий Николаевич (1798—1867) — русский философ, переводчик Платона, проф. Санкт-Петербургской Духовной академии 146, 206 Каченовский Михаил Трофимович (1775—1842) — историк, переводчик, проф. Московского ун-та 127
Каэтан, кардинал (в миру — Томмазо де Вико; 1468—1534) — представитель второй схоластики 215
Кедров Николай Николаевич (1858—?) — историк Русской Православной Церкви 152 Кеплер Иоганн (Kepler; 1571—1630) — немецкий астроном 168, 369 Кларк Самуил (Clarke; 1675—1729) — английский рационалист и моралист 167, 242, 267, 286, 291, 292
Клауберг Иоганн (Clauberg; 1622—1665) — немецкий философ-окказиналист 366 Княжнин Яков Борисович (1740—1791) — русский драматург, поэт, писатель 184 Коган Ю. Я. 148—150,152,153,156
Козачинский Мануил Иванович (в монашестве — Михаил; 1699—1755) — префект (преподаватель) философии и латинского языка Киево-Могилянского коллегиума, писатель 218
Козельский Яков Павлович (ок. 1728—1795) — русский философ-вольфианец, преподаватель Артиллерийского инженерного училища 133, 148—150, 153—159, 183, 184, 192, 201
Колубовский Яков Николаевич (1863—?) — историк русской философии, переводчик 133, 148
Кондильяк Этьен Боно де (Condillac; 1715—1780) — французкий философ-просветитель 129
Кононович-Горбацкий И. — префект (преподаватель) Киево-Могилянского коллегиума 216 Коперник Николай (Kopernik; 1473—1543) — польский астроном, создатель гелиоцентрической системы 137, 215
Красносельский А. — проф. Московской Духовной академии в 1826—1829 гг. 201
Крашенинников Степан Петрович (1711 —1755) — исследователь Камчатки, проф. ботаники и натуральной истории, академик Петербургской Академии наук 223 Кроковский Иоасаф — см.: Иосаф
Круг Вильгейм Трауготт (Krug; 1764—1844) — немецкий философ- кантианец, историк философии 140, 146
Крузий Христиан Август (Crusius; 1715—1775) — немецкий теолог и философ, проф. теологии в Лейпциге 104, 208
Кулябка Семен Петрович (в монашестве — Сильвестр; 1701—1761) — префект (преподаватель) риторики, философии и богословия в Киево-Могилянском коллегиуме 218 Курганов Николай Гаврилович (1725/26—1796) — проф. математики, вольфианец 142 Курдюков В. Е. 159
Кутневич В. И. — проф. Московской Духовной академии 201, 206
Лазарь Баранович, архимандрит Черниговский (1620—1693) — преподаватель, затем ректор Киево-Могилянского коллегиума 218
Ламберт Иоганн Генрих (Lambert; 1728—1777) — немецкий математик, физик и экономист 104
Ланге Иоган Иоахим (Lange; 1670—1744) — немецкий богослов, обвинитель Вольфа в атеизме, проф. в Галле 140
Ланге Фридрих Альберт (Lange; 1828—1875) — немецкий философ-неокантианец, проф.
Цюрихского и Марбугского ун-тов 138, 208 Лейбниц Готфрид Вильгейм (Leibniz, Leibnitz; 1646—1716) — немецкий ученый и философ 6,8,9, И, 20,23,25—31,33,36,37,44—46,58,60—65,68-70,74,77,79,101,102, ПО-121, 127,129—132,134—140,143,145,147,150,152,157—160,164,165,167,170,171,173, 175,180—183,189,195—197, 203,205, 207, 211—214, 242,254, 267, 272, 286—288, 291, 293,297,305, 309, 319,320,361, 366, 367, 373
Ленин (Ульянов) Владимир Ильич (1870—1924) — русский революционер-марксист и государственный деятель 139, 141 Лентул Кириак — проф. из Гербона 366
Лессинг Готхольд Эфраим (Lessing; 1729—1781) — немецкий писатель-просветитель, критик и теоретик искусства 108, 109, 120, 128, 136
Лихуд Иоанникий (в миру — Иоанн; 1633—1717) — русский богослов греческого происхождения, преподаватель философии 219—222 Лихуд Софроний архимандрит Солотчинского Рязанского монастыря (в миру — Спиридон; 1652—1730) — русский богослов греческого происхождения, преподаватель философии 219—222
Лодий Петр Дмитриевич (1764—1829) — русский философ, проф. Львовского и Краковского ун-тов 142, 143
Локк Джон (Locke; 1632—1704) — английский философ, основатель сенсуализма 100, 129,140,167,205, 291,292,310
Ломоносов Михаил Васильевич (1711—1765) — ученый-естествоиспытатель, поэт и мыслитель, основатель Московского ун-та, академик Петербургской Академии наук, почетный член нескольких зарубежных Академий наук 126, 136, 141, 142, 145, 146—148, 150—152,157,159,164—173,192,193, 205, 222, 223 Лопатинский Феофилакт (см.: Феофилакт) (70-е г. XVIII в.—1741) — архиепископ Тверской, церковный деятель, философ, проф. теологии и ректор Славяно-греко-латинской академии 201, 217
Лопухин Иван Владимирович (1756—1816) — русский государственный деятель, сенатор, писатель 162
Лоэнштейн Даниэль Каспар (Lohenstein; 1635—1685) — один из главных представителей так называемой второй силезской школы поэтов 109 Лубкин Александр Степанович (1771—1815) — русский философ, проф. Казанского унта 142, 143
Луи-Филипп, герцог Орлеанский (1808—1873) — французский король (1830—1848) 140 Луппол Иван Капитонович (1896—1943) — проф. МГУ 146
Мабли Габриэль Бонно де (МаЫу; 1709—1785) — аббат, французский писатель 134 Магницкий Леонтий Филиппович (1669—1739) — русский математик, автор одного из первых учебников по математике 222, 223
Магницкий Михаил Леонтьевич (1778—1855) — обскурант, член главного правления училищ в Министерстве духовных дел и просвещения, попечитель Казанского учебного округа 143
Максим Грек ( наст, имя — Михаил Триволис; ок. 1470—1555) — русский мыслитель греческого происхождения, философствующий богослов и переводчик 127 Мануций Павел (Manucci; 1512—1574) — латинист, один из представителей знаменитой венецианской семьи типографов 110
Маркс Карл Генрих (Marx; 1818—1883) — немецкий мыслитель, экономист, основоположник коммунистического движения 16, 139—141 Мартини Христиан (1699—после 1739) — немецкий наемный академик по кафедре физики, затем логики и метафизики 210
Мартынов Авксентий Матвеевич (1787—1858) — русский поэт, беллетрист, критик 127 Медведев Сильвестр (1641—1691) — русский просветитель, богослов и философ 219 Мендельсон Мозес (Mendelsohn; 1729—1786) — немецкий философ, теолог и проповедник еврейского происхождения 135, 157, 159
Менке О. — один из организаторов первого немецкого научно-литературного журнала 110 Микешин М. И. 161, 162, 164 ~
Милюков Павел Николаевич (1859—1943) — русский историк и общественный деятель 134, 183
Могила Петр — см.: Петр Могила 215
Молина Луис де (1535—1600) — испанский теолог, представитель второй схоластики 193, 194
Монтескье Шарль Луи де Секонда, барон де Бред и де (Montesqieu; 1689—1755) — французский философ, историк и правовед, идеолог Просвещения 133, 158 Мопертюи Пьер Луи де (Moreau de Manpertuis; 1698—1759) — французский ученый, физик и математик, президент Берлинской Королевской академии 125 Моцарт Вольфганг Асмодей (Mozart; 1756—1791) — австрийский композитор 108 Мошерош Иоанн Михаил (Moscheroch; 1601—1669) — немецкий сатирик 110 Мурнер Томас (Murner; 1475—1537) — немецкий сатирик и латинист 109 Мусин-Пушкин Алексей Иванович (1744—1817) — граф, русский археолог, член Петербургской академии 127
Мустафин Владимир — протоиерей, историк русской Православной Церкви 196
Надеждин Николай Иванович (1804—1856) — русский философ-шеллингианец, литературный критик 201, 202
Надёжин Федор Сергеевич — русский историк философии 126, 145 Наполеон I Бонопарт (Napoleon Buonaparte; 1769—1821) — французский полководец, император 139
Нейкирх Вениамин (Neukirch; 1665—1729) — немецкий поэт, представитель «галантной поэзии» 109
Никандров Петр Федорович (1923—1975) — историк философии и общественной мысли в России, доктор филос. наук, проф. ЛГУ 152, 156—159, 167 Никитенко Александр Васильевич (1805—1877) — русский историк литературы и критик 132, 182
Никольский Т. Ф. — проф. философии Московской Духовной академии 201 Ницше Фридрих (Nietszhe; 1844—1900) — немецкий философ-иррационалист 3 Ньютон Исаак (Newton; 1643—1727) — английский физик и астроном, проф. Кембриджского ун-та 290
Овиедо (Овьедо) Франческо де — испанский иезуит, представитель второй схоластики 194, 215
Оккам Вильгейм (Ockham; 1280—1349) — философ-номиналист, представитель поздней схоластики — 194
Олеарий Адам (Oelschläger, латинизир. — Oleari; ок. 1600—1671) — голштинский ученый, член посольства в Москву 215
Ольденбург Сергей Федорович (1863—1934) — русский востоковед, буддолог, академик 267
Опиц Мартин (Opitz; 1597—1639) — немецкий поэт, родом из Силезии 109
Палладий Роговский (1655—1703) — игумен Московского Заиконоспасского монастыря, первый русский доктор философии и богословия 222 Панибратцев Андрей Викторович — научный сотрудник Института философии РАН 201 Парменид из Элеи (ок. 515 или 544—?) древнегреческий философ, основатель элейской школы 194
Пауз Иоганн Вернер (Паус; 1670—1735) — учитель школы пастора Э. Глюка, преподавал риторику, политику, философию, логику 214 Певницкий И. М. — преподаватель философии Московской Духовной академии в 1820 г. 201 ж
Петр I Алексеевич, Великий (1672—1725) — российский император 4, 8, 182 Петр Могила, митрополит Киевский (Могила Петр Семенович; 1596/97—1647) — основатель Киево-Могилянского коллегиума 215 Петров Василий Петрович (1736—1799) — поэт, учитель поэзии и риторики в Московской Духовной академии 223 Петров Л. А. 159
Платон (ок. 428—348 до P. X.) — великий древнегреческий философ 9, 128, 136, 137, 167,190,192—194,199 ^
Платон, митрополит Московский (в миру — Левшин Петр Егорович) — богослов, проповедник 219
Плеханов Георгий Валентинович (1856—1918) — первый теоретик марксизма в России 141
Плюшар Адольф Александрович (1806—1865) — издатель «Энциклопедического лексикона» 126,127
Пнин Иван Петрович (1773—1805) — русский просветитель, публицист, поэт 183 Подшивалов Василий Сергеевич (1765—1813) — русский писатель 127 Поликарпов-Орлов Федор — автор «Букваря» (1701 г.) и «Грамматики» (1721 г.) 222 Поп Александр (Pope; 1688—1744) — английский поэт на философские темы 128 Поповский Николай Никитич (1730—1760) — русский философ, преподаватель Московской Славяно-греко-латинской академии и Петербургского академического ун-та 127,
136,185,192, 201,223
Порфирий (настоящее имя — Малх; 232—305) — древнегреческий философ-неоплатоник 220
Порфирьев Иван Яковлевич (1823—1890) — русский историк литературы 134 Постников Петр Васильевич — первый русский доктор медицины и философии 223 Протагор из Абдеры (ок. 490—420 до P. X.) — древнегреческий философ, софист старшего поколения 232
Псевдо-Дионисий Ареопагит — неизвестный христианский мыслитель V — начала VI в., представитель поздней патристики 194, 221
Пуффендорф Самуил (1632—1694) — немецкий правовед, проф. естественного и международного права из Гельденберга 113
Раббот Б. 160
Радищев Александр Николаевич (1749—1802) — русский философ и писатель 134, 135, 146,150,151,164,183
Радлов Эрнест Леопольдович (1854—1928) — русский историк философии, директор Петербургской публичной библиотеки 141—143, 145, 148, 151 Раупах Эрнст Беньямин Соломон (1784—1852) — немецкий драматург, проф. Педагогического ун-та в Петербурге 140
Рафаил Заборовский, митрополит Киевский и Галицкий(в миру — Михаил; 1677—1747) — церковный деятель, попечитель Киево-Могилянского коллегиума 223 Рейналь Гильом Томас Франсуа (Raynal; 1713—1796) — французский историк и философ 134
Рейнгольд Христиан Эрнест (Reinhold; 1793—1833) — немецкий философ, проф. в Иене 126, 145
Рейтер Христиан (Reuter; 1665—?) — немецкий сатирик 109 Рейхлин Иоганн (1455—1522) — немецкий гуманист 109
Рейш Георг (?—1523) — германский энциклопедист, монах картезианского ордена 208 Рижский Иван Степанович (1759—1811) — логик, автор одного из первых учебников по логике в России, проф. и ректор Харьковского ун-та 142, 143, 145 Роговский Палладий — см.: Палладий Роговский
Розанов Василий Васильевич (1856—1919) — русский философ и писатель 133 Рубан Василий Григорьевич (1742—1795) — русский писатель и переводчик 223 Румовский Степан Яковлевич(1734—1812) — русский математик, астроном и географ, академик Петербургской академии наук 174 Руссо Жан-Жак (Rousseau; 1712—1778) — французский философ-просветитель 133, 134,
158 и Рюдигер Андреас (Rüdiger; 1673—1731) — немецкий философ, ученик Хр. Томазия, проф.
философии в Галле и Лейпциге 208
Семенов — русский писатель, автор «Положения философического» 157 Семенов-Головин Николай — русский переводчик 222 Сенека Луций Анней (ок. 4—65 по P. X.) — римский философ-стоик 199 Сидонский Федор Федорович, протоирей (1805—1873) — русский философ и богослов, проф. Петербургской Духовной академии, действительный член Императорской Академии наук 127, 146
Синьковский Дмитрий Николаевич (1760/62—?) — русский философ, проф. логики и нравственной философии Московского ун-та 145 Скворцов Иван Михайлович (1795—1863) — русский историк философии и богослов, проф. Киевской Духовной академии 146, 206 Словцов Петр Андреевич (1767—1843) — русский историк 164 Сократ (ок. 470—399 до P. X.) — легендарный древнегреческий философ 167, 193 Соловьев А. Э. 163
София-Шарлотта Брандебургская (1668—1705) — прусская королева 124, 174 Спиноза Барух (латинизир. имя — Бенедикт, Spinoza; 1632—1677) — нидерландский философ-пантеист еврейского происхождения 63, 71, 101, 102, 114, 134, 141, 169, 291, 292 Стефан Яворский, митрополит Рязанский и Муромский ( в миру — Симеон Иванович;
1658—1722) — богослов и философ 215, 217, 218, 221, 222 СтрОТИЙ Я. М. 216
Суарес Франческо (Suarez; 1548—1617) — испанский философ, представитель второй схоластики 193, 194, 195, 215
Сумароков Александр Петрович (1718—1777) — русский писатель и поэт 184 Сырейщиков Евгений Борисович (?—1790) — русский философ и писатель, проф. логики и метафизики Московского ун-та 145
Тейхмюллер (Teichmüller; 1832—1888) — русский философ-персоналист немецкого происхождения, проф. Дерптского ун-та 134
Теплов Григорий Николаевич (1717—1779) — русский философ-рационалист вольфиан-ского толка, проф. 136, 157, 159, 162, 164, 165
Тетенс Иоганн Николаус (Tetens; 1736—1807) — немецкий мыслитель, критик рационализма 104
Толете Франсиско (1532—1596) — испанский иезуит и философ 194 Томазий Христиан (Thomasius; 1655—1728) — немецкий философ и юрист, проф. и ректор ун-та в Галле 110, 113—115, 205
Томазий Якоб (Thomasius; 1622—1684) — немецкий филолог и математик, проф. в Лейпциге 110, 114
Томсон Джеймс (Thomson; 1700—1748) — английский поэт 128 Тредиаковский Василий Кириллович (1703—1768) — русский поэт, просветитель, переводчик 185
Троицкий Матвей Михайлович (1835—1899) — психолог и философ-позитивист, проф.
Казанского и Московского ун-тов 129, 131, 132, 147 Тукалевский — русский историк 135, 151 Туробойский Иосиф — см.: Иосиф Туробойский
Тюммиг Людвиг Филипп (Tümming; 1690—1728) — немецкий философ, секретарь Хр. Вольфа 23,169, 206, 213, 214, 323
Фалес из Милета (ок. 625—547 до P. X.) — первый исторически известный представитель древнегреческой философии 58, 194, 220 Фалькенберг Рихард Фридрих (Falckenberg; 1851—1920) — проф. философии Эрлан-генского ун-та 138, 139, 147
Феолог (начало XVIII в.) — монах Московского Чудова монастыря, участвовал в работе над исправлением Словенской Библии 222
Феофан Прокопович (1677—1736) — богослов, проповедник, глава «ученой дружины» Петра I 185, 201, 215, 217, 218
Феофилакт Лопатинский, архиепископ Тверской (70-е гг. XVII в. —1741) — церковный деятель, философ, преподаватель теологии и ректор Словяно-греко-латинской академии, член Святейшего Синода 201, 217, 219
Фесслер Игнатий Аврелий (Fessier; 1756 —1809) — урожениц Венгрии, проф. философии в Петербургской Духовной академии 201, 202 Фихте Иоганн^отлиб (Fichte; 1762—1814) — немецкий философ и общественный деятель, проф. Иенского и Берлинского ун-тов 3, 105, 137, 192, 202, 203, 209 Фишер Куно (Fischer; 1824—1907) — немецкий историк философии, гегельянец, проф. ун-та в Гейдельберге 114, 119, 137, 138, 147
Флеминг Пауль (Fleming; 1609—1640) — немецкий поэт,крупнейший лирик немецкого барокко 109
Фома Аквинский (Thomas Aquinas; 1225/26—1274) — средневековый философ и теолог, систематизатор ортодоксальной схоластики, основатель томизма 64, 193, 194 Фонсека Педру да (1528—1599) — испанский теолог 193 Фридрих II (1712—1786) — король Пруссии 124, 204 Фридрих I Великий (1688—1740) — король Пруссии 13, 204 Фроманн Иоганн Генрих — выходец из Германии, проф. Московского ун-та 145 Фромм Э. (1900—1980) — немецко-американский философ, психолог, социолог, основпо-ложник неофрейдизма 108
Фуллье Альфонс (Fouillée; 1838—?) —французский философ 137
Хабермас Юрген (Habermas) — немецкий философ, социолог и культуролог 107, 108, 111 Хайдеггер Мартин (Heideger; 1889—1976) — немецкий философ-экзистенционалист 120 Хижняк 3. И. 215
Хорн Иоганн фон — префект (преподаватель) философии в Московской Духовной академии с 810 по 1814 г. 196, 201
Целлер Эдуард (Zeller; 1814—1908) — немецкий историк античной философии 147 Цицерон Марк Тулий (Cicéron; 106—43 до P. X.) — римский государственный деятель, теоретик риторики 174, 194, 199
Чарнуцкий Христофор — префект (преподаватель) философии Киево-Могилянского коллегиума 215
Чернышевский Николай Гаврилович (1828—1889) — русский философ-материалист, социалист, писатель и критик 109, 128, 129
Чингауз (Чингаузен) Эренфрид Вальтер фон (Tschinhausen, Tschinhaus; 1651—1708) — немецкий естествоиспытатель и философ 203, 205 Чуйко Владимир Викторович (1839—1899) — русский публицист и литературный критик 148
Шаден Иоганн Матис (Schaden; 1731—1797) — проф. философии Московского ун-та, воспитанный на философии Хр. Вольфа 141, 145 Швеглер Альберт (Schvegler; 1819—1857) — немецкий историк философии, гегелианец, проф. в Тюбингене 138
Шейблер Христофор (1589—1653) — проф. Гиссенского ун-та 195 Шеллинг Фридрих Вильгейм Йозеф (Schelling; 1775—1854) — немецкий философ, создатель теории трансцедентального тождества 3, 105, 127, 191, 192, 202, 203, 209 Шиллер Иоганн Фридрих (1759—1805) — немецкий поэт-романтик 108, 140 Шкуринов Павел Семенович — историк русской философии, проф. МГУ 163 Шлейтер С. В. 164
Шоттель Юстус Ггеорг (Schottelius; 1612—1676) — немецкий филолог-лингвист 109 Шпет Густав Густавович (1879—1937) — русский философ-гуссерлианец, проф. Московского ун-та 136,137,141,143—147,151,165,183
Щербатов Михаил Михайлович (1733—1790) — князь, историк, публицист 135, 157, 182 — 184
Щербатский Георгий — префект (преподаватель) философии в Киево-Могилянском коллегиуме 190, 195
Щипанов Иван Яковлевич (1904—1983) —историк русской философии, доктор филос. наук, проф. МГУ 150,151,153,158
Эйлер Леонард (Euler; 1707—1783) математик, механик и физик 124, 125, 129, 141, 142, 145, 166,171,173—181
Эмпедокл из Акраганта (ок. 490—ок. 430 P. X.) — древнегреческий философ и государственный деятель 194
Энгельс Фридрих (Engels; 1820—1895) — немецкий мыслитель, друг и соратник К. Маркса 15,108,120,139—141,155
Эпикур (341—270 до P. X.) — древнегреческий философ-атомист 194, 200, 220
Эразм Роттердамский (Erasmus Roterodamus,1 псевдоним Герхарда Герхардаса; 1469— 1536) — ученый, христианский гуманист, богослов, представитель северного Возрождения 109
Юм Дэвид (Hume; 1711—1776) — английский философ, историк и экономист 100, 102, 104,105
Юнг Иоахим (1587—1657) — немецкий естествоиспытатель и философ 109
Юсти Иоган Генрих Готлиб (Justi; ?—^1771) —• немецкий экономист, минеролог, профессор в Геттингене 125
Якоб Людвиг Генрих Конрад (Jakob Людвиг Кондратьевич; 1759—1827) — выходец из Германии, проф. философии в Галле, затем в Харьковском ун-те 145
Якоби Фридрих Генрих (Jacobi; 1743—1819) — немецкий философ, главный представитель «философии чувства и веры» 105
Яковенко Борис Валентинович (1884—1949) — русский философ-неокантианец 141, 151
ХРИСТИАН ВОЛЬФ И ФИЛОСОФИЯ В РОССИИ
Редактор-составитель В. А. Жучков Редактор И. М. Анисимова Корректор Е. В. Попова Верстка С. В. Степанов
Петербург, наб. р. Фонтанки, 15. Лицензия № 00944 от 09.02.2000 г.
Издательство Русского Христианского гуманитарного института. 191011, Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, 15. Лицензия № 00944 от 09.02.2000 г.
Подписано в печать 11.06.2001. Формат 70 X 100 1/16. Бум. офсетная. Гарнитура Academy. Печать офсетная. Усл. печ. л. 25,00. Тираж 1000 экз. Зак. № 642
ИЧП «Университетская книга». Тел.: (812) 232—21—04; ИТД «Летний сад». Тел.: (095) 290—06—88.
Отпечатано с готовых диапозитивов в Академической типографии «Наука» РАН. 197034, Санкт-Петербург, 9-я линия, 12
По вопросам оптовых закупок обращаться по адресам: 191011, Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, 15, Издательство Русского Христианского гуманитарного института. Факс: (812) 311—30—75; e-mail: rector@rchgi.spb .ru. URL: ;
1
Труды Вольфа приводятся в хронологическом порядке. В круглых скобках указывается раздел, номер тома и год опубликования соответствующей работы Вольфа по изданию: Woljj Chr. Gesammelte Werke // Hrsg, und bearbeitet von J. Ecole, J. E. Hofmann, M. Thomann, H. W. Arndt. Hildeshein; New York, 1962—1997. I Abt. Deutsche Schriften. Bde. 1—23; II Abt. Lateinische Schriften. Bde. 1—37). Более подробную информацию об изданиях работ Вольфа можно найти в Интернете на сайте: .
(обратно)



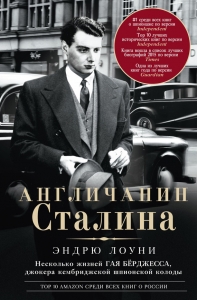
Комментарии к книге «Христиан Вольф и философия в России», Христиан Вольф
Всего 0 комментариев