Роберт Уиттман, Джон Шиффман Операция «Шедевр» Спецагент под прикрытием в мире искусства
Моей жене Донне и нашим троим детям: Кевину, Джеффри и Кристин
Алла прима[1]
Глава 1. Саут-бич
Майами, 2007 год
Платиновый «Роллс-Ройс» с бронированными стеклами плавно скользил по автостраде Пальметто на восток, к Майами-Бич, а в его пуленепробиваемом багажнике лежало шесть краденых картин.
Великие произведения Дега, Дали, Климта, Джорджии О’Кифф, Хаима Сутина и Марка Шагала были обернуты в тонкую коричневую бумагу, заклеены прозрачным скотчем и грубо сдвинуты назад. Сиденье водителя занимал парижский миллионер Лоренц Конья. Он перестроился в левый ряд и гнал трехтонную бестию вперед: сто тридцать, сто сорок пять километров в час. Грозная решетка радиатора из нержавеющей стали рассекала воздух.
На развязке с Девяносто пятым шоссе сияющий автомобиль свернул на юг, оставив внизу бетонную ленту автострады. Впереди показались очертания Майами. Лоренц съехал на бульвар Мартина Лютера Кинга, резко развернулся и снова двинулся на шоссе, продолжив путь на юг. Его холодные зеленые глаза поглядывали то на дорогу, то в зеркало заднего вида. Он вытягивал шею, осматривая лазурное небо Флориды, и каждые несколько минут сбавлял скорость, соскальзывал в правый ряд, а затем вновь давил на газ. Сиденье пассажира занимал француз по кличке Санни, спокойный, полноватый, со взъерошенными волосами, круглым милым лицом и незажженной сигаретой «Мальборо» в губах. Он тоже пытался заметить что-то подозрительное.
Я сидел сзади, поглядывал на одолженный «Ролекс» и с любопытством наблюдал, как качается в такт движению макушка Лоренца. С такой скоростью мы скоро будем на месте, если он не привлечет внимание дорожной полиции и не устроит аварию. Машина опять перестроилась, и я схватился за ручку над дверью. Лоренц — скучающий торговец недвижимостью в футболке с V-образным вырезом, выцветших голубых джинсах и сандалиях — был любителем. Ему хотелось приключений, и он считал, что именно так должен вести себя преступник на пути к большой сделке: хаотично маневрировать и проверять, нет ли за ним «хвоста». Прямо как в кино.
Я закатил глаза за черными солнцезащитными очками и сказал:
— Расслабьтесь. Сбавьте скорость.
Лоренц поджал губы и надавил на педаль акселератора.
— Послушайте, — не сдавался я. — Сложно спрятаться от полиции, если гнать по Девяносто пятому шоссе в платиновом «Роллс-Ройс Фантом» со скоростью сто сорок пять километров в час.
Лоренц не отреагировал. Тот, кто добился всего сам, не будет слушать чьих-то команд. Санни дулся, что я не дал ему прихватить пистолет, и тоже проигнорировал мою просьбу. Он провел пухлой рукой по густой шевелюре и молча посмотрел в окно. Я знал, что Санни нервничает. Его беспокоила импульсивность Лоренца: он нытик и по большому счету трус. Такие люди кажутся отважными и твердыми, но на них нельзя положиться, если что-то пойдет не по плану. Санни слабовато говорил по-английски, а я плохо знал французский, но, когда речь заходила о Лоренце, мы всегда приходили к единому мнению: без его связей не обойтись. Я потуже затянул ремень безопасности и умолк.
Французы на передних сиденьях знали меня как Боба Клэя. Я пользовался настоящим именем. Важнейшее правило работы под прикрытием — как можно меньше лжи. Чем больше врешь, тем больше приходится запоминать.
Санни и Лоренц считали меня кем-то вроде теневого американского арт-дилера — человеком, который работает с легальным и нелегальным рынком предметов искусства, международным брокером, хорошо знакомым с многомиллионными сделками. Они не были в курсе, что на самом деле я спецагент Федерального бюро расследований, старший следователь команды ФБР по преступлениям в сфере искусства. Не знали они и того, что европейский преступник, который поручился за меня в Париже, был полицейским осведомителем.
А главное — сегодняшнюю продажу шести картин Санни и Лоренц считали всего лишь прелюдией к Большому делу.
Благодаря их связям во французском уголовном мире и моим деньгам мы начали переговоры о покупке давно утраченного Вермеера, пары Рембрандтов и пяти эскизов Дега. Коллекция стоила пятьсот миллионов долларов и, что гораздо важнее, была очень известной. Шедевры похитили семнадцать лет назад во время величайшего нераскрытого преступления в истории искусства: ограбления бостонского музея Изабеллы Стюарт Гарднер в 1990 году.
Это злодеяние не давало покоя ни людям, связанным с искусством, ни следователям, давно пытавшимся поймать похитителей и вернуть утраченные картины. Бостонская полиция и местный отдел ФБР безуспешно проверяли сотни улик, малейшие намеки, нелепые слухи, сомнительные предположения. Им приходилось опровергать теории мошенников и назойливых типов, желавших заполучить пять миллионов долларов вознаграждения. Шли годы, новые подозреваемые появлялись, старые умирали, иногда при загадочных обстоятельствах. Все это породило бесчисленные теории заговора.
— Это дело рук мафии!
— Нет, это была Ирландская республиканская армия!
— Ограбление заказал иностранный магнат!
— Грабители не знали, что делают!
— Грабители точно знали, что делают!
— Преступники давно мертвы!
— Преступники живут и здравствуют в Полинезии!
— Это сделал кто-то из своих!
— Тут замешана полиция!
— Картины закопали в Ирландии!
— Картины спрятали на ферме в штате Мэн!
— Коллекция висит во дворце саудовского принца!
— Всё сожгли вскоре после ограбления!
Журналисты и писатели проводили расследования, распускали слухи, публиковали скандальные заметки. Об ограблении снимали документальные фильмы. Легенда с каждым годом обрастала подробностями, и преступление стало «священным Граалем» в своей области.
Сейчас я был уверен, что от разгадки меня отделяет всего несколько недель.
Уже девять месяцев я усердно работал под прикрытием, пытаясь заманить Санни и Лоренца, завоевать их расположение и доверие. Сегодняшняя подставная встреча на арендованной яхте была одним из последних этапов операции: она должна была развеять все сомнения в том, что я — серьезный игрок. Шесть картин, лежащих в багажнике, я подобрал на государственном складе. Это были подделки, но довольно качественные, чтобы Лоренц и Санни на них клюнули. По разработанному в ФБР сценарию мы сядем в зафрахтованную яхту «Пеликан» и отправимся на небольшую прогулку. Там мы встретимся с колумбийским наркодилером и его приближенными и продадим картины за миллион двести тысяч долларов в банковских переводах, золотых монетах и алмазах. Конечно, и дилер, и все остальные на яхте — подельники наркодилера, горячие девушки, капитан и стюарды — будут тайными агентами ФБР.
Пока мы ехали к нужному повороту, я прокручивал все это в голове и представлял себе, как на борту «Пеликана» идут последние приготовления. Колумбийский торговец достает из сейфа горсть крюгеррандов[2] и мешочек с алмазами. Четыре спортивные брюнетки под тридцать прячут «глоки» и переодеваются в бикини. Стюарды в белой льняной униформе выкладывают чипсы тортильяс, сальсу и ростбифы с кровью и кладут в ведра со льдом две большие бутылки шампанского. Угрюмый ирландец на изогнутом кремовом диване читает сообщения в серебряном смартфоне BlackBerry. Капитан переключается между скрытыми камерами и включает запись.
«Роллс-Ройс» мчался на восток через дамбу Макартура — величественный мост, соединяющий центр города с Майами-Бич. До цели оставалось пять минут.
Я вспомнил утренний разговор с женой. В последний момент перед сделками под прикрытием я всегда звонил Донне. Я говорил, что люблю ее, и она отвечала взаимностью. Я спрашивал, как проходит день, и она рассказывала о детях. Наши беседы были короткие, всего пару минут. Я не рассказывал о своих планах, а она благоразумно не спрашивала. Звонок не просто успокаивал меня: он напоминал, что нельзя строить из себя героя.
Дамба закончилась, и Лоренц въехал на парковку рядом с мариной. Затормозив перед зданием с сине-белым козырьком, он сунул охраннику пятидолларовую купюру, взял талон и направился к большой белой яхте. Из нас троих он был самым молодым и спортивным, но выгружать картины пришлось мне и его товарищу. Санни не обратил на это внимания. Хотя во Франции он имел большие связи и был близок к La Brise de Mer — одной из пяти марсельских семейных банд, визитной карточкой которой стали убийцы на мотоциклах, — он не лидер, а солдат. Работал с переменным успехом, не любил говорить о прошлом, но я знал, что кражами и разбоем в южной Франции он занялся еще в конце 1960-х. Девяностые Санни провел в суровых французских тюрьмах, потом дважды сидел за нападения при отягчающих обстоятельствах, после чего улизнул в Южную Флориду.
История Лоренца была мечтой флоридского иммигранта. Бывший счетовод и меняла у парижских мафиози, он был объявлен в розыск и бежал из Франции. В Майами он появился в середине 1990-х, на заре последнего бума на рынке недвижимости. У него было триста пятьдесят тысяч долларов. Благодаря сочетанию беспроцентных займов, наметанного взгляда на пришедшие в упадок дома и своевременных взяток правильным наймодателям он ловко воплотил американскую мечту. То, что Лоренц мне рассказывал, в основном было правдой: на бумаге он, вероятно, «стоил» сто миллионов долларов. Жил в доме за два миллиона с бассейном и высокими воротами, а в частном канале, впадающем в залив, были припаркованы гидроциклы. Он носил рубашки с монограммами и редко пропускал еженедельный маникюр. Везде, где можно, Лоренц ездил на «Роллс-Ройсе». Исключение делал, только когда брал с собой собак. Их он возил на «порше».
Во Франции Санни и Лоренц не знали друг друга и встретились уже в Майами. Но на родине у них остались общие знакомые — мафиози, имевшие доступ к людям, прятавшим где-то в Европе украденного Вермеера и Рембрандтов. Установленная французской полицией прослушка подтвердила, что они регулярно общались с известными похитителями произведений искусства, в том числе по поводу продажи единственной в мире пропавшей картины кисти Вермеера — из музея Гарднер.
Я шел к яхте и оценивал обстановку. Прием был самый радушный: девушки в бикини, гремящая музыка калипсо. Но во всем этом была какая-то фальшивая нотка. «Не слишком ли мы стараемся? — подумал я. — Санни и Лоренц ведь не дураки, а опытные мошенники».
Мы отчалили и целый час кружили по бухте Майами: ели, попивали игристое, наслаждались видами. Это была вечеринка. Две девушки ворковали с Санни, а я и Лоренц говорили с главарем, колумбийским дилером. Когда сделка была на мази, в проеме показалась третья красотка. Она схватила бокал шампанского, вазу с фруктами и громко объявила: «А теперь конкурс по поеданию клубники!» Выбежав на палубу, она постелила плед, встала на колени, провела клубникой по лицу, обмакнула ее во взбитые сливки, сладострастно опустила между блестящими от помады губами и медленно всосала. Ее примеру последовали другие девушки из ФБР. Наверное, все это и правда очень напоминало развлечения наркоторговцев, но они тут же допустили глупую ошибку: назначили судьей конкурса Санни. Здесь что-то было не так: почему внимание и королевское обхождение досталось этому полноватому парню, самому младшему в нашей банде? Санни неловко засуетился, а я сунул руки в карманы, сердито посмотрев на агентов.
Расследование сделало опасный крюк: так часто бывает, когда слишком много людей хотят сыграть важную роль. Я ничего не мог с этим поделать, а ощущение бессилия ненавидел.
Во всем ФБР я один под прикрытием работал с делами, связанными с искусством, и привык вести игру сам. Конечно, у меня была репутация рискового человека, зато был результат. За восемнадцать лет работы мне удалось вернуть произведений искусства и древностей на сумму двести двадцать пять миллионов долларов: знаковые предметы американской истории, европейскую классику, наследие древних цивилизаций. Я сделал карьеру на поимке похитителей, мошенников и теневых торговцев, действовал во всех областях, бывал в самых разных уголках мира: Филадельфии, Варшаве, Санта-Фе, Мадриде. Я спасал произведения Родена, Рембрандта и Роквелла, различные исторические памятники, например головной убор воина апачи Джеронимо и давно утраченную копию Билля о правах. Меня отделяли считаные месяцы от возвращения оригинала рукописи «Земли» Перл Бак.
Я знал, что преступления в сфере искусства нельзя вести так же, как заурядные дела о торговле наркотиками в Майами и бостонских грабежах. Мы гонимся не за обычными для преступного мира вещами — «дурманом», отмытыми деньгами, — а за бесценными, единственными в своем роде предметами, памятниками человеческой истории. И теперь перед нами крупнейшее нераскрытое дело в этой области.
Из тех, кто тогда оказался на яхте, никто не занимался до этого такого рода преступлениями. В ФБР подобных агентов вообще было мало. Американские правоохранительные органы — в том числе Федеральное бюро расследований — не слишком заботит возвращение украденных произведений. Гораздо удобнее заниматься тем, что получается лучше всего: сажать за ограбления, торговлю наркотиками, вымогательства у инвесторов. ФБР сегодня настолько озабочено предотвращением очередного теракта, что почти треть из тринадцати тысяч работающих там агентов гоняется за призраком Усамы бен Ладена. После 11 сентября преступлениями в сфере искусства долго никто не интересовался, и мне от этого было только легче: я привык заниматься своими делами, оставаясь в тени. Мое начальство в целом было компетентным, по крайней мере, сносным. Мне доверяли делать то, что я считаю нужным, и разрешали работать независимо от Филадельфии.
Однако операция «Шедевр» — такое название делу об ограблении музея Гарднер придумали до меня — была другой. Агентам по обеим сторонам Атлантики не терпелось получить свою долю в большой награде. Руководство почти всех участвующих ведомств — в Майами, Бостоне, Вашингтоне, Париже, Мадриде — требовало главную роль. Всем хочется славы — фотографии в газете и фамилии в пресс-релизе — после раскрытия дела.
ФБР — гигантская бюрократическая структура. По правилам дело обычно передают в город, где совершено преступление, независимо от опыта тамошних сотрудников. Именно поэтому правонарушениями в сфере искусства обычно занимаются люди, которые расследуют рядовые кражи, ограбления и применение насилия. Дела после этого редко передают в другие отделы. У большинства руководителей среднего звена в приоритете не следствие, а продвижение по службе. Босс вряд ли станет принимать спорное решение — в том числе о передаче крупного дела в штаб-квартиру или в элитный отдел вроде команды по преступлениям в сфере искусства. Ведь это может обидеть или смутить другого начальника, а то и повредить чьей-то карьере. Вот почему расследование по похищению из музея Гарднер — самому громкому преступлению против собственности в истории США и самому известному в сфере искусства на планете — возглавил не специальный отдел, а глава бостонской команды по ограблениям банков и насильственным преступлениям.
Конечно, для него это был вопрос карьеры, и он приложил все усилия, чтобы дело у него не забрали. Меня он недолюбливал: может быть, из-за того, считал склонным рисковать, действовать быстро и не дожидаться письменного одобрения. Все это могло повредить его продвижению по службе, и он уже пробовал отстранить меня, написав длинную сердитую докладную записку, в которой ставил под вопрос мою порядочность. Потом он отозвал ее, и я снова вернулся к работе, но начальник настоял, чтобы к делу подключили одного из бостонских агентов — того самого жесткого, угрюмого ирландца, который сидел на диване, уткнувшись в телефон. Меня этот странный человек только отвлекал: он был лишним и мог спугнуть сообразительных Санни и Лоренца.
Руководство ФБР в Майами и Париже было лучше, чем в Бостоне, но ненамного. Агентам из Майами, видимо, было удобнее гоняться за килограммами «дури», а не за стопкой изысканных картин, и они мечтали втянуть Санни в сделку с наркотиками. Опять же лишнее. Связной ФБР в Париже пытался угодить коллегам из французской полиции, а довольны они могут быть только в том случае, если сами арестуют преступников и вызовут ажиотаж. Французский офицер даже позвонил мне за день до операции на яхте и поинтересовался, нельзя ли отменить встречу. Он собирался внедрить своего агента, но требовалось время, а я бы ограничился ролью ведущего эксперта по искусству. Меня подмывало спросить, с чего бы я должен слушать приказы французского полицейского, если операцию проводят американцы во Флориде. Но я сдержался и просто ответил, что ждать нельзя.
Операции под прикрытием заставляют понервничать и без вмешательства тех, кто должен помогать. Никогда не знаешь, поверили ли плохие парни твоим уговорам или задумали засаду. Один промах, одна фальшивая реплика — и можно проиграть. В мире высококлассных преступлений, где речь идет о продаже произведений стоимостью десять, двадцать, даже сто миллионов долларов, подразумевается, что покупатель — истинный знаток. Нужно окружить себя ореолом компетентности и искушенности, а для этого требуются многие годы подготовки. Подделать это нельзя. Сейчас же речь шла о людях со связями в средиземноморской мафии, а она не любит шутить. Убивают не только осведомителей и полицейских под прикрытием, но и их семьи.
В конце концов конкурс с поеданием клубники сошел на нет, я «продал» подставному колумбийцу картины, и яхта медленно пошла к берегу. Я взял наполненный до половины бокал шампанского, вышел на корму и повернулся лицом к ветру, ловя свежий морской воздух. Мне это было очень нужно. Я в целом покладистый и оптимистичный человек и никогда не позволяю себе нервничать по мелочам, но в последнее время появилась какая-то раздражительность. Впервые работа под прикрытием не давала мне спать по ночам. Зачем рисковать жизнью и с трудом заработанной репутацией? Мне уже не надо ничего доказывать, а потерять можно многое. Я знал, что Донна и трое наших детей тоже волнуются. Мы все смотрели на календарь: через шестнадцать месяцев я получу право выйти в отставку с полной государственной пенсией. Мой начальник в Филадельфии — старый товарищ, он не станет обращать внимание, если я отработаю последний этап по инерции. Можно было бы обучать работе под прикрытием, проводить время с семьей, наметить карьеру консультанта, подготовить молодого агента на смену.
«Пеликан» сбавил ход, приближаясь к дамбе, и я увидел причал и ждущий у навеса «Роллс-Ройс».
Мои мысли вернулись к пропавшим шедеврам и затейливым пустым рамам, которые по-прежнему висят на своем месте в музее Гарднер, хотя с момента, когда туманной мартовской ночью 1990 года двое мужчин, переодетых в полицейских, обхитрили незадачливых охранников, прошло уже семнадцать лет.
Я присмотрелся к Санни и Лоренцу, которые о чем-то беседовали на носу яхты. Они глядели на очертания Майами и темные грозовые тучи, надвигавшиеся после полудня со стороны Эверглейдса[3]. Толстый француз и его привередливый богатый спутник были самым большим успехом ФБР в деле Гарднер за десять лет. Мы уже перестали присматриваться друг к другу и, казалось, начинаем сходиться в цене и готовы обсудить более тонкие вопросы: логистику и незаметный обмен картин на наличные в одной из зарубежных столиц.
Но мне по-прежнему было сложно «прочесть» Санни и Лоренца. Поверили ли они в наш маленький спектакль на яхте? И если да, выполнят ли обещание провести меня к картинам? Может, у них свои хитрые планы и они убьют меня, как только я покажу чемодан с деньгами? И даже если Санни и Лоренц добудут Вермеера и Рембрандтов, даст ли мне начальство в ФБР и во Франции сделать свое дело? Позволят ли мне раскрыть самое впечатляющее ограбление в истории искусства?
Санни помахал мне, и я кивнул в ответ. Лоренц спустился в каюту, а он подошел ко мне, держа в руке почти пустой бокал шампанского.
Я положил руку ему на плечо.
– Ça va, mon ami? — спросил я. — Как дела, приятель?
— Très bien, Боб. Прррррекрасно.
У меня были большие сомнения.
— Moi aussi, — соврал я в ответ. — У меня тоже.
Глава 2. Преступления против истории
Курмайёр, Италия, 2008 год
В целях безопасности Организация Объединенных Наций действовала как можно незаметнее. Для проведения Международной конференции по организованной преступности в сфере искусства и древностей было забронировано сто шесть номеров на богатом итальянском лыжном курорте у подножья Монблана, высочайшей вершины Западной Европы. Мероприятие должно было пройти в спокойные выходные в середине декабря, между фестивалем фильмов нуар и традиционным открытием лыжного сезона. ООН позаботилась обо всем: перелетах с шести континентов, изысканных блюдах, трансфере из Женевы и Милана. Когда после полудня в пятницу автобусы выехали из аэропортов, землю уже укрыл тридцатисантиметровый слой свежего снега, и водителям пришлось надеть цепи, прежде чем двинуться в Альпы. Гости — ведущие мировые эксперты по преступлениям в сфере искусства — добрались к сумеркам. Они страдали от смены часовых поясов, но с нетерпением ждали начала саммита — первого по этой проблеме.
Я приехал вечером перед началом конференции. По дороге из Милана в Курмайёр моим спутником была женщина, занимавшая высокий пост в ООН, одна из организаторов встречи. Она пригласила меня на ранний ужин. За столиком с нами сидел министр юстиции Афганистана, выпускник Оксфорда. Было слышно, как рядом высокопоставленный иранский судья рассказывает что-то министру культуры Турции. После ужина я пошел к бару, чтобы поискать старых знакомых.
Я заказал «Чивас Ригал» и полез в карман за несколькими евро. В растущей толпе я узнал Карла-Хайнца Кинда, долговязого немца, главу команды Интерпола по преступлениям в сфере искусства. Он держал в руке молочный коктейль и беседовал с двумя незнакомыми мне девушками. У камина я заметил Джулиана Рэдклиффа, чопорного британца, возглавляющего Art Loss Register — крупнейшую в мире частную базу данных похищенных произведений. Его слушал Нил Броди, знаменитый профессор археологии из Стэнфорда. Мне подали виски, и я достал список участников. Больше всего было европейцев, особенно итальянцев и греков. Неудивительно: там всегда выделяли большие ресурсы на борьбу с такого рода преступлениями. Я изучил менее знакомые, но любопытные имена и титулы: член Совета магистратуры Аргентины; иранец, которого я уже видел; ректор испанского университета; известный археолог из Греции; пара австралийских профессоров; ректор ведущего института криминалистики в Южной Корее; чиновники из Ганы, Гамбии, Мексики, Швеции, Японии и других стран. В списке была дюжина американцев, но почти одни ученые. Хороший показатель вялого отношения государства к проблеме. Правительство США не прислало никого.
Я недавно вышел в отставку и занялся вместе с женой бизнесом по охране произведений искусства. Меня пригласили выступить потому, что, в отличие от остальных участников ооновской конференции, я двадцать лет проработал в этой сфере следователем. Другие докладчики будут рассказывать о статистике, международном законодательстве и сотрудничестве, излагать официальные позиции по хорошо знакомым мне вопросам. Как обычно, скажут, что преступления в сфере искусства — бизнес размером шесть миллиардов долларов в год. Меня попросили выйти за пределы научных и дипломатических тем и рассказать, как на самом деле выглядит мир теневого искусства: какие люди крадут реликвии и древности, как они это делают и как мне удавалось вернуть похищенное.
Голливуд создал броский, насквозь фальшивый портрет этих преступников. Это, например, Томас Краун — тонкий ценитель, богатый, хорошо одетый джентльмен, который ворует ради интереса и способен обхитрить и даже соблазнить преследователей. Еще один голливудский герой — вор-форточник с Ривьеры, которого в фильме «Поймать вора» сыграл Кэри Грант. Доктор Ноу в первом фильме про Джеймса Бонда держал в секретном подводном логове украденный портрет герцога Веллингтона кисти Гойи. С преступниками борются такие же голливудские герои. Николас Кейдж в «Сокровище нации» — потомок одного из отцов-основателей, он разгадывает загадки и возвращает давно утраченные ценности. Харрисон Форд в роли Индианы Джонса в шляпе-федоре и с кнутом расшифровывает иероглифы, спасая Вселенную от нацистов и красной угрозы.
Многие похищения действительно впечатляют и подходят для киносценария. Во время бостонского ограбления преступники обманули ночных охранников музея Гарднер и обмотали их серебристым скотчем от глаз до лодыжек. В Италии один парень спустил рыболовную леску через слуховое окно музея, выудил картину Климта стоимостью четыре миллиона долларов и был таков. В Венесуэле воры проскользнули в музей ночью и заменили три картины Матисса такими качественными подделками, что обнаружили пропажу только через два месяца.
Однако предметы искусства редко крадут из любви к самому искусству или «из спортивного интереса». Сами преступники тоже редко напоминают голливудские образы. Это не миллионеры-отшельники, собравшие сногсшибательную коллекцию в галерее с климат-контролем, за стальной дверью, которая открывается потайной кнопкой в бюсте Шекспира. Те, кого я встречал за свою карьеру, были самыми разными людьми: богатыми, бедными, умными, глуповатыми, привлекательными, нелепыми. И почти все имели одну общую черту — животную алчность. Они крали ради денег, не ради прекрасного.
Во всех интервью, которые давал газетам, я подчеркивал: большинство похитителей быстро понимает, что искусство не в том, чтобы украсть, а в том, чтобы сбыть краденое. На черном рынке за похищенные произведения обычно дают всего десять процентов их реальной стоимости. Чем известнее картина, тем сложнее ее продать. Годы идут, воры приходят в отчаяние, им не терпится сбросить никому не нужное бремя. В начале 1980-х один наркоторговец не сумел найти покупателя для картины Рембрандта ценой в миллион долларов и продал ее секретному агенту ФБР за жалкие двадцать три тысячи. В Норвегии полицейский под прикрытием хотел выкупить «Крик» — всемирно известный шедевр Эдварда Мунка. Воры согласились на семьсот пятьдесят тысяч, хотя картина стоила семьдесят пять миллионов долларов.
Прекрасные картины и другие великие произведения всегда считали «бесценными», но их цена резко пошла вверх только в середине XX века. Эта эпоха началась в 1958 году, когда на престижном лондонском аукционе «Сотбис» «Мальчик в красном жилете» Сезанна был продан за шестьсот шестнадцать тысяч долларов. До этого за одну картину удавалось выручить не более трехсот шестидесяти тысяч, и сделка привлекла большое внимание прессы. К 1980-м за картины начали предлагать семизначные суммы и даже больше, и рекордные продажи почти всегда попадали на первые полосы газет, делая звездами давно умерших художников, особенно импрессионистов. Цены неуклонно росли и достигли девятизначных величин. В 1989 году музей Гетти в Лос-Анджелесе приобрел «Ирисы» Ван Гога за шокирующую тогда сумму: сорок девять миллионов долларов. На следующий год на аукционе «Кристис» другая картина Ван Гога — «Портрет доктора Гаше» — ушла за восемьдесят два миллиона, а в 2004 году «Сотбис» снова вырвался вперед: за «Мальчика с трубкой» Пикассо заплатили аж сто четыре миллиона долларов. В 2006 году был побит и этот рекорд: Дэвид Геффен, заработавший состояние на рынке музыки, продал картину Поллока «№ 5, 1948» за сто сорок девять миллионов и «Женщину III» Кунинга за сто тридцать семь с половиной миллионов.
Вслед за ценами росло и число краж.
В 1960-х воры начали сметать произведения импрессионистов со стен музеев французской Ривьеры и итальянских собраний. Крупнейшим событием того периода стало похищение в 1969 году в Палермо картины Караваджо «Рождество со святым Франциском и святым Лаврентием». Кражи продолжались и в 1970-х, однако только в восьмидесятых и девяностых, после поразительных продаж Ван Гога, преступность в сфере искусства просто взлетела.
Дерзкое ограбление в 1990 году музея Гарднер — одиннадцать украденных шедевров, в том числе произведения Вермеера и Рембрандта, — ознаменовало начало эры дерзких нападений. Страдали музеи по всему земному шару, с 1990 по 2005 год было похищено картин на сумму более миллиарда долларов. Из Лувра в оживленное воскресенье после обеда было украдено произведение Коро. В Оксфорде посреди празднования Нового года вынесли Сезанна. В Рио — Матисса, Моне и Дали. В Шотландии бандиты, прикинувшись туристами, похитили из замкового музея шедевр да Винчи. Музей Ван Гога за одиннадцать лет пострадал дважды.
Почувствовав, что меня после перелета тянет спать, я допил виски и отправился в свой номер.
На следующее утро я пораньше пришел в гостиничный конференц-центр, чтобы занять хорошее место на вступительной сессии. Держа программу и чашку крепкого итальянского кофе, я надел беспроводные наушники и приготовился слушать перевод первого выступления. Стефано Манакорда из Второго университета Неаполя — выдающийся итальянский профессор юриспруденции с растрепанными черными волосами и широким фиолетовым галстуком — полистал заметки и откашлялся. Начал он с резкой оценки, которая задала тон всему мероприятию:
— Преступность в сфере искусства приняла масштабы эпидемии.
Конечно, он прав. По словам Манакорды, упомянутые шесть миллиардов долларов в год, вероятно, заниженная оценка, основанная на данных всего лишь трети из ста девяноста двух государств — членов ООН. Если говорить о международной преступности, похищения произведений искусства и древностей занимают четвертое место после наркотиков, отмывания денег и торговли оружием. Масштабы варьируются в зависимости от страны, но можно смело сказать, что цифры растут, а меры по борьбе с преступностью недостаточны. Все, что питает всемирную экономическую революцию, — интернет, эффективная доставка, мобильные телефоны, реформа таможни, особенно в рамках Европейского союза, — одновременно облегчает контрабанду и продажу украденных ценностей.
Как и многие другие международные преступления, нелегальная торговля произведениями искусства и древностями нуждается в тесных связях между обычным и теневым миром. Легальный рынок достигает десятков миллиардов долларов в год, и приблизительно сорок процентов продаж приходится на США. Поскольку на кону такие огромные суммы, ходовые предметы привлекают различных отмывателей денег, сомнительных владельцев галерей и арт-брокеров, торговцев наркотиками, транспортные компании, нечистоплотных коллекционеров, а иногда и террористов. Преступники пользуются картинами, скульптурами и статуями в качестве обеспечения для сделок с оружием, наркотиками и для легализации доходов. Искусство и древности, особенно небольшие предметы, которые можно пронести в чемодане, легче провезти через границу, чем наличные и наркотические вещества, а потом их можно конвертировать в любую валюту. Таможенникам сложнее работать с такого рода контрабандой: она менее очевидна, чем наркотики, пистолеты и пачки банкнот. Предметы, полученные в результате мародерства и краж, быстро перевозят в поисках новых рынков сбыта: половину возвращенных ценностей обнаруживают уже за рубежом.
В газетах пишут прежде всего о нападениях на музеи, но это лишь десятая часть всех преступлений в сфере искусства. На конференции в Курмайёре были показаны данные Art Loss Register, согласно которым пятьдесят два процента украденных произведений были похищены из частных домов и организаций почти или совсем без огласки. Еще десять процентов крадут из галерей, восемь — из церквей. Остальное в основном испаряется с мест археологических раскопок.
Пока один из дипломатов разглагольствовал о редко применяемом дополнении к одному трактату пятидесятилетней давности, я изучил данные Интерпола в полученном пакете материалов. Мне попался на глаза график географического распределения преступлений. Посмотрев на него еще раз, я снял наушники: если верить Интерполу, то семьдесят четыре процента преступлений в сфере искусства совершается в Европе. Семьдесят четыре! Это же невозможно! На самом деле эта цифра показывает только то, в каких странах хорошо ведут статистику. Это, в свою очередь, может отражать реальный интерес государства к борьбе с такими преступлениями. Разница между соответствующими органами бывает поразительной. Во Франции — в Париже — преступлениями в сфере искусства занимается тридцать сотрудников под началом полковника Национальной жандармерии. Скотланд-Ярд выделил для этих целей дюжину постоянных работников, а также поддерживает контакты с искусствоведами и антропологами, чтобы детективы в ходе работы могли с ними консультироваться. Италия, вероятно, делает больше всех. Там действует очень уважаемый и активный отдел по искусству и древностям: три сотни человек во главе с генералом Джованни Нистри. В Курмайёре генерал Нистри заявил, что Италия выделяет на борьбу с преступлениями в сфере искусства примерно те же средства, что и Управление по борьбе с наркотиками США: вертолеты, «киберищеек», даже подводные лодки.
После обеда один из высоких чинов ООН, Алессандро Кальвани, призвал другие страны последовать примеру Италии и предложил провести международную пиар-акцию, чтобы донести до общества ущерб, который наносит истории и культуре эта преступность. В пример он привел успешные пропагандистские кампании о вреде табакокурения, минах, ВИЧ и нарушениях прав человека, связанных с торговлей алмазами.
— В результате правительства были вынуждены действовать под давлением общественного мнения, — сказал он. — Многие не воспринимают преступления в сфере искусства как преступления, а без этого нельзя заручиться народной поддержкой.
Эта ситуация, несомненно, имеет место в США. По всей стране такого рода преступностью занимаются считаные детективы. Несмотря на громкие заголовки и шумиху на телевидении после каждого похищения, большинство полицейских управлений не выделяет на расследование должных ресурсов. Департамент полиции Лос-Анджелеса — единственный в стране, где есть постоянный следователь по подобным делам. В большинстве городов сотрудники общих отделов по борьбе с кражами просто назначают награду в надежде соблазнить ею воров. ФБР и Иммиграционная и таможенная полиция США имеют юрисдикцию над преступлениями в сфере искусства, но выделяют на борьбу с ними мало средств. В ФБР в 2004 году для этих целей была создана специальная команда. Работал в ней всего один постоянный агент под прикрытием: я. Теперь я вышел в отставку, и не осталось никого. Команда существует, но руководит ею археолог по образованию, а не агент ФБР. Еще там сильная текучка кадров. Почти все из восьми сотрудников, которых я готовил в 2005 году, к 2008 году перешли в другую сферу, чтобы продвинуться по карьерной лестнице. Я их не виню, но из-за этого не получилось создать подготовленный, слаженный отдел, обеспечить преемственность.
США — не единственная страна, которую на конференции призывали активнее трудиться. Для большинства государств, за несколькими примечательными исключениями, борьба с преступлениями в сфере искусства просто не в приоритете. Как сказал гостям саммита один из итальянцев, «мы имеем дело с парадигмой коллективного невыполнения обязательств».
Пообедав сырным супом и эскалопом из индейки с легким розовым вином, мы выслушали пару австралийских ученых, которые сделали обзор по теме мародерства. Эта тема была мне не в новинку, но я с удовольствием послушал незападную точку зрения на этом переполненном европейцами мероприятии. Глупо пытаться решить глобальную проблему, игнорируя культурные различия. В некоторых странах третьего мира нелегальная торговля предметами искусства и древностями негласно считается возможностью дать толчок экономике. Уязвимы разрываемые войной регионы, где законы не действуют в полную силу. В Ираке, например, исторические памятники — один из немногих ценных местных товаров (причем украсть их легче, чем нефть). В менее опасных, но бедных странах, например Камбодже, Эфиопии и Перу, мародеры превратили места археологических раскопок в настоящий лунный пейзаж, а местные власти не всегда рассматривают деятельность черных копателей как преступление против истории и культуры, иногда для них это экономический стимул. Как отметили докладчики, копают отчаявшиеся местные безработные, пытаясь превратить вещи из могил умерших предков в пищу для своих голодающих семей. На конференции эта мысль вызвала причитания политкорректных дипломатов. Они так жаловались на коррумпированных местных чиновников, что я невольно хихикнул, когда директор Кенийского национального музея Джордж Окелло Абунгу поднялся и выступил с ответной репликой.
— Не спешите судить коррумпированных таможенников, — сказал он. — Не забывайте, что взятки им дают как раз люди с Запада.
На преступления в сфере искусства и древностей смотрят сквозь пальцы отчасти потому, что они вроде бы обходятся без жертв. Я лично спасал национальные сокровища на трех континентах и могу поручиться, что это близорукий подход. Многие из похищенных произведений стоят гораздо больше своей цены. Это документальные следы нашей общей человеческой культуры. За десятки и сотни лет владельцы предметов могут меняться, однако великие произведения принадлежат нам всем, нашим предкам и будущим поколениям. Для некоторых находящихся под угрозой и угнетенных народов их искусство зачастую — единственное оставшееся выражение культуры. Похитители крадут не просто красивые вещи, а память и идентичность. Они воруют историю.
Когда речь заходит о высоком искусстве, американцев считают некультурным народом. Они якобы пойдут скорее не в музей, а на бейсбольный матч. Но, как я объяснял зарубежным коллегам, статистика опровергает стереотипы. Американцы ходят в музеи чаще, чем на спортивные состязания. В 2007 году больше людей посетило музеи Смитсоновского института в Вашингтоне (24,2 миллиона), чем игры Национальной баскетбольной ассоциации (21,8 миллиона), Национальной хоккейной лиги (21,2 миллиона) и Национальной футбольной лиги (17 миллионов). В Чикаго городские музеи ежегодно посещает восемь миллионов человек: это больше, чем суммарное за сезон число зрителей на матчах местных бейсбольных команд: Bears, Cubs, White Sox и Bulls.
Приближалось время моей презентации, и я подумал, что всех выступающих можно распределить по трем «ящикам»: ученые, юристы и дипломаты. Ученые фонтанировали статистикой и теоретическими диаграммами. Юристы рассказывали смертельно скучные, похожие на пересказ законов истории о международных трактатах, связанных с кражей предметов искусства. Дипломаты были бесполезны. Они выглядели безобидно и призывали к благородному сотрудничеству, но при этом имели, похоже, две истинные цели. Во-первых, никого не задеть. Во-вторых, составить пресное заявление для какого-то из ооновских комитетов. В общем, никаких действий.
Где же страсть?
Мы так любим искусство, потому что оно задевает глубокие струны в каждом из нас, от восьмилетнего ребенка до восьмидесятилетнего старика. Простое действие — нанести краску на холст или превратить железо в скульптуру — чудо человеческого разума. Оно создает универсальные связи независимо от того, кто этим занимается: французский мастер или первоклашка. Искусство всегда пробуждает эмоции и чувства.
Именно поэтому, когда кто-то крадет произведение искусства или грабит памятники в древнем городе, лишая его души, мы ощущаем насилие над собой.
Я ждал окончания выступления шефа Интерпола, чтобы начать свою презентацию, и смотрел на собравшихся в зале высоких гостей. Снег уже дошел до окон. Я погрузился в дрему. «Как получилось, — думал я, — что сын сироты из Балтимора и японской делопроизводительницы сидит здесь как лучшая в стране ищейка по преступлениям в сфере искусства?»
Провенанс
[4]
Глава 3. Становление агента
Балтимор, 1963 год
— Грязные япошки!
Я уже слышал это слово, но на сей раз оскорбление исходило от большой белой женщины с сумками продуктов в руках. Оно ударило меня с такой силой, что я онемел, сжал мамину руку и стал смотреть на тротуар. Женщина прошла мимо и прошипела в спину:
— Желтые!
Мне было семь лет.
Мама, Ятиё Акаиси-Уиттман, даже не вздрогнула. Она насмешливо смотрела вперед, и я понимал, что от меня ожидают того же. Ей было тридцать восемь, и, насколько я знаю, она оказалась единственной японкой в нашем рабочем районе дешевых двухэтажных кирпичных домов. Мы были здесь новенькими и всего несколько лет назад переехали из родного для мамы Токио в Балтимор, где жил отец. Родители познакомились в Японии в последние месяцы Корейской войны. Папа служил на авиабазе в Татикаве, а мама работала там делопроизводителем. В 1953 году они поженились, и в том же году родился мой старший брат Билл. Я появился на свет в Токио двумя годами позже. От мамы мы унаследовали миндалевидные глаза и стройное телосложение, а от папы — светлую кожу и широкую улыбку.
Мама плохо говорила по-английски. Из-за этого у нее было мало знакомых и ассимиляция в США шла с трудом. Для нее оставались загадкой простейшие американские обычаи, например торт на день рождения. Но оскорбления на расовой почве она, конечно, понимала. Память о Второй мировой была еще свежа. Некоторые наши соседи сражались на Тихом океане или потеряли там родных. Во время войны мой папа-американец и братья моей японской мамы оказались по разные стороны баррикад. Папа был водителем десантной баржи и высаживал морскую пехоту на тихоокеанские пляжи, уворачиваясь от камикадзе. Один из маминых старших братьев погиб в бою с американцами на Филиппинах.
В Балтиморе родители отправили нас с братом в приличные католические школы, но окружили японскими вещами. Шкафы и полки дома были наполнены японской керамикой и антиквариатом, а стены увешаны гравюрами Хиросигэ, Тоёкуни и Утамаро — японских мастеров, вдохновлявших Ван Гога и Моне. Мы ужинали за столом из темного японского красного дерева и сидели на причудливо изогнутых бамбуковых стульях.
Неприкрытый расизм, с которым мы сталкивались, приводил отца в бешенство, но при мне он редко проявлял гнев. Папа мало говорил о своем детстве, но я знал, что ему приходилось куда тяжелее. Родители умерли один за другим, когда ему было три или четыре года. Со старшим братом Джеком он попал в католический Приют святого Патрика. Там и научился стоять за себя. Когда его заставили петь в хоре, он громко фальшивил. Когда несправедливо наказал жестокий учитель, он ударил того в нос. Монахини быстро пришли к выводу, что с таким парнем им не совладать, и отправили его в интернат, разлучив с братом. Папа сменил более десяти семей, пока в 1944 году ему не исполнилось семнадцать и его не призвали в ВМС.
В 1960-х я уже учился в школе. В газетах и по телевидению тогда каждый день говорили о движении за гражданские права. Казалось, что ФБР никогда не остается в стороне. Агенты защищали жертв расизма, боролись с фанатиками и хулиганами. Я спросил маму про агентов, и она сказала, что это, видимо, достойные люди. Воскресными вечерами в конце шестидесятых мама, папа, брат и я садились у нашего нового цветного телевизора и смотрели серьезный сериал «ФБР» с участием Ефрема Цимбалиста — младшего. Сценарий одобрил лично глава этой организации Эдгар Гувер. В сериале бюро всегда добивалось успеха, а агенты выглядели благородными защитниками справедливости и американского образа жизни. В конце Цимбалист иногда просил публику помочь раскрыть преступление — это был своего рода предшественник программы America’s Most Wanted[5]. Я все это обожал, и мы редко пропускали новые серии.
Один из наших соседей, Уолтер Гордон, работал специальным агентом в балтиморском отделе ФБР. Когда мне было десять лет, я считал его самым классным человеком на свете. Мистер Гордон каждый день надевал хороший костюм, сияющие ботинки и хрустящую белую рубашку. У него была самая красивая машина в нашем квартале: зеленый двухдверный «Бьюик Скайларк» последней модели, специальный выпуск для ФБР. Люди смотрели на Гордона с уважением. Я знал, что он ходит с пистолетом, но никогда не видел оружия, и это только добавляло загадочности. Я дружил с его сыновьями — Джеффом, Деннисом и Дональдом. Мы играли в мяч во дворе перед их домом и менялись бейсбольными карточками в подвале. Гордоны были добрыми людьми. Они не оттолкнули нашу семью в трудный период и не давали почувствовать, что это одолжение с их стороны. В мой одиннадцатый день рождения миссис Гордон узнала, что у меня никогда не было торта на праздник, и испекла его сама — со слоем темного шоколада. Через несколько лет мистер Гордон услышал, что папа открыл новый ресторан морепродуктов, и начал приводить туда на обед коллег-агентов. Это было им не по пути и не в лучшем районе, рядом с ипподромом Пимлико. Я понимал, что Гордон ходит туда не ради еды: он просто хотел привести платежеспособных клиентов и помочь соседу.
Ресторан — Neptune’s Galley — не продержался долго. Это было одно из многих папиных предприятий. В любой своей затее отец всегда оставался начальником и хозяином. Он был общительный и не жадный, но у нас никак не получалось накопить капитал и обрести финансовую стабильность. Он пробовал заниматься капитальным ремонтом домов, верховыми лошадьми для скачек, составлял каталоги колледжей, написал книгу о том, как выиграть в лотерею. Он безуспешно участвовал в выборах в городской совет и открыл на Говард-стрит магазин антиквариата под названием Wittman’s Oriental Gallery. Это было одно из самых успешных и приятных его начинаний. Папа рассчитывал, что я вырасту и стану участвовать в его бизнес-проектах, а мама хотела, чтобы я стал профессиональным пианистом и играл классику. (В старших классах у меня получалось, но я быстро понял, что недостаточно хорош и карьеру в музыке не сделаю.)
В 1973 году я поступил в Таусонский университет — ходил на вечерние занятия, когда мог себе это позволить. К тому времени я уже знал, кем хочу стать. Агентом ФБР. Свои планы я держал при себе: не люблю много говорить о том, что собираюсь делать, пока не сделаю. Наверное, эта черта передалась мне от японских предков. Кроме того, мне не хотелось разочаровать родителей.
Мое представление о работе в ФБР стало более зрелым. Эта профессия теперь казалась мне не только интересной, но и разумной, ответственной, волнующей. Мне нравилась мысль, что я буду защищать невиновных, расследовать дела, стану полицейским, главное оружие которого — мозги, а не пистолет. Еще мне хотелось послужить стране: было неловко, что призывная лотерея закончилась за год до того, как мне исполнилось восемнадцать, и во Вьетнам я не попал. Еще я много лет наблюдал, как трудно папе приходится с малым бизнесом, и перспективу стабильной государственной службы с гарантированными благами не стоило сбрасывать со счетов. Наконец, меня привлекали понятия о чести, по-японски гэдзи. То немногое, что я знал об агентах ФБР, по большей части основывалось на наблюдениях за мистером Гордоном и телепередачах, но эта профессия казалась мне достойным способом послужить своей стране. Окончив университет, я позвонил в ФБР и спросил, могу ли я устроиться туда на работу.
Агенту, который поднял трубку, я возбужденно поведал, что соответствую всем требованиям: мне двадцать четыре, я окончил колледж, я гражданин США и у меня нет судимостей.
— Это, конечно, замечательно, молодой человек, — как можно добрее сказал агент. — Однако нам хотелось бы, чтобы у кандидатов было как минимум три года опыта работы в реальном мире. Накопите — тогда и перезвоните.
Разочарованный, я перешел к плану Б: дипломатической службе. Я рассчитывал, что три года поработаю в госдепартаменте, попутешествую, а потом переведусь в ФБР. Я прошел экзамен, но работу не получил: наверное, не хватило политической жилки.
В тот же год мы с братом Биллом начали участвовать в новом папином проекте: ежемесячнике о сельском хозяйстве The Maryland Farmer. Ни папа, ни я не имели представления ни о журналистике, ни о фермерстве, но газета в любом случае на семьдесят пять процентов состояла из рекламы удобрений, семян, молочных продуктов, тракторов и всего, что может понадобиться фермеру. У нас были разные рекламодатели: от гигантов размером с Monsanto до небольших сельских магазинчиков. Я никогда раньше не занимался набором, не писал заголовков и не мог отличить ангусскую породу коров от голштинской, но быстро все это освоил. А еще я научился искусству слушать: встречался с фермерами, был судьей на их шоу, обхаживал руководство корпораций, знакомился с профессиональными чиновниками. Я писал и редактировал статьи, продавал рекламу, занимался дизайном заголовков, проверял экземпляр, который вводили в большой аппарат компании Compugraphic, делал вырезки и наклеивал их на страницу. Дела шли неплохо, и к 1982 году Wittman Publications охватила четыре штата. Я много ездил — наверное, полторы сотни тысяч километров в год, — учился продавать товар и, что еще важнее, самого себя. Это мне очень пригодилось спустя годы, когда я уже работал тайным агентом. Тогда я усвоил самый важный секрет продаж: если человеку нравится товар, но не нравишься ты, он ничего не купит. Если же он не в восторге от товара, но ты ему понравился, шанс есть. В бизнесе сначала продаешь себя, поэтому главное — произвести хорошее впечатление.
Попутно я научился манипулировать людьми: надо было заставить скотоводов, производителей арахиса и табака, лоббистов поверить, что мне — городскому мальчику — небезразличны их проблемы. Но на самом деле меня эта тема не интересовала. Мне по-прежнему хотелось в ФБР. И через восемь лет вечных дедлайнов, еженедельных поисков рекламодателей и решения банальных споров между репортерами и рекламщиками эта работа мне надоела.
Однажды октябрьским вечером я вышел из офиса, чтобы выпустить пар и как следует поужинать. Я выбрал модный новый ресторан в центре города: там можно было заказать тарелку отличного супа биск из лобстеров и посмотреть четвертую игру Чемпионской серии Американской лиги: Baltimore Orioles против Los Angeles Angels. Мне подали суп. И он оказался как раз в точку: день был такой загруженный, что я даже не пообедал. Orioles в четвертом иннинге вырвались вперед на три пробежки, но какая-то блондинка у бара постоянно вставала, загораживая мне экран. Меня это раздражало. Но во время пятого иннинга она слегка повернулась, и я увидел ее в профиль. Ух ты! Это была девушка ослепительной красоты, а ее улыбка заставила меня забыть о бейсболе. Я постарался сохранить спокойствие и представился. Мы проговорили около часа, и наконец она согласилась дать мне свой номер. Ее звали Донна Гудхэнд. Ей было двадцать пять, она работала менеджером в стоматологическом кабинете и обладала потрясающим чувством юмора. На багажнике ее белого «Малибу Классик» 1977 года выпуска была наклейка: «Не будешь заботиться о зубах — они от тебя уйдут». Мне понравился ее стиль, и я думал, что во время нашей первой встречи я вел себя очень учтиво. Но, как она потом призналась, для нее все выглядело иначе: я показался ей навязчивым и бесцеремонным и спас положение только на третьем свидании, когда пригласил ее к родителям и спел серенаду Unchained Melody, аккомпанируя себе на фортепиано. Через два с половиной года мы поженились.
В середине 1980-х у нас с Донной было уже двое маленьких сыновей: Кевин и Джеффри. Мы жили в крохотном таунхаусе, а поскольку мой газетный бизнес не мог обеспечить медицинскую страховку, Донна работала на полную ставку в Union Carbide Corporation.
Однажды в 1988 году жена показала мне объявление в газете, которое гласило, что ФБР открывает набор персонала. Я изобразил спокойствие и только пожал плечами, стараясь подавить в себе надежду, — память о том звонке после окончания университета еще была жива. Но в голове уже начали кружиться мысли о службе, чести, независимости, мистере Гордоне и Ефреме Цимбалисте — младшем. А еще я понимал, что времени у меня не так много. Мне было тридцать два года, а ФБР перестает принимать новых агентов в тридцать пять. Не говоря ничего Донне, я прошел тест на профпригодность в балтиморском отделе. Решил, что если провалю его, то никому ничего не скажу, и все на этом закончится. Но несколько месяцев спустя в офисе нашей газеты появился агент ФБР, желавший со мной поговорить. Я пригласил его в свой кабинет. Он был худой, высокий, в больших круглых очках с толстыми линзами. Одет в дешевый светло-коричневый спортивный пиджак и синие брюки. Агент пришел, чтобы проверить мое прошлое, но попутно мы много говорили о том, каково это — работать в ФБР. Он был хорошим продажником. С другой стороны, меня и не надо было уговаривать.
— …Итак, всего через несколько месяцев — если вы станете спецагентом — вы можете сидеть с помповым ружьем за рулем мощного автомобиля где-нибудь в горах или в индейской резервации. Может, вы будете единственным представителем закона в радиусе пятидесяти километров…
Это звучало здорово. Работать в одиночку. Никем не руководить. Возить дробовик. Представлять правительство США. Защищать невиновных, бороться со злом. Быть законом на огромной территории.
Гость еще раз посмотрел на меня.
— Позвольте задать вам еще один вопрос. — Он показал через дверь на моих сотрудников, суетившихся над очередным номером. — Почему вы хотите все это бросить? Вы сейчас зарабатываете шестьдесят пять тысяч долларов. Вы хозяин. В ФБР вы начнете с двадцати пяти и вам будут указывать, где жить и что делать.
— Это для меня легкий выбор. Я всегда мечтал стать агентом, — без колебаний ответил я.
Мы пожали руки.
Потом была еще одна проверка, тест на физическую подготовку. Он состоял из серии упражнений — бег, подтягивания, отжимания, приседания, — и надо было набрать определенную сумму баллов. Мне было тридцать два, пришлось потренироваться. Летом после работы мы всей семьей выходили на беговую дорожку. Донна толкала коляску с маленьким Джеффри, а малыш Кевин бежал за ней. Испытание я прошел, получив право поступить в Академию ФБР. В 1988 году на выходных по случаю Дня труда мы поехали к родителям Донны, жившим на берегу Чесапикского залива, чтобы отметить четвертый день рождения Кевина и мое вступление в ряды ФБР. Было шестьдесят человек: друзья, соседи, родные. Мы сдвинули шесть столов и устроили пикник: жевали гамбургеры и хот-доги, хрустели большими крабами на пару, попивали холодный Budweiser и смотрели на море. Были тосты, объятия и семейные фотографии. Горько и радостно. На следующий день я сел в подержанный «Малибу» Донны, покинул семью и отправился в Куантико в штате Виргиния. Меня ждали четырнадцать недель подготовки.
С самого первого дня меня поразило, как много общего у пятидесяти моих однокурсников: в основном консерваторы около тридцати, патриоты, подтянутые и обаятельные. Еще меня удивило, что, в отличие от меня, большинство рекрутов поступили в Академию после службы в силовых структурах. Бывшие военные и полицейские. Они ценили военную выправку и физический контакт и наслаждались «мужским» решением проблем: бокс, борьба, пинки, наручники, огнестрельное оружие, перцовый баллончик в лицо. Я не был мачо и не разделял такого подхода. Конечно, работа может оказаться опасной, и я готов отдать жизнь ради мирного населения или коллеги-агента, но это не значит, что надо делать какие-то глупости. У меня всегда были хорошие оценки на тестах, поскольку я знал: в большинстве сценариев правильный ответ — вызвать подкрепление, а не строить из себя героя. Вопрос: двое вооруженных грабителей напали на банк, обстреляли полицейского и скрылись в доме. Как вы поступите? Ответ: вызову подкрепление и спецназ. Для военных иногда не проблема кем-то пожертвовать, но в охране правопорядка «приемлемых потерь» не бывает. Физическая подготовка в академии была обязательной, но удовольствия она мне не доставляла, я ее просто терпел. К счастью, сосед по общежитию Ларри Венко разделял мои взгляды. Он придумал мантру, которая помогла нам пройти через эти адские четырнадцать недель: «Мы здесь, чтобы уйти».
В последние недели курсанты получили распределение. Мы с Донной надеялись на Гонолулу, но попали в Филадельфию.
Права выбирать мне не дали. В 1988 году Филадельфия была закопченным, дорогим городом, до ее великого возрождения оставалось еще десятилетие. Я старался не падать духом и робко напомнил жене, что оттуда всего полтора часа езды до наших родных в Балтиморе. Она рассмеялась и больше не возвращалась к этой теме. Мы оба понимали, что отправляемся туда не ради хорошего места и качества жизни, а ради того, чтобы я исполнил свою мечту.
Тогда мы еще не знали, насколько судьбоносным станет для меня это случайное распределение. В Филадельфии было два превосходных художественных музея и одна из крупнейших в США археологических коллекций.
В тот месяц, когда я доложил о прибытии на службу, два из этих мест ограбили.
Глава 4. «Человек со сломанным носом»
Филадельфия, 1988 год
Первое ограбление постигло музей Родена — элегантное здание, посвященное французу, с которого начался импрессионизм в скульптуре.
В музее хранится крупнейшая коллекция работ Родена за пределами Парижа. Он занимает видное место с северо-западной стороны бульвара Бенджамина Франклина — одного из центральных городских бульваров. Музеем Родена управляет его большой сосед, Художественный музей Филадельфии, который может похвастаться картинами Дали, Моне, Ван Гога, Рубенса, Томаса Икинса и Сезанна, а в народе больше прославился лестницей из семидесяти двух ступенек, на которой в фильме «Рокки» тренировался Сильвестр Сталлоне. Это утомительный подъем. Вход в музей Родена намного гостеприимнее: от бульвара его отделяет очаровательный дворик, в котором возвышается двухметровая копия «Мыслителя», самого знаменитого произведения скульптора.
Двадцать третьего ноября 1988 года в 15:55 — за пять минут до закрытия — в музее появился нервный молодой человек. Зимнее солнце уже зашло, и посетителей почти не было. Одет грабитель был в голубые джинсы, белые кроссовки, темную футболку и длинное твидовое пальто серого цвета. Грязные светлые волосы падали на плечи. Охрана у дверей решила, что это студент какой-то школы искусств. Одинокий кассир в крохотной сувенирной лавке заметил гостя, только когда тот заговорил.
— Я по делу! — объявил бандит, доставая дешевый рейвен двадцать пятого калибра с поношенной деревянной рукояткой. — Все на пол, я сказал!
Он направил блестящий серебряный ствол на охрану, но пистолет был такой маленький, а человек говорил так театрально, что те колебались. Постановка? Розыгрыш? Парень не в себе? Он говорил с британскими интонациями, но явно был американцем. Скуластый, с отброшенными назад волосами, он немного напоминал Джеймса Дина. Никто не двинулся, и тогда грабитель выстрелил в стену.
Охранники повалились на пол.
Молодой человек встал на колено, держа оружие в левой руке, и сковал их наручниками. Затем он подошел к ближайшей ко входу скульптуре — «Человеку со сломанным носом». Бронзовая фигура двадцати пяти сантиметров в высоту изображала бородатого мужчину среднего возраста с обветренным лицом. Грабитель снял ее с мраморного постамента, развернулся и бросился к передним дверям, держа добычу, как мяч для американского футбола. Пробежав через двор мимо «Мыслителя», он вышел на бульвар, свернул на запад к художественному музею и затерялся в толпе в час пик.
Это был мой первый месяц работы в ФБР.
С виду ограбление казалось простым, глупым и грубым. Забавно, но работа над этим расследованием открыла передо мной миры, о которых я никогда не задумывался: жизненные трудности одного из величайших импрессионистов, мечты миллионера эпохи ревущих двадцатых, который хотел поделиться потрясающей красотой с земляками-филадельфийцами, надежды злополучного грабителя. Сейчас, оглядываясь назад, я вижу, что это дело разожгло во мне интерес, который позже перерос в карьеру, но в тот месяц меня заботили куда более прозаические задачи. Например, не забыть захватить с собой рацию во время слежки.
В то время в ФБР не было следователей, занимающихся исключительно преступлениями в сфере искусства. Похищения картин, скульптур и древностей, по сути, перешли на федеральный уровень лишь в 1995 году. Поскольку художественная и культурная значимость не принималась во внимание, дела вели команды по кражам собственности, а ФБР подключалось, только если были доказательства, что украденный предмет пересек границу штата, — это делало преступление федеральным. Однако в Филадельфии работал один уважаемый агент по имени Боб Базен, который любил музейные дела. Он тесно сотрудничал с городской полицией, а те часто консультировались с ним по вопросам краж. Мне повезло. Когда я окончил Академию и прибыл для прохождения службы, меня назначили напарником именно к нему.
Не то чтобы Базен хотел работать со мной или еще каким-то новичком. Агенты-ветераны называли нас «синими факелами»: в первые месяцы мы так хотели угодить, что из наших задниц буквально шло голубое пламя. Базен любил работать в одиночку и, как минимум с виду, вел себя так, будто на подготовку молодежи ему наплевать. Я подозревал, что он скептически относился к моему прошлому: недолгая работа в папином магазине японского антиквариата вряд ли делала из меня эксперта-искусствоведа. Что еще хуже, большинство новых сотрудников ФБР — бывшие полицейские, военные и национальные гвардейцы, а я какой-то журналист из газеты для фермеров. Базен был похож на медведя: невысокий, коренастый и серьезный. Он много лет проработал на улице, охотясь на грабителей банков и беглых преступников, и был безупречно, всецело верен ФБР. Он прилежно работал над любым заданием, и моя подготовка не стала исключением.
Я расположился за свободным столом рядом с Базеном. ФБР занимало два этажа в центральном федеральном здании — судебном комплексе из красного кирпича в двух кварталах от Индепенденс-холла. Команда, занимавшаяся кражами собственности, располагалась в углу на восьмом этаже. В первый же день работы я взял пару блокнотов, ручек и стопку чистых бланков и начал раскладывать все это на письменном столе. Базен терпеливо смотрел на мои приготовления, а когда я закончил, поймал мой взгляд и поинтересовался:
— И как вы собираетесь носить все это на улице?
— В Академии нам не рассказывали, — смущенно сказал я.
— Забудьте всю эту ерунду, — проворчал агент. — Академия — это Диснейленд.
Он наклонился, достал из-за стола поношенный коричневый портфель и бросил его мне, сказав положить туда бланки, которые пригодятся во время расследований. Чтобы исполнять постановления об обыске, зачитывать людям их права, делать скрытые аудиозаписи и конфисковать имущество, нужны формуляры.
— Берите их с собой, куда бы ни пошли. Каждый день, на каждое дело, — сказал мой новый партнер. — А теперь вперед. Если будем тут рассиживаться, ничего не раскроем. Приступаем после обеда.
Съев пару больших сэндвичей, мы проехали пятнадцать кварталов к музею Родена. Вопросы задавал Базен, а я подробно конспектировал. Мы узнали немногим больше, чем следователи из городской полиции. Не знаю, о чем думал Базен, когда мы возвращались обратно в офис, а я размышлял, но не осмеливался спросить, почему вор выбрал именно «Человека со сломанным носом». Может, скульптура просто стояла близко к дверям? Или грабителя привлек сияющий бронзовый нос, который музейные работники многие годы разрешали посетителям потереть на счастье? Зацепок нашлось мало, и, чтобы быть полезным, я начал читать про Огюста Родена и «Человека со сломанным носом» — L’Homme au nez cassé.
Это было первое важное произведение Родена, и не будет преувеличением сказать, что оно же стало для него переломным, подвело его к революции в мире скульптуры. Оно помогло скульптору выйти за пределы фотографического реализма — во многом так же, как другой импрессионист, Клод Моне, преобразил живопись. Задача Родена была сложнее. Художники выражали себя искусной игрой цвета и света. Скульпторы же, в том числе Роден, работают в одноцветном трехмерном пространстве и манипулируют светом и экспрессией с помощью комков и складок гипса и терракотовых форм. Поворотный момент для Родена — и истории искусства в целом — произошел в 1863 году, когда скульптору было двадцать четыре. В тот год умерла его любимая сестра Мария.
Убитый горем, Роден оставил начавшуюся карьеру, отвернулся от семьи и друзей, обратился к Церкви и даже начал называть себя «брат Августин». К счастью, один священник увидел, что истинное призвание Родена — искусство, а не религия, и предложил ему поработать над церковными проектами. Позже он начал сотрудничать с парижскими застройщиками и скульптором Альбером-Эрнестом Каррье-Беллёзом, которого прославили изображения героев греческой мифологии. Попутно Роден вернулся к собственным проектам.
За десять франков в месяц он снял свою первую мастерскую — бывшую конюшню на улице Лебрен. Место было неподготовленным: девять квадратных метров и шиферный пол с плохо закрытым колодцем в углу. «В мастерской в любое время года были ледяной холод и пронизывающая влажность», — вспоминал скульптор годы спустя. На редких фотографиях этого раннего периода творчества Роден носит цилиндр, сюртук и всклокоченную бородку, а уши закрывает буйная шевелюра. Он выглядит уверенным в себе.
Новые произведения Родена должны быть не столько реалистичными, сколько передавать глубокие, иногда множественные смыслы. До смерти сестры он изображал близких: родных, друзей, женщин, с которыми встречался. Теперь он вышел из этого круга и обратился к обычным людям. Бедность не позволяла оплачивать натурщиков, и Роден по возможности привлекал добровольцев, в том числе рабочего, который три раза в неделю убирал его конюшню-мастерскую. По словам скульптора, это был «ужасно отталкивающий человек со сломанным носом». Итальянец по имени Биби, — во Франции XIX века это прозвище значило просто «парень». «Сначала я едва мог работать: он казался мне отвратительным. Но со временем я понял, что голова этого человека чудесной формы, он по-своему прекрасен… Он многому меня научил».
Роден возвращался к работе над этим произведением восемнадцать месяцев. Скульптура стояла в конюшне, на отопление денег не было, и, чтобы глина не высохла, ее накрывали влажной тряпкой. Рабочий стал напоминать греческого философа: это был одновременно портрет простого человека и сверхчеловека, современника и человечества в целом. Он показал Родену новый путь, путь к истине.
А потом произошло неожиданное.
Зимой 1863 года температура ночью упала ниже нуля, и терракотовая форма замерзла. Задняя часть головы откололась, упала и разбилась. Роден внимательно осмотрел оставшуюся маску и пришел к выводу, что она подчеркивает морщины и фактуру лица Биби, его сломанный нос и душевные переживания. Он подумал: то, что работа сделана только наполовину, придает ей глубину. Так появилась новая форма скульптуры, к которой мастер вернется еще не один раз. «Маска определила всю мою будущую работу, — вспоминал Роден потом. — Это была моя первая хорошая модель».
Но на Парижский салон работа впечатления не произвела. Эта финансируемая государством организация, объединявшая деятелей искусства и критиков, контролировала самые популярные выставочные площадки и была весьма консервативна. В 1864 году эти люди не были готовы принять импрессионизм любого рода. Родена это, может, и не заботило бы, если бы общество не было таким влиятельным, по крайней мере экономически. Богатейшие покупатели, в том числе Французская республика, не спешили приобретать произведения, которые не были выставлены там. Пройдет еще одиннадцать лет, прежде чем Салон начнет принимать работы Родена, Моне и их коллег-импрессионистов.
В 1876 году состоялся дебют «Человека со сломанным носом» в Америке. Скульптуру можно было посмотреть в филадельфийском Фермонт-парке в рамках французской экспозиции на выставке, посвященной столетию независимости США. Это важнейшее событие стало толчком к основанию в городе художественного музея, но Родену принесло разочарование. Он не получил призов, его работы не вызвали резонанса.
Прошло полвека, и американский провидец красиво вернул Родена в Филадельфию.
Миллионер Жюль Мастбаум сколотил состояние, используя в начале 1900-х потенциал кинотеатров. Он превратил поход в кино в развлечение, гламурное и доступное одновременно. К началу 1920-х, на взлете Голливуда, Мастбаум уже имел заведений больше, чем кто бы то ни было в США. Он назвал свою империю Stanley Company of America — в честь умершего брата. Во многих средних и маленьких городах по всей Америке «театры Стэнли» стали средоточием общественной жизни. Многие из них имели величественные лестницы и пышный декор, но самый роскошный кинотеатр Мастбаум выстроил в Филадельфии. В нем было 4717 мест и помещение для оркестра на шестьдесят человек. Здание было выдержано в стиле французского ампира и ар-деко: мрамор, золотые листья, витражи, гобелены, картины, статуи, три балкона, орган Wurlitzer и самая большая хрустальная люстра в городе.
В 1923 году, через шесть лет после смерти Родена, Мастбаум во время долгого отпуска побывал в Париже и был заворожен творениями скульптора. Он начал скупать бронзовые статуи, гипсовые эскизы, рисунки, оттиски, письма и книги и отправлял все это домой, в любимую Филадельфию. Коллекция вскоре охватила все периоды жизни Родена. Кроме «Мыслителя» и «Человека со сломанным носом», Мастбаум привез в Америку «Граждан Кале», «Вечную весну», а также «Врата ада» — огромную сложную скульптуру, над которой скульптор трудился последние тридцать семь лет своей жизни. Мастбаум с самого начала хотел поделиться своей коллекцией с обществом и через три года после ее основания пригласил Поля Кре и Жака Гребе — видных французских архитекторов, работавших в стиле неоклассицизма, — спроектировать здание и сады на подаренном городом участке рядом с бульваром. В передней части музейного двора они воспроизвели фасад шато, которое Роден построил на закате жизни в своей загородной резиденции. Разработанные Жаком Гребе сады Родена вошли в состав музейного комплекса. С тех пор пейзаж бульвара Бенджамина Франклина изменился, но в этом спокойном уголке по-прежнему можно было отдохнуть от городского шума.
В 1926 году Мастбаум скоропостижно скончался, но его вдова довела проект до конца, после чего подарила городу. Музей открылся в 1929 году и вызвал восторженные отзывы публики и критиков. «Это сияющая жемчужина на груди женщины по имени Филадельфия», — восторгалась одна из газет. Сегодня музей выглядит маленьким и скромным, особенно по сравнению со «старшим братом» на соседнем холме. Но именно благодаря размерам и обширной коллекции он необычайно доступен. Посетителям предлагают поучаствовать и в «интерактивной выставке»: потереть нос «Человека со сломанным носом» и пожелать себе такого же везения, какое скульптура принесла своему автору.
Нам с Базеном тогда очень пригодилась бы эта удача.
Улик было крайне мало, и мы поступили так же, как любой полицейский в подобной ситуации: предложили вознаграждение. Музей и страховая компания собрали пятнадцать тысяч долларов, а мы отправились в местные газеты и на телевидение, чтобы его опубликовать. Потекли сведения — как обычно, в основном ложные, и приходилось проверять каждое. Примерно через месяц нам позвонил один филадельфиец, который располагал некоторыми неопубликованными подробностями преступления, например ярким монологом грабителя. Еще он, видимо, много знал о человеке, на которого указывал, — Стивене Ши. Подозреваемому было двадцать четыре года — чуть старше, чем тот студент колледжа, которого описывали охранники, но информатор настаивал, что это именно тот, кто нам нужен. Остальные внешние признаки совпадали, и — только представьте! — Ши работал стриптизером за четыреста долларов в день, чтобы платить за жилье. Он был необыкновенно красив и театрален!
Мы поняли, что нашли подозреваемого, но одной наводки было мало, чтобы его арестовать и провести обыск. Требовались веские доказательства. Базен действовал осторожно. Если устроить очную ставку, попытаться запугать Ши и выбить из него показания, это может выйти боком: он замкнется в себе, а скульптуру выбросит или уничтожит. Так уже бывало в Европе: в одном печально известном случае мать швейцарца, подозреваемого в дюжине ограблений музеев, утопила в озере более сотни картин, избавившись не только от улик, но и от бесценных произведений. Наша главная задача, как напомнил мне напарник, — вернуть скульптуру. Мы должны спасти кусочек истории, послание из прошлого. Если попутно получится отправить за решетку плохого парня, это будет бонус.
План Базена был прост. Он решил показать охранникам фотографии Ши и семерых похожих на него людей. Если те опознают подозреваемого, этого будет достаточно, чтобы приступить к активным действиям. Прежде всего была нужна фотография. Эта черновая работа выпала мне. Для слежки Базен выделил специальный фургон и фотографа, а я должен был доложить по радио о выполнении задачи.
В ту неделю я получил два болезненных урока. Во-первых, в феврале в Филадельфии надо одеваться тепло, даже если собираешься следить за кем-то из фургона. Для конспирации двигатель приходится глушить, а значит, отопление тоже не работает. Главный фотограф ФБР, который меня сопровождал, явился хорошо укутанный. Через час, несмотря на весь запал, меня начало трясти от холода. Выглядело это по-идиотски, и пар изо рта хохочущего фотографа поплыл в мерзлом воздухе. Моя вторая ошибка заключалась в том, что я оставил свою рацию на столе в офисе, полагая, что будет достаточно той, что есть в кабине. Через несколько невероятно скучных часов Ши вышел из дома, и мы сделали снимок. Но когда я включил рацию, чтобы доложить об успехе, оказалось, что у нее сел аккумулятор. Мы объехали вокруг квартала к месту, где нас ждал Базен и еще один агент, готовые действовать, если мы запросим подкрепление. Я знал, что он мне припомнит этот промах, и был прав.
Когда мы вернулись в офис, я увидел, что напарник поставил рацию прямо на мой письменный стол. Урок был усвоен: с тех пор я никогда не позволял себе небрежность и не делал никаких предположений о предстоящей операции.
Чтобы получить снимки для сравнения, нас с фотографом отправили найти еще семь человек, похожих на Ши. Взять их из досье было нельзя: все они должны быть похожими, сделанными скрыто на расстоянии. Я думал, мы управимся за день, но, как часто бывает в работе правоохранительных органов, времени на это ушло гораздо больше. Чтобы все сделать как следует и чтобы ни один судья не придрался к нашим фотографиям, понадобилось целых две недели. Но когда мы выложили фотографии перед охранниками, все показали на Ши. Базен приказал мне открывать портфель и приступать к бумажной работе.
Поскольку Ши был вооружен и скульптура могла быть спрятана у него дома, стоило арестовать его где-то еще. Мы позвонили нашему осведомителю и поинтересовались, когда Ши обычно выходит на улицу. Оказалось, что он в курсе дела: в четверг в одиннадцать утра стриптизер и по совместительству грабитель музеев пойдет к зданию на перекрестке Двадцатой улицы и Уолнат-стрит, оживленному месту в центре города. Вооруженный захват средь бела дня на углу в трех кварталах от муниципалитета — не лучший вариант, но других у нас не было.
Тем мартовским утром стоял жгучий холод, но это было нам только на руку, потому что под толстым пальто легко спрятать бронежилет и оружие. Базен сидел в машине, припаркованной у самого перекрестка, и следил за ходом операции. Он должен быть ближе всех к преступнику и отдать приказ вступать в дело. Другие агенты ФБР буднично прогуливались по cходящимся на перекрестке улицам. У соседнего квартала расположился десяток городских полицейских, готовых броситься в бой или перекрыть пути отхода. Я ждал в припаркованной машине за полквартала от Базена и координировал радиообмен с автомобильным отделом (в бардачке лежала запасная портативная рация). Сидящий рядом агент держал в руках MP5, один из самых мощных пистолетов-пулеметов в мире.
Без двух минут одиннадцать я услышал голос Базена. «Похоже, это подозреваемый. Он не один. С ним девушка. Я за ним». Агент рядом включил зажигание, и автомобиль тронулся. Начальник спокойно дал сигнал. «Всем постам: вперед. Вперед немедленно». Мы пролетели пятнадцать метров и резко затормозили рядом с ним, когда тот уже прижал Ши к стене. Я неловко выпрыгнул, стесненный бронежилетом, и направил пистолет, пытаясь изобразить позицию, которой нас учили в академии. Базен вытащил из кармана Ши рейвен двадцать пятого калибра и достал обойму. Одного патрона не хватало.
У нас был Ши, но не скульптура, а говорить подозреваемый не хотел. При обыске у него в комнате мы нашли адресную книгу с именем известного торговца антиквариатом. Тот предложил нам побеседовать с матерью Ши. Мы так и сделали. Она дала нам разрешение провести у нее обыск. В подвале под трубой отопления мы обнаружили под непромокаемым брезентом обернутого в газету невредимого «Человека со сломанным носом».
Суд штата признал Ши виновным и приговорил к пятнадцати годам тюрьмы с возможностью освобождения через семь лет. Хотя раскрыли дело мы, похищения музейных ценностей еще не считались федеральным преступлением — это показывало, что Конгресс не рассматривал их как приоритетные. В филадельфийском отделе ФБР интерес Базена к таким делам считали неформальным, чем-то вроде занятного хобби. Это не значит, что другие агенты принижали его работу. Скорее, большинству было просто все равно. Они увлекались погонями за грабителями банков, мафиози, коррумпированными политиками и наркоторговцами, а ограбления американских музеев рассматривали как частные случаи и (как эту историю со скульптурой Родена) разовую работу для одиночек и неудачников. Восьмидесятые подходили к концу, а похищения предметов искусства все еще попадали в новости как любопытные события, а не повод для возмущения.
Но в марте 1990 года все изменилось. Преступники напали на музей Стюарт Гарднер в Бостоне и взяли добычу, рядом с которой меркли все остальные преступления против искусства в истории США.
Изначально я не участвовал в этом расследовании. Меня тогда больше заботило выздоровление. А еще я оплакивал потерю и искал хорошего адвоката.
Глава 5. Авария
Черри-Хилл, Нью-Джерси, 1989 год
— Сэр? Вы в порядке? Сэр?
Голос в левом ухе звучал твердо и вежливо. Я открыл глаза и увидел перед собой серый ремень безопасности. Приподняв голову, посмотрел сквозь треснувшее лобовое стекло. Похоже, мы врезались в дерево. Оно разбило передний бампер. Я инстинктивно проверил, нет ли на руках крови. Нет. «Ага. Значит, не все так плохо. А еще… Я жив!» Выключив зажигание, я взглянул направо, на напарника и лучшего друга Дениса Бозеллу. Его сиденье было почти полностью откинуто назад. Он стонал.
— Сэр? — Опять этот голос. — Сэр? Как вас зовут?
Я медленно повернулся влево. К окну склонился полицейский из Черри-Хилл.
— Боб, — ответил я. — Меня зовут Боб. Боб Уиттман.
— Хорошо. Держитесь, Боб. Сейчас мы вас вытащим, — заверил полицейский, грея руки дыханием. — Через пару минут тут будут скорая и пожарные. У них есть гидравлический инструмент. Будем снимать крышу: бесплатно получите кабриолет.
Я что-то хрипло промычал в ответ и попытался получше рассмотреть Дениса. Но, начав отстегивать ремень, сморщился от боли в левом боку. Ручка двери не поддавалась. В разбитые окна дул морозный воздух. Я закрыл глаза и подумал о Донне. Вдалеке раздался звук сирен. Господи, как же тут холодно.
Я снова услышал стон Дениса, повернулся, но не мог разглядеть его лицо.
— Денис?.. Денис? Слышишь меня, приятель?
— Что случилось? — слабо отозвался он.
— Нас подрезали.
— В груди больно. Я ведь буду жить?
— Обязательно будешь! — Я почувствовал в своем голосе панику и постарался взять себя в руки. — С нами все будет в порядке, напарник. Все будет нормально.
Я взял его за руку. Сирены выли все сильнее, и я закрыл глаза.
А ведь день обещал быть таким хорошим.
Он начался за час до рассвета. Стараясь никого не разбудить, я поднялся с кровати. Сыновья уже ходили в детский сад и увлеченно считали дни до Рождества. За ночь тонким свежим слоем припорошило смерзшийся снег, выпавший неделю назад во время метели. Я принял душ, сделал себе кофе и надел форму: темные костюм и галстук, белую рубашку и кожаную кобуру с курносым револьвером калибра.357 магнум компании Smith & Wesson. Собираясь выходить, я вдохнул хвойный запах рождественской елки и включил белую гирлянду.
Таким счастливым я не был много лет. У меня энергичная жена, два здоровых мальчугана и работа мечты, которая дает все гарантии и привилегии госслужбы. Донна обожала наш уютный домик в Пайн-Бэрренс в получасе езды от побережья Нью-Джерси: три спальни и рыжевато-оранжевый декор в юго-западном стиле. Мы совсем недавно отпраздновали первую годовщину моего вступления в ряды ФБР. Как и большинство новичков, меня каждые несколько месяцев переводили из отдела в отдел, чтобы я попробовал себя в разной работе. Летом я перешел из команды по кражам собственности, где помогал Базену, в команду по борьбе с коррупцией. Там и оказался в паре с Денисом. Этот экстраверт с волнистыми каштановыми волосами и пронзительными зелеными глазами родился на холмах западной Пенсильвании. Он был восходящей звездой и своим щегольским шармом легко располагал к себе коллег-агентов, руководство, прокуроров, свидетелей и женщин. Мы подружились за несколько месяцев, когда готовились к процессу по делу о коррупции высших чинов полиции. Тогда приходилось работать почти круглые сутки без выходных. Свидетелей надо постоянно опекать: охранять в гостиничных номерах, возить на завтрак, обед и ужин, в офисы прокуроров, здание суда. Мы с Денисом любили играть на пианино, и иногда после работы я давал ему неформальные уроки, научил его The Load-Out и Stay Джексона Брауна.
В семь тридцать я поцеловал Донну, пообещал быть дома к ужину и осторожно вышел на замерзшую дорожку. Держа в руке вторую чашку кофе и старый портфель Базена, я осторожно нырнул в служебную машину, «Форд» 1989 года, включил стеклообогреватель и рок-станцию WMMR.
Сначала пришлось заехать к Денису. Его служебная машина была в ремонте, и я подвозил его на работу. С ним здорово было проводить время, даже когда приходилось пробираться через пробки южного Джерси. Дениса недавно перевели с повышением в Вашингтон, в службу охраны генерального прокурора США. В январе он уедет, и мне будет его не хватать.
Денис запрыгнул на переднее сиденье в момент, когда по радио раздались первые аккорды «Панамы» группы Van Halen. Он сделал погромче. Я очень хорошо это помню, потому что как раз в тот день США вторглись в Панаму. Ирония нам очень понравилась. Я пел и рулил, а Денис играл на воображаемой гитаре.
После обеда команда по борьбе с коррупцией устраивала в одном баре в Пеннсаукене ежегодную рождественскую вечеринку. Так что из Филадельфии мы сразу поехали отмечать. Хороший день. В офисе мы быстро управились с бумажной работой и прибыли как раз вовремя. Заведение называлось The Pub и было расположено у подножия большой треугольной развязки. Оно стало своего рода достопримечательностью южного Джерси. Изначально это был бар с нелегальным спиртным, но с тех пор он разросся и превратился в большой ресторан — швейцарское шале со средневековой атмосферой: мечи и щиты на стенах, бургундские ковры, простые деревянные столы и стулья. Благодаря размерам, расположению и незатейливой еде это было отличное место для нашей встречи. Мы просидели там два часа: дарили друг другу подарки, болтали о делах. Обычные дружеские разговоры. Команда по борьбе с коррупцией — серьезные, сдержанные люди, и вечер прошел легко и приятно. Потом мы оплатили счет, и большинство коллег пошли к бару выпить пива. Однако Денису захотелось продолжения, и он решил принять пару рюмок в баре под названием Taylor. Семьи у него не было, поэтому при любой возможности он старался попасть на бесплатный буфет в счастливые часы. Было уже почти семь, я хотел возвращаться домой, но потом подумал, что, может быть, это последняя возможность побыть с Денисом перед его отъездом. Я нашел таксофон и предупредил Донну, что буду поздно.
Taylor’s Bar and Grille представлял собой спортивный бар в пригородном торговом комплексе рядом с заброшенным ипподромом Garden State Race Track. Не самое роскошное место, но народу там было полно. Я пробился к бару, взял себе второе пиво за вечер и нашел столик. Денис и еще один наш сотрудник пошли в буфет, и вскоре мой напарник уже болтал с миловидной девушкой по имени Памела. Я чувствовал себя пятым колесом в телеге.
Денис по-прежнему танцевал с Памелой, а была половина десятого. Я сильно опаздывал домой, поэтому отвел друга в сторонку и сказал:
— Слушай, мне пора. Ты готов?
— Давай не сейчас, — ответил он и показал глазами на Памелу. — Если все получится, меня вообще не надо будет подвозить. Я пока не уверен, поэтому побудь рядом…
Это продолжалось еще час. Денис развлекался, танцевал, пил с Памелой текилу. Потом он принес мне еще пива и усмехнулся. Я посмотрел на него, как будто говоря: «Все, хватит». Примерно в одиннадцать мое терпение лопнуло. Я взял наши пальто и под руку повел Дениса с танцпола к машине. Он не сопротивлялся.
От бара до нужного нам шоссе рядом с ипподромом всего сотня метров, но это юг Нью-Джерси: сплошные развязки, характерные бетонные барьеры и никаких левых поворотов. В результате мне пришлось ехать в противоположном направлении и несколько раз свернуть направо. Когда мы добрались до нужного перекрестка, Денис уже спал. Я притормозил, и тут меня ослепил яркий белый свет в зеркале заднего вида.
У въезда на развязку был бетонный бордюр, направляющий движение вправо. Из-за вспышки я его не заметил, машина налетела на него со скоростью примерно шестьдесят километров в час, руль резко дернуло, и я его на мгновение выпустил. Когда снова схватил его и попытался вырулить, машина уже не реагировала. Мы оказались в воздухе.
Машина приземлилась прямо у края кольца, врезалась во внутренний овал, потом ее занесло вправо и перевернуло. Крыша ударила меня по голове, и я провалился во тьму.
В отделении травматологии Университетской больницы Купера нас с Денисом положили в одну палату. Женщина-хирург взяла кровь из плеча и спросила, пил ли я спиртное. Она объяснила, что говорить нужно только правду, так как сейчас мне будут вводить обезболивающее. Я вспомнил, что первое пиво выпил в The Pub вскоре после обеда, и ответил:
— Да, четыре или пять порций пива за восемь часов.
Она кивнула.
Я посмотрел на Дениса. На щеке у него было много крови, но выглядел он не очень плохо. Поймав мой взгляд, он пробормотал:
— Со мной все будет в порядке?
Этого я не знал, но заверил:
— Все хорошо, напарник. Ты поправишься.
Дениса увезли.
Потом медсестра сообщила, что у меня перелом четырех ребер, сотрясение и пробито легкое. Врачи сделали торакотомию: разрезали грудную клетку и вставили в поврежденное легкое трубку, чтобы вывести жидкость. Примерно через час я уже лежал в палате. Вокруг стояли медсестры, врач и мой начальник из ФБР. Я спросил про Дениса, и мне сказали, что он все еще в операционной.
— Вам повезло, ребята, — сказал доктор. — Угрозы для жизни нет. — Он показал на кровать рядом со мной. — Ваш друг скоро вернется.
Под действием лекарств я отключился.
Проснулся через три часа от яркого зимнего солнца. В голове был туман, мысли путались, тело ныло. Рукой я нащупал застрявшие в волосах маленькие осколки лобового стекла, а справа — шишку размером с грецкий орех. Потом я увидел, что у входа одна из медсестер беседует с моей женой и женщиной из ФБР. Донна посмотрела на меня воспаленными голубыми глазами и нервно улыбнулась. Соседняя койка была пуста.
Я поморщился и выговорил:
— Где Денис?
Женщины посмотрели в пол.
— Где Денис?
— Не здесь, — ответила медсестра.
— А когда его привезут? Он все еще в операционной?
Сестра замялась, и вперед вышла наша сотрудница.
— Денис не справился. Он мертв.
— Что… как?..
Моя грудь горела. Горло стиснуло. Я закашлялся, и медсестра подалась ко мне. Они ведь сказали, что он поправится! Разве врач не так говорил? «Травмы совместимы с жизнью». Да, именно так. «Угрозы для жизни нет».
Донна подошла к койке, обняла меня, и мы разрыдались.
— У него был разрыв аорты, — мягко сообщила сестра. — Его привезли после операции, но в четыре утра лопнул сосуд. Мы не смогли остановить кровотечение.
Я несколько секунд молча смотрел ей в глаза. Наверное, она почувствовала, что нужно заполнить тишину, и добавила:
— Это часто бывает при таких авариях.
Наверное, она хотела меня утешить. Я почувствовал опустошенность.
Я еще восемь дней лежал в больнице, пытаясь подавить в себе боль. Дениса похоронили без меня. Коллеги звонили и обо всем рассказывали, но я не мог сосредоточиться. Я думал о родных Дениса.
Перед выпиской ко мне пришел психиатр. Я не помню того разговора, но потом, годы спустя, нашел записи: «Пациент испытывает чувство вины, страдание, досаду и унижение. Он ощущает твердую поддержку жены, персонала больницы, сослуживцев и начальства… Острое посттравматическое стрессовое расстройство… Сильное горе».
А еще через несколько дней мне в палату позвонила репортерша и попросила прокомментировать расследование и результаты теста на наличие алкоголя в крови.
— Что вы имеете в виду? — с удивлением спросил я.
Как оказалось, прокурор округа собирался предъявить мне обвинение в убийстве при вождении в состоянии опьянения. Он утверждал, что у меня в крови было двадцать одно промилле — в два с лишним раза больше разрешенной законом нормы. Я отказался от комментариев, повесил трубку и попытался переварить услышанное. Это какой-то абсурд. Порция пива раз в два часа за восемь часов не может дать такой результат: даже четыре промилле было бы много. Я отчаянно искал объяснение. В анализе наверняка какая-то ошибка. Но где? И откуда она взялась? И, главное, как мне это доказать?
Через пять месяцев большое жюри присяжных предъявило мне официальное обвинение. Коллеги и руководство, видимо, сочувствовали, но сам я думал, что моя карьера закончена. Хуже того, меня мучила смерть Дениса. Почему выжил я, а не он? Из-за моей ошибки погиб лучший друг. Я могу лишиться работы и даже свободы. Что делать Донне с детьми, если меня отправят в тюрьму?
Мне грозил реальный пятилетний срок, и я решил бороться. Силы мне придавала семья и начинающаяся карьера — все самое хорошее, знакомое и утешающее в моей жизни. Друзья и коллеги старались подбодрить, но при этом я чувствовал: они считают, что надо пойти на сделку со следствием. Однако признать себя виновным я не мог. Мне было очень трудно смириться со смертью товарища, ведь руль держали мои руки. Сердце ныло, но подсказывало, что он простил бы меня. Родители Дениса тоже однозначно заявили, что не считают меня виновным, и даже просили власти отказаться от обвинений. Но позиция прокурора оставалась непреклонной, и я обратился к Майку Пински, высококлассному адвокату и специалисту по уголовным делам, а тот подключил к делу своих частных детективов. Пински был знаменит тем, что выигрывал самые сложные дела: наверное, больше всего его прославили оправдательные вердикты по делу одного гангстера, которого судили за убийство, и начальника канцелярии округа, обвиненного во взяточничестве. Как и я, Пински слыл крайне откровенным человеком, и на первой же встрече мы выложили все карты на стол.
Я спросил, как можно защищать бандитов. Адвокат заведомо знает, что они делают страшные вещи, даже иногда убивают людей. Как можно дружелюбно с ними общаться?
Пински вышел из-за стола, поставил стул рядом со мной и улыбнулся.
— Бобби, открою вам маленький секрет, — сказал он. — Внешность обманчива. И вообще все дело не в дружбе, а в восприятии. Мафиози постоянно мне звонят и говорят: «Майк, мне выписали штраф за неправильную парковку. Майк, у меня штраф за превышение скорости. Разберись, если не сложно». И я отвечаю: «Конечно, без проблем, я все улажу». И знаете, что я делаю? Я просто оплачиваю эти штрафы из своего кармана! Потом, гораздо позже, я учитываю это в счете по какому-нибудь другому делу, но они-то думают, что в моей власти решить для них вопрос со штрафами. А я позволяю им так думать. Это законно и полезно для бизнеса.
Он наклонился ко мне и сказал:
— Бобби, прежде чем мы приступим, я хочу, чтобы вы меня поняли. Я должен увидеть, что вы осознаёте, чем рискуете. Если мы отвергнем обвинения и доведем дело до суда, процесс может занять годы. Юридические издержки и расходы на расследование наверняка составят десятки тысяч долларов. Вы не представляете, как тяжело придется вашей семье, как это отразится на вашем браке и работе. И в итоге все равно можно проиграть и попасть за решетку. Вы агент ФБР. Вы сами знаете, что, если не признать вину сразу и суд вас приговорит, вы получите намного более серьезный срок.
— Майк, я невиновен, — ответил я без колебаний.
Глава 6. Я учусь видеть
Мерион, Пенсильвания, 1991 год
Я медленно ехал по Норт-Лэтчес-Лайн в нарядном служебном «понтиаке». Эта широкая боковая улица располагалась в сердце Мейн-Лайн, фешенебельного района Филадельфии. Вдоль дороги росли красивые дубы, а за оградами скрывались каменные особняки. Я сверился с запиской и поехал дальше, пока наконец не увидел черные кованые ворота с неприметной надписью «Фонд Барнса». У будки охраны я опустил правое стекло.
— Чем могу быть полезен? — спросил охранник, доставая планшет.
— Добрый день. Меня зовут Боб Уиттман. Я на занятия.
Он сверился со списком и дал знак проезжать.
Я прибыл рано, поэтому, найдя место для парковки, не стал сразу выходить из машины, сжал руль и выдохнул. Был прохладный осенний день. Прошло почти два года после аварии, а я все еще ждал процесса по обвинению в убийстве. Пински эти проволочки не беспокоили: они давали время раскрыть загадку странных анализов на алкоголь. Каждые несколько недель я получал от него пачку связанных с делом бумаг: ходатайства, медицинскую документацию, протоколы бесед частных детективов со свидетелями. Я быстро просматривал материалы, но читать о следствии над собой невероятно тяжело. Еще сложнее видеть холодные клинические оценки в отношении Дениса. Иногда я открывал длинный конверт, клал бумаги на кухонный стол и просто смотрел на них.
Слава богу, с работы меня не выгнали. ФБР провело внутреннее расследование, признало меня невиновным и отправило обратно на улицы города. Некоторое время я был в команде по борьбе с наркотиками. Мы перехватывали наличные, «дурь», «Шевроле Корвет» и упрятали за решетку несколько опасных типов. Я поддерживал тайных агентов, которые рисковали жизнью во время операций в гостиничных номерах, и пережил свою первую перестрелку: пришлось уворачиваться от пуль бандитов. Однако дела о наркотиках были мне не по душе. Я сомневался, что в этой работе есть какой-то смысл. Большинство людей, которых я тогда встречал, торговали наркотиками только потому, что у них не было другого заработка. Они шли на это, чтобы выжить. Мне казалось, что это социальная проблема, а не вопрос охраны правопорядка, поэтому я попросил перевести меня обратно в команду по кражам собственности и вскоре с удовольствием работал с Базеном над преступлениями в сфере искусства.
Всего за несколько месяцев нам удалось вернуть многотомное собрание эскизов Марка Кейтсби — британского художника XVIII века. Это были книги полметра высотой; он рисовал дикую природу, и работы были не менее впечатляющими, чем произведения Джона Одюбона[6]. Коллекция стоила двести пятьдесят тысяч долларов, но дело не в деньгах: спасти такие прекрасные книги было для меня гораздо важнее, чем посадить какого-нибудь унылого барыгу из наркопритона. Базен сказал, что, если я всерьез хочу сделать карьеру на преступлениях в сфере искусства, мне стоит подумать об уроках в Фонде Барнса. Насколько я знал, в этот музей на окраине города — настоящую сокровищницу импрессионизма — пускают только по приглашениям, но Базен все устроил.
Я вышел из машины и направился на свой первый урок, не зная, чего ждать.
Главный вход был величественным: шесть мраморных ступеней, четыре дорические колонны и двери с большими деревянными створками. Даже стена выглядела примечательно. Она была покрыта рыжей керамической плиткой из Энфилда, а в центре каждой детали был рельеф с африканской маской и крокодилом — искусство народностей акан, живущих в Кот-д’Ивуаре и Гане. Вскоре я узнал, что все украшения в Фонде Барнса имеют свой смысл. Оформление входа, например, символизировало долг современного западного искусства перед племенами Африки.
Я вошел в здание, отметился на стойке охраны и направился в первую галерею — наполненный шедеврами огромный зал, равного которому нет ни в одном европейском музее. На стене передо мной было десятиметровое окно, а вокруг — произведения общей стоимостью пятьсот миллионов долларов. Справа висела мощная, поразительная картина Пикассо «Крестьяне. Композиция»: мужчина, женщина и цветы в глубоких оттенках ржавчины и хурмы с карминовым акцентом. Слева — сказочный «Сидящий риф» Матисса, написанный маслом на холсте. С картины грозно смотрел молодой марокканский горец, лицо которого было выдержано в смелых средиземноморских тонах. Над всем этим возвышался, достигая потолка, «Танец» — шедевр того же мастера, четырнадцать метров в длину, на котором радостно плясали гибкие фигуры розоватого, голубого и черного цветов. Я посмотрел направо. Коллекция поражала воображение. Внизу — «Игроки в карты» Сезанна, в приглушенных джинсовых тонах с характерными складками на плащах героев. Выше — гораздо более крупные «Натурщицы» Сёра, скромные обнаженные девушки в цветном фейерверке, составленные из миллионов точек. Этот стиль называется пуантилизмом.
На паркетном полу в центре зала стояло двенадцать складных стульев. Каждый ученик получил бумагу для записей, карандаш и «Искусство живописи»[7] — толстую книгу в желтоватой обложке, которую написал наш благотворитель, создатель фонда доктор Альберт Барнс. В пригласительном письме было сказано, что двери музея закроются ровно в 2:25, а строго в 2:30 начнется лекция.
Нашим преподавателем был Гарри Сефарби, пожилой мужчина в больших круглых очках с торчащими из-за ушей короткими пучками седых волос. Он преподавал в фонде более тридцати лет, а до этого — в конце 1940-х — сам ходил на такие же занятия. Для начала мистер Сефарби — он любил, когда мы его так называли, — провел небольшую лекцию об основателе фонда.
Барнс родился в 1872 году в Филадельфии в рабочей семье. Он прекрасно учился в школе и уже к двадцати годам окончил Пенсильванский университет, став врачом. Он интересовался многими вещами, поэтому позже присоединился к движению прагматистов, которое стало основой его практичной и простой философии искусства. Затем Барнс учился химии и фармакологии в Берлинском университете, а на рубеже веков вернулся в Америку с немецким коллегой. Они открыли в Филадельфии лабораторию и вместе изобрели новое антисептическое соединение серебра — аргирол, которое помогало при воспалениях глаз. Это лекарство господствовало на рынке еще сорок лет и сделало Барнса мультимиллионером. Он начал много путешествовать и вскоре стал коллекционировать предметы искусства, присоединившись к легиону просвещенных богатых американцев, среди которых были Жюль Мастбаум и Изабелла Стюарт Гарднер. В Европе им удавалось сравнительно недорого приобрести произведения старых мастеров и талантливых современников. Число и качество импрессионистских и модернистских работ, которые собрал Барнс, поразительно по любым меркам: общественным и частным, национальным и международным. В его коллекции было сто восемьдесят одно произведение Пьера-Огюста Ренуара, шестьдесят девять — Поля Сезанна, пятьдесят девять — Анри Матисса, сорок шесть — Пабло Пикассо, двадцать одно — Хаима Сутина, восемнадцать — Анри Руссо, одиннадцать — Эдгара Дега, семь — Винсента Ван Гога и четыре — Клода Моне.
Барнс стремился делиться своей любовью к высокому искусству. Начал он с собственных сотрудников: украсил ценными произведениями фабрику и устраивал бесплатные занятия по искусству и философии. Решив построить себе новый дом на участке в пять гектаров сразу за границей города, Барнс пригласил Поля Кре — того самого француза, который проложил в Филадельфии бульвар Бенджамина Франклина и спроектировал музей Родена. И поручил построить рядом с домом художественную галерею.
Миллионер объявил, что это будет не музей, а учебная лаборатория. Все двадцать три галереи станут классными комнатами, их стены — досками с планом урока. Для Барнса было принципиально сделать искусство доступным и понятным для масс.
Он верил, что ценить и понимать искусство может только тот, кто увидел его воочию. Большинство американцев, по его мнению, находились в невыгодном положении, поскольку поддерживали (сознательно или нет) западные представления об искусстве, сложившиеся под влиянием замкнутых в своих мирках ученых. Чтобы понять искусство, лучше всего смотреть на картину, сравнивать ее с соседней, делать свои выводы. Именно поэтому Барнс организовал галереи таким необычным способом. Шедевры у него разместились рядом с посредственными работами, старые мастера — рядом с импрессионистами, африканское искусство соседствовало с европейским, а модернисты — с ремесленниками древних племен. Чтобы подчеркнуть форму, он размещал рядом с картинами трехмерные предметы — зачастую простые металлические конструкции и кухонные принадлежности. На полу вдоль стен стояли мебель, свечи, чайники и вазы. Барнс называл такое неординарное и спорное расположение «ансамблями на стене». Они были призваны помочь студентам увидеть закономерности, формы и тенденции, которым нельзя научить по книгам. Он хотел, чтобы занятия были демократичными, на них оставалось место для свободной дискуссии.
Присмотритесь к плотно увешанным стенам, и вы заметите два стула, которые формой напоминают женские ягодицы на картине Ренуара, и африканскую маску, которая соответствует овалу мужского лица у Пикассо. Окажется, что деревянный стол рифмуется с формами Прендергаста и Гогена. Можно постичь смысл набора половников по обеим сторонам серии картин старых мастеров или пары подков для волов, которые висят рядом с картинами Сутина. Похихикайте, поняв, что тема угловой галереи — локти.
Барнс постоянно заставляет угадывать и думать. Легендарную «Радость жизни» Матисса, которую считают первой картиной модернизма (консервативные французские критики, как известно, обозвали ее «скотской»), он повесил в лестничном проеме.
Мне понравилась история жизни Барнса, его эгалитаризм и эклектичные галереи со сногсшибательными произведениями, но первое же домашнее задание заставило напрячься. Нам надо было прочесть несколько глав трактата «Искусство живописи», написанного Барнсом в 1925 году. Книга в желтой обложке была тяжелая, как кирпич, — пятьсот двадцать одна страница, — и я боялся, что содержание окажется не менее трудным для понимания. Но, осилив первую главу, я был приятно удивлен. Книга, как я и подозревал, была ученая, но доступная и незамысловатая философия Барнса нашла отклик в моей душе. Он писал, что его метод изучения искусства представляет собой «некую базовую объективность и должен заменить сентиментализм и косность, которые скрыты под личиной научного престижа и делают бесплодными курсы художественных университетов и колледжей». Иными словами, Барнс разработал для учеников метод, помогающий им мыслить самостоятельно и сопротивляться искушению принимать на веру доминирующие и часто претенциозные мнения так называемых экспертов. Он показался мне своим парнем.
«Людям часто кажется, что в искусстве есть какая-то тайна, для понимания значения и смысла которой нужно сначала узнать какой-то пароль, — писал Барнс. — Как ни абсурдна эта мысль, в ней есть важная истина. Видеть нужно учиться. Это не так же естественно, как дышать». Вот так. Учиться видеть.
Прежде всего Барнс объясняет, что искусство основано на труде предыдущих поколений. «Человек, который заявляет, что понимает и ценит Тициана и Микеланджело, и при этом не узнает тех же традиций у современных художников — Ренуара и Сезанна, сам себя обманывает». Понимание раннего восточного искусства и Эль Греко влечет за собой признание Матисса и Пикассо. Лучшие из современников пользуются теми же средствами и преследуют те же цели, что и великие флорентийцы, венецианцы, голландцы и испанцы.
Задача искусства не в том, чтобы буквально, документально воспроизводить сцены из жизни. «Художник должен открывать нам глаза на то, чего не увидишь без посторонней помощи. Для этого часто приходится менять знакомый облик предметов, делать то, что в фотографическом смысле можно считать плохим подобием». Величайшие творцы учат воспринимать, прибегая к экспрессии и украшению. Они как ученые: манипулируют цветом, линиями, освещением, пространством и массой, чтобы раскрыть человеческую природу. «Художник дарит нам удовольствие, потому что видит гораздо четче, чем мы».
Великая картина должна быть не просто воплощением технической красоты. В Фонде Барнса нас учили видеть деликатность, тонкость, мощь, неожиданность, грацию, твердость, сложность и драматизм — но глазами ученого. Это очень важно. Когда я вел дела о преступлениях в сфере искусства или играл роль коллекционера во время тайной операции, мне нужно было оценивать и комментировать самые разные произведения независимо от того, нравятся они мне или нет.
Весь следующий год я каждую неделю четыре часа уделял занятиям. Наша группа — одиннадцать человек — собиралась в одной из двадцати трех галерей Фонда Барнса и садилась буквально в метре от трех-четырех шедевров, которым был посвящен урок. Преподаватель объяснял тонкости композиции, палитры, содержания и освещения, а мы впитывали знания. При этом я не только слушал: иногда полезнее было отключиться и созерцать ансамбль на стене. Меня не учили определять подделки и имитации, но я натренировал глаз, чтобы отличать хорошие картины от плохих. Я стал видеть разницу между произведениями Ренуара и Мане, Гогена и Сезанна и, что очень важно, уверенно и подробно рассказывать об этих различиях и закономерностях. Это не так сложно, как может показаться, особенно для искусствоведов и музейных работников. Однако полицейские, как правило, не обладают подобными знаниями. Как я понял годы спустя, не разбирается в этом и большинство похитителей.
Занятия в Фонде Барнса пришлись очень кстати и в личном, и в профессиональном смысле. Я помню, как однажды гулял по галерее на втором этаже. Я был подавлен обвинением, переживал по поводу счетов от адвоката, мучился мыслью, что могу попасть в тюрьму и расстаться с Донной и детьми. И тут наткнулся на «Сборщиков мидий в Берневале» Ренуара. Картина остановила меня. Молодая мать и дети на морском берегу цвета охры. Улыбающиеся сестры держатся за руки. Мальчик с корзиной мидий. Небо цвета индиго. Я подошел ближе, поднял голову, и взгляд последовал в море вслед за мазком краски. Картина показалась мне теплой и успокаивающей. Она пробуждала образы тихого, простого прошлого, когда для того, чтобы получить радость жизни — joie de vivre, — было достаточно играть на берегу и собирать свежие мидии на ужин.
Маленькие дети и мама. Берег. Семья. Моя семья.
Я нашел скамейку, сел на нее и вздохнул.
Уроки в фонде углубили мой интерес к искусству и понимание его ценности, и я неосознанно стал подходить к делам в этой сфере с еще большим энтузиазмом и иначе на них смотреть. В период учебы мы с Базеном совершили прорыв в старом расследовании об ограблении в 1988 году престижного Музея археологии и антропологии Пенсильванского университета. В ротонде высотой почти тридцать метров находилось одно из самых важных в США собраний китайских древностей. Однажды поздним зимним вечером воры унесли оттуда настоящую жемчужину коллекции: стоявший на почетном месте хрустальный шар весом двадцать два с половиной килограмма. Идеальная сфера из Императорского дворца в Пекине, в которой все отражается вверх ногами, когда-то принадлежала вдовствующей императрице Цыси. Это второй по величине предмет такого рода в мире. Триумф мастерства и терпения был создан вручную в XIX веке. Автор целый год полировал его наждаком, гранатовым порошком и водой. Грабители прихватили не только шар, но и бронзовую статую Осириса — египетского бога мертвых — возрастом пять тысяч лет. Музейное руководство считало, что это дело рук любителей, но предметы пропали без следа.
Теперь, три года спустя, Базену позвонили из музея и сообщили, что бывший хранитель заметил статую на Саут-стрит в Филадельфии, в одной из множества лавочек со всякой всячиной. Мы ринулись в бой, надавили на владельца и выведали у него подробности. По его словам, он купил бронзовую статую стоимостью полмиллиона всего за тридцать долларов у бездомного по кличке Эл, который бродил по улицам с тележкой для покупок и собирал вторсырье. Мы нашли Эла, и тот быстро признался, что статую дал ему некий Ларри, который живет в нескольких кварталах от лавки. Мы с Базеном отправились в гости к «Ларри».
Ларри оказался коренастым мужчиной с южнофиладельфийским характером и сомнительной историей. «Понятия не имею, ребята. Я просто нашел эту статую у себя в прихожей несколько лет назад», — заявил он, а потом неубедительно предположил, что, наверное, ее там забыл кто-то из знакомых. Тогда мы применили классический прием со злым и добрым полицейскими. Базен бушевал, топал ногой, хмурился и угрожал арестовать Ларри, если тот не скажет «правду». Я говорил мягко и уверял, что, если он поможет следствию, обвинений не будет. Когда это не сработало, я вышел к Базену.
— Почему вы так быстро закончили? — спросил я напарника.
Он пожал плечами.
— Хочу есть. Пора бы пообедать.
Мое лицо приняло спокойное выражение, и мы пошли в комнату к Ларри. Я попробовал действовать напрямую.
— Может, вы нашли в прихожей не только статую, но и еще что-нибудь?
— Что, например?
— Например, стеклянный шар.
— Стеклянный шар? А, точно. Такой большой и тяжелый. Я решил, что это штука для украшения газона. Он был не особо красивый, поэтому я отправил его в гараж, а где-то через год отдал.
Я снял колпачок с ручки, достал записную книжку и как можно беззаботнее поинтересовался:
— Отдали? И кому же?
— Ким Беклз. Моей домохозяйке. У нее в сентябре 1989 года был день рождения. Она любит всякие кристаллы, пирамиды и тому подобное. Она даже шутила, что хорошая ведьма.
Я попросил Ларри позвонить Беклз и сообщить, что шар оказался ценным и он отправит к ней пару оценщиков, чтобы они на него взглянули.
— Скажите ей, что, если его получится продать, деньги вы поделите, хорошо?
Ларри позвонил, и мы направились к ведьме в Трентон в штате Нью-Джерси. Там мы сразу отбросили все уловки. Я сильно постучал в дверь и крикнул: «Полиция!» Хозяйка быстро открыла. После описания Ларри мы ожидали увидеть старуху, но Беклз оказалась грациозной двадцатидевятилетней красавицей со светлыми кудрявыми волосами. Мы показали удостоверения и объяснили, что ищем. Она, видимо, была искренне удивлена и сказала, что шар лежит в спальне. Мы поднялись за ней наверх.
Никогда не забуду, с каким ощущением я шел по лестнице. Похожее нервное предвкушение появлялось у меня каждый раз, когда я ехал на облаву по делу о наркотиках или помогал схватить подозреваемого, но сейчас было еще лучше. Я чувствовал, как бьется сердце. Я искал не банальные наркотики или оружие, а утерянное сокровище.
Хрустальный шар вдовствующей императрицы «ведьма» держала на шкафу под бейсбольной кепкой.
Когда мы с Базеном вернули экспонат на законное место в ротонде пенсильванского музея, я как никогда гордился проделанной работой, хотя преступников мы не посадили. Связанные с искусством дела давали удовлетворение другого рода, а поскольку ими занимались только мы, у нас была определенная независимость, которую редко встретишь в зарегулированном мире ФБР.
Помогло и то, что дело получило широкую огласку. За день до официальной пресс-конференции кто-то слил эту историю в Philadelphia Inquirer, и газета напечатала на первой полосе эксклюзивную статью. После пресс-конференции о расследовании рассказали во всех вечерних новостях, а на следующее утро — еще в четырех газетах. Несколько лет спустя мы с Базеном вернули давно потерянную картину, украденную из Художественного музея Филадельфии, и история снова оказалась на первых страницах. Коллег, которые занимались более традиционными для ФБР преступлениями, например наркотиками и грабежами, наша работа, может быть, не слишком интересовала, однако журналистам не терпелось написать об искусстве, обыграть эти истории. В них всегда была какая-то изюминка, небольшая интрига, на которую клюет публика. Было приятно, что нам уделяют внимание, но главное — наши руководители представали в хорошем свете и им было легче дать зеленый свет очередному делу такого рода.
Одно из самых важных моих расследований пришлось на начало 1990-х, когда я еще ждал суда. Банды тогда среди бела дня нападали на фешенебельные ювелирные магазины — Tiffany, Black, Starr & Frost, Bailey Banks & Biddle. Они разбивали молотками и монтировками витрины. Забирали пригоршни бриллиантов и «Ролексы» стоимостью десятки тысяч долларов. Преступники были из Филадельфии, но пострадала более чем сотня магазинов в пяти штатах. Я организовал и возглавил группу особого назначения, которая не только посадила по федеральным обвинениям тридцать членов группировок, но и поймала главарей, укрывавших краденые ценности. Ими оказались двое нечистоплотных торговцев с Ювелирного ряда Филадельфии. Мы снова попали на первые полосы газет, а у меня появились свои информаторы в среде ювелиров.
Успехи на работе меня радовали, но авария не давала покоя. Как мы с Донной ни старались, убежать от этой темы было невозможно: она постоянно маячила где-то рядом. Соседи и друзья следили за продвижением моего дела в Inquirer и Camden Courier-Post. В основном они были настроены доброжелательно, но при любой возможности задавали неудобные вопросы. Грубо им отвечать не хотелось, но и говорить об этом тоже. Проволочки накапливались, росли юридические расходы. Слушания были назначены, потом отложены, еще раз назначены и снова отложены. Я сходил с ума: хотелось, чтобы мучения кончились, неопределенность пугала. Мне нужна была какая-то отдушина, чтобы отвлечься.
— Я должен чем-нибудь себя занять, найти хобби, — сказал я однажды Донне. Она согласилась.
Выбор пал на бейсбол. Я тренировал сыновей, Кевина и Джеффа, в Малой лиге, и мы любили ездить в Балтимор, чтобы посмотреть, как на новом классическом стадионе Camden Yards играют мои Orioles. У нас сложилась традиция: мы приезжали пораньше, чтобы посмотреть на отработку ударов, брали дешевые места, делили пачку бейсбольных карточек, а иногда задерживались, чтобы попытаться получить автографы. Вскоре мы начали посещать встречи коллекционеров, и я обнаружил спрос на дебютную карточку Кела Рипкена (специальный выпуск серии Topps 1982 года): в отличие от Филадельфии, в Балтиморе этот инфилдер[8] Orioles был невероятно популярен. Я начал объезжать ярмарки и магазины в торговых центрах рядом с Филадельфией и скупать карточки Рипкена. За штуку я платил от двадцати пяти до пятидесяти долларов, потом ехал на шоу и игры в Балтиморе и продавал их на сто-двести долларов дороже. В год, когда Рипкен побил рекорд Iron Man по наибольшему числу последовательных игр, карточки у меня уходили по четыреста долларов. Я зарабатывал на любимом деле и думал: «Кто знает, что будет дальше?» Если я потеряю работу и окажусь в тюрьме, после освобождения карьеру придется делать заново. Вдохновленный, я расширил поле деятельности и попробовал себя в предметах времен Гражданской войны и старинном огнестрельном оружии. Я ездил на встречи коллекционеров, прочесывал новостные рассылки в поисках хороших предложений, начал покупать, меняться, продавать. Я даже воспользовался своим опытом, полученным в Фонде Барнса, и занялся изящным искусством: купил несколько гравюр Пикассо и по выходным после обеда бродил по пригородным галереям и блошиным рынкам. Я мечтал, что когда-нибудь мне попадется давно утраченный Моне за тысячу долларов и я продам его за сто тысяч.
Тем временем Донна думала совсем о другом: ей хотелось третьего ребенка. Я не знал, стоит ли, — мое будущее казалось очень неопределенным, — но жена была непреклонна. «Нельзя ставить нашу жизнь на паузу», — заявила она. Мальчикам уже четыре и шесть лет. Донне — тридцать пять. Потом увеличивать семью будет поздно. Я согласился, хотя и нервничал. Маленькая Кристин родилась на День благодарения. Как оказалось, это было наше лучшее решение в те напряженные годы.
Как ни странно, процесс всё откладывали. Прошел 1993 год, потом 1994-й. Я как можно больше занимался детьми, работой, новыми увлечениями и искусством, но мысли все равно каждые несколько часов возвращались к Денису и тому, что ждет меня впереди. Каждый день по дороге на работу я пересекал реку Делавер по мосту Бенджамина Франклина. Прямо у его подножья находится «Риверфронт», тюрьма штата Нью-Джерси. Туда меня отправят в случае обвинительного приговора.
Однажды в 1995 году, за несколько недель до очередной даты процесса, я столкнулся на Саут-стрит с членом прокурорской следственной группы. Нам не полагалось разговаривать вне суда, поэтому надо было быть осторожными.
Мы обменялись любезностями. Потом повисла неловкая пауза, и наконец этот человек сказал:
— Как вы держитесь?
Как я держусь? Я, стараясь говорить как можно вежливее, ответил вопросом на вопрос:
— Зачем вы это делаете?
Ответ потряс меня:
— Послушайте, мы понимаем, что это плохое дело, но оно из тех, которые нам придется проиграть в суде.
Эта реплика вдребезги разбила мою веру в то, что прокуроры хотят справедливости. Я был подсудимым и считал, что правда, свидетели и доказательства на моей стороне, но мне и в голову не приходило, что государственные служащие ведут дело, в которое сами не верят. Послушайте, мы понимаем, что это плохое дело, но оно из тех, которые нам придется проиграть в суде. Я начал судорожно подыскивать ответ, но потом сдержался и отошел.
Мне было сорок, а я уже поседел.
Глава 7. Новая жизнь
Камден, Нью-Джерси, 1995 год
— Подсудимый, встаньте!
Присяжные вошли в зал. В руках у старшины был лист с вердиктом. Я попытался поймать взгляд этой женщины. Их не было всего сорок пять минут. Шел девятый день процесса: невероятно долго для дела о вождении в состоянии опьянения. Но мне казалось, что все идет очень хорошо. Я признал, что выпил за восемь часов четыре или пять кружек пива. Майк Пински, мой защитник, буквально разорвал в клочья свидетелей обвинения, а персонал скорой помощи подтвердил, что я не выглядел пьяным. Памела — девушка, с которой Денис познакомился в баре, — заявила, что я был трезв и ее новый знакомый явно просил меня его отвезти. Прокурор сделала ставку на свое самое сильное доказательство: больничный отчет, в котором говорилось о двадцати одном промилле. Это так много, что мне было бы сложно даже ходить, не то что водить машину.
К счастью, эксперты Пински к тому времени уже раскрыли эту загадку. Они объяснили присяжным, что при подробном сравнении медицинских записей обнаружилось нечто странное: у меня содержание алкоголя в крови с точностью до пятого знака после запятой — 0,21232, а у Дениса — 0,21185. Разница всего 0,00047 — меньше, чем обычная вариабельность для одной и той же пробы. Такой близкий результат не может быть случайным, и эксперты это подтвердили. Кто-то в больнице, видимо, перепутал образцы. Поскольку каждую пробу положено проверять дважды, мне приписали второе показание напарника. Этот аргумент стал звучать еще убедительнее, когда эксперты выяснили, что в больнице не было процедуры защиты образцов и надлежащей цепочки ответственности. Один из наших свидетелей раньше возглавлял криминалистическую лабораторию полиции штата. Под присягой он решительно заявил: единственное доказательство обвинения не стоит выеденного яйца.
Когда секретарь подал судье лист с вердиктом, мои мысли понеслись как бешеные. Почему так быстро? Присяжные хотя бы успели проанализировать лабораторные отчеты? Им понравился мой адвокат? А прокурор? Я сам? За мной тихо проскользнул судебный работник в форме. Что это значит? Меня возьмут под стражу? Или он здесь, чтобы меня защитить?
Когда судья развернул лист с вердиктом, в голове промелькнула встреча с членом прокурорской группы. «Мы понимаем, что это плохое дело, но оно из тех, которые нам придется проиграть в суде». Что, если присяжные этого не поняли? Что, если все не так?
Судья откашлялся.
— Рассмотрев дело «Штат Нью-Джерси против Роберта Уиттмана», мы признаем подсудимого… невиновным.
Я глубоко выдохнул и разжал кулаки. Мы с адвокатом обнялись. Я обнял жену. И даже прокурора. В новостях говорили потом, что я «не скрывал слез». Мне хотелось обнять и судью. После вердикта он сделал необычный жест и во всеуслышание заявил, что согласен с присяжными. Анализ крови он назвал липовым доказательством и заключил:
— Человек просто потерял управление. Авария и смерть пассажира были трагической случайностью.
Мы с Донной поклялись начать жизнь заново и решили переехать из Нью-Джерси в Пенсильванию — тоже в пригород.
О Денисе я думал каждый день.
Поздним вечером я часто сидел на крыльце, держал в руке большой стакан чая со льдом и размышлял, чему меня научило это испытание. У меня был выбор. Можно начать жалеть себя и больше не высовываться из офиса: до пенсии работать положенные сорок часов в неделю и не отсвечивать. Но можно собраться с силами. Так или иначе, авария и суд — поворотная точка в моей жизни и карьере.
Я никогда всерьез не собирался уходить из ФБР, но пообещал себе, что уже не буду таким агентом, как раньше. Большинство знакомых мне служителей закона — достойные люди, но некоторые любой ценой хотят закрыть дело, человек им безразличен. Это опасное отношение. Такие ребята могли бы сказать: «Может, он и не совершал того, за что я его посадил, но ничего страшного. Этот подонок наверняка улизнул от какого-нибудь другого наказания». Я никогда не поддерживал такой подход. Невиновен — значит, невиновен. Теперь я знал, каково быть обвиненным в преступлении, которого ты не совершал. Как это отражается на семьях. Каким беспомощным и одиноким чувствует себя невиновный во время процесса. Я никогда бы не смог сознательно обречь кого-то на такое.
Теперь я принадлежал к узкой прослойке. Агенты ФБР, обвиненные в серьезном преступлении, редко доводят дело до суда. Еще меньше добивается оправдания, а решают после этого остаться на службе единицы. Я видел мир не так, как большинство моих коллег: не черно-белым, а в оттенках серого. Я понял, что неверное решение само по себе не делает человека злодеем. Может, так же важно и то, что я осознал, чего по-настоящему боится большинство подозреваемых — виновных и невиновных — и что они хотят услышать. Обретенная способность видеть обе стороны — думать и чувствовать как обвиняемый — была бесценной, и я знал, что благодаря этому стану работать еще лучше, особенно в качестве тайного агента.
Но каким агентом я хочу стать?
Однажды вечером, оставшись в одиночестве, я играл «Фантазию» Шопена, которую уже много лет не слышал. Эта музыка мне нравилась, еще когда занимался фортепиано в колледже. Забывшись, я подумал о шумихе, которая поднялась, когда мы вернули китайский шар и скульптуру Родена. О том, как здорово держать в руках историю. Мои мысли плыли в такт музыке и остановились на пианисте Ване Клиберне. Он всегда вдохновлял меня тем, что сумел подняться из самых низов и благодаря невероятной настойчивости в разгар холодной войны выиграл в Москве конкурс имени Чайковского. Немыслимая отвага: в те времена у американцев было мало шансов выиграть что-то в России. Я решил последовать его примеру, воспользоваться моментом и направить свою энергию на что-нибудь важное.
И тут я все осознал. У меня уникальное положение, чтобы бороться с преступлениями в сфере искусства. Я уже агент ФБР, успешно трудившийся над подобными делами, который во время сложного расследования ограблений ювелирных магазинов возглавлял целую команду. Более того, я работал над собой, чтобы стать специалистом в некоторых областях. За пять лет между аварией и оправданием я учился в самых разных местах, от блошиных рынков до Фонда Барнса, и разобрался во множестве нюансов, начиная с коллекционирования и заканчивая высоким искусством. Не забывал я и о бейсбольных карточках, предметах периода Гражданской войны, японском искусстве, старом оружии и импрессионистах, — мои знания и навыки пригодятся почти в любой области.
Я могу уверенно разговаривать и торговать в обществе коллекционеров, любителей антиквариата и изящных искусств. Я знаю, что дебютная карточка Микки Мэнтла в идеальном состоянии стоит в два раза дороже, чем такая же карточка Джо Ди Маджо, а автограф Кастера гораздо ценней автографа Роберта Ли. Могу за секунду узнать картину Сутина и объяснить, как на его конструктивное применение цвета повлиял Сезанн, а потом с той же легкостью беседовать о влиянии Буше, жившего в XVIII веке, на обнаженные фигуры Модильяни, творившего на столетие позже. Я способен объяснить разницу между провенансом — историей владения произведением искусства — и происхождением — информацией о месте, где был найден древний предмет. Могу компетентно рассуждать о различиях между кольтом, который взял с собой в свой последний бой техасский рейнджер Сэм Уокер, и тем, который был у Рузвельта на холме Сан-Хуан[9]. Я знаком с большинством крупных игроков на Восточном побережье, знаю, на какие мероприятия ходить и кому доверять.
Мое неофициальное образование завершено.
Я готов работать под прикрытием и гнаться за сокровищами.
И летом 1997 года мне представился первый шанс.
Творческий путь
Глава 8. Золотой человек
Шоссе Нью-Джерси Тернпайк, 1997 год
Контрабандисты прибыли за двадцать минут до назначенного срока.
Наша команда наблюдения уже была на месте и смотрела, как они въезжают на стоянку у пункта сбора оплаты рядом со съездом 7A — на полпути между Филадельфией и Нью-Йорком. Парковка была переполнена тайными агентами. В пикапе двое рабочих ели сэндвичи из Blimpie, женщина со стаканчиком кофе разговаривала по таксофону, а за столиком для пикника расположилась пара с обедом из Burger King. Внутри темного фургона с затененными окнами двое сотрудников снимали на видеокамеру место встречи всего в шестидесяти метрах от шоссе. О том, что контрабандисты припарковали свой серый «понтиак» и нашли столик, мне сообщили по мобильному телефону. Я и испаноговорящий агент Анибал Молина сидели в нескольких километрах оттуда в арендованном бежевом «Плимуте Вояджере». Мы прикрепили к телу микрофоны, спрятали оружие под сиденье и поехали.
В этот солнечный и ветреный сентябрьский день ФБР охотилось за сокровищем из Южной Америки: изысканной золотой пластиной, элементом убранства короля индейцев моче (мочика). Семнадцать столетий пластина покоилась в похожей на соты гробнице в пустыне на побережье северного Перу, пока в 1987 году на нее не наткнулись расхитители могил. После этого след ее терялся. Это был самый ценный пропавший артефакт во всей стране, и преступление не давало покоя археологам и правоохранителям в обеих Америках. И вот двое смуглых контрабандистов из Майами, с которыми мы договорились встретиться на парковке, предлагают продать пластину за миллион шестьсот тысяч долларов. Я не мог всерьез поверить, что они ее достанут. Мне казалось, что это просто подделка или обман: в конце концов, речь о величайшей золотой реликвии двух континентов.
Преступники поприветствовали нас блеском солнечных очков и крокодильими улыбками. Мы пожали руки и сели за столик. Говорить начал старший, — это хорошо, потому что на него в ФБР уже есть толстая папка. Денис Гарсия, латиноамериканского происхождения, пятьдесят восемь лет, вес сто два килограмма, рост метр восемьдесят, глаза карие, волосы седые, продавец сельскохозяйственной продукции в Южной Флориде, промышляет контрабандой древностей. У Гарсии не было судимостей, но ФБР подозревало, что он начал заниматься этим нелегальным делом еще в конце шестидесятых, когда жил в Перу и научился торговать искусством доколумбовой Америки.
— Орландо Мендес, мой зять, — представил Гарсия своего партнера, мускулистого пуэрториканца. Тот был на двадцать пять лет моложе и на полголовы ниже.
Мы снова пожали руки, и я представился агентурным псевдонимом: Боб Клэй. Мендес нервно заерзал. Гарсия был профессионалом, полностью в теме, и сразу перешел к делу.
— Деньги при себе?
— Деньги не проблема, если у вас есть пластина.
— Доставим, когда окончательно договоримся. — Гарсия снова переключился на деньги. — Она будет стоить один запятая шесть.
— Как и договаривались, — не моргнув глазом ответил я. — Но мне нужно подтвердить подлинность. Ее должны увидеть и осмотреть мои эксперты. Когда это можно сделать?
— Через пару недель. У нас есть знакомый в панамском консульстве. Он ее привезет.
— Как с таможней?
— Не вопрос, — махнул рукой Гарсия.
— А можно поподробнее? Как пластина оказалась у вашего знакомого?
Гарсия начал рассказывать заранее заготовленную историю, которая должна была придать атмосферу законности продаже перуанского национального сокровища на парковке у шоссе. Я кивнул, изображая, что впечатлен «провенансом», позволил ему договорить, а затем сменил тему. Мне надо было, чтобы он под запись признал, что сознательно нарушает закон. Это будет очень важно, если получится довести дело до суда.
— Это щекотливое дело, — мягко заметил я.
— Да, так и есть, — кивнул с пониманием Гарсия.
— При перепродаже придется вести себя очень осторожно. Очевидно, в музей она попасть не может?
Мой собеседник только развел руками, как будто говоря: «Само собой».
Тут первый раз в разговор вмешался Мендес, который до этого крутился на стуле.
— А почему вы так уверены? — быстро и напористо сказал он. — Откуда вы знаете, что нельзя привезти пластину в США?
Прежде, чем я ответил, он разразился новой тирадой:
— Откуда вам знать? Откуда вам знать?
Я ответил так, как будто делал это сотню раз:
— Уж поверьте, я все проверил. — Надо было на этом остановиться, но Мендес, видимо, не был убежден, и я добавил: — Я адвокат.
На это возразить было нечего, но я тут же пожалел о своих словах. От такой лжи всегда один вред, а говорить, что ты юрист, особенно глупо. Преступники легко это проверят, а в суде такое заявление может вызвать проблемы.
Мендес подвинулся вперед и задал еще один вопрос:
— Боб, поймите меня правильно, но я должен спросить.
Было видно, что он нервничает, хоть он и не опускал взгляд. Несложно было догадаться, какие слова последуют дальше. Мендес верил в старую сказку, что по закону тайные сотрудники якобы обязаны говорить правду в ответ на прямой вопрос.
— Боб, вы легавый?
— Я нет. А ты? — перешел в наступление я.
— Нет, конечно, — резко ответил Мендес и сказал еще одну глупость, которую старый контрабандист никогда не произнесет в разговоре с другим преступником: — Расскажите поподробнее о своем покупателе.
Я решил перехватить инициативу, поймал его взгляд и жестко сказал:
— Покупатель пожелал остаться неизвестным. Больше тебе ничего знать не надо.
Затем я повернулся к Гарсии — мозгу банды — и смягчил тон.
— Мой покупатель — коллекционер. Он любит золото и берет все, что сделано из золота. Давайте называть его «Золотой человек».
— Можно ли мне будет встретиться с Золотым человеком? — Гарсии явно понравилось прозвище.
— Возможно. Когда-нибудь.
Мы пожали руки на прощание. Я сел в фургон и набрал номер Золотого человека.
Трубку взял секретарь.
— Прокуратура США. Чем могу помочь?
— Боба Гольдмана[10], будьте добры.
Помощник прокурора США Роберт Гольдман не был похож на федеральных прокуроров, которых я встречал раньше.
Жил он на большой ферме в округе Бакс на севере Филадельфии и держал там павлинов, лошадей, овец, уток и собак. Хотя он родился в семье юристов — и стал юристом сам, как от него и ожидали, — любил называть себя несостоявшимся историком. Он носил усы в стиле своего героя Теодора Рузвельта, а в домашней библиотеке собрал полторы с лишним сотни книг об этом политике. Учитывая любовь Гольдмана к истории и культуре, это был именно тот прокурор, который мне нужен для расследования преступлений в сфере искусства. Без родственной души в прокуратуре я бы далеко не зашел. Как сотрудник ФБР я мог вести расследование почти любого федерального преступления, но чтобы привлечь на свою сторону всю мощь Министерства юстиции США — от вызова в суд до обвинительного акта расширенной коллегии присяжных, — мне требовался единомышленник, партнер, который будет браться за трудные, необычные дела, даже если негласной целью расследования станет не арест, а спасение украденных ценностей. Гольдман понимал, как важно вернуть частицы истории, и его не заботило, разделяет ли это мнение руководство.
Важно было и то, что Гольдман, в отличие от некоторых своих коллег по прокуратуре, считал агентов ФБР партнерами. Многие молодые прокуроры ведут себя нагло и неуверенно одновременно. Они как будто боятся провала и из-за этого срывают зло на агентах: бросают им команды и обращаются как с прислугой. Гольдман же был отличным парнем. Он почти десять лет проработал окружным прокурором, бывал на местах преступления и выработал здоровое уважение к следователям, будь то местные полицейские или федеральные агенты. Я понял это еще в 1989 году, когда мы работали над нашим первым делом — высококлассным ограблением инкассатора. Я тогда был еще новичком. И с тех пор периодически приходил к Гольдману с делами о краже собственности. У меня постепенно складывалась специализация: сначала ограбления ювелирных магазинов, потом похищения с выставок антиквариата, а теперь эта пластина моче.
Встреча на парковке прошла хорошо, но восторга я не испытывал. Начнешь мечтать о предъявлении обвинений и пресс-конференциях — и тебя могут убить.
Действительно ли я в шаге от южноамериканского сокровища? А если да, заметит ли кто-нибудь успех? В конце девяностых ФБР куда больше интересовал другой южноамериканский товар: наркотики. Руководство и общественность, конечно, рукоплескали, когда мне удалось арестовывать грабителей ювелирных магазинов, но на этот раз предсказать реакцию было невозможно. Это древность, похищенная частица истории, но она даже не из США. Интересна ли она кому-нибудь?
Если я верну пластину и реакция окажется прохладной, это не сулит ничего хорошего моей будущей карьере в сфере искусства.
Имелась и еще одна проблема: Гарсия может попытаться всучить мне подделку. У меня были все основания его в этом подозревать.
Тремя годами ранее этот контрабандист уже предлагал пластину за миллион долларов нью-йоркскому арт-брокеру по имени Боб Смит. Как мне было известно, Смит считал, что близок к заключению сделки, и в знак добрых намерений даже выплатил Гарсии сто семьдесят пять тысяч долларов наличными за древний перуанский головной убор. Но шли месяцы, а Гарсия уклонялся от продажи пластины. Своими неубедительными оправданиями он выводил из себя и без того нервного клиента. Чтобы потянуть время, он предложил серию картин и древностей — Смит отверг их как грубые подделки. Когда Гарсия наконец попытался всучить фальшивого Моне, покупатель взорвался и заявил, что его терпение лопнуло. «Давай пластину или проваливай», — заявил он, и Гарсия перестал звонить.
Я все это знал, потому что «Боб Смит» — это оперативный псевдоним Боба Базена, моего наставника.
Роль грубого арт-брокера была не в моем стиле, а вот у Базена хорошо получалось. Когда он в 1997 году вышел в отставку — так и не раскрыв дело о похищенной пластине, — руководство приняло два удачных решения. Во-первых, Гарсии не предъявили обвинений в нелегальной продаже головного убора. Это могло повредить другому связанному с этим расследованию, и контрабандист вышел сухим из воды (попутно прикарманив сто семьдесят пять тысяч долларов). Таким образом, Гарсия считал, что Смит-Базен по-прежнему хочет купить пластину. Во-вторых, ФБР на всякий случай сохранило конспиративный номер телефона Базена.
Поздним летом 1997 года Гарсия вдруг позвонил «Смиту» по этому номеру. Оператор передал сообщение мне, я нашел Базена в его кондоминиуме на побережье и попросил перезвонить Гарсии. Отставной агент тут же вошел в роль вспыльчивого брокера и набросился на контрабандиста. Он назвал его шутом, позером, лжецом, который сначала обещает невесть что, а потом исчезает на много лет. Базен кричал, что у него нет времени, он болен и ему предстоит тройное шунтирование. Но потом добавил:
— Не знаю, зачем я это делаю, но я скажу о вас моему партнеру Бобу Клэю. Может быть, он вам перезвонит.
Глубоко извиняясь, Гарсия поблагодарил Смита-Базена. Не прошло и недели, как мы уже обсуждали по телефону сделку. Он запросил миллион шестьсот тысяч долларов. Цена для меня не имела большого значения — платить я в любом случае не собирался, — но надо было вытащить его и собрать как можно больше доказательств. Я попросил Гарсию дать дополнительную информацию, и тот сказал, что отправит мне посылку. Вариант был идеальный: использовать почту для мошенничества — отдельное, серьезное федеральное преступление. Даже если сделка провалится, я смогу предъявить ему обвинения. Несколько дней спустя я получил обещанное.
14 августа 1997 года
Уважаемый мистер Клэй,
как вы и просили, отправляю вам информацию о пластине. Ее возраст приблизительно две тысячи лет. Она относится к культуре моче. Вес около 1300 граммов. Длина — 68 сантиметров, ширина — 50 сантиметров. Кроме того, предлагаю вашему вниманию фотографии и два журнала National Geographic с подробным описанием предмета. Если вам понадобится какая-либо дополнительная информация, обязательно мне сообщите.
Искренне ваш,
Денис Гарсия
Потрепанные журналы 1988 и 1990 годов были очень кстати. Я работал над делом всего неделю, и то немногое, что знал о пластине, мне рассказал во время короткой беседы Базен. Он предупредил, что с информацией от экспертов и ученых надо быть осторожнее. «Среди любителей южноамериканских древностей много жуликов, — сказал бывший напарник. — Никогда не знаешь, кому доверять». Я положил National Geographics в портфель и отправился домой.
После семейного ужина я устроился поудобнее на нашем старом диване, осторожно открыл первый журнал и пролистал его до страницы, которую Гарсия предусмотрительно пометил желтой бумажкой. История, которую рассказывал один из ведущих археологов Перу, начиналась со звонка посреди ночи.
ОТКРЫТИЕ САМОЙ БОГАТОЙ НЕТРОНУТОЙ ГРОБНИЦЫ В НОВОМ СВЕТЕ
Уолтер Альва
Как и многие другие драмы, эта история началась с насилия: в первом акте погиб расхититель гробниц.
Около полуночи мне позвонил глава полиции. По голосу было понятно, что дело срочное. «Вы должны это увидеть. Приезжайте немедленно». По дороге из Археологического музея Брюнинга в Ламбаеке, где я жил и работал, я размышлял, какой объект лишился своих сокровищ на этот раз. Засушливое северное побережье моего родного Перу усеяно древними пирамидами и церемониальными платформами.
Альва писал, что вставать с кровати ему не хотелось. Скорее всего, охотники за гробницами уже успели вытащить и продать все самое ценное, оставив лишь объедки. Но когда археолог добрался до деревушки, где арестовали грабителей, и увидел, что полиция обнаружила у них дома, он был поражен. Это оказались не просто заурядные древности, а изящные золотые шедевры: человеческая голова с широким лицом и пара похожих на кошек чудовищ со сверкающими клыками. Расхитители могил — по-испански huaqueros — грабили гробницы культуры моче не один век, но такие находки были редкостью. Полиция сообщила, что, по слухам, подобную добычу продают в десять раз дороже обычного.
Заинтригованный археолог вернулся к месту преступления при свете дня, чтобы порыться вокруг. Вскоре раскопки принесли плоды: была найдена вторая, закрытая камера, а в ней — «вероятно, самые красивые известные образцы ювелирного искусства доколумбовой Америки». Команда Альвы продолжила работу. Камера за камерой перед археологами открывались бесценные, давно утраченные памятники культуры моче. Всего было пять уровней, расположенных друг над другом. Спустя сотни лет грабители случайно наткнулись на самое важное археологическое открытие Нового Света: царский мавзолей, усыпальницу правителя Сипана.
Альва писал, что находка была очень важной. О цивилизации моче известно совсем немного. Она процветала, видимо, с 200-х по 700-е годы новой эры, а потом таинственно исчезла. Этот народ не имел письменности, — вожди общались с помощью секретного кода, который рисовали на лимской фасоли, — а другие перуанские племена той эпохи оставили мало свидетельств о контактах с ним. То, что мы знаем теперь об истории и культуре моче, в основном почерпнуто из сложных рисунков, изысканных ювелирных и керамических изделий.
История погибшей цивилизации заворожила меня. Индейцы моче жили обычно в узких речных долинах на трехсоткилометровом участке прибрежной перуанской пустыни. Это было племя ткачей, кузнецов, гончаров, земледельцев, рыбаков — всего, может быть, пятьдесят тысяч человек. Они ловили рыбу в Тихом океане, создали сложную систему ирригации, соединив горные акведуки с каналами и канавами, возделывали большие поля кукурузы, дынь и арахиса. Чтобы умилостивить богов дождя, они совершали человеческие жертвоприношения: сложную церемонию венчало быстрое перерезание горла. Моче строили из глиняных кирпичей гигантские пирамиды с плоским верхом — настоящие рукотворные горы посреди бескрайней пустыни. Самая великая из них — Храм солнца — стоит до сих пор. Ее основание занимает пять гектаров, а сделана она из более чем пятидесяти миллионов кирпичей. Между 600 и 700 годами новой эры народ моче исчез. Никто не знает точно, что произошло. Одни считают, что причиной стало вторжение горного племени уари. Другие полагают, что погодная система в VII веке напоминала Эль-Ниньо, и из-за этого Перу три десятка лет страдало от засухи. Это привело к восстаниям, разрушившим сложную бюрократическую систему, которая стала основой гигантской пустынной цивилизации. Может быть, бунт привел к хаосу, гражданской войне и в итоге — к вымиранию.
Я заметил, что через десять страниц Гарсия вставил еще одну желтую бумажку. На фотографии были изображены две пластины. В подписи говорилось, что они защищали властителя-воина сзади: их подвешивали к поясу. Среди археологов не было единого мнения, носили ли доспехи в бою или использовали для церемоний, в том числе человеческих жертвоприношений. Верхняя часть пластины из золота и меди — трещотка — украшена затейливой золотой паутиной. В центре паутины сияет крылатый воин моче — декапитатор. В одной руке он держит нож туми, в другой — отрубленную голову.
В журнале говорилось, что на фотографии изображена одна из нескольких известных пластин. Они были очень похожи на снимок той, что хотел продать мне Гарсия.
Дерзость контрабандиста меня поразила. Чтобы соблазнить меня краденой реликвией, он прислал журнальную статью с описанием ограбления важнейшей гробницы в обеих Америках. Из этого четко следовало, что сделка будет нелегальной. Однако, если Гарсия хотел меня впечатлить, восхитить, разжечь во мне жажду заполучить предмет, у него это получилось.
Как ни называй расхитителей гробниц — по-итальянски tombaroli, по-испански huaquero или на любом другом языке, — они воруют у всех нас.
Это было мое первое дело, связанное с похищением и нелегальной продажей древностей. Потом я пойму, что это особенно вредная категория преступлений, связанных с искусством. Бандиты не просто вторгаются в святыни предков, разрушая захоронения и древние города в безудержном стремлении к драгоценностям. Они уничтожают саму возможность узнать о нашем прошлом. Если из музея украли картину, ее провенанс обычно известен. Мы знаем, где ее создали, кто, когда и, может быть, даже почему. Однако из-за разграбления древностей археологи теряют единственный шанс изучить предмет в контексте, задокументировать историю. Где конкретно он лежал? В каком состоянии? Что было рядом? Можно ли сравнить эти находки? Это невероятно важные сведения. Без них ученым остается лишь делать предположения о жизни предков.
Путь большинства украденных древностей одинаков. Их находят и достают из могил бедные местные жители в странах третьего мира, после чего контрабандисты везут их в развитые страны и продают нечистоплотным дельцам.
За малым исключением, точнее за исключением Италии и Греции, древности перетекают из бедных стран в богатые. Из Северной Африки и Ближнего Востока их обычно контрабандой везут в Дубай и Абу-Даби, оттуда в Лондон и в итоге в магазины Парижа, Цюриха, Нью-Йорка и Токио — туда, где на них самый большой спрос. Из различных районов Камбоджи, Вьетнама и Китая поток контрабанды движется через Гонконг в Австралию, Западную Европу и США.
Легальный рынок древностей во многом подпитывается за счет этого теневого мира. В отличие от оружия и наркотиков, юридический статус древностей при пересечении международной границы может измениться, и после «легализации» похищенные ценности можно открыто продавать на «Сотбис», «Кристис» и тому подобных аукционах. Бывает, что их покупают даже учреждения вроде музея Гетти и Метрополитен-музея. Организация Объединенных Наций разработала международные протоколы по борьбе с расхищением древностей, но у каждого государства свои законы, приоритеты и интересы в области культуры. То, что запрещено в одной стране, в другой вполне легально. В США, например, нельзя торговать перьями белоголового орлана и беркута, и я по долгу службы некоторое время занимался этой проблемой. При этом каждый раз, когда я бывал в Париже и бродил по изысканным магазинам антиквариата вдоль берегов Сены, меня поражали открыто выставленные на продажу сокровища американских индейцев. Полные головные уборы с орлиными перьями стоили там тридцать тысяч долларов и больше.
Самые заметные участники рынка краденых древностей — собственно расхитители могил и воры, уносящие предметы из святилищ, — зарабатывают гроши по сравнению с торговцами на другом конце цепочки. В среднем их прибыль составляет лишь один-два процента окончательной цены. Сицилийцы, которые нелегально выкопали в Моргантине коллекцию серебра, продали ее за тысячу долларов. В итоге один коллекционер купил ее за миллион долларов и перепродал Метрополитен-музею за два миллиона семьсот тысяч. Китайские грабители нашли важную скульптуру сунской династии и продали ее за девятьсот долларов. Американский торговец перепродал ее за сто двадцать пять тысяч.
В этот позорный цикл вовлечены лучшие музеи мира. Музей Пола Гетти в Лос-Анджелесе оказался в центре скандала, когда приобрел у известного итальянского торговца Джакомо Медичи множество краденых древностей, в том числе в 1988 году статую Афродиты за восемнадцать миллионов долларов. На встрече с высшими офицерами итальянской полиции руководство музея отрицало, что знало — и должно было знать — о нелегальном происхождении предметов. (Годы спустя после дела о золотой пластине конфликт разросся, и итальянцы предъявили американскому музейному работнику и торговцу древностями обвинения в уголовном преступлении.)
Говорят, что незаконная торговля древностями переживает взлет. Не приходится сомневаться, что технологическая революция, которая подпитывает мировую экономику, попутно облегчает их похищение, контрабанду и продажу. Грабители теперь применяют спутниковую навигацию, контрабандисты подкупают плохо оплачиваемых таможенников, а продавцы выставляют свой товар на eBay и в закрытых чатах. Если сделка того стоит, предмет можно за считаные часы вывезти из страны на пассажирском самолете. В Лондон, Нью-Йорк или Токио он попадет меньше чем через сутки после того, как его достали из земли.
Каковы масштабы этой проблемы? Сложно сказать. Надежную статистику о расхищении древностей собирают лишь некоторые страны. Греки сообщают, что за прошедшее десятилетие имело место четыреста семьдесят пять нелегальных раскопок, в основном на Пелопоннесе, в Фессалии и Македонии, и возвращено 57 475 предметов. Но Греция — исключение. Там такие действия объявили вне закона еще в 1835 году, а конституция прямо обязывает власти защищать культурное наследие. В большинстве стран оценки таких преступлений обычно неофициальные, основанные на свидетельствах и экстраполяции. Утверждения не проверяют. По турецким данным, расхищение древностей — четвертое по прибыльности занятие в стране (включая легальные и нелегальные). В Нигере говорят об ограблении девяноста процентов важнейших мест археологических раскопок. Некоторые криминологи смешивают такую статистику с новостями и делают небывалые выводы: например, что главную роль в незаконной торговле древностями играют организованная преступность и террористы. Я отношусь к таким заявлениям скептически. Безусловно, мафия совершает такие преступления, и были сообщения, что Мухаммед Атта, главарь группы, совершившей теракты 11 сентября, пытался переправить в Германию афганские древности. Но несколько отдельных случаев — это еще не международное подполье.
Ясно одно. Как и в случае с наркотиками, предложение подстегивает рынок, который образуют покупатели в развитых странах. Когда после Вьетнамской войны подскочил спрос на предметы из Юго-Восточной Азии, преступники обезглавили почти все статуи в Ангкор-Вате. В восьмидесятые в кругах американских коллекционеров бушевала мода на искусство доколумбовой Америки, и грабители могил нацелились на нетронутые памятники Перу.
В целом заниматься удобнее небольшими, относительно безликими предметами. Лучше всего подходят монеты: их легко провозить через границы и почти невозможно отследить. Маленькие партии древностей можно замаскировать или смешать с сувенирами. Приклей дешевый ценник к посуде и ювелирным украшениям возрастом много сотен лет — и рядовой таможенник вряд ли обратит на них внимание.
Крупные и очень ценные предметы черные торговцы иногда «отмывают» по той же схеме, что и деньги. Для этого нужно прикрыться добрым именем ничего не подозревающего престижного музея, заполучив оттуда официальную бумагу. Продавец может, например, сыграть на профессионализме и порядочности сотрудников, предложив предметы, которые будут заведомо отклонены. Смысл в том, чтобы получить стандартный отказ на официальном бланке с фразами о важности потенциального экспоната и сожалением, что из-за недостатка площадей, бюджета и по другим причинам музей в настоящий момент не может его принять. Письмо становится частью провенанса, пополняет арсенал недобросовестного брокера или дилера. Для покупателя оно создает подобие законности (и неважно, понимает ли он, что сделка нелегальна). Если знаменитый музей подумывал включить предмет в коллекцию, но отказался из-за нехватки места, значит, все чисто, не правда ли?
Однако для таких знаменитых древностей, как наша золотая пластина, остается только черный рынок.
Мендес позвонил мне через несколько дней после встречи у шоссе.
Он говорил медленно, и в голосе чувствовалось подозрение:
— Боб, я проверил. Вы не адвокат.
Он меня поймал.
Не надо было плести ерунду про юриста, если не было хорошего прикрытия. Я прокололся. Теперь оставалось только блефовать и полагаться на старую поговорку, что лучшая защита — нападение.
Я тут же изменил тон и начал почти кричать в трубку:
— Вы проверили меня? Вы что, звонили в ассоциацию юристов Нью-Джерси? Теперь они начнут мне трезвонить и интересоваться, почему я занимаюсь здесь юридической практикой. Черт! Все из-за вас! Зачем вы привлекли ко мне внимание?!
— Боб, я…
— Господи, вы что… тебе что, правда интересно, почему меня нет в этом чертовом списке? Да потому что меня лишили лицензии! Орландо, меня лишили права работать!
Он не успел спросить, как и почему это произошло.
— У меня были проблемы с женой, — добавил я. — Было насилие, скажем так. И — бац! У меня забрали лицензию.
На другом конце провода повисла тишина. Новая ложь сработала: Мендес закрыл рот и отступил. Он был как большинство мужчин: ему не хотелось лезть в подробности чужого брака, особенно если дело шло о насилии в семье.
Разговор был исчерпан. Он даже извинился.
Через две недели мне перезвонил Гарсия.
— Боб, я в Нью-Йорке. Она у нас, — возбужденно сказал он. По его словам, пластина хранилась в безопасном месте, в панамском консульстве на Манхэттене. Обмен Гарсия хотел провести там же.
— Это отличное место, — заверил он. Консульство давало ему ту же защиту, что и посольство. Здание и участок, на котором оно расположено, — суверенная территория Панамы, вне юрисдикции США и американских законов. Кроме того, Гарсия признался, что высокопоставленный сотрудник консульства тоже в деле. Контрабандист даже похвастался, что перевозил пластину из Панамы в Нью-Йорк сам консул. Благодаря дипломатической неприкосновенности удалось обойти таможню.
— Так что все улажено, — заверил меня Гарсия. — Когда вы будете готовы?
— Это здорово! Отлично. Прекрасная новость, — ответил я.
Я тянул время. Новость была неважной. В иностранном консульстве никого не арестуешь и уж тем более не придешь туда в сопровождении других агентов. Надо как-то вытащить Гарсию наружу. У меня был для этого один козырь: Гарсия и его подельники уже клюнули. Они потратили много времени и денег: внесли оплату в Перу, тайно перевезли пластину в США. Конечно, они осторожны, но при этом еще и голодны, и я это знал.
— Послушайте. Я понимаю, что вам удобнее провести обмен прямо в консульстве, — сказал я. — Но тут такое дело… Мой эксперт — пожилой человек. У него здоровье не очень. Он не любит никуда ездить. Так что, думаю, придется съездить с пластиной сюда.
Гарсия молчал несколько секунд.
— Деньги у вас? — наконец сказал он.
Бинго. Он попался.
— Есть ли у нас деньги? Деньги есть. Один запятая шесть миллионов. Какой у вас номер факса? Я пришлю банковскую выписку.
Гарсия продиктовал номер. Я поинтересовался, как ему удобнее получить эту сумму. Мне нужно было заставить его думать о деньгах, а не о том, где нам встретиться и можно ли мне доверять. Он попросил передать шестьсот шестьдесят пять тысяч наличными и еще девятьсот тридцать пять переводами на банковские счета в Майами, Перу, Панаме и Венесуэле.
Я записал имена и номера.
— Понятно. В таком случае, до встречи завтра, — сказал я.
Сделка была совершена. Я как можно быстрее положил трубку, пока он не подумал о чем-нибудь еще.
Я позвонил Гольдману и сообщил, что хочу встретиться с Гарсией и Мендесом на той же парковке в полдень, а потом поехать в Филадельфию на встречу с Золотым человеком.
На этот раз Гарсия и Мендес явились даже раньше. В 11:24, как сообщила команда наблюдения, они подъехали на стильном темно-зеленом «Линкольн Континентал» с дипломатическими номерами. За рулем был кто-то еще. Они сдали назад, чтобы багажник оказался в нескольких метрах от столиков. Мендес и третий человек — рослый седовласый господин в темном костюме — сели и начали смотреть в холодное октябрьское небо, а Гарсия пошел в Burger King и вернулся с двумя стаканами кофе.
В 11:54 я запарковался рядом. Со мной был партнер, агент Анибал Молина.
Гарсия тепло меня поприветствовал.
— Добрый день, Денис. Как дела, приятель? — ответил я.
Третий человек вышел вперед, вручил мне визитку и представился:
— Франк Иглесиас, генеральный консул Панамы в Нью-Йорке.
Он был похож на медведя — метр восемьдесят пять ростом и больше сотни килограммов весом, — но говорил при этом льстиво, как опытный дипломат.
— Очень приятно с вами познакомиться, — добавил он.
Мы подошли к машине. Мендес открыл багажник. В нем лежал дешевый черный чемодан. Он открыл его, отодвинул кучу белых футболок и показал большой золотой предмет, завернутый в целлофановую пленку с пузырьками. Пластина. Мендес потянулся к чемодану, но я его опередил.
— Можно я сам ее достану?
Я вытащил пластину, стараясь сдерживать свое восхищение. Я представлял себе ее долгий путь. Перуанское национальное сокровище семнадцать веков лежало в гробнице. Потом было украдено, пропало на десять лет и теперь сияет на солнце Нью-Джерси. А спасли его в каком-то смысле контрабандисты из Майами, сами о том не подозревая.
Я сиял.
— У вас правда получилось! — сказал я с искренним энтузиазмом. — Поздравляю!
Я положил пластину обратно в чемодан и обнял Гарсию.
— Не могу поверить! Какой профессионализм!
Я начал трясти руку Мендеса.
— Фантастика. Просто фантастика! — Потом я закрыл чемодан и заявил: — Теперь к Золотому человеку. Я буду ехать медленно, а вы следуйте за мной.
Мы сели по машинам и поехали по шоссе в западную Филадельфию.
Через час мы припарковались у гостиницы Adam’s Mark. Иглесиас открыл багажник и передал мне чемодан.
— Прекрасно, — сказал я, направляясь к вестибюлю. — Пора заканчивать с этим делом.
Дойдя до середины стоянки — туда, где преступникам уже негде будет спрятаться, — я подал условный знак о начале операции: провел левой рукой по спине (такие сигналы должны быть редкими жестами, чтобы не подать их по ошибке). Вперед бросились вооруженные агенты в бронежилетах. С криками «ФБР! Руки вверх! На колени! ФБР!» они уложили Мендеса, Гарсию и Иглесиаса на асфальт и сковали наручниками за спиной. Контрабандистов из Майами они увели, а панамца, обыскав, тут же освободили. У него был дипломатический статус, поэтому пришлось его отпустить, во всяком случае пока. Чтобы доказать, что Иглесиас был на месте преступления, его сфотографировали рядом со мной. Генеральный консул оставался политиком в любой ситуации и даже сумел натянуто улыбнуться.
В офисе ФБР мы развели Гарсию и Мендеса по разным комнатам и приковали их лодыжки цепью к полу. Я привел прокурора.
Гольдман быстро предъявил удостоверение Министерства юстиции, улыбнулся и сказал:
— Меня зовут Гольдман. Золотой человек.
Гарсия только закрыл глаза и покачал головой.
Когда преступление раскрыто, всегда следуют обычные судебные процедуры, после которых подсудимые, хочется надеяться, отправляются за решетку (Гарсию и Мендеса признали виновными и осудили на девять месяцев), а также золотой урожай пиара. Узнав о спасении предметов искусства, пресса начинает сходить с ума от восторга.
Такая реакция всегда озадачивает руководство, которому, видимо, непонятна любовь общественности (и СМИ) к искусству, истории и древностям. Руководителям ФБР преступления в сфере искусства кажутся очень далекими от основных задач учреждения: ловить грабителей банков, бороться с похищениями людей и терроризмом. Однажды — за много лет до этого дела — мы с Базеном вернули картину, украденную из Филадельфийского художественного музея, и встретились с одним начальником, чтобы обсудить предстоящую большую пресс-конференцию. Наш энтузиазм его рассмешил.
— Пресс-конференция из-за этой маленькой картины? Да никто в жизни не придет!
— О нет, — возразили мы. — Это не просто картина, а изображение пятидолларовой купюры авторства знаменитого Уильяма Харнетта. Это важное произведение. Людям оно небезразлично.
Но он только еще громче рассмеялся. К счастью, с нами в комнате был «козырь» — специальный агент Линда Визи, пресс-секретарь Филадельфийского отдела ФБР и мой друг. Она разделяла мой интерес к истории и искусству, была твердой и интеллектуальной. В колледже Визи специализировалась на классической литературе, изучала латынь, греческий, русский, испанский, санскрит и иероглифику. А еще она понимала прессу гораздо лучше руководства.
— Я вам гарантирую, — сказала она тому руководителю, — что история с пятидолларовой купюрой попадет на первые полосы.
На следующий день в конференц-зале было не протолкнуться. Через час после этого начальник просунул голову в кабинет Визи и со странным удовлетворением заявил:
— И все-таки на первых полосах этой истории не будет. Город Уэйко горит.
Действительно, на следующий день на первой полосе Inquirer были в основном статьи о, наверное, самом неприятном происшествии в истории ФБР. Девятнадцатого апреля 1993 года спецслужбы устроили облаву на членов секты «Ветвь Давидова». Операция превратилась в ад. Погибло восемьдесят человек. Но внизу на первой странице была и небольшая заметка о спасенной ФБР картине.
С того дня мы с Визи старались собрать как можно больше исторических фактов, прежде чем объявить об одном из моих дел (как тайный агент, я не мог появляться перед камерами и всегда стоял в задних рядах, вдали от фотоаппаратов). Она вела пресс-конференции очень оживленно. Журналисты, уставшие от обычных для ФБР рассказов о насилии, коррупции и ограблениях банков, явно приободрялись, когда речь шла об искусстве. Они всегда искали чего-то новенькое, реальные «хорошие новости», и это был их шанс.
Реакция СМИ на дело о золотой пластине превзошла все ожидания. Репортеры влюбились в эту историю. Ее можно было легко сравнить с фильмом «В поисках утраченного ковчега» (1981): экзотическая страна, расхитители гробниц, перевозка национального сокровища в США в дипломатическом багаже, спасение реликвии возрастом семнадцать столетий с пистолетом в руке. В Inquirer статья заняла всю первую полосу. Она начиналась так: «Как в фильме про Индиану Джонса. ФБР спасло уникальную перуанскую реликвию». Таблоид Philadelphia Daily News цитировал второй фильм про Индиану: «Этому предмету место в музее!» — кричал заголовок. Версия, представленная Associated Press, была опубликована в газетах по всей Северной и Южной Америке. Вскоре после этого президент Перу объявил, что мы с Гольдманом награждены орденом Заслуг: золотым медальоном на голубой ленте, высочайшей наградой этой страны за выдающуюся службу искусству. Гольдман наслаждался вниманием, а я был рад, что благодаря моей работе он и другие люди заслуженно купаются в лучах славы.
Несколько месяцев спустя в Пенсильванском археологическом музее прошла официальная церемония передачи пластины послу Перу и археологу Уолтеру Альве, главному специалисту по сипанским гробницам и автору статей в National Geographic. Я стоял в сторонке, избегая камер. Альва организовал собственную пресс-конференцию. Объясняя, насколько важен этот день, он на ломаном английском пытался подобрать понятное репортерам сравнение. Наконец он сказал:
— Это национальное достояние. Это как если бы кто-то украл у вас Колокол свободы[11].
Пресса еще раз проявила к нам внимание и снова вспомнила Индиану Джонса.
Мы с Визи были в восторге, потому что в восторге было наше начальство. Благодаря нам имидж ФБР улучшился во всем мире. После отвратительного десятилетия — Уэйко, Руби-Ридж[12], скандал с криминалистической лабораторией, фиаско с бостонской мафией — бюро очень не хватало позитивного освещения в прессе. Руководство — не только в Филадельфии — видимо, начало понимать, что возвращать предметы искусства полезно.
Глава 9. История через служебный вход
Филадельфия, 1997 год
Сонное, немного старомодное Пенсильванское историческое общество мало кто знает за пределами Филадельфии. Но в этом доме в федеральном стиле у Локаст-стрит находится второе по величине собрание памятников ранней истории США. Организация была основана в 1824 году и располагает тысячами важных военных и культурных реликвий, а также богатой научной библиотекой: более пятисот тысяч книг, триста тысяч графических работ и пятнадцать миллионов рукописей. Как и в большинстве музеев, посетители видят лишь малую часть коллекции. Основные экспонаты находятся в хранилищах: предметы могут лежать там десятилетиями, не привлекая особого внимания. Инвентаризацию Общество не проводило пару десятков лет, а то и больше. На это уходит слишком много времени и денег.
Первая за многие десятилетия полная инвентаризация началась в музее в конце октября 1997 года. Заведующая коллекцией Кристен Фрелих почти сразу обнаружила проблемы и в тревоге позвонила мне.
На тот момент проверка фондов показала, что не хватает четырех предметов: винтовки из округа Ланкастер и трех наградных сабель времен Гражданской войны.
Винтовка была датирована 1780-м и, вероятно, успела принять участие в последних этапах Войны за независимость США. Ее позолоченный на конце ствол был в длину сто двадцать два сантиметра — длиннее, чем большинство сабель. Оружие украсил легендарный пенсильванский оружейник Исаак Хайнс. Стальные наградные сабли были отделаны золотом, серебром, эмалью, бриллиантами, горным хрусталем и аметистами. Традиция награждения оружием восходит ко временам Древнего Рима. Как пояснила Фрелих, пропавшие сабли и ножны вручили генералам армии Союза Джорджу Миду, Дэвиду Бирни и Эндрю Хемфрису после выдающихся побед. Их было легко опознать по уникальной гравировке с посвящением, а также богатой, почти аляповатой отделке. Заведующая добавила, что, к счастью, у нее есть фотографии и подробное описание пропавших предметов. В частности, на гарде сабли, которой Мид был награжден в Геттисберге, из тридцати бриллиантов на голубом эмалевом щите были выложены две звезды и буква M. Я знал, что на открытом рынке за такой предмет могут дать двести тысяч долларов и больше.
— Что-то еще пропало? — спросил я.
— Вполне возможно. Я пока не знаю, — ответила женщина. — Экспонатов, по нашим оценкам, двенадцать тысяч, а инвентаризация только началась.
Я попросил приготовить список всех сотрудников Общества и пообещал немедленно приехать. Мне надо поговорить с каждым. Не упомянул я только о том, что под подозрением сейчас все, кто работает в музее, включая саму Фрелих.
В музейных похищениях в девяноста процентах случаев замешан кто-то из своих.
Вооруженные нападения средь бела дня — как тот случай со скульптурой Родена — исключение. Как правило, ворами или сообщниками становятся музейные работники, которые имеют доступ к ценностям и знают слабые места здания. Это могут быть билетер, лектор, гид, руководитель, охранник, хранитель, ученый, даже попечитель или богатый покровитель — в общем, любой, кто поддался искушению воспользоваться своим положением и вынести произведения искусства и исторические памятники ценой в миллионы долларов. Это может быть временный работник — например, член бригады ремонтников — и даже летний стажер. Причин и мотивов, толкающих людей на преступление, масса. А возглавляют список жадность, любовь и месть.
В учреждениях культуры очень неохотно подозревают кого-то из своих. Люди этого круга любят считать себя семьей, соратниками, представителями благородной профессии. Многие музеи не утруждают себя проверкой, есть ли у сотрудников и подрядчиков криминальное прошлое. А стоило бы. Как ни прискорбно, одно из самых уязвимых мест музея — персонал.
Воры-инсайдеры действуют повсюду. В Иллинойсе служащий отдела доставки организовал похищение из Института искусств Чикаго трех картин Сезанна, а потом угрожал убить ребенка директора музея, если его требования не будут выполнены. В Балтиморе ночной охранник украл из Художественного музея Уолтерса сто сорок пять экспонатов. Он выносил их один за другим восемь месяцев: во время обхода открывал витрину, брал пару азиатских предметов, а остальные расставлял так, чтобы не было подозрений. В России пожилая хранительница систематически совершала кражи во всемирно известном Эрмитаже и за пятнадцать лет вынесла оттуда царских сокровищ на пять миллионов долларов. Преступление обнаружилось уже после ее смерти, во время первой за десятилетия ревизии. Серию дерзких краж совершил легендарный профессор из Огайо, специалист по средневековой литературе. Он прятал страницы из редких манускриптов в библиотеках по всему миру, от Конгресса США до Ватикана.
Крупнейшее преступление в истории искусства тоже совершил «свой».
Душным летним утром 1911 года со своего знаменитого «насеста» в Лувре — между Корреджо и Тицианом — испарилась «Мона Лиза». Похищение произошло в понедельник, единственный день недели, когда музей закрыт для посетителей. Но спохватились только ближе к вечеру. Нерасторопная охрана не могла разобраться, украдена ли самая знаменитая картина в мире или ее просто сняли для каталогизации. Французские детективы тут же опросили более сотни работников, а также подрядчиков, в том числе простого стекольщика, итальянца по имени Винченцо Перуджа. Парижские власти упустили шанс задержать его в первые дни расследования из-за ошибки: отпечаток большого пальца левой руки, найденный на брошенном защитном футляре от «Моны Лизы», сравнивали с большим пальцем правой руки Перуджи.
Ограбление стало новостью номер один во всем мире и на несколько недель затмило призрак надвигающейся мировой войны. Когда следствие забуксовало, эти темы даже на некоторое время замяли. Во французских газетах начали печатать сенсационные обвинения. Антинемецкие издания намекали, что в преступлении замешан кайзер. Оппозиционная пресса винила в похищении «Моны Лизы» французское правительство, которое не может справиться со своей работой. Согласно этой дикой теории заговора — как в фильме «Хвост виляет собакой» 1997 года, — власти решили отвлечь французов, вывести из себя и объединить против иноземного агрессора. Вскоре расследование сделало неловкий поворот: были задержаны двое радикальных модернистов, которые якобы украли символ старого искусства из художественного или политического протеста. Одним из них был молодой художник Пабло Пикассо.
Настоящего вора, Перуджу, стоило подозревать с самого начала: у него были средства, мотив и возможность. Итальянец помогал делать для картины футляр из дерева и стекла и знал роковую тайну: шедевр Леонардо да Винчи прикреплен к стене всего лишь четырьмя металлическими крюками, а охраняет его одинокий сонный ветеран. В Лувре полно укромных мест и постоянно идет ремонт, и на Перуджу в его белой рабочей блузе и халате мало кто обратил внимание, когда утром того понедельника он протанцевал в Квадратный салон вскоре после восхода солнца.
«В зале никого не было, — вспоминал Перуджа годы спустя. — Там висела эта картина, одно из наших величайших произведений. „Мона Лиза“ улыбнулась мне. Я тут же снял ее со стены, отнес на лестницу, вынул холст из рамы, а потом спрятал его под рубаху и как можно беззаботнее вышел. Все заняло несколько секунд».
Перуджа два года хранил «Мону Лизу» в своей крохотной парижской квартирке. Конечно, он был осторожен, но — как и большинство похитителей предметов искусства — пришел в отчаяние, не сумев найти продавца. В 1913 году он контрабандой вывез картину в Италию и там предложил одному торговцу, который был близко знаком с директором галереи Уффици, самого знаменитого музея Флоренции. Торговец и директор встретились с Перуджей в гостиничном номере и пообещали заплатить пятьсот тысяч итальянских лир при условии, что тот принесет «Мону Лизу» в Уффици для окончательного обследования. Они сообщили в полицию, и явившийся с картиной Перуджа был арестован. После этого он назвал себя патриотом и начал утверждать, что хотел вернуть «Мону Лизу» в родную Италию. Эта версия пришлась по душе многим итальянцам, но в суде не выдержала проверки. Как отметили прокуроры, картину во Францию в XVI веке привез сам да Винчи. Кроме того, было предъявлено письмо Перуджи родным после ограбления. «Наконец-то я получил свое состояние!» — хвастался он. Собственные показания Перуджи во время процесса тоже доказывали, что мотивы были нечисты. За «спасение» «Моны Лизы» он рассчитывал получить награду.
— Я слышал разговоры о миллионах, — признался он.
В 1914 году Перуджа получил меньше года тюрьмы: вопиющий приговор за такое серьезное преступление. Но эта тенденция будет преследовать дела об искусстве весь век. Когда он вышел из тюрьмы, в Европе уже бушевала мировая война, и про него забыли.
Добрую половину недели я опрашивал персонал Пенсильванского исторического общества. Я увидел тридцать семь из тридцати восьми сотрудников: хранитель по имени Эрнест Медфорд не вышел на работу по болезни. Руководство музея считало, что разговор с ним — пустая трата времени.
— Эрни работает у нас семнадцать лет, — заверила меня Фрелих. — Он всегда готов помочь, если у нас проблемы.
После этого мы обратились к общественности и помогли музею объявить награду в пятьдесят тысяч долларов. Факс с предложением получило множество СМИ, начиная с National Public Radio и заканчивая Inquirer и Arts Weekly. Это вызвало всплеск внимания, но тактика, которая так хорошо сработала в деле о статуе Родена, на этот раз принесла сомнительные результаты. «Звонящий сообщает, что подозрительный человек смотрит на выставочный стенд. Больше никакой информации», — отметил оператор. «Звонящий видел саблю на заднем сиденье „шевроле“ на парковке на Эссингтон-авеню рядом с Семьдесят четвертой улицей. Это было две недели назад». И самое любимое: «Звонил ясновидящий. Готов уделить время. Отмечает, что в день ограбления Луна была в Козероге».
Я перевел охоту за преступником в более знакомое и перспективное место.
На следующей неделе после того, как мы начали расследование, в виргинском Ричмонде должна была пройти одна из крупнейших в стране ярмарок для коллекционеров предметов Гражданской войны — Great Southern Weapons Fair. Я сам увлекался этой темой, бывал на ярмарке три или четыре раза за несколько лет и знал, что почти все серьезные торговцы на Восточном побережье будут там. На этот раз я взял с собой специального агента Майкла Томпсона, и, как и следовало ожидать, мы встретили видного пенсильванского историка и торговца Брюса Базелона, автора книги о наградных саблях. Я рассказал ему о пропаже. «Забавно, что вы об этом упомянули», — ответил Базелон и поведал нам историю, которую слышал от одного торговца из района Поконо. Тот говорил, что к нему в магазин пришел какой-то человек и показал фотографию наградной сабли, которую хотел продать. Торговец позвонил Базелону, решив, что сабля должна быть в фондах Пенсильванского исторического общества.
Я позвонил тому торговцу. Он подтвердил историю и, порывшись в старой адресной книге, отыскал там того самого любителя из Филадельфии, который пытался продать ему саблю. Его звали Джордж Чизмазия.
Холодным утром за два дня до Рождества мы без предупреждения появились у Чизмазии на работе. Это был мужчина пятидесяти шести лет с обветренной светлой кожей, массивными челюстями, узкими карими глазами и аккуратно подстриженными седеющими усами и седыми волосами, которые зачесывал влево. Он был электриком, и начальник вызвал его с объекта. Чизмазия встретил нас оживленно.
— Чем могу помочь, ребята?
— Речь о расследовании по делу о пропаже реликвий Гражданской войны, — сказал я. — Джордж, мы хотим поговорить с вами о саблях.
Чизмазия посерел.
— Эрни вам рассказал, да?
Эрни был тем самым сторожем, единственным сотрудником музея, с которым я не поговорил.
Я бросил взгляд на Томпсона и соврал:
— Совершенно верно. Именно поэтому мы сюда и пришли.
— Так где сабли, Джордж? — поинтересовался Томпсон.
— У меня дома. Я вам их покажу.
Чизмазия жил с женой в скромном двухэтажном домике в Ратледже, рабочем пригороде в нескольких километрах к юго-западу от международного аэропорта Филадельфии. Приехав на место, мы пошли за ним на второй этаж. На двери в спальню было больше замков и систем сигнализации, чем в любом зале Пенсильванского исторического общества. Открывая ее, он сказал:
— Я называю эту комнату своим музеем.
Как только мы вошли, я понял, что наш пухленький невысокий электрик — вор большого калибра и тремя саблями и винтовкой не ограничился.
Стены и витрины были переполнены достойными музея предметами XVIII и XIX веков — всего две сотни. Я прошел по комнате и насчитал про себя двадцать пять наградных сабель и пятьдесят единиц огнестрельного оружия: разнообразных винтовок, мушкетов, пистолетов и револьверов. Комната была буквально забита ценными памятниками американской истории. Коробочка для чая из слоновой кости. Бронзовые дорожные часы. Серебряный свисток викторианской эпохи. Высокие стопки десятидолларовых золотых монет с головой индейца. Черепаховый мундштук для сигар. Пара овальных запонок времен Войны за независимость. Серебряные карманные часы из Джорджии. Серебряная сахарница в форме груши. Перламутровый театральный бинокль в кожаном футляре. Игрушечный комод красного дерева. Все было очень высокого уровня.
Чизмазия изображал застенчивость и жаловался на непредсказуемость провенанса на рынке военных реликвий. Мы же почти ничего не говорили и смотрели то на него, то на экспонаты. Вокруг нас было столько истории, такая масса улик. Повисла пауза: мы знали, что он не сможет удержаться и как-то ее заполнит. Он начал суетиться, а потом наконец показал на меч эпохи «Мэйфлауэра»[13] и заявил:
— Я подрезаю живую изгородь!
Мой партнер мрачно скрестил руки на груди, а я серьезно посмотрел на электрика и сказал ему:
— Перестаньте паясничать, Джордж. Это не смешно.
— Я понял, — ответил Чизмазия и опустил глаза.
Потом он повел нас в гараж и открыл большую картонную коробку для одежды. В ней лежали наградные сабли ценой в миллион долларов, в том числе три из Пенсильванского исторического общества.
Улик было столько, что нам пришлось вызвать подкрепление. Куда бы я ни посмотрел, везде была история. Я поднял серебряное ведерко для охлаждения вина начала XIX века и поразился красоте ручек в форме лебединых голов, гравировке по краю и клейму знаменитой филадельфийской мастерской Fairmount Water Works. Поставив его, я посмотрел на нарядные золотые часы с двойной цепочкой с руку длиной. С тыльной стороны была маленькая надпись: «Генерал-майору Армии США Джорджу Миду в знак признательности и уважения от друга Э. П. Доррла. Геттисберг, 1, 2, 3 июля. ПОБЕДА». Я положил часы на стол. Дело становилось важнее с каждой минутой. Что еще нас ждет?
Мне не терпелось вытащить из Чизмазии как можно больше информации, пока он не опомнился и не перестал говорить. Я решил сыграть на его тщеславии.
— Джордж, может, устроите нам экскурсию, пока мы тут ждем?
Он быстро согласился и с гордостью пошел по комнате, показывая одну частицу американской истории за другой. Кремневое ружье, с которым аболиционист Джон Браун участвовал в налете на Харперс-Ферри. Подзорная труба, в которую Илайша Кент Кейн увидел Северный Ледовитый океан. Каповый сундук, где хранил записи Роджер Моррис, финансист времен Войны за независимость. Кольцо с локоном волос Джорджа Вашингтона. Кулон с кусочком первого трансатлантического телеграфного кабеля. Обручальное кольцо, которое дал жене Патрик Генри.
Когда прибыло подкрепление, Чизмазия стоял перед самыми ценными экспонатами своей коллекции: серебряным чайником с длинным изогнутым носиком — примерно 1755 год, стоимость около двухсот пятидесяти тысяч долларов — и золотой табакеркой ценой семьсот пятьдесят тысяч долларов, если не больше. Табакерка, как объяснил Чизмазия, была самой важной с точки зрения истории. Ее в 1735 году получил адвокат Эндрю Гамильтон в качестве платы за успешную защиту нью-йоркского издателя Джона Зенгера, которого обвиняли в оскорблении колониального губернатора Нью-Йорка. Некоторые считают, что тот процесс стал переломным моментом в истории американской журналистики и предвестником пункта о свободе прессы в Первой поправке к Конституции США, принятой полвека спустя в рамках Билля о правах.
Даже на первый взгляд частная коллекция Чизмазии стоила миллионы. Я узнал в ней много предметов из описаний Пенсильванского исторического общества и позвонил Фрелих.
— Кристен, вы верите в Санта-Клауса?
— Хм… Может быть. А что?
— Он оставил для вас много подарков.
Чизмазия ничуть не раскаивался.
— Чего вы от меня хотите? — вопрошал он и неубедительно оправдывался, что действовал из любви и уважения к истории, а не ради денег. — Все это десятилетиями пылится в запасниках, а так хотя бы у меня дома кто-то посмотрит и порадуется.
Оставался всего один вопрос.
— Как вы это украли?
— Эрни, — ответил Чизмазия и объяснил.
Эрнест Медфорд почти два десятка лет был надежным сотрудником Пенсильванского исторического общества и имел неограниченный и безнадзорный доступ к складским помещениям в подвалах музея. Этот крепкий мужчина с запавшими карими глазами познакомился с Чизмазией в конце восьмидесятых, когда тот проводил в музее электрические работы. В следующие восемь лет Медфорд постепенно вынес через служебный вход более двухсот экспонатов. За реликвии ценой два-три миллиона скользкий коллекционер заплатил подкупленному хранителю около восьми тысяч долларов.
Когда Чизмазия изложил нам схему, я покраснел. Я чувствовал себя зеленым новичком. Было обидно, что я сразу не настоял на беседе с тем парнем, который ушел на больничный. Урок усвоен: опрашивать надо всех сотрудников без исключения.
Но слов Чизмазии было мало, чтобы арестовать Медфорда. Нужны реальные доказательства.
— Джордж, — сказал я, — если вы говорите правду, позвоните Эрни и запишите для нас разговор. Скажите ему, что думаете, будто это он нас к вам направил.
Чизмазия понимал, что попался, поэтому не возражал и хмуро набрал номер.
— Эрни? Это Джордж. Ко мне пришли из ФБР. Это ты их на меня навел? Откуда они узнали?
— Понятия не имею. Я ничего не говорил.
— Правда? Но в любом случае продавал все это ты, так что отдуваться будем вместе.
— Не волнуйся на этот счет.
Этого было достаточно.
Я предъявил Медфорду улики и пленку, и он сознался в содеянном. Я спросил, зачем он это делал. Зачем систематически грабить учреждение, в котором ты проработал почти двадцать лет? Медфорд только пожал плечами.
— Я решил, что никто не упустил бы такого шанса. Мне были очень нужны деньги.
Нам повезло, что мы прижали Чизмазию прямо у него дома. Когда я привез его в офис ФБР и взял отпечатки пальцев, до него наконец дошло, что случилось. Увидев предварительные материалы дела, которые я ему вручил, он отшатнулся и показал истинные чувства.
— Три миллиона? Этот хлам стоил три миллиона долларов? Какой же я дурак, что продал так мало.
Через несколько минут его увели в Службу маршалов для дальнейших процедур. По дороге он тихо бормотал, ругая себя. Как и многие коллекционеры, он видел объявление о награде и знал, что ФБР и полиция ищут украденные экспонаты.
— Надо было все это выкинуть в реку. Ничего бы вы не нашли. Как с убийством: нет трупа, нет улик — нет дела.
Эта фраза Чизмазии заставила меня вспомнить последний разговор с отцом, который умер примерно за год до этого.
Мы вышли из больницы Доброго самаритянина в Балтиморе. Диагноз был страшный. На четвертом десятке папа заболел диабетом, но это не слишком изменило его привычки и не побудило заботиться о себе. Теперь ему стукнуло шестьдесят восемь. Он был в плохой форме, и врач сказал, что жить ему осталось считаные недели.
Папа не хотел говорить на эту тему и спросил о моей работе. Я рассказал, что занимаюсь ограблением усадьбы Пеннсбери — особняка основателя Пенсильвании Уильяма Пенна. У нас на примете несколько подозреваемых, и завтра мы собираемся побеседовать с их подругами.
— Нет, нет, — перебил он. — Не надо мне говорить о подозреваемых. Какие старинные вещи они унесли? Вы сумеете это вернуть?
В этом был весь отец. Он понимал, что на самом деле важно спасти похищенные частицы истории и культуры, а не посадить пару баранов, которые хотели сдать краденое серебро в ломбард.
Другое воспоминание пришло позже. Вскоре после арестов мы с хранителем музея стояли на коленях в хранилище улик ФБР и составляли опись почти двухсот украденных предметов. Мы брали их один за другим и аккуратно заворачивали для хранения. То же я делал в отцовском магазине антиквариата в Балтиморе после его смерти.
Мой папа открыл Восточную галерею Уиттмана в 1986 году, через два года после того, как я ушел из Farmer и начал работать в ФБР. Он продал издательство, вернулся к своей истинной страсти — коллекционированию азиатского антиквариата — и вместе с моим братом Биллом арендовал магазинчик на Говард-стрит, в Ювелирном ряду Балтимора. Галерея была уставлена экспонатами из его личной коллекции, а также вещами, которые он приобрел, повторно заложив дом из красного кирпича, в котором я вырос. Там были сотни предметов: изысканные резные пудреницы из нефрита, вазы из Кутани, гравюры укиё-э и десятки произведений больших японских мастеров: Хиросигэ, Кунисады, Хокусая и Утамаро.
Папа провел среди антиквариата последние годы жизни. Мне кажется, ему было приятно не только что-то продавать, но и устраивать клиентам экскурсии по своей галерее, объяснять значение какой-нибудь бирманской ткани или японской фигурки. Может быть, второе казалось даже важнее. Коллекция, заполнявшая полы и стены узкого помещения, приближалась по богатству к лучшим государственным галереям Балтимора. Когда я приводил туда Донну и детей, папа всякий раз доставал какой-нибудь предмет и радовал Кевина, Джеффа и Кристин кратким экскурсом в японскую культуру. Я тоже прислушивался и всегда узнавал что-то новое. Мне часто этого очень не хватает.
Теперь я был в хранилище улик. Глаза задержались на украденных антикварных часах, и я задумался, как папа описал бы их. Какой урок истории они могут преподать?
Мы предъявили Чизмазии и Медфорду обвинения по новому закону, согласно которому похищение музейных ценностей на сумму свыше пяти тысяч долларов считается федеральным преступлением. До этого дела передавались в суд штата, если они, как в данном случае, не пересекали его административные границы. Конгресс принял новый федеральный закон о преступлениях в сфере искусства, во многом в ответ на ограбление 1990 года бостонского музея Гарднер, и в 1995 году мы с Гольдманом первыми применили его в деле об ограблении особняка Уильяма Пенна.
Чизмазия и Медфорд заключили сделку со следствием, полагая, что благодаря этому приговор будет мягким. Но все закончилось не так радужно.
Окружной судья Кларенс Ньюкамер, который вел этот процесс, был ветераном Второй мировой, и похитители военных реликвий симпатий у него не вызывали. Этот семидесятипятилетний юрист славился строгими приговорами. У него уже было несколько громких дел о бандитизме и коррупции в полиции, и в его вердиктах проявлялись консервативные взгляды. Одно из постановлений было мне близко: именно этот судья разрушил монополию компании Topps в области бейсбольных карточек, открыв двери конкурентам. Ньюкамеру не нужно было напоминать об американской истории: широкие окна его кабинета выходили на Индепенденс-холл — место, где родилось наше государство.
Оглашение приговора по делу Пенсильванского исторического общества началось 16 июля 1998 года. За несколько минут до этого я сел за стол обвинения рядом с Гольдманом. После обычных предварительных процедур судья зачитал рекомендацию службы пробации: двадцать-тридцать месяцев каждому подсудимому. Прокурор, ссылаясь на соглашение со следствием, потребовал двадцать месяцев. Защитники не предлагали ничего конкретного, но просили значительно сократить срок.
Перед оглашением приговора судья поднял пачку писем: директора пятнадцати музеев по всей стране просили вынести жесткий приговор. По их словам, кража предметов искусства отличается от обычных преступлений с финансами и собственностью тем, что наносит ущерб всему обществу. Экспонаты нужны не только чтобы заполнять музеи. Это материал для историков и других ученых. Большинство предметов уникально. «Любая кража из любого музея не ограничивается самим преступлением. Это разрушительное действие лишает истории и культурного наследия все сообщество», — писала Энн Холи, директор музея Гарднер. Председатель Американской ассоциации музеев Эдвард Эйбл назвал «воровство, совершенное сотрудниками, самой серьезной категорией, ведь это предательство со стороны тех, кому доверили охранять общественное имущество». Он процитировал мудрую и очень уместную латинскую фразу: Quis custodiet ipsos custodes? «Кто устережет самих сторожей?»
К моему удовлетворению, судья разделял гнев директоров. Это воровство, по его мнению, не какой-то мелкий проступок, как утверждает защита. И не ошибка, допущенная в целом порядочными людьми. Подсудимые воплощали свой замысел систематично, крали месяц за месяцем в течение восьми лет, похитили более двухсот экспонатов. Еще хуже то, что эти люди — не заурядные уголовники. Благодаря своему положению в обществе Медфорд и Чизмазия — музейный работник и серьезный коллекционер — лучше других осознавали ценность и значимость украденных предметов и причиненный ущерб.
— Ваш поступок — вопиющее неуважение и оскорбление по отношению к нашей культуре и обществу. Его надо оценить соответственно, — заявил судья. — Суд приговаривает вас к сорока месяцам лишения свободы.
Сорок месяцев! Вдвое больше, чем мы просили!
Мне хотелось улыбнуться, но я сумел сохранить характерное для агента ФБР выражение лица и украдкой взглянул на стол защиты. Главный адвокат стоял, открыв рот, и сжимал пустой блокнот. Медфорд рухнул на стул. Чизмазия повернулся к залу в поисках сочувствующих лиц и едва сдерживал слезы.
Я посмотрел на Гольдмана и начал трясти его руку. Сорок месяцев! Может быть, это станет началом новой эры в делах такого рода.
Глава 10. Кровавое полотнище
Филадельфия, 1998 год
Во время тайных операций очень полезно встречать цель прямо в аэропорту. Человек, который только вышел из самолета, вряд ли будет иметь при себе оружие.
Коллекционера реликвий времен Гражданской войны Чарли Уилхайта я перехватил через несколько минут после приземления его рейса из Канзас-Сити. Мы нырнули в автобус и поехали в гостиницу Embassy Suites рядом с филадельфийским аэропортом. Был бодрящий январский день — примерно минус пять, — и Уилхайт укутался в пуховик и натянул перчатки. В руках он держал большую черную спортивную сумку. Поскольку другого багажа у него не было, а на вечер он уже забронировал обратный рейс, товар должен был быть в ней. Уилхайт — долговязый мужчина средних лет с бледным лицом и светлыми волосами, плохо прикрывающими залысину. Носил ковбойские ботинки и говорил протяжно, как южанин.
Мы вошли в номер. Чтобы ему было комфортно, я налил два стакана кока-колы и поставил их на стол прямо на виду у скрытой камеры.
— Добро пожаловать в Филадельфию, — сказал я, пододвигая кресло.
— Спасибо, спасибо.
Он стянул пуховик и перчатки.
— Первый раз у нас?
— Так точно.
— Надеюсь, этот приезд вам запомнится.
— Я тоже на это надеюсь!
Мы оба рассмеялись.
Уилхайт расстегнул сумку, и я слегка напрягся. Хотя мы были вместе с момента его приземления, никогда не знаешь, что у человека с собой. В таких операциях всегда есть реальная угроза насилия. Много лет назад я едва не пострадал во время подобной встречи. Подозреваемый утверждал, что работает в ЦРУ и хочет купить за пятнадцать миллионов долларов партию алмазов для обеспечения тайных операций в Европе. Торговцы алмазами в Филадельфии предупредили ФБР, и я сыграл курьера, который должен встретиться с этим человеком и передать камни. По телефону я подстроился под его безумную историю, согласился приехать в гостиницу неподалеку и сказал, что захвачу с собой алмазы в пристегнутом к руке чемодане. Мы встретились в теплом вестибюле. Он был в темных очках и тяжелом пальто. Мы уже направлялись к лифту, но пальто и сам этот человек вызвали у меня странное ощущение, и я подал сигнал брать его на месте. Оказалось, никаких денег у него не было, зато имелись пистолет и топорик. Он хотел просто убить меня, отрубить мне руку и сбежать с алмазами.
Так что я с облегчением выдохнул, когда Уилхайт вытащил из багажа аккуратно сложенное красно-бело-синее полотнище: американский флаг XIX века в хорошем состоянии.
Он небрежно расправил его и положил на маленький круглый столик. Ткань свисала по бокам, а обтрепавшиеся края оказались в нескольких сантиметрах от пола. Я задумчиво смотрел на тридцать пять золотых звезд в синем квадрате в углу и вздрогнул, когда Уилхайт грубо взял флаг и на гостиничный ковер упали крупицы позолоты. Звезды располагались необычно: под разным углом и кругами. Казалось, они водят хоровод на ночном небе.
В середине одной из семи красных полос заглавными, обрамленными тенью буквами было написано: «12th REG. INFANTRY CO’A».
Это был именно тот флаг, который описывал мой источник в Центре военной истории Армии США: боевое знамя Двенадцатого пехотного полка Corps d’Afrique, почти священная реликвия для американских темнокожих. Со времен Гражданской войны сохранилось всего пять подобных флагов. Снизу на левом крае знамени была прикреплена бирка HP 108.62. Значит, это собственность армейского музея.
Уилхайт поймал мой взгляд и улыбнулся.
— Красивый, правда?
— Мне очень нравится, Чарли.
Боевой флаг не похож на другие предметы старины.
Знамена, которые солдаты водружали на форте Макгенри, морские пехотинцы на Иводзиме, пожарные на Всемирном торговом центре, символизируют решимость американского народа. О легендарном звездно-полосатом флаге форта Макгенри поется в нашем государственном гимне. Сегодня это самый популярный экспонат Национального музея американской истории при Смитсоновском институте. Посмотреть на него приходит примерно шесть миллионов туристов в год. Это потрепанное полотнище — сшитые вручную шерстяные полосы тринадцатиметровой длины — самый ценный экспонат во всей коллекции. Он стоит больше, чем алмаз Хоупа, самолет Spirit of Saint Louis Чарльза Линдберга и лунный модуль «Аполлона-11».
Я сам любил собирать предметы времен Гражданской войны и понимал, что полковые флаги играли в сражениях важнейшую роль. Они были нужны не только для церемоний. За знаменосцем, как за маяком, солдаты шли в хаос и какофонию битвы. Знамена в буквальном смысле отмечали линию, на которой десятками тысяч гибли солдаты Севера и Юга. Обе стороны стремились убить чужого знаменосца, лишить врага главного средства связи. Нести в бою знамя полка было очень почетно, но сопряжено с большой нагрузкой и невероятной опасностью.
Флаг Двенадцатого полка, который Уилхайт принес в гостиничный номер, был не просто гордым символом мужества и жертвенности. Это памятник истории межрасовых отношений. Он много лет висел на почетном месте в Военной академии США в Вест-Пойнте, потом был помещен в музей Армии США в Вашингтоне. В середине семидесятых, согласно старым записям, флаг отправили на выставку в Южную Каролину, но на место назначения он так и не прибыл.
Прошло уже много лет, но я узнал об этом преступлении всего за месяц до встречи с Уилхайтом. Мне позвонил Лесли Йенсен, армейский историк из Вашингтона, и сообщил: военные следователи проверяют сигнал, что на черном рынке продается флаг Двенадцатого полка.
— Не может ли ФБР помочь? — попросил он.
— Расскажите об этом флаге поподробнее.
— С этим знаменем в руках погибло минимум пять человек, — ответил Йенсен. — Его называют Кровавым полотнищем.
Как объяснил эксперт, Двенадцатый полк был расквартирован в Луизиане и занимает особое место не только в истории войны между штатами, но и в истории американских вооруженных сил в целом. Это один из первых негритянских полков, участвовавших в крупном сражении. Иногда свободные темнокожие служили в армии во время Войны за независимость и Англо-американской войны 1812 года, а также на флоте до Гражданской войны, но идея сформировать из них целый полк воспринималась неоднозначно. С самого начала войны южане использовали рабов на вспомогательных ролях в армии Конфедерации, но президент Линкольн поначалу отказался от подобного решения. Лишь после того, как Союз проиграл несколько сражений, он приказал привлечь в войска тысячи темнокожих — без права носить оружие. Генералы беспокоились, что непроверенные солдаты разбегутся в разгар сражения, но реалии и ужасы войны постепенно заставили их изменить свое мнение. Осенью 1862 года Линкольн объявил об освобождении всех рабов с первого января следующего года, и самообразованные темнокожие подразделения начали сражаться вместе с белыми на стороне Союза в Массачусетсе, Южной Каролине и Луизиане. Одним из них был Двенадцатый полк, действовавший рядом с Новым Орлеаном.
В мае 1863 года силы Союза атаковали Порт-Хадсон, последний оплот южан на реке Миссисипи, и у темнокожих полков, в том числе Двенадцатого, появился шанс показать себя в бою. В 1887 году Джозеф Уилсон, один из солдат, сражавшихся при Порт-Хадсон, написал книгу «Черная фаланга»[14] и запечатлел ту битву. Вот эти полные патриотизма строки:
Артиллерия сотрясала воздух и землю громче небесных раскатов. Пушки, мортиры, мушкеты встретили наступающие полки огненным штормом. На солдат обрушился железный дождь картечи, ядер, снарядов, шквалы пуль. Они шли вперед и падали десятками слева и справа.
Когда вражеская мортира убила сержанта, несущего знамя Двенадцатого полка, его поднял другой.
«Знамя! Знамя!» — закричали темнокожие солдаты, увидев, что знаменосца разорвало снарядом. Люди падали все чаще. К небесам неслись крики, молитвы, проклятия. «Спокойно, ребята! Спокойно!» — скомандовал отважный капитан Кайю, подняв саблю. Лицо его было цвета порохового дыма, который окутывал все вокруг. Смертельный град бил будто со всех сторон.
Капитан Кайю пал со знаменем в руках. Казалось, колонна тает под убийственным вражеским огнем, как снег на солнце. Погибла наша гордость, цвет Фаланги. И тогда со смелостью, на которую способны лишь старые бойцы, они с криком бросились вперед, вверх, к стенам форта, навстречу винтовкам, пушкам и мортирам.
Армия Союза победила. Белые и темнокожие солдаты, впервые сражавшиеся плечом к плечу, братались. Необычное зрелище для тех времен.
Казалось, сама Природа выбрала место и время, чтобы негр опроверг предрассудки и доказал свое мужество… Прошлое было забыто. Вокруг царило идеальное равенство. Белые с радостью пили из негритянской фляги.
Белый офицер Союза писал родным: «Вы себе не представляете, насколько эта битва развеяла мои предубеждения о черных подразделениях». Впечатлены были даже некоторые южане. «Негры проявили значительное упорство в обороне, а белые — чистые янки — бежали, как собаки от кнута, почти сразу же, как только мы начали действовать», — писал о неудачном налете своих войск генерал Конфедерации Генри Маккаллох.
В узко стратегическом смысле осада Порт-Хадсона, длившаяся сорок восемь дней, была невероятно важна. Она ликвидировала последний гарнизон конфедератов на Миссисипи и стала вехой в истории Гражданской войны. Но, наверное, гораздо важнее то, что это сражение стало переломным для американских вооруженных сил и межрасовых отношений. После него темнокожие стали массово вступать в ряды северян. К концу войны в армии Союза служило более ста пятидесяти тысяч афроамериканцев. Минимум двадцать семь тысяч пало в бою. Черные солдаты были объединены в сто шестьдесят полков и участвовали в тридцати девяти крупных кампаниях. И при этом сохранилось всего пять их боевых знамен.
Все это крутилось в моей голове, когда мы с Уилхайтом в гостиничном номере держали за углы Кровавое полотнище.
Я мог арестовать этого подонка на месте: подать сигнал группе захвата и надеяться, что тот будет сопротивляться. Но мне хотелось большего. Я желал проникнуть в его разум, узнать человека, который способен продать такую вещь, особенно если он — как Уилхайт — называет себя любителем истории Гражданской войны. Как можно быть настолько черствым и жадным, чтобы пытаться обналичить краденый кусочек прошлого?
Конечно, еще мне хотелось, чтобы он сам уличил себя на камере наблюдения. Мне нужно было доказать намерение: заставить его под запись признать, что он сознательно продает похищенную историческую реликвию. Нельзя допустить, чтобы после ареста адвокат начал доказывать, будто это недоразумение и Уилхайт получил флаг добросовестно, не зная о его происхождении.
Готовясь нанести решающий удар, я расслабил спину, поудобнее устроился в кресле и сделал глоток колы.
— Вам удалось узнать, откуда этот флаг?
— Из музея в Колорадо, — сказал он, подтверждая, что предмет украден. — Я вам прямо это говорю. Не хочу юлить. Если бы я принес его на ярмарку, понятно, чем это могло бы кончиться. Не хотелось так рисковать.
Похоже, сложностей у меня не возникнет. Уилхайт, видимо, любил поговорить и хотел мне понравиться.
— Значит, вы боитесь, что флаг кто-нибудь увидит? Вы считаете, что он был украден?
— Совершенно верно. Мне сказали, что флаг висел в музее в Вест-Пойнте, откуда его и отправили в Колорадо. Не знаю, правда это или нет.
Я поинтересовался, знает ли кто-то о флаге и о нашей сделке.
— Это важно, — объяснил я, — потому что я должен защитить себя и своего покупателя. Чем меньше людей обо всем этом знает, тем лучше.
Конечно, это был вопрос с подвохом. Почти любой ответ уличал Уилхайта. Если он скажет, что «никто не в курсе», значит, он не доверяет никому настолько, чтобы вовлечь в свою незаконную схему. Если начнет называть имена и ручаться за сообщников, то, сам того не осознавая, их выдаст. Может, даже крупную рыбу: торговца или брокера, который еще не попал в поле зрения ФБР. Так или иначе, вопрос должен заставить его говорить.
Уилхайт начал рассказывать мне длинную историю о том, что флаг ему продал из-под полы какой-то парень на ярмарке в Чикаго, посвященной Гражданской войне. Он заплатил наличными в своей машине на многоэтажной парковке. Когда он закончил свою речь, я изменил тактику и попытался заставить его признать, что он умышленно продает частицу истории американских темнокожих, с которой люди умирали в бою.
— Чарли, — спросил я, — вы много знаете об этом флаге?
— Мне говорили, что в мире всего пять флагов цветных частей.
— Цветных частей? Вы имеете в виду Corps d’Afrique?
— Да. Их формировали в Луизиане, и они прекрасно себя проявили в Теннесси. Можете проверить.
Я уже проверил.
— У них были большие потери?
— Да. Они ведь участвовали в боях, а не кастрюли чистили или что там еще. Как те черные из Массачусетса, про которых сняли кино. Так что предмет для меня ценный.
Невероятно. «Потери большие, поэтому предмет для меня ценный». Чтобы скрыть гнев, я рассмеялся и глотнул колы. Как далеко зашел бы этот человек? Уилхайт выглядел довольным собой: он был одним из тех, кого успокаивает собственный голос. Он положил на стол ногу в ботинке и качался на стуле, заложив руки за голову.
— Когда вы узнали эту историю, вам не захотелось избавиться от флага?
— Мне? Нет. Я заплатил за него кучу денег. Один приятель предлагал мне отдать его в какой-нибудь музей и получить за это возврат налога, но у меня и мысли такой не возникло. Этот мой знакомый говорил, что у него есть связи.
Уилхайт указал на меня костлявым пальцем и сказал:
— А как вы теперь будете его рекламировать и продавать — это уже ваша забота. Но советую действовать тихо. Не надо его брать на ярмарку. Может, никаких проблем не будет, но я вас предупредил.
— Правильно, потому что иначе мы заработаем кучу неприятностей.
— Вполне вероятно.
Улик против него было более чем достаточно.
— Двадцать восемь тысяч. Наличными, если вы не против.
— Хорошо. Если бы у меня был кассовый чек, я бы показал его Дяде Сэму и подумал, как обойти проблему.
Вставая, я подумал, что уж точно не забуду сообщить ребятам из налоговой службы.
— Разве не отличная покупка? — сказал Уилхайт. — Все, как я говорил.
— Вы правы. — Сжав нос большим и указательным пальцами, я подал сигнал к действию. — Это действительно музейный экспонат.
— Да…
Уилхайт резко повернул голову вправо, к распахнувшейся двери. Когда трое агентов ФБР в бронежилетах скомандовали ему: «Руки за голову!» — он рванулся ко мне и закричал:
— Кто вы такой? Кто вы такой?
Как глупо с его стороны. Не успел он сделать неловкий шаг, как оказался прижатым к полу.
Я пришел к выводу, что можно читать об украденном предмете, беседовать о нем с экспертами, даже держать его в руках, когда плохие парни рассказывают о его цене на черном рынке. Но по-настоящему я чувствую глубокий смысл, только когда наконец возвращаю его законному владельцу.
Так было в случае с археологом Альвой и золотой пластиной, и так же произошло с группой темнокожих реконструкторов Гражданской войны и главным армейским историком.
Через несколько недель после ареста Уилхайта и захвата боевого знамени в штаб-квартире ФБР состоялась примечательная церемония передачи флага Армии США. Поскольку дело было в феврале, ее наспех вставили в программу ежегодного Месяца истории афроамериканцев.
Я поехал в Вашингтон вместе с Визи, специалистом по связям с прессой, и руководителем филадельфийского отдела Бобом Конфорти. Они заняли почетные места перед сценой, а я, помня о камерах, остался в задних рядах.
Долгожданным гостем мероприятия был астронавт-афроамериканец, летавший на шаттлах. Он потрясающе рассказывал об открытом космосе, но флаг, добавленный в программу в последнюю минуту, затмил даже это. В окружении почетного караула — реконструкторов из Филадельфии — он возвышался над высокопоставленными лицами, астронавтом, директором ФБР Луи Фри и парой армейских генералов.
Джозеф Ли — глава клуба реконструкторов — вышел на трибуну в точной копии синего мундира Третьего полка «цветных» подразделений Армии США. Начал он с рассказа о том, что испытал в январе, когда я пригласил его в наш филадельфийский офис посмотреть на спасенное знамя.
— Меня попросили до него не дотрагиваться, — говорил Ли. — Я служил в морской пехоте и в ВВС, в нашем клубе я старшина, и я знаю, что приказ надо выполнять.
Он сделал паузу и вытер нижнюю губу белой парадной перчаткой.
— Но этого приказа я выполнить не мог. Я прикоснулся к флагу и почувствовал мурашки. Даже сейчас у меня наворачиваются слезы, когда я об этом вспоминаю. У меня начинает сильнее биться сердце. Это настоящая, живая история американских темнокожих. Я слышал о ней, читал, она мне снилась, а теперь я стал ее частью.
Ли отдал знамени честь.
— Погибшие лежат там, в неглубоких могилах вдоль полей, где они сражались и умирали. Это гордое знамя — память о них.
Ли снял головной убор и прижал его к груди.
— Боже, смилуйся над делами, совершенными здесь, и над душами бедных жертв, которые отошли к Тебе без молитвы. Честь и слава отважным солдатам, сражавшимся за Дядю Сэма.
Даже Фри — человек с каменным лицом — был явно тронут. А я понял, что наше дело подарило ему и всему бюро прекрасный повод для пиара. Мы не просто спасли важную историческую реликвию, но и дали возможность поучаствовать в укреплении межрасовых отношений. Это, безусловно, должно помочь мне воплотить тихие надежды и начать бороться с преступлениями в сфере искусства не только в Филадельфии, но и по всей стране, а также за рубежом.
Грандиозные замыслы не успели унести меня далеко. К микрофону подошел главный военный историк Армии США генерал Джон Браун.
— Только представьте, как тяжело приходилось в бою солдатам Двенадцатого полка. Они не видели лиц любимых. Не видели памятников, прославивших этот город. Не видели величественных пурпурных гор и плодородных равнин. Но они видели над дымом и мглой это знамя. А для солдата знамя всегда воплощает все то, за что он сражается. Только оно есть у него на поле боя, где он смотрит в глаза смерти. Думаю, это особенно верно в данном случае. Это флаг людей, которые встали на борьбу с рабством ради себя и своих семей. Они внесли вклад в победу Союза и подарили свободу себе и поколениям своих потомков. Это был первый шаг на долгом пути к американской мечте о всеобщем равенстве.
Он говорил, а я невольно вспомнил своих родителей: американского солдата и его невесту-японку.
Глава 11. Подружиться и предать
Санта-Фе, 1999 год
Говорят, губернаторский дворец в Санта-Фе — старейшее постоянно действующее общественное здание в США. Это низкое строение из красного кирпича и дерева — обязательный пункт программы для всех гостей города — растянулось на целый квартал. Его построили испанцы в 1610 году как оплот власти на севере Новой Испании, а сейчас это культурный центр города. Во дворце расположен популярный музей Новой Мексики, а снаружи, вдоль выходящей на плазу балюстрады, индейские ремесленники продают туристам ювелирные изделия ручной работы.
Галерея индейского искусства и антиквариата Джошуа Бэра находилась в половине квартала от дворца, в доме 116 по Ист-Пэлэс-авеню. У входа была неприметная деревянная доска с надписью: «Галерея на втором этаже. Открыто» — и плакат: «Зачем рисковать? Покупайте подлинное искусство».
Необычно холодным летним днем 1999 года мы с напарником, тоже тайным агентом, шли по этой лестнице. В карманах у нас были микрофоны и фальшивые документы.
Торговля поддельными индейскими реликвиями приносит преступникам миллиард долларов в год. Но и это немного по сравнению с незаконной продажей религиозной утвари индейцев, особенно украшенной орлиными перьями. Эта деятельность уже много лет была головной болью правоохранительных органов и вождей племен. Что еще хуже, многие в Нью-Мексико — в том числе некоторые судьи, представители индейцев и чиновники штата — открыто критиковали федеральный закон о защите орлов. Бороться со «сборщиками», которые прочесывают резервации, скупают у нищих индейцев ритуальные предметы и перепродают их дилерам в Санта-Фе, несложно. Гораздо тяжелее привлечь к ответственности торговца. Упорные сотрудники федеральной Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных полгода назад начали крупное расследование и подозревали, что Бэр и еще четыре человека нелегально продают индейские предметы культа, в том числе с орлиными перьями. Доказать это не получалось. Оставалось только заманить дельцов из Санта-Фе в ловушку. Но это был тесный круг, к чужим относились с подозрением, и местным агентам работать под прикрытием было почти невозможно. Именно поэтому Служба решила обратиться за помощью и устроить большую облаву, чтобы надолго запугать нечистых на руку дилеров. Выбор пал на меня — агента ФБР из Филадельфии — и норвежского детектива. Я был привлечен из-за опыта работы с преступлениями в сфере искусств, а норвежец — потому что индейские религиозные реликвии, например головные уборы с орлиными перьями, фигурки «матери-кукурузы» племени зуни и церемониальные маски хопи, популярны в Европе, где их продажа легальна. Богатые европейцы часто приезжали в Санта-Фе за индейским искусством, иногда в сопровождении американских экспертов-брокеров. Я должен был играть консультанта богатого норвежского знакомого по имени Ивар Хусбю. Он выглядел как настоящий скандинав, носил Hugo Boss и часы «Ролекс», которые взял напрокат.
Мы с Хусбю поднялись по ступеням, покрытым коричневым ковром, и вошли в галерею на втором этаже. В центре, у прилавка с коллекцией кукол-качина (духов предков) племени хопи, стоял приятный мужчина ростом примерно метр девяносто и весом сто килограммов. Две стены напротив окон, выходящих на Пэлэс-авеню, были увешены качественными коврами навахо. Продавец дал нам минуту, чтобы все это оценить, а потом протянул руку.
— Джош Бэр. Добро пожаловать.
— Добрый день, Джош. Боб Клэй из Филадельфии. Удивительная работа!
Я кивнул в сторону ковра.
— Ивар Хусбю, — сказал норвежец, пожимая Бэру руку. — Из Осло в Норвегии.
— Ивар — коллекционер, — сказал я, хлопая напарника по плечу. — Он не очень хорошо говорит по-английски, я ему немного помогаю. Мой хороший клиент.
Бэр повернулся к Хусбю.
— Чем вы занимаетесь?
— Семья занимается нефтью. У меня интернет-компания.
Хусбю свободно владел четырьмя языками, но с Бэром говорил на ломаном английском. Карие глаза торговца расширились.
— Скажите, если могу вам помочь.
Он показал на несколько ковров навахо, но я быстро дал ему понять, что нас больше интересуют ритуальные предметы.
— Ивар интересуется культами саамов. Эти скандинавские народности похожи на американских индейцев, поэтому мы здесь.
Я вручил ему свою визитку: «Роберт Клэй, торговый консультант».
Бэр нырнул в заднюю комнату и вынес оттуда церемониальную миску культуры мимбрес, датированную 900 годом нашей эры (цена шесть тысяч долларов), десятисантиметровую куклу-качина племени акома (пять пятьсот) и щит для танца духов племени кайова (двадцать четыре тысячи). Мы беседовали почти сорок минут, но ничего не купили. А когда собрались уходить, Бэр пригласил заглянуть вечером в его галерею на ярмарку старых почтовых открыток. Вечером мы действительно зашли и перекинулись парой слов.
— Приходите завтра. Кое-что вам покажу, — пообещал он.
— Очень на это надеюсь, Джош, — ответил я, почувствовав завораживающий лучик надежды.
Работать под прикрытием — как играть в шахматы. Надо освоить предмет и всегда на один-два хода опережать противника.
Я подготовил сотни федеральных агентов. «Забудьте все, что видели по телевизору, — всегда говорил я им. — Там не покажут реальную жизнь. В ФБР хорошая подготовка, но в тайных операциях лучше полагаться на свои инстинкты». Годы, когда я продавал фермерам рекламу, дали мне больше, чем любое специальное руководство.
Эти умения нельзя получить в аудитории. Если у человека нет врожденного инстинкта и черт для работы под прикрытием, он, вероятно, не сможет ей заниматься. Либо ты умеешь общаться и продавать — чтобы завоевать доверие и злоупотребить им, — либо нет.
Начинается все с псевдонима. Без него тайному агенту не обойтись. Лучше пользоваться настоящим именем — если только оно не какое-то необычное для ваших краев, например Ульрих или Пэрис. Это соответствует моему главному правилу: ври как можно меньше, ведь чем больше врешь, тем больше надо запоминать. Чем меньше нужно помнить, тем комфортнее и естественнее вы себя будете чувствовать. Еще настоящее имя защитит вас, если вы столкнетесь со знакомым или коллегой, а тот не знает, что вы на задании. В первые минуты операции по делу о продаже боевого знамени я неожиданно столкнулся в аэропорту с соседом. «Привет, Боб!» — крикнул он. Я кивнул, поздоровался и пошел с Уилхайтом дальше. Если бы этот сосед назвал меня как-то иначе, все могло бы сорваться.
Фамилию лучше придумать неброскую и популярную — такую, чтобы ее было сложно проверить простым поиском в интернете.
Когда псевдоним готов, нужно создать «бумажный след» вымышленной личности, с которой ты работаешь. В ФБР это называют административной поддержкой. Чтобы помочь сотруднику создать и поддерживать легенду, в Вашингтоне действуют специальные команды агентов, аналитиков и вспомогательного персонала.
Правила ФБР по работе под прикрытием в основном нудные и бюрократичные, поэтому я старался обеспечить себе такую поддержку самостоятельно. В кошелек я клал разные второстепенные документы: читательский билет филадельфийской библиотеки, карточку лояльного клиента U.S. Airways, дисконтные карты книжных магазинов Barnes & Noble и Borders, семейный абонемент в Филадельфийский художественный музей, случайный чек из галереи с моим вымышленным именем. Я регистрировал несколько адресов на Hotmail. Наверное, для всего этого тоже было положено заполнять какие-то бумаги, но если бы я дотошно следовал всем правилам ФБР, я бы никогда ничего не добился. Большинство руководителей это понимало и смотрело сквозь пальцы.
Следующий шаг — подтвердить репутацию. Нужны профессиональные, но сдержанные визитки, телефонные номера и по возможности история в открытых источниках. Для небольших разовых операций много не надо: обычно я ограничивался номером мобильного и электронной почтой. При необходимости всегда можно положиться на бюро, а в особых ситуациях приходилось обращаться за помощью в какую-нибудь частную компанию или университет. Иногда фирмы помогают агентам ФБР создавать легенду и разрешают пользоваться своим названием, бланками и бейджами.
Обеспечить такую поддержку не так сложно: нужны прежде всего работа с бумагами и терпение. Справится почти любой. Но для следующих пунктов понадобятся крепкие нервы и особые личностные качества.
Вот мой подход к работе под прикрытием.
Такие операции во многом напоминают продажи. Нужно хорошо знать человеческую природу, втереться в доверие, а потом этим воспользоваться. Стать другом и предать.
Тайные операции не похожи друг на друга, но в целом сводятся к пяти этапам: оценить цель, познакомиться, создать хорошие отношения, предать, пойти домой.
Первый этап — оценить цель. Кто этот человек? Что предлагает? Беспроигрышные инвестиции? Уход от налогов? Взятку члену городского совета? Наркотики? Что бы это ни было, вам придется освоить эту тему.
Скажем, вы работаете над делом о торговле наркотиками. Вам нужно разобраться, как сегодня их употребляют, и забыть, что вам показали по телевизору и что вы помните из студенческих времен. Нужно знать, как обращаться с наркотиком, как его «бодяжить», какая доза нужна обычному человеку. Полезно быть в курсе текущих цен на улицах своего города — от грамма до килограмма. Необходимо освоить жаргон.
Это касается любой области. Когда я, городской парень, начал искать рекламодателей для Farmer, до меня быстро дошло, что нужно понимать разницу между голштинской породой коров и ангусской. Одна молочная, другая мясная. Одну надо доить, другую есть. Одна для фермера важный член семьи, другая — обед.
Приобретенные знания можно применять и дальше, если работаешь в той же области. Навыки, полученные при разработке финансовой пирамиды, пригодятся в тайной операции, связанной с другими денежными махинациями. Дела о наркотиках и коррупции обычно предсказуемые, достаточно освоить несколько схем. А вот преступления в сфере искусства — совсем другое дело. Можно сказать, что они сложнее, поскольку жанров очень много и почти каждый раз приходится переключаться, исследовать рынок, осваивать жаргон.
Второй этап — знакомство. Встретиться с целью можно двумя путями. Я называю их «столкновение» и «поручительство».
Столкновение устроить нелегко. Нужны серьезная подготовка и немного везения. Как и следует из названия, надо каким-то образом столкнуться с целью так, чтобы это казалось естественным: в баре, клубе, галерее. Иногда приходится потратить недели и даже месяцы, чтобы создать себе репутацию в нужных кругах. Если цель — отъявленный байкер, придется ошиваться с бандами байкеров и ждать подходящего момента.
Намного быстрее действовать с помощью поручительства. Кто-то — обычно негласный осведомитель или сотрудничающий со следствием человек — должен сказать цели, что с вами можно иметь дело. В случае с золотой пластиной моим поручителем был Базен, а за него ручался один из его источников. Подтверждение не обязательно исходит от конкретного человека. Задача — убедить цель, что вы тот, за кого себя выдаете, в моем случае — эксперт в конкретной области искусства. Можно создать виртуальное поручительство, продемонстрировав свои умения. В деле с флагом я заманил человека из Канзас-Сити в Филадельфию после многочисленных телефонных разговоров, во время которых ясно дал ему понять, что хорошо знаком с сообществом собирателей реликвий Гражданской войны.
Третий этап — создать хорошие отношения. Нужно завоевать доверие цели, а для этого лучше всего ее впечатлять и обхаживать. Можно, конечно, угощать человека выпивкой, кормить ужинами и возить в своем сияющем автомобиле, но эффективнее срабатывают более тонкие подходы. Лучше всего прибегнуть к психологическим уловкам.
Первое впечатление очень важно. С самого начала надо создать дружелюбную атмосферу. Главное здесь — выражение лица, это самый заметный элемент межчеловеческого общения. Если человек улыбается, создает мягкий зрительный контакт и вежливо пожимает руку, я, скорее всего, подумаю, что он приятный парень. А вот недовольное лицо, взгляд исподлобья и медвежье рукопожатие заставят меня насторожиться: это либо враг, либо соперник. Это не рефлекс вроде «бей или беги», здесь много нюансов, и приходится работать на периферии личности. (Если я встречаю конкурента, я дам ему преуспеть в его деле, но буду настаивать, чтобы он дал мне преуспеть в моем. Если человек — вор, я разрешу ему командовать во время ограбления, но он должен передать мне руководство, когда придет время заключать сделку.)
Нельзя недооценивать дружескую улыбку. Если вы улыбаетесь, велика вероятность, что цель последует вашему примеру. Человеку свойственно «отзеркаливать» то, что он видит. Эту первичную психологическую реакцию усваивают еще в младенчестве. Маленький ребенок улыбается в ответ не потому, что вы ему понравились, он просто повторяет за вами. Нахмурьтесь — и он заплачет. Этой методике выживания мы учимся в первые несколько месяцев и сохраняем ее всю жизнь.
Отзеркаливание можно применять по-разному. Приятно, когда ты что-то сказал и слышишь в ответ: «Слушай, отличная мысль!» Когда общаешься с такими же, как ты, хочется расслабиться. Хороший тайный агент использует этот эффект в свою пользу. Если цель сидит близко к столу, надо подвинуться поближе. Надела солнечные очки — наденьте и вы. Смеется — смейтесь. Старайтесь подтверждать все, что цель говорит. Заметила, что на улице жарко, — соглашайтесь. Критикует позицию или характер какого-то политика — признайте, что у него много слабых мест. Заказывает чай со льдом — последуйте ее примеру.
Когда у вас завяжется разговор — не закрывайтесь. Расскажите о себе, расспросите собеседника о его жизни. Обмен личной информацией — прекрасный способ создать межчеловеческую связь, завоевать доверие.
Но действовать надо осторожно. Все, что вы говорите, должно быть либо проверяемым, либо настолько личным, что проверить это невозможно. Старайтесь держаться как можно ближе к правде: не надо говорить, что у вас шестеро детей, если их всего двое. На каком-то этапе вы, скорее всего, проколетесь.
Как подружиться с человеком, если он вас отталкивает? Надо как следует постараться. Отыщите в этом человеке что-нибудь хорошее и сосредоточьтесь на этой черте. Абсолютных злодеев не бывает. Ему важна семья? Он заботится о справедливости? У вас одинаковые вкусы в музыке? Схожие взгляды на женщин? Еду? Футбол? Политику? Автомобили? Искусство? Если зацикливаться на криминальных и аморальных чертах, никогда не найдешь с человеком подлинного взаимопонимания.
Еще один важный момент. Чтобы не попасть в сложное положение, постарайтесь сразу обозначить свое отношение к браку и алкоголю. Если вы женаты — скажите, что очень любите свою жену. Если вы «очень любите свою жену», значит, не ходите налево. Если хотите сторониться выпивки — объясните, что не пьете, потому что были алкоголиком и боитесь странных помутнений сознания. Только не надо заявлять, что пить и гулять нехорошо с моральной точки зрения. Это будет звучать по-идиотски: в конце концов, вы хотите изобразить преступника! Если пораньше прояснить эти вопросы, будет намного проще, когда цель попытается вас проверить. Скажите: «Послушайте, я не игрок, а бизнесмен и пришел сюда по делу, а не развлекаться».
Важно войти в роль, но быть осторожным и оставаться начеку. Во время тайной операции легко утратить связь с реальностью и позволить лжи и обману взять верх.
Четвертый этап — предать. Убедите человека передать вам контрабандный товар в контролируемой обстановке, желательно в гостиничном номере рядом с командой спецназа. Заставьте его уличить себя под запись.
Пятый этап — идите домой. Безопасно закончите дело и возвращайтесь к родным. Никогда не позволяйте своей тайной жизни подчинить себе реальную. Повторяю, работа — не главное. Если во время операции что-то вызвало у вас дискомфорт — не делайте этого. Если преступник предлагает вам сесть в машину, а вы начинаете волноваться, придумайте отговорку. Если руководитель или коллега просит вас изображать умения, которых у вас нет, — не соглашайтесь. Вам прежде всего должно быть удобно в своей роли. Она обязана стать для вас естественной. Как я учу своих агентов, надо быть собой. Не пытайтесь актерствовать. У вас не выйдет. Ни у кого не получится. У актера есть сценарий и много дублей, а у вас всего один шанс. Они напутают слова и повторят еще раз, а вы за ошибку можете поплатиться своей жизнью или, что еще хуже, жизнью других людей.
В случае Бэра мы не знали никого в его кругах. Поскольку легко и быстро заручиться рекомендацией оказалось невозможно, мы применили методику столкновения — прямую, фронтальную атаку.
Это не значит, однако, что мы не провели хорошую разведку. Наши друзья из Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных уже отправили за решетку многих низкоуровневых игроков — мелких торговцев и «собирателей», которые обчищают резервации в поисках религиозных предметов для теневых галерей. Мы знали, как устроены нелегальные продажи. Чтобы обойти закон о запрете продаж орлиных перьев, люди вроде Бэра говорят кодовым языком — называют эти перья индюшачьими. Еще они никогда не продают такие предметы, а дарят их клиенту, а тот за это сознательно покупает другой товар по неприлично раздутой цене. Например, легальная индейская вещь ценой в тысячу долларов уходит за двадцать одну тысячу, а в подарок человек получает нелегальную ценой двадцать тысяч.
Мы пришли в галерею Бэра на следующий день после короткого разговора за бокалом вина и сыром. Хозяин тепло нас поприветствовал.
— Пойдемте в заднюю комнату, — сказал он, открывая дверь, ведущую из галереи в частное помещение. Затем принес набор деревянных попугаев и пояснил, что они нужны во время танца кукурузы в Хемес-Пуэбло. Еще он показал нам особую священную кисть навахо, с помощью которой целитель под песнопения смахивает злых духов, и пару украшений для волос — тоже из Хемес-Пуэбло — из перьев длиной сто двадцать сантиметров, привязанных хлопковым шнурком к деревянной палке два с половиной сантиметра толщиной. Этим украшениям было, наверное, сто лет, и в каждом имелись два пера краснохвостого сарыча, перо беркута и перо попугая ара.
— Сложно представить себе что-то более церемониальное, — заметил Бэр.
«И что-то более нелегальное», — подумал я и упомянул кодовое слово:
— Перья индюшачьи?
— Так точно, — улыбнулся Бэр. — Перья индейки.
Он быстро пояснил, что получил эти украшения в подарок от одного брокера, с которым много сотрудничал.
— Вы знаете, я кое-что у него купил, а он дал мне их в подарок.
— Значит, Ивар тоже мог бы получить их в подарок?
— Совершенно верно. Такие вещи не продают. Но если в твоей жизни есть кто-то важный, кто тебе помог, то можно подарить.
— Очень похвальный подход, — улыбнулся я, и Бэр рассмеялся.
Я повернулся к Хусбю.
— Вы заинтересованы?
— Можно мне их сфотографировать? — попросил норвежец.
Бэр покачал головой.
— Прошу прощения, но нет.
— Ох, извините.
— Можете сделать снимок после того, как я вам их подарю.
Мы снова рассмеялись. Теперь мы были друзьями, заговорщиками, и Бэр начал открываться.
— Скажу честно: мне совершенно не хочется иметь дело с федералами по поводу легальности этих вещей.
— А в чем проблема? — поинтересовался я.
— Они любят приставать к людям, которые продают и покупают индейские вещи.
Бэр начал разглагольствовать о том, что нелегальная торговля священными индейскими реликвиями никому не вредит, ее поощряют сами племенные вожди, которым она позволяет награждать друзей и карать врагов.
— Это все политика, — заключил он.
— Я ничего об этом не знал, — смущенно сказал Хусбю.
— Поймите меня правильно. Я не собираюсь вести себя по-скотски и проверять документы. Вы, ребята, явно серьезные люди. Но, боюсь, это не та тема, которую следует обсуждать.
— Да, да, вы правы, — согласился я и повернулся к Хусбю. — Постараюсь придумать, как вам это достать.
— Я понимаю, это то, что ему нужно, — сказал Бэр. — Если у нас сложатся, так сказать, рабочие отношения, все будет в порядке.
— Между нами, — прошептал я, будто об этом нужно говорить так, чтобы клиент не слышал. — Мы ведь просто должны сойтись в цене?
— Да, — ответил Бэр.
Я просиял:
— В таком случае предлагаю начать рабочие отношения.
Хусбю и Бэр еще несколько минут обсуждали таможенные вопросы. Когда они закончили, я сказал:
— Ивар заинтересован в том числе в головном уборе воина.
Бэр оживился, но ничего не ответил.
— Вы можете его достать? — продолжил я.
— Это займет некоторое время, — осторожно произнес Бэр. — Это возможно, но очень, очень непросто. Не та вещь, которую можно заказать по телефону.
— Конечно, я понимаю.
Тут в разговор вмешался Хусбю:
— Мы искали много дней и не видели ни одного!
— Я вам его найду, — повторил Бэр, — но нужно какое-то время.
Мне тоже требовалось время. Нужно было вернуться в Филадельфию.
За день до того, как Бэр пообещал мне разыскать венец из перьев, ураган «Флойд», который уже принес наводнение и прочие бедствия в Северную Каролину, добрался до юго-востока Пенсильвании и залил мой район тридцатисантиметровым слоем воды. Порывы ветра достигали тридцати метров в секунду. Наш новый дом был особенно уязвим для стихии: строители никак не могли исправить недоделки, хотя после новоселья прошло уже два года. Когда буря накрыла Пенсильванию, Донна позвонила мне в Санта-Фе и рассказала об ущербе. Ковры промокли. Вода текла по внутреннимстенам. Потолки разбухли и протекали везде. Я представил себе огромные счета и новую головную боль со стройкой: гипсокартон, штукатурка, озеленение, водостоки, окна… Бэру придется подождать. Я поспешил в гостиницу и забронировал авиабилет.
Тайные операции бывают тяжким испытанием для семьи.
Тебя подолгу нет дома, жена остается одна с детьми и всеми их заботами, домашними заданиями и поездками к врачу, работой по дому и поломками машины. Ты не можешь точно сказать, когда уедешь и вернешься: может, через несколько дней, а может, пройдет не одна неделя. Супруга знает, куда ты собираешься, и представляет в общих чертах, чем будешь заниматься. Она в курсе, что это может быть опасно, но ради твоей же безопасности ее надо просить держать язык за зубами.
Я мог всецело положился на поддержку Донны. У нее в роду были сильные женщины, а ее воспитание — особенно уроки матери, Джерри, — помогло нам выстоять в самые тяжелые времена. Джерри часто советовала нам «остыть и понюхать розы». Когда к нам приезжали родители Донны, они всегда привозили мальчикам килограммов двадцать приготовленных на пару огромных мэрилендских крабов. Джерри брала с собой для Кристин швейную машинку и лоскуты. Донне она дарила сшитые вручную занавески для нашего дома. Теща жила по своим принципам и дарила безусловную любовь и поддержку — начиная с моей аварии и потом, когда долго и отважно боролась с раком молочной железы. Донне передались от матери сосредоточенность и сила, и наша семья процветала.
Так что я мог отправляться на тайные операции со спокойной душой.
По правилам ФБР тайный агент не должен работать над несколькими делами сразу. Я никогда не соблюдал это требование. В нем не было смысла. В жизни шансы не приходят по очереди, и глупо упускать возможность раскрыть одно дело только потому, что другое не окончено. Кроме того, у руководства не возникало повода жаловаться на то, что я занимался множеством вопросов одновременно. У них не было другого выбора: в ФБР я оказался единственным тайным агентом, который расследовал преступления в сфере искусства.
Когда я вернулся домой и стал оценивать ущерб, мне по электронной почте пришло письмо от сотрудницы одного пенсильванского музея, с которой я познакомился во время расследования похищения золотой пластины. Ее информация не была связана с делом Бэра, но, по совпадению, тоже касалась нелегальной торговли орлиными перьями. Кто-то предложил ей военный головной убор, который когда-то носил Джеронимо, легендарный воин апачей и целитель.
«Не могу сказать, розыгрыш это или нет и заинтересует ли это ФБР, — писала женщина, — но я решила, что это интересно в любом случае. Пересылаю вам письмо».
Тема: Подлинный автограф Джеронимо за 22 000 долларов
Только серьезные предложения. Подлинный головной убор Джеронимо за один миллион долларов. Из-за перьев он запрещен к продаже в США, поэтому рассмотрю только серьезные международные варианты. Пишите по адресу Gourmetcook@aol.com.
Стив
Я написал этому «Стиву». На следующий день по оперативному номеру мобильного мне позвонил Томас Марчано, продавец автомобилей из Мариетты в штате Джорджия. Он сообщил, что действительно продает головной убор Джеронимо с орлиными перьями — по его словам, в отличном состоянии. Я поинтересовался насчет провенанса, и Марчано рассказал, что Джеронимо надевал этот головной убор в октябре 1907 года на последний пау-вау — карнавал в честь превращения Оклахомы из территории в штат. К тому времени он был уже не легендарным военным и духовным лидером, а семидесятивосьмилетним военнопленным, состарившейся знаменитостью с трагической судьбой. Ему разрешали регулярно выступать на ярмарках и парадах. Последний пау-вау был одним из таких случаев, только важнее других. Во время церемонии великий вождь в полном облачении вышел на сцену и исполнил церемониальный танец, а потом подарил свой головной убор конвоиру Джеку Муру, наполовину индейцу чероки. Позже Мур передал его своему хорошему другу по фамилии Деминг. Внук этого человека, Лейтон Деминг, унаследовал венец из перьев и много лет хранил его в сундуке с нафталином.
— Недавно он попал в трудное финансовое положение, — закончил свой рассказ Марчано, — и теперь ищет покупателя.
— Ух ты, отличная история, — с энтузиазмом ответил я. — У меня есть один заинтересованный покупатель из Европы. Пришлите мне какие-нибудь фотографии и побольше информации.
— Хорошо, — согласился тот. — Только будьте осторожны: в США продавать орлиные перья незаконно.
Наш разговор записывался, поэтому я изобразил удивление.
— Вы уверены?
— Да, совершенно точно. Никаких сомнений.
— Хм-м… Даже не знаю, — только и сказал я.
В мире полно глупых преступников: тюрьмы ими переполнены. Но мой личный список возглавляет Марчано. Ему так хотелось мне доказать, что он прав и наша сделка нелегальная, что он прислал выдержку из Закона о защите белоголового орлана и беркута — Кодекс США, раздел 16, параграф 668, — в которой однозначно говорилось, что продажа перьев этих птиц запрещена.
— Да, вы правы, — сказал я во время нашего следующего разговора, изображая удивление.
Мне надо было выманить его на север. Там можно будет подключить к работе Гольдмана, который имеет право вести дела только в Восточном округе Пенсильвании.
— Знаете что? Я хотел бы этим заняться, но сейчас довольно загружен. Вы можете привезти товар сюда? Может, встретимся в Embassy Suites в Филадельфии? Гостиница прямо в аэропорту.
В октябре Марчано и Деминг прибыли в гостиничный номер сразу после обеда и привезли с собой вековой сундук. Они поставили его рядом с диваном, прямо под камерой наблюдения. Со мной была Люсинда Шредер из Нью-Мексико — эксперт Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных, с которой я сотрудничал в Санта-Фе. Она сразу определит, действительно ли это головной убор из орлиных перьев или подделка из популярного материала — перьев индейки.
Мои гости оказались совсем не похожими друг на друга. Деминг был вальяжным южанином пятидесяти пяти лет с широким носом, усталыми голубыми глазами, густыми черными бровями и тонкими губами. В Суани, штат Джорджия, он был адвокатом и председателем Клуба оптимистов округа Гуиннетт. Деминг любил говорить и медленно, шелковым голосом изложил нам семейную историю:
— Мой дед занимался нефтью. Джек Мур дружил с ним и, бывало, заявлялся к нему домой посреди ночи и вышибал дверь, чтобы проспаться после виски. Потом, недели через две, Джек успевал протрезветь и приводил корову или приносил что-то еще. Дедушка любил его и не возражал. Джек Мур и есть Джек Мур. Однажды вместо коровы Мур принес головной убор Джеронимо и еще несколько сувениров, в том числе фотографию с автографом.
Марчано же не мог сидеть спокойно. Ему было сорок два. Мускулистый, с густыми каштановыми волосами и залысиной, он ходил туда-сюда по комнате и с твердым бостонским акцентом сообщал нам факты о Джеронимо. Индеец считался военнопленным и последнее десятилетие жизни торговал сувенирами.
— Он так зарабатывал себе на жизнь. У него был целый чемодан шляп: он надевал одну из них, потом продавал и надевал следующую. Или отрезал пуговицу с пиджака, продавал ее, а жена пришивала ему новую. Довольно печальная история.
Пока он все это нам рассказывал, Шредер в метре от него изучала головной убор. Через несколько минут она объявила, что это, скорее всего, подлинник. Мы подобрались к сути сделки, и Деминг предложил обойти Закон о защите белоголового орлана и беркута так. Он продаст мне за миллион долларов автографы Джеронимо, а головной убор одолжит на неопределенный срок. Я согласился, но попросил подписать договор о переходе прав собственности. Это была идея Гольдмана: он хотел, чтобы Деминг признал, что продает головной убор из орлиных перьев. Я объяснил, что мой покупатель настаивает на договоре, поскольку хочет защитить себя от наследников Деминга. Иначе те смогут когда-нибудь предъявить претензии на реликвию. Тот колебался. Он с подозрением посмотрел на женщину-агента и сказал:
— Я уверен, что вы милая леди, но мы не знакомы.
Я повернулся к Люсинде и предложил ей выйти на минутку.
Когда мы остались одни, я уже приготовился услышать от Деминга какой-то аргумент, но вместо этого он наклонился ко мне и прошептал:
— А теперь без дураков, Боб. Я сейчас подпишу договор, а когда она вернется, составим еще один.
Он предлагал сделать два варианта: один тайный, с признанием продажи головного убора, а другой — на глазах у моего эксперта — без упоминания о нем. Он считал, что это защитит его от обвинений, если она решит обратиться к легавым.
— Без проблем, — согласился я, подталкивая к нему нужный мне документ. Мы подписали договор с упоминанием венца из перьев, я на глазах Деминга спрятал бумагу в карман и спросил его:
— Пока она не вернулась, между нами: в этом деле участвовал кто-то еще? Мне не нужны проблемы.
— Черт, нет!
— И еще одно, — сказал я медленно, почти растягивая слова. — Вы ведь понимаете, что, если товар попадет за границу, он больше никогда не вернется на родину?
Они кивнули. Я пригласил Шредер в комнату, и Деминг подписал второй договор. Эти люди были так довольны собой, что вытащили головной убор вождя из сундука и начали позировать для последней серии фотографий.
— Вы правильно сделали, что привезли его мне, — сказал я им.
— Да. Это часть истории, — согласился Деминг.
— Ребята, вы не проголодались?
Это была кодовая фраза для группы захвата.
После ареста Линде Визи, пресс-секретарю филадельфийского отдела ФБР, позвонил вождь племени ленапе из Делавера и сказал, что головной убор, три четверти века дремавший в сундуке, нужно очистить, изгнать злых духов и весь негатив. Он предложил провести церемонию окуривания и повторил то, что я уже слышал в Нью-Мексико: головной убор надо уважать и держать в чистоте, потому что орлиные перья считаются «телефоном» для связи с богом. Мы с Визи решили, что должны пойти навстречу просьбе. Какой смысл спасать старинную вещь, если игнорировать смысл ее существования?
На следующий день вождь принес пучок ароматных трав и зажег их, наполнив пустой конференц-зал едким запахом шалфея. Визи нервно смотрела, как струйка дыма поднимается к детекторам на потолке. Наш гость потер руки сквозь этот дым, напевая молитвы, и начал благословлять и массировать увядшие перья. «Шалфей очищает, изгоняет зло», — объяснил он. Затем поджег зубровку, чтобы пригласить добрых духов. Когда ритуал был завершен, он отошел в сторону. Перья как будто ожили, головной убор выглядел как новый.
Когда ФБР объявило о завершении этого дела, на пресс-конференции я занял свое обычное место в задней части комнаты, подальше от камер. На этот раз Визи приняла дополнительные меры предосторожности, чтобы меня никто не заметил, и это, вероятно, спасло нас от провала в Санта-Фе.
Визи говорила с журналистами без записи и попросила не сообщать моего имени и вообще того факта, что в деле участвовал тайный агент из Филадельфии. В принципе, мои имя и роль не были тайной для общественности: согласно закону, я указал их в аффидевите[15], где излагал факты по делу. Репортеры обычно пользуются этим документом, но на этот раз, к счастью, они пошли нам навстречу.
Когда на следующий день после пресс-конференции я позвонил Бэру в Санта-Фе, это было первое, о чем он упомянул.
— С вами все в порядке, Боб? Я уже думал, что вас взяли по этому делу в Филадельфии. Там каких-то ребят посадили за попытку продажи головного убора самого Джеронимо!
Я изобразил дурака.
— Серьезно? Не может быть!
— Да, у меня тут газета. В New Mexican напечатали большую статью. «По официальному сообщению ФБР, одному из тайных сотрудников в начале прошлого месяца написали в чате…»
Бэр начал читать вслух. Я узнал формулировки: в Санта-Фе слово в слово перепечатали статью из Philadelphia Inquirer. Черт, как хорошо, что Визи достучалась до журналистов. Бэр никак не мог успокоиться и дочитал до конца.
— Это невероятно, Джош. Просто невероятно, — сказал я ему.
— Да. Так что надо действовать очень осторожно. Не хватало налететь на облаву. С ума можно сойти. Но знаете что, Боб? Они невероятно завысили цену. Я бы не дал за этот головной убор больше сотни тысяч.
Я полетел к Бэру в ноябре. Мне нравилось с ним общаться, хотя он и нарушал закон. От него я многое узнал про индейцев и их захватывающие ритуалы. С середины августа по январь мы более десятка раз виделись в Санта-Фе и еще раз десять говорили по телефону. Я ел у него дома и кормил его ужинами в его любимых ресторанах. Мы говорили о семье, но прежде всего о бизнесе. Бэр был интеллектуалом, ценителем высокого индейского искусства и хорошего вина, но при этом не снобом. Он не поморщился, когда я сказал, что не пью, и не стал закатывать глаза, услышав наивный вопрос о традициях коренных американцев. Свою карьеру Бэр начал в Нью-Мексико в середине семидесятых. Он много лет ездил в пуэбло, выстраивал отношения с индейцами навахо — и торговал их коврами, искусством и священными реликвиями. Бэр был настоящим либералом из Сан-Франциско и легко вписался в высокомерную атмосферу Санта-Фе. При этом многие в индейских районах считали его отталкивающим. Для них он был образцом снисходительного белого человека. Бэр жил в хорошем доме и ездил на «мерседесе», но стабильности не было: банковский баланс сильно колебался из месяца в месяц, и ему постоянно казалось, что вот-вот получится сорвать куш. Торгуя нелегально ритуальными предметами и изделиями из перьев, он придумал себе оправдание.
— Все дело в карме, — объяснил он. — Я очень много отдаю обратно, возвращаю племенам. Они дают мне, я — им. Это улучшает карму. Надо вести себя осторожно и поступать правильно, иначе зло вернется и будет тебя преследовать.
Поначалу у Бэра были подозрения, что я федеральный агент. Он никогда не говорил мне об этом прямо, но намекнул, что так считают другие. Как-то раз он задал мне столько вопросов, что я толкнул к нему свой кошелек и предложил в него заглянуть.
— Мне нечего скрывать, — сказал я.
Но мне кажется, что больше всего его расположило ко мне мое предложение облапошить норвежца: раздуть цену, а потом поделить лишнюю прибыль пополам. В глазах Бэра преступление против собственного клиента было гораздо хуже, чем нарушение какого-то дурацкого закона об орлиных перьях. В этот момент я понял, что контакт установлен: он мой.
Я полетел в Санта-Фе через неделю после нашего разговора по телефону, и Бэр сообщил хорошие новости. Он нашел убор из орлиных перьев в Колорадо.
— Мы можем купить его за семьдесят пять тысяч, — предложил он, — а норвежцу посчитаем сто двадцать пять.
Я привел Хусбю в галерею.
Бэр позвал нас в заднюю комнату. Со словами «Это ваш счастливый день» он поднял сумку для шопинга, вытащил оттуда венец воина и положил на его стол. Сказав: «Я с гордостью показываю его вам», — он вышел и оставил нас одних, чтобы мы по достоинству оценили предмет. Головной убор пьянил. Семьдесят перьев белоголового орлана, сшитые в хвост длиной полтора метра, выпуклые латунные пуговицы, сыромятная кожа и полосы из сплетенных человеческих волос. Хусбю заметил крошечную бирку с надписью RI66Y: явно инвентарный номер какого-то музея. Когда продавец вернулся, мой «клиент» изобразил восторг. Бэр объяснил, что головной убор, разумеется, будет подарком, а Хусбю купит колчан и еще несколько законных предметов по сильно завышенной цене. Общая сумма составит сто двадцать пять тысяч. Мы пожали руки и отметили этот вечер ужином у Бэра дома с его женой. После ужина он достал головной убор и водрузил его на голову Хусбю, венчая веселый вечер.
Все было бы идеально, если бы не невероятное разочарование. В тот вечер я обнаружил, что в моем тщательно спрятанном диктофоне сели батарейки. Надо было как-то заставить Бэра повторить уличающие его слова.
Я позвонил ему на следующее утро и напомнил момент, когда Хусбю увидел головной убор. Мы смеялись над доверчивым норвежцем.
— У твоего парня было такое лицо!
— Просто шок!
— Бесценно!
Я сказал, что Хусбю должен получить сто двадцать пять тысяч в течение нескольких дней, а Бэр напомнил, что наша доля — по двадцать пять тысяч каждому. Теперь мы говорили как заботливые партнеры.
— Надо только разумно довести дело до конца, — сказал Бэр. — Я имею в виду, в подтверждение добросовестной сделки у нас есть колчан.
— Да, — сказал я. — Точно.
Если бы вы послушали записи, которые я делал во время операции по взятию торговца в Санта-Фе, то отметили бы, что я часто насвистывал: когда шел в галерею и выходил оттуда.
Я свистел, чтобы избавиться от стресса.
Работа под прикрытием выматывает человека физически и психически. Очень тяжело постоянно быть сконцентрированным, переключаться между разными людьми и параллельными делами, особенно если возникают простои, приходится ждать сделок. Я насвистываю, когда стоит набрать темп, и насвистываю, когда надо притормозить.
Это не значит, что мне не в удовольствие моя работа. Она мне очень даже нравится. Особенно интересно перехитрить преступника, дать ему веревку, чтобы он сам повязал себе петлю.
Это довольно странно, но иногда я входил в роль настолько, что мне не хотелось, чтобы все закончилось. Закрывая дело, я всегда чувствовал себя немного опустошенным.
Эта досада знакома почти каждому тайному агенту. Чувствовать потерю нормально. Ты тяжело трудишься, пытаешься втереться в доверие, неделями и месяцами непрерывно думаешь о расследовании, и совершенно естественно ощутить нехватку адреналина, даже впасть в легкую депрессию. Ты много вкладываешь — надо включиться, отключиться, позвонить цели, позвонить жене, — а потом дело вдруг заканчивается.
Иногда мне чуть стыдно за предательство. Когда я хорошо выполнял свою работу — завоевывал доверие, начинал дружить с целью, — у меня в животе что-то ныло. Я думаю, так и должно быть, но все равно в этом есть что-то нелогичное. Агентов ФБР учат соответствовать девизу «Верность, смелость, честность». Работая под прикрытием, ты нарушаешь каждое слово этого принципа. Ты предаешь, действуешь трусливо, лжешь.
Тайным агентам рекомендуют разделять разные сферы жизни и стараться не слишком сближаться с целями. Теоретически это хороший совет, но невозможно хорошо выполнить задачу, если подавлять эмоции или следовать какому-то своду правил. Приходится прислушиваться к инстинктам и быть живым человеком. Это тяжело, и иногда тебя что-то гложет. Настоящие преступники меня не беспокоили, но бывает, что хороший в общем-то человек попадает в отчаянную ситуацию и начинает делать глупости. Иногда это кажется почти несправедливым.
Бэр любил разговаривать о карме и мистике. Мне кажется, в мире краденого искусства и антиквариата действительно что-то такое есть. Человек из Миссури, который продал мне боевое знамя времен Гражданской войны, умер от рака менее чем через год после того, как мы его арестовали. Золотая пластина как будто преследовала всех, кто к ней притронулся. Грабитель могил, обнаруживший гробницу моче, был убит полицией. Первый покупатель пластины — богатый перуанец — умер при загадочных обстоятельствах. Второй обанкротился. Сын Мендеса, контрабандиста из Майами, родился недоношенным и не прожил двух месяцев. Мендес клялся, что держал умирающего младенца на руках и видел в сморщенном личике что-то похожее на бога-декапитатора, выгравированного на пластине.
Я думал обо всем этом, когда мы отправлялись в путь, чтобы выполнить последний, срежиссированный маневр и захлопнуть ловушку с Бэром. Его карма вот-вот должна была сделать поворот к худшему.
Девятнадцатого января 2000 года — в день ареста Бэра — я должен был просто дружески поболтать с ним перед облавой в доме и галерее.
Мы хотели поддерживать тесный контакт в часы перед задержанием, чтобы он не совершил ничего неожиданного. Кроме того, я хотел скрепить дело. Мы встретились у него в магазине примерно в полдень и обсудили последние приготовления к покупке венца из перьев, «матери-кукурузы» и еще нескольких предметов. Он напомнил, что каждый из нас заработает на двухсоттысячной сделке примерно тридцать две тысячи долларов. Я пообещал с ним поужинать.
В команде федеральных агентов, которая его брала, меня не было.
Бэра обвинили в нелегальной продаже и попытке продажи семнадцати предметов, в том числе кисти певца-целителя навахо, повязки для волос из Хемес-Пуэбло, пары деревянных птиц хопи, чейеннского головного убора и редкой, почти священной «матери-кукурузы» Санто-Доминго — фигурки, представляющей собой кукурузный початок с шестнадцатью перьями белоголового орлана, обернутый хлопком, кожей бизона и перевязанный шнуром. Согласно обвинительному акту, общая стоимость нелегальных товаров составляла триста восемьдесят пять тысяч триста долларов.
Я думал, что мое знакомство с Бэром на этом закончено. Но через два дня после ареста он прислал мне электронное письмо. В теме значилось: Here’s to the Good Times — «На добрые времена». Слова из песни. Я не знал, что это могло бы значить, и открыл сообщение.
Дорогой Боб! Даже не знаю, что сказать. Хорошо сработано? Прекрасная операция? Получилось меня одурачить?
Мы разорены, и, думаю, в этом был весь смысл. Но, пусть это и так, мы все равно рады, что проводили с вами время. Спасибо, что вели себя как джентльмен, дали нам счастливо отметить Рождество и Новый год. Если бы эту работу не сделали вы, прислали бы кого-то еще. Не думаю, что мы сочли бы его таким же приятным, как вас. Так что никаких обид. Теперь нам просто предстоит ответить на много вопросов.
Это письмо — не шутка, не мошенничество и не просьба. Я имею в виду только то, что написал.
С наилучшими пожеланиями,
Джошуа Бэр
Это было стильное письмо думающего человека, и я почувствовал укол вины. Но даже такое благородное послание не могло изменить фактов: он сознательно и неоднократно нарушал закон и злоупотреблял доверием индейцев, которых он, по его словам, так любил. Я некоторое время думал об этом и на следующий день послал ему ответ.
«Для меня это было самое трудное расследование. Мне искренне нравитесь вы и ваша семья. Можете звонить мне в любое время».
Я писал от всего сердца.
Глава 12. Аферист
Брин-Мар, Пенсильвания, 2000 год
Главное правило тайных операций — как можно меньше ври. Но почти столь же важное правило — старайся не работать в своем городе.
Для меня «свой город» не ограничивался Филадельфией и охватывал круги, связанные с искусством и древностями, по всему Северо-Восточному побережью. Я там много лет учился, преподавал, формировал сеть источников. За одиннадцать лет создалась немного парадоксальная ситуация: чем больше у меня было знакомых в мире искусства, тем больше людей меня знали в лицо и тем опаснее становилось работать под прикрытием.
Как и следовало ожидать, в 2000 году я начал расследование по делу трех видных оценщиков из Пенсильвании. Они специализировались на оружии и военных реликвиях XVIII и XIX веков и посещали те же мероприятия, посвященные Гражданской войне, что и я. Все трое знали меня лично. Старший был уважаемым человеком, бывшим директором музея Гражданской войны в Филадельфии, и мы несколько раз беседовали. Двум молодым подозреваемым я был знаком по делу об Историческом обществе Пенсильвании: после арестов они помогали ФБР провести официальную оценку предметов, которые хранитель похитил для Джорджа Чизмазии.
Это расследование было также особенно деликатным, потому что сенсационные обвинения предъявили знаменитостям, а это заставляло руководство ФБР нервничать. Два молодых оценщика были звездами рейтинговой программы Antiques Roadshow на телеканале PBS.
Это реалити-шоу основано на честных быстрых оценках предметов, которые приносят в студию зрители: фамильная сабля времен Гражданской войны, купленная на блошином рынке восточная ваза, старый чайный сервиз, который собирал пыль на бабушкином чердаке. Ходили слухи, будто здесь что-то нечисто и молодые оценщики устраивают постановки, чтобы рекламировать свой бизнес.
В этом расследовании я не мог действовать тайно, приходилось продираться через десятки тысяч страниц банковских, деловых и судебных документов, поэтому дело Antiques Roadshow стало одним из самых долгих в моей карьере. Скандал запятнал репутацию передачи, которую любили миллионы зрителей, опозорил вышедшего на пенсию директора музея, а обманутые жертвы — потомки настоящих героев войны — были вне себя от жестокости преступников.
Главный злодей был классическим аферистом. Рассел Альберт Притчард — третий. Загорелое лицо, голубой БМВ, прическа в стиле Джорджа Уилла, галстуки компании Brooks Brothers. Он представлял себя всему миру как человека, который добился успеха.
Оценщику было тридцать пять лет. Он жил с миловидной женой и четырьмя детьми в каменном доме на пять спален в самом центре Мейн-Лайна — изысканного пригородного района Филадельфии, в половине квартала от зеленого кампуса колледжа Брин-Мар. Семейный дом стоимостью минимум миллион долларов Притчард выкупил десять лет назад у отца за символический доллар. Он учился на продавца страховок, но вскоре присоединился к семейному бизнесу, связанному с торговлей военными реликвиями XVIII и XIX веков. Отец, Рассел Притчард — младший, был уважаемым человеком, признанным авторитетом в своей области. До выхода на пенсию он работал директором музея Гражданской войны в Филадельфии и написал несколько книг об оружии, снаряжении и тактике этого периода. Отцу и сыну принадлежало две трети брокерской фирмы по продаже военного антиквариата и памятных вещей. Ей они дали напыщенное и немного сбивающее с толку название — «Ассоциация по сохранению американского военного наследия», будто намекая, что это некая благотворительная или некоммерческая организация. Третьим партнером был общительный тридцатисемилетний оценщик из Аллентауна по имени Джордж Джуно.
Притчард — третий и Джуно совершили большой прорыв в 1996 году, когда выиграли конкурс на роль телевизионных оценщиков в Antiques Roadshow. Первые три сезона они ездили по стране и перед камерой быстро оценивали пистолеты, сабли, униформу и другие военные предметы. За работу им не платили, но для сравнительно молодых специалистов такая реклама — каждую неделю появляться в десятках миллионов домов — просто бесценна. Их брокерская компания расцвела.
Мое расследование началось несколько лет спустя. В 2000 году мы получили по почте запрошенную судом видеокассету из WGBH, бостонского филиала PBS, который выпускает Antiques Roadshow. Я нашел видеомагнитофон и включил запись.
Это была необработанная съемка одной из передач первого сезона. Я увидел хорошо знакомую сцену. За столом, как у диктора, сидели двое мужчин. Между ними лежала серебряная сабля, а на заднем плане десятки простых коллекционеров покупали антиквариат, стараясь найти что-то выгодное. Видео начиналось с проверки звука. Человек в костюме-тройке с ухоженными коричневыми усами и волосами, приглаженными лаком, посмотрел в камеру и произнес: «Джордж Джуно, Ассоциация по сохранению американского военного наследия». Джуно кивнул своему гостю, зажатому, плохо подстриженному мужчине лет сорока в мятой голубой оксфордской рубашке и золотых очках в широкой оправе. «Стив Садтлер», — представился тот.
Серия начиналась с обычной для Antiques Roadshow сдержанной, немного неестественной беседы.
— Стив, спасибо, что пришли сегодня на наше шоу.
— Благодарю за приглашение.
— Я вижу, вы принесли интересную саблю. Может быть, расскажете ее историю?
— Ну, я ее нашел двадцать три года назад. Родственники купили дом в Виргинии и решили его перестроить. Мы с братьями никак не могли демонтировать трубу. Приходилось лазить на чердак, и там я ее нашел. — Он сделал паузу и показал на саблю. — Я очень обрадовался этой игрушке. Последние десять или пятнадцать лет она была спрятана.
— Стив, должен сказать, что сабля весьма хороша.
Джуно начал описывать предмет, а внизу экрана появилось его имя и название компании.
— Посмотрите на тыльную сторону клинка. Видите клеймо изготовителя? Тут написано: «Томас Грисуолд, Новый Орлеан». Они занимались импортом из Англии. В середине клинка с обеих сторон выгравированы буквы CS: Конфедеративные Штаты. Гравировка на гарде похожа на замок, но на самом деле это форт, форт Самнер. У нее солидные латунные ножны. Такие использовали для артиллерийских и кавалерийских сабель. Очень яркий образец: весь эфес позолочен и узор, безусловно, высочайшего качества.
Джуно вручил Стиву пару белых перчаток и пояснил:
— Всегда лучше пользоваться белыми перчатками. На руках есть соли, которые будут разъедать клинок и портить латунь, даже если вы ее уже не держите.
Он перевернул острие.
— Вы заметили скрещенные пушки и изящно выгравированные цветы с этой стороны?
Эксперт закончил короткий урок, положил саблю на стол и сделал паузу перед кульминационным моментом передачи. Сейчас он начнет поддразнивать: «Как вы думаете, сколько она может стоить?»
— Я собирался выставить ее на гаражную распродажу и получить долларов пятьдесят. Двести максимум, — сказал Садтлер.
— Да? — сказал Джуно. — За эту саблю вы купите себе новый гараж.
Камера показала лицо Садтлера. Его брови нахмурились в предвкушении.
— Да, вы не ослышались, — продолжил Джуно. — Сабля стоит тридцать пять тысяч долларов. Это невероятно редкая сабля Конфедерации.
— Вы сказали, тридцать пять тысяч? — Садтлер сглотнул слюну.
— Тридцать пять. Отличная находка!
— Не может быть! — Садтлер открыл рот и, казалось, с трудом сдерживал радость, как будто напоминая себе, что это серьезная передача на PBS, а не игровое шоу вроде The Price Is Right. Он несколько раз покачал головой.
— А я еще хотел от нее избавиться.
— Вы правильно сделали, что ее нам показали.
— Когда-то я ею резал арбузы…
Джуно с сожалением посмотрел на гостя и усмехнулся.
— Хорошо, что вы ее не слишком намочили.
— Буду знать. Спасибо вам большое!
Серия была очень хороша — настоящая классика Antiques Roadshow. Ее неоднократно крутили по PBS и даже использовали в кампании по сбору средств. Некоторые зрители считали, что она чересчур гладкая, и в кругах коллекционеров ходили слухи об этой «арбузной сабле».
Стива Садтлера я выследил по номеру телефона, который он указал перед передачей в стандартной анкете. Он нашелся в Сиэтле.
Я сказал ему, что занимаюсь Притчардом и Джуно по подозрению в мошенничестве, и предупредил:
— Смотрите. Если вы расскажете правду, проблем у вас не будет. Только не надо врать. Обманывать сотрудника ФБР — федеральное преступление.
Садтлер признался сразу. Серия действительно оказалась постановочной. Он был хорошо знаком с Притчардом и даже был шафером на его свадьбе. Вечером перед записью передачи он встретился с ведущими в гостиничном номере. Там же Притчард сочинил историю о том, что сабля найдена в доме Садтлера в Виргинии, и заплатил за помощь десять тысяч долларов.
А на самом деле?
На самом деле сабля принадлежала Притчарду и Джуно.
— Это то, что нам нужно! Я тебе говорю, это оно! — воскликнул помощник прокурора США Боб Гольдман, когда я закончил рассказывать ему о беседе с Садтлером.
Я кивнул и, пока Гольдман говорил, положил себе ложку курицы гунбао. Был летний день, и мы обедали в глубине зала ресторана Szechuan China Royal. Сюда любят заглядывать сотрудники филадельфийских правоохранительных органов: проверенные блюда по разумным ценам, большое расстояние между столиками, неприметный обеденный зал на цокольном этаже. Белые воротнички, которые заполняют Уолнат-стрит в обеденные часы, обычно игнорируют это заведение.
— Благодаря этому расследованию мы сделаем большое дело, — восклицал мой собеседник. — Замечательно!
Федеральный прокурор Гольдман — любитель истории и коллекционер — был большим поклонником Antiques Roadshow. Он смотрел эту передачу почти каждую неделю и, как и многие другие, давно подозревал, что некоторые серии постановочные. Все было слишком гладко. Люди приносят полученные в наследство или найденные стулья, сабли, часы, гардеробы, что угодно, и — вуаля — эксперт, как фокусник, дает оценку. Как эти так называемые специалисты могут так быстро оценить вещь? Разве не надо иногда что-то проверить? Разве человек не может ошибиться или просто зайти в тупик?
— Боб, — говорил я ему, — расслабься. Это ведь просто развлекательная передача.
— Так-то оно так, — возражал прокурор, — но они же выдают себя за специалистов. Телевидение способно обожествлять людей. Зрители верят тому, что говорят эти ребята.
Постановочная серия на телешоу — не федеральное преступление. Однако разыграть спектакль по телевизору, чтобы провернуть аферу и обмануть коллекционеров, — другое дело. Теперь у меня появились улики, что Притчард и Джуно с помощью некоторых серий PBS дурачили зрителей и заставляли их продавать другие предметы по абсурдно низким ценам, и я начал разделять гнев Гольдмана.
Нам было известно, что Притчард и Джуно помогают мэру Гаррисберга — столицы Пенсильвании — собрать коллекцию для нового музея Гражданской войны, который будет располагаться недалеко от Геттисберга. Мэр хотел потратить на приобретения четырнадцать миллионов. Этих денег, как любил говорить мой друг-прокурор, достаточно, чтобы «ослепить совесть и украсть душу». Мы уже подтвердили минимум один эпизод, когда Притчард и Джуно с помощью телепередачи и сотрудничества с музеем в Гаррисберге обманули коллекционера. А значит, скорее всего, было и много других.
Гольдман прав: это может оказаться то дело, которого мы так ждали.
Мы с ним часто жаловались на то, что рынок древностей и коллекционных предметов плохо регулируется и не защищает покупателей. Он во многом основан на личной порядочности: все что-то продают, провенанс поверхностный, а дилеры зарабатывают на жизнь своей репутацией. Тебе могут всучить подделку или репродукцию, а беспринципные дельцы оберут наивных. Честные брокеры периодически жалуются на ситуацию, но правоохранительные органы редко проявляют к ней интерес. Для ФБР мошенничества обычно слишком мелкие, а для местных отделов полиции — слишком сложные, ведь у них почти или совсем нет опыта в сфере искусства, а ресурсы ограничены. Большинство продаж плохо документируется, заключение сделки часто ограничивается рукопожатием и устным обещанием. К тому же нелегко доказать сам факт мошенничества. Как определить справедливую цену? Где проходит грань между никудышной покупкой и аферой?
Разумеется, в этой сфере всегда есть место умению продать и преподнести товар. Закон даже допускает некоторую чрезмерную рекламу. Скажем, если в магазине антиквариата вам скажут: «Это наша лучшая китайская ваза!» — это допустимо. Но если продавец заявит: «Это наша лучшая подлинная ваза династии Мин», зная, что это не подлинник, — это мошенничество. Торговцы понимают эту разницу и пользуются ей. В последнее время число нечистоплотных дельцов явно начало расти, но в федеральном правительстве это, видимо, никому не было интересно.
Нам с Гольдманом очень хотелось послать людям, занимающимся антиквариатом и коллекционными предметами, сигнал, устроить бурю, которая напугает теневых брокеров и предупредит ничего не подозревающих коллекционеров. Для этого нам нужно было высококлассное дело с неопровержимыми доказательствами, масштабным мошенничеством от белых воротничков или оценщиков. Что-то вроде Кеннета Лэя или Бернарда Мейдоффа[16] в мире антиквариата.
Притчард и Джуно давали нам такую возможность: это ни много ни мало звезды общественного телевидения, местные оценщики, известные всей стране. Если получится доказать, что они нечисты на руку — делали подставные серии, а потом обирали обратившихся к ним зрителей, — мы не просто отправим их в тюрьму, но и предупредим коллекционеров.
— Я понимаю, что это клише, — сказал Гольдман, когда официант принес нам печенья с предсказаниями и чек. — Но надо показать людям, что в городе появился новый шериф и за порядком кто-то следит.
Мнение Гольдмана и его поддержка привели меня в восторг, но я не удержался и подшутил над другом.
— Хорошо, хорошо. Я в деле. Только давай договоримся так. Раз в городе новый шериф, то Уайеттом Эрпом[17] буду я, а его помощником Дугом — ты.
Большинство агентов ФБР обожает рыться в горах документов, прочесывать банковские справки, выписки с кредитных карт, счета за телефон, письма, электронную почту, архивы системы E-ZPass, судебные показания и другие бумаги, которые удается собрать в результате «рыбалки» — поиска горячих улик.
Я не из их числа.
Конечно, я заверял в суде документы и использовал их потом в качестве улик, но прежде всего я умел выходить из офиса и разговаривать с людьми.
К счастью, в деле Притчарда и Джуно у меня и моего партнера, агента ФБР Джея Хейна, с самого начала имелось преимущество. Помощь пришла благодаря праправнуку генерала Конфедерации Джорджа Пикетта: его адвокат уже собрал целую гору документов — улик против оценщиков.
За много месяцев до того, как мы официально начали наше расследование, юрист, которого Джордж Пикетт — пятый нанял для защиты своих интересов, подал в федеральный суд в Филадельфии иск против Притчарда и Джуно по обвинению в мошенничестве. Он утверждал, что те обманным путем заставили клиента продать важные реликвии времен Гражданской войны, которые его предок имел при себе во время кровавой атаки при Геттисберге 3 июля 1863 года. Считается, что битва стала переломной и губительной для армии Конфедерации: дальше на север она не продвинулась. Среди проданных предметов были синее кепи и сабля Пикетта, побывавшие в том сражении, а также план Геттисберга, который тот набросал в часы перед атакой. Еще семья Пикетта продала другие имевшиеся у нее военные реликвии: офицерский патент генерала, рукав камзола с пятнами крови, которым он перевязал руку после пулевого ранения, а также пачку писем. Притчард оценил все это в восемьдесят семь тысяч долларов и сказал наследникам, что коллекции самое место в новом музее в Гаррисберге: это прекрасный способ почтить наследие предка. Пикетты согласились продать все по названной цене.
Через некоторое время до Джорджа Пикетта — пятого дошла информация, что Притчард продал коллекцию гаррисбергскому музею почти в десять раз дороже — за восемьсот пятьдесят тысяч долларов. Он был потрясен и с возмущением подал на оценщика в суд. Во время гражданского процесса вскрылись другие улики, и Пикетт выиграл, получив восемьсот тысяч компенсации.
Мы с Хейном отобрали из материалов к иску Пикетта все лучшее, но это было только начало. Мы стали проверять другие следы, заверили в суде найденные доказательства и побеседовали со свидетелями — не только по этому делу, но и по десяткам других подозрительных эпизодов. В случае каждой сделки мы старались ответить на простые вопросы. Какие предметы попали к Притчарду и Джуно? Уплатили ли они за них справедливую цену? Что они обещали жертвам? Где в итоге оказались предметы?
От того, что мы обнаружили, мне стало дурно.
Как и многие другие поклонники Antiques Roadshow, Джордж Уилсон из Нью-Йорка с большим интересом смотрел, как Джуно и Притчард оценивают оружие.
Его семья владела парадной шпагой времен Гражданской войны — памятью о прапрапрадеде, майоре армии Союза Сэмюэле Уилсоне. Джорджа Уилсона интересовало, имеет ли предмет историческую ценность. Стоит ли его продавать?
Он вышел на сайт Antiques Roadshow, нашел там контактные данные Притчарда и Джуно и позвонил им. То, что произошло дальше, — об этом мне рассказал Уилсон во время нашей беседы — позволяет поглубже заглянуть в эту игру на доверии.
После обмена дежурными фразами Притчард поинтересовался, оценивал ли кто-нибудь шпагу.
— Нет, — ответил Уилсон.
— Хорошо. Мне надо посмотреть ее лично, и я дам вам ответ, — предложил Притчард. — Я сделаю это бесплатно, точно так же, как на Antiques Roadshow. Пришлете мне шпагу курьером FedEx. Я даже отправлю вам упаковку. Мы всегда так делаем.
— Вы всегда оцениваете бесплатно? Это же для вас невыгодно.
— Нам платят за оценку музеи и коллекционеры, если мы что-то им продаем. Вы хотели бы продать шпагу?
— Нет, — сказал Уилсон, — но, если что, будем на связи.
После этого Уилсон позвонил матери и рассказал о полученном предложении. Они решили согласиться. Что им было терять? Когда Притчард получил посылку со шпагой, он позвонил Уилсону.
— Шпага в довольно хорошем состоянии, — заявил он, — но ей нужна профессиональная реставрация. На стальном клинке есть небольшие следы окисления.
— Хорошо, — сказал Уилсон. — А сколько она стоит?
— Вообще эта шпага не такая редкая. Скорее всего, семь-восемь тысяч долларов.
— Хм… А сколько будет стоить реставрация?
— Тысячи полторы, может, больше. Но есть еще один вариант. Я сотрудничаю с городом Гаррисбергом. Там скоро откроют новый музей Гражданской войны. Эта шпага будет приятным дополнением коллекции. Если вы продадите ее музею, сотрудники сами ее восстановят и поместят в экспозиции рядом с фотографией майора Уилсона и картой, где показаны битвы, в которых он участвовал.
Уилсон перезвонил на следующий день, и они договорились: музей выкупает шпагу и включает ее в свою коллекцию. Месяц спустя он получил чек на семь тысяч девятьсот пятьдесят долларов, но не со счета музея или города Гаррисберга, а от компании Притчарда и Джуно. Смущенный Уилсон позвонил Притчарду.
— Не волнуйтесь, — заверил брокер. — Мы просто посредники. Музей вскоре с вами свяжется.
Уилсон хотел обналичить чек, но на счету не оказалось средств.
— Прошу прощения, — извинился Притчард. — Наверное, какая-то ошибка бухгалтерии. Я вам пришлю другой. Кстати говоря, в музее осмотрели шпагу, и оказалось, что ее состояние хуже, чем я думал. Вам повезло, что клинок не сломался. Прежде чем поместить ее в экспозицию, придется провести большой ремонт. Но знаете что? У меня для вас хорошие новости! Я через несколько недель буду ездить с Antiques Roadshow по району Медоулендс. Приходите обязательно!
Второй чек оказался в порядке, и Уилсон пришел на съемки, чтобы узнать, как продвигается реставрация.
— Скоро все будет, — пообещал Притчард, — не спешите.
Следующие два года Уилсон примерно раз в месяц звонил с одним и тем же вопросом и каждый раз слышал тот же ответ.
Когда Уилсон узнал об иске Пикетта, он в гневе связался с Джуно и Притчардом и прямо потребовал объяснить, почему шпага до сих пор не в музее, как было обещано. На этот раз ответ был другой: «У музея кончились деньги, поэтому мы продали шпагу коллекционеру, который подумывает о создании музея в Поконосе».
Уилсона чуть не хватил удар. Он потребовал предоставить письменные доказательства и сам пошел на уловку, заявив, что этот документ ему нужен для налоговых органов.
— Я вас понимаю, — сказал ему Притчард, — но войдите в наше положение. У нас сейчас дел по горло, а это просто шпага. Я хороший парень, поверьте. Спросите других. Вся эта шумиха вокруг иска Пикетта — одно большое недоразумение. В конце концов, продюсеры Antiques Roadshow за нас держатся, а это о чем-то говорит. Очень жалко, что у нас не было времени подружиться.
— Просто пришлите мне документы, — сказал на это Уилсон.
Как я потом узнал, Притчард вообще не предлагал шпагу музею в Гаррисберге. Он дал ее Джуно, а тот использовал ее как обеспечение кредита в двадцать тысяч долларов.
Таких афер было много. Притчард подобрался к потомкам Джорджа Мида и предложил оценить наградной пистолет, который этот генерал Союза получил после битвы при Геттисберге. Это было поразительное оружие: ремингтон сорок четвертого калибра с гравированной рукоятью из слоновой кости, инкрустированной серебром рамкой, позолоченными барабаном и курком, в футляре из красного дерева. Притчард заявил семье, что пистолет стоит сто восемьдесят тысяч долларов, и пообещал отдать его в гаррисбергский музей. Через три месяца после заключения сделки Притчард перепродал оружие частному коллекционеру вдвое дороже.
Однажды, когда Притчард еще работал с отцом, одна семья из Теннесси прислала им старый мундир армии Конфедерации, принадлежавший их предку, подполковнику Уильяму Ханту. Притчарды солгали, что это ничего не стоящая подделка и они передали ее в дар одному местному благотворительному фонду. На самом деле мундир был продан коллекционеру за сорок пять тысяч долларов.
Рынок мундиров Гражданской войны настолько мутный, что однажды обжегся и сам Притчард. Он купил редкий жакет зуавов Союза, который носил солдат Нью-Йоркского полка. Элегантный предмет с изысканными шевронами и объемными подплечниками — дизайн был основан на классической парадной форме Французского легиона — должен был стоить двадцать пять тысяч долларов. Но оказалось, что это подделка: перешитый бельгийский пехотный жакет ценой всего несколько сотен. И тогда разъяренный Притчард придумал собственную аферу. Воспользовавшись связями в гаррисбергском музее, он проник внутрь, забрал оттуда подлинный жакет зуава, а на его место повесил свою дешевую подделку.
Этот человек не знал жалости. Однажды без предупреждения явился в доме престарелых к девяностолетней женщине, которая, по слухам, владела настоящими сокровищами Конфедерации. Когда он понял, что она слишком немощна и не может говорить, он сунул медсестре сто долларов, чтобы заглянуть в историю болезни и получить телефонный номер ближайшего родственника.
Оценить материальный ущерб от бессовестных поступков Притчарда сложно. Но страдания, которые он причинил семье Паттерсонов из Солсбери в Мэриленде, просто не поддаются описанию.
Дональд Паттерсон, небогатый бизнесмен и активный реконструктор, всю жизнь собирал реликвии Гражданской войны. В этом участвовала вся его семья: жена Элен, приемный сын Роберт и две дочери, Робинн и Лорена. Коллекция располагалась в спальне и была очень обширной: сабли, винтовки, пистолеты, униформа и безделушки, а также редкий плащ Конфедерации ценой минимум пятьдесят, а то и сто тысяч долларов. Все близкие помогали поддерживать ее и с любовью называли Музеем.
В беседах с ФБР и в письмах властям семья рассказывала, как важен для них был Дон Паттерсон и его Музей. «С самого раннего детства, с момента, когда я научилась ходить, мы с папой искали в антикварных магазинах реликвии Гражданской войны», — писала Робинн. «Музей был прямо напротив моей комнаты, где я жил с четвертого класса, — вспоминал Роберт. — Он был там всегда, был частью нас самих. Мы не ездили на рыбалку, не играли в мяч, не ходили в походы, но собирали уникальные исторические реликвии. Откровенно говоря, в этой коллекции — все мое детство. Мои мечты, устремления, ценности во многом сформировались благодаря тому, что я помогал ее собирать». Роберт стал военным и достиг звания подполковника армии США.
Тихая жизнь семейства Паттерсонов рухнула в конце 1995 года, когда Дональд совершил самоубийство и убил свою тайную любовницу. «Как вы, конечно, понимаете, мы все были подавлены горем», — вспоминала его вдова.
Подобно стервятнику, Притчард приехал в Солсбери буквально через несколько месяцев после трагедии. Этот обаятельный человек очаровал женщину, помогал ей забирать из школы дочерей-инвалидов, ел за семейным столом на их кухне и уверял их, что реликвиям Музея самое место в настоящем музее Гражданской войны. Он рассказал, что рядом с Геттисбергом скоро откроется как раз такое место, и показал письма и брошюры города. В одном из них было обещание создать отдельный зал с «коллекцией памяти Дональда Паттерсона». В 1996 году, через год после смерти владельца, семья согласилась с планом Притчарда. Он дал им пять тысяч долларов, упаковал лучшие экспонаты, мило попрощался и уехал на север. Вскоре после этого вдова заметила, что он стал совсем не так охотно отвечать на ее звонки. Предательство было близко.
Когда я беседовал с миссис Паттерсон в 1999 году — через три года после аферы, — она просто хотела знать правду. Я всегда считал, что плохие новости лучше говорить прямо. И сообщил ей, что, согласно записям Притчарда, коллекция ее мужа попала не в музей. Он продал ее за шестьдесят пять тысяч долларов двум частным дилерам, специализировавшимся на Гражданской войне. Ее больше нет.
«Вся моя сущность была осквернена. Меня психически изнасиловали», — вспоминала вдова.
Притчарда надо было остановить. Он не просто обманом обирал людей. Он воровал их наследие.
В марте 2001 года на основе собранных нами доказательств большое жюри присяжных вынесло Притчарду и Джуно приговор по различным федеральным обвинениям, связанным в том числе с обманом семей Уилсона и Пикетта. Обоим грозило по десять лет тюрьмы.
Но это было еще не все. Мы представили первый обвинительный акт в марте, поскольку по этим делам истекал пятилетний срок давности, но у нас оставалось время для новых обвинений: по жакету зуава, наградному пистолету Мида и семейной коллекции Паттерсонов. Кроме того, мы раздумывали, предъявлять ли обвинения отцу Притчарда за его роль в афере с мундиром подполковника Ханта. Его мы пока не допрашивали.
Я боялся этой встречи. Старшего Притчарда я знал больше десяти лет и давно уважал его как одного из ведущих специалистов в музейном мире. Я с десяток раз был у него в филадельфийском музее Гражданской войны по работе и чтобы больше узнать о коллекционировании. Его трехтомный трактат об оружии и униформе Гражданской войны был моей настольной книгой.
К счастью, мне не довелось встретиться с ним лично. Старший Притчард в то время жил в Мемфисе. Я ему позвонил и прямо сказал, что, хотя мы знакомы, это официальная беседа для ФБР. А также сообщил, что мы собираемся предъявить его сыну обвинение в мошенничестве с униформой Ханта, и предложил два варианта: сотрудничать или быть обвиненным в тяжком преступлении.
— Послушайте, Расс, просто скажите мне правду, и все закончится, — убеждал я его. — Вас не будут обвинять.
Если бы он пошел навстречу, Гольдман воспользовался бы правом представителя судебной власти и исключил его из следующего дела. Иначе мы планировали предъявить обвинение.
— Мне жаль, Боб, — ответил старший Притчард, — но я не могу вам помочь.
Он не мог признаться мне, что вместе с сыном обманул и ограбил семью Хантов. Сомневаюсь, что дело было в желании защитить сына: он понимал, что уже слишком поздно. Мне кажется, молчал он потому, что признание разрушило бы его репутацию.
Я дал ему еще один шанс.
— Скажите мне, что случилось, Расс.
— Боб, я не могу.
— Это вас погубит.
— Я знаю, но я просто не могу ничего сказать.
Джуно же играл с умом. Он знал, что у нас против него есть солидная папка, и понимал, что признание вины и сотрудничество со следствием может срезать годы тюремного срока.
Через два дня после разговора со старшим Притчардом мы предъявили новое обвинение — ему и сыну.
Не прошло и месяца, как последний появился в нашем отделе ФБР в сопровождении защитника. Он хотел встретиться со мной, Гольдманом и Хейном, чтобы сделать частное признание не для записи — прелюдию к сделке со следствием.
Два часа Притчард рассказывал нам обо всем и даже бросил тень на своего отца. Такие встречи и признания невероятно тяжелы для подследственных. Приходится смотреть в глаза обвинителям, прокурору и агентам, которые не один год охотились за тобой, огласили твое имя в прессе, донимали твою семью, оттолкнули друзей, — и признавать, что ты действительно виновен. Ты все это сделал. Досудебные признания редко проходят в приятной атмосфере. Бывают споры. Я видел, как люди уходили с таких встреч, будто постарев на пару лет. Притчард? Он не проявлял даже беспокойства.
Когда мы закончили, он подошел к Гольдману, чтобы пожать руку, и взял его за локоть левой рукой. Этот старый трюк любят политики: другому человеку сложно отпрянуть.
— Мистер Гольдман, — сказал он. — Благодарю вас, что довели до конца мое дело. Это пойдет мне на пользу. Я рад, что вы выдвинули против меня эти обвинения.
Гольдман поднял локоть, вырвал руку, твердо посмотрел на Притчарда и сказал:
— Не несите чушь.
В 2001 году, когда Притчарда и Джуно признали виновными, в Гаррисберге состоялось торжественное открытие Национального музея Гражданской войны площадью более шести тысяч квадратных метров и стоимостью пятьдесят миллионов долларов. В здании из красного кирпича были установлены самые современные витрины и диорамы и собраны подлинные реликвии, в том числе кепи, которое Пикетт носил при Геттисберге.
Ни Пикетты, ни большинство других семей не получили обратно своих сокровищ. Суды постановили, что, несмотря на факт мошенничества, потомки утратили юридические права на проданные Притчардом предметы. Мэр Гаррисберга утверждал, что город тоже пал жертвой аферы, поэтому приобретенные для музея экспонаты возвращать не нужно.
Отец Притчарда попал в суд по обвинению в афере с униформой, проиграл процесс и получил шесть месяцев в центре социальной реабилитации. Джуно тоже получил несколько месяцев в таком центре. Притчарду-сыну дали год и один день тюрьмы и приговорили к выплате восьмисот тридцати тысяч компенсации.
Несмотря на сравнительно небольшие сроки, мы с Гольдманом были очень довольны результатом. Расследование по делу Antiques Roadshow стало важным сигналом, и я невольно думал об отце и других торговцах антиквариатом на Говард-стрит в Балтиморе, которые честно трудятся и живут на небольшую наценку. Приговоры показали им, что они кому-то небезразличны, кто-то следит за этой нерегулируемой отраслью, а нечистоплотных дельцов ждет всеобщий позор и, возможно, тюремные сроки.
Реакция общественности оказалась даже более бурной, чем мы предполагали. В кругах коллекционеров расследование по Antiques Roadshow стало таким переломом, что один из важнейших отраслевых журналов перепечатал приговор Притчарду слово в слово. На волне общественного внимания я получил шквал наводок, которые привели к возвращению очень важных ценностей, в том числе боевого знамени полка армии конфедератов и бесценной сабли, подаренной воину Союза, герою битвы на Хэмптонском рейде, которая пропала в 1931 году после похищения из Военно-морской академии США. Мы с Гольдманом не остановились на достигнутом и предъявили еще одно обвинение, которое потрясло мир коллекционеров. На этот раз речь шла о двух известных торговцах со Среднего Запада, которые с помощью поддельных оценок заставили богатого бизнесмена сильно переплатить за четыре единицы старинного огнестрельного оружия, в том числе шестизарядный кольт сорок четвертого калибра — первый в мире револьвер под патрон магнум. Это был тот самый кольт, который прославленный техасский рейнджер Сэмюэл Уокер взял в свой последний бой с мексиканскими партизанами.
Но задолго до того, как скандальное дело Antiques Roadshow подошло к концу и Притчард оказался в тюрьме, я уже переключился на следующее расследование — мое первое в международном масштабе. Я надеялся, что через несколько месяцев буду выслеживать украденные произведения искусства в Южной Америке.
Глава 13. Большая удача
Рио-де-Жанейро, 2001 год
Мы с помощником Генерального прокурора США Дэвидом Холлом сидели в пляжной беседке на Ипанеме и потягивали молоко из кокоса.
Перед нами под яркими лучами солнца оживленно гудел самый модный пляж Бразилии. Босые дети поднимали фонтаны песка, играя в волейбол ногами. По тротуару сновали на роликах люди в шортах. Загорелые мачо в плавках приосанивались, заигрывая с девицами в стрингах. Латиноамериканская мелодия из магнитофона перекликалась с ритмом регги, доносившегося из динамиков в кафе. В противоположном конце залива Гуанабара над вершиной Сахарной Головы парило алое солнце.
Это был понедельник в начале декабря — разгар южноамериканского лета. Голубое небо, приятный ветерок, плюс двадцать четыре. В Филадельфии холодало, а мои коллеги из ФБР готовились к приезду бюрократов из штаб-квартиры с официальной проверкой.
Я повернул соломинку в кокосе и погрузил пальцы ног в мягкий податливый песок, чтобы усталость, накопленная во время десятичасового перелета в переполненном салоне, стекала туда. Я чувствовал себя отдохнувшим, атмосфера пляжа подарила новые силы. Мимо прокатила на велосипедах сильно загорелая и почти обнаженная парочка. Я покачал головой и поднял кокос, предложив тост за своего партнера.
Федеральный прокурор молчал, пряча свое лицо в тени бейсболки.
— Поверить не могу, что твое начальство решило, будто в этом нет никакого смысла, — сказал я.
Он криво улыбнулся, потом нахмурился:
— Ты же знаешь, наши шансы невелики.
Я кивнул. Холл прав. Козырей у нас почти не было.
Мы приехали в Рио, чтобы попытаться раскрыть висяк, не дававший покоя ФБР уже больше двадцати лет, — кражу картин Нормана Роквелла на сумму один миллион двести тысяч долларов из галереи в Миннеаполисе в 1978 году. Об этой истории знали немногие, но меня она зацепила. Как можно не поймать воров, похитивших работы культового американского художника?
Правительство США и ФБР регулярно помогали другим государствам возвращать украденные произведения искусства и артефакты, ввозимые контрабандой в нашу страну. Но если бы мы добились успеха в истории с работами Роквелла, это был бы редкий случай возвращения американских произведений из другой страны. Всего три месяца прошло после терактов 11 сентября, и мы особенно остро чувствовали, что обязаны вернуть предметы классической американской культуры. На самой ценной из украденных картин, «Духе 76-го года», был изображен многонациональный бойскаутский отряд из северного Нью-Джерси, марширующий с горном и барабаном под звездно-полосатым флагом, а на заднем фоне виднелись туманные очертания Манхэттена и башен-близнецов.
Нас интересовал один богатый бразильский арт-дилер, который утверждал, будто приобрел эти картины в Рио-де-Жанейро в девяностых и владел ими на законных основаниях, в полном соответствии с бразильским кодексом. Поговаривали, что у него имелись связи в политических кругах и недюжинная смекалка. Мы с Холлом два года прорабатывали дипломатические и юридические каналы, чтобы договориться о встрече с ним. И вот свидание назначено — на среду, через два дня.
Мы не знали толком, чего ожидать, в основном потому, что США и Бразилия недавно ратифицировали договор о взаимной правовой помощи и наше дело стало первым совместным уголовным расследованием двух стран. Многое было неясно. Например, мы до сих пор не знали, будет ли нам позволено напрямую задавать вопросы бразильскому арт-дилеру и если да, то обязан ли он отвечать. Во многих странах американские прокуроры и агенты ФБР должны излагать вопросы письменно или передавать их на утверждение местным судебным органам. Кроме того, я слышал, что свидетели в некоторых странах нередко ссылаются на местный эквивалент Пятой поправки[18] и отказываются сотрудничать с американцами. Если так будет и здесь, наше дело труба. А когда мы вернемся в Филадельфию — загорелые, но с пустыми руками, — нас ждет только презрение коллег.
Я не знал, чем закончится неделя, но потом успокоился и принял вызов. Это будет увлекательная выездная игра по неизвестным правилам. От неопределенности захватывало дух.
Холл был не только опытным юристом и интересным попутчиком, но и моим другом. В Филадельфии всего два прокурора занимались делами о преступлениях в сфере искусства: он и Гольдман. Мы встречались втроем не реже раза в неделю, вырабатывали стратегию. Гольдман был занят судебным процессом по делу о наркотиках, и за дело Роквелла взялся Холл — лысый выпускник Йеля с тонким интеллектом, командир корабля ВМС США в запасе с черным поясом по карате. Его характер, военная выучка и юридическое образование требовали четких правил взаимодействия и стратегии. Он любил браться за дело, вооружившись хорошим планом.
Я повернулся к нему. Он возился со своим кокосом.
— Не волнуйся, — сказал я. — Будет интересно.
Я снова окинул взглядом пляж. Уверенность во мне только крепла.
— Нам надо относиться к этому делу как к внутриамериканскому. Но теперь мы не будем работать под прикрытием, а выясним, чего хочет этот парень, и посмотрим, сможем ли дать ему это. Будем действовать исходя из того, что он нам скажет. Сделаем все, что в наших силах. Будет здорово.
* * *
Картины Роквелла были украдены 16 февраля 1978 года, всего через несколько часов после того, как отгремело торжество в их честь — в честь новых главных достопримечательностей художественной галереи Миннеаполиса.
На вечеринку в галерее «Элейн» в богатом пригороде Городов-близнецов[19] собралось много гостей, несмотря на холодную погоду и двадцатисантиметровый слой замерзшего снега, укрывший землю. Владельцы галереи, Элейн и Рассел Линдберги и их дочь Бонни, бродили в толпе из сотни с лишним гостей, потягивая шампанское и жуя пирожные. На стенах висели десятки картин, выставленных на продажу, но звездами среди них были морской пейзаж Ренуара и семь оригиналов Нормана Роквелла. Линдберги владели двумя из этих Роквеллов — парой перекликавшихся друг с другом сюжетов: «Перед свиданием / Парень» и «Перед свиданием / Девушка». Это одни из последних работ художника, украсившие обложку Saturday Evening Post. Пять других картин были предоставлены во временное пользование, причем четыре — от Brown & Bigelow, компании из Миннесоты, которая более полувека печатала календари с изображением бойскаутов, иллюстрированные этим художником.
Полицейский протокол о преступлении содержал отрывочные сведения: вечеринка закончилась около 22:00. Линдберги убрали помещение, аккуратно включили сигнализацию и заперли дверь. На следующий день в 12:50 обходивший здание охранник из агентства Pinkerton обнаружил, что задняя дверь в галерею открыта, засов сбит, телефонные и электрические провода обрезаны. Обезумевшие Линдберги вместе с полицией поспешили на место преступления и обнаружили пропажу семи Роквеллов и Ренуара. Воры оставили две подсказки: пару мешков для мусора и след сорок первого размера на снегу. Негусто.
В первые дни расследования на нас обрушилась лавина бесполезных советов. Публика забрасывала полицию Миннеаполиса и агентов ФБР всевозможными ниточками. Основное внимание было сосредоточено на трех неопознанных белых мужчинах, которые, по словам очевидцев, странно вели себя в галерее в день преступления. Эта неряшливого вида троица не была похожа на любителей искусства — по крайней мере, на типичных поклонников Нормана Роквелла. Кроме того, по словам Расса Линдберга, он слышал, как они шепотом обсуждали стоимость представленных картин. Мужчины сели в грязный белый «Шевроле Импала» 1972 года и уехали за несколько часов до приема, но подозрительный владелец галереи записал номер. ФБР и полиция выпустили подробную ориентировку на машину. Через неделю один из агентов сообщил в штаб-квартиру ФБР, что дело не движется. «Местонахождение текущего владельца автомобиля на сегодняшний день неизвестно, так как за последний месяц машина была перепродана три раза… Поиски информации пока безрезультатны».
ФБР не сдавалось. Спецагенты из подразделений в Миннеаполисе, Лос-Анджелесе, Лас-Вегасе, Чикаго, Майами, Нью-Йорке, Филадельфии и Детройте прорабатывали десятки вариантов. Они просмотрели звонки из Фолсомской тюрьмы в Калифорнии, проследили за бандой грабителей из Нью-Йорка, направлявшейся на запад через северные штаты, и допросили вора-домушника в Чикаго, большого любителя красть из квартир ценные почтовые марки.
В следующие двадцать лет таинственность и увлекательность кражи Роквеллов только усиливались — как и число тупиковых версий. Линдбергам периодически кто-то звонил и утверждал, что картины у него. В конце семидесятых агент ФБР под прикрытием и Элейн Линдберг вылетели в Майами на встречу с кубинским торговцем произведениями искусства, который солгал, будто знает японского дипломата, готового продать часть украденных картин. В восьмидесятых некий житель Детройта несколько месяцев вел переговоры с прокурорами и агентами ФБР, а потом внезапно исчез. Однажды Расселу Линдбергу позвонил кто-то из Миннеаполиса и заявил, что нашел одну из картин. За этим последовали несколько часов истерии и надежды. Но при встрече Линдберг понял, что имеет дело с дураком. То, что этот человек считал оригиналом Роквелла, оказалось отпечатком на холсте ценой десять долларов.
К концу 1980-х агенты в офисе ФБР в Миннеаполисе мечтали забыть об этом деле и зажить спокойно. Страховые компании компенсировали убытки троим собственникам: Линдбергам за «Парня» и «Девушку», семье из Миннеаполиса за «Хорошую ванну» и компании Brown & Bigelow за «Дух 76-го года», «Она — моя малышка», «Поспешное отступление» и «Важное дело».
Хотя право собственности на похищенные картины после всех выплат официально перешло к страховым компаниям, Бонни Линдберг продолжала искать Роквеллов, проводя свое расследование. Она публично критиковала ФБР за то, что бюро бросило это дело, а оно стоически молчало. Десять лет Линдберг хваталась за малейшие ниточки, которые могли вести к мошенникам. Ее усилия обошлись в десятки тысяч долларов, но не принесли ей ничего, кроме разочарования.
Однако в конце 1994 года кураторы музея Нормана Роквелла в Стокбридже получили любопытное письмо от человека, назвавшего себя Жозе-Марией Карнейру, бразильским арт-дилером из Рио. Он предлагал на продажу «Дух 76-го года» и «Важное дело» за «справедливую цену». Кураторы отказались, но передали письмо Линдберг.
Отдел ФБР в Миннеаполисе тоже получил копию письма, но дело Роквелла уже давно было закрыто.
Дело оказалось настолько старым, что я даже не знал о его существовании, когда мне позвонили и рассказали о подозрительных Роквеллах, выставленных на продажу в Филадельфии. Было это в январе 1999 года.
Джордж Турак, честный брокер и давний информатор, рассказал мне, что бразилец нанял его, чтобы продать на условиях консигнации[20] две картины Роквелла: «Мою малышку» и «Хорошую ванну». По словам Турака, он выяснил, что картины были украдены в Миннеаполисе в 1978 году. Я проверил это банальным запросом в интернете, а потом позвонил в офис ФБР в Миннеаполисе, и местный агент проинформировал меня о краже. Сообщил он и о пяти других пропавших картинах. Заинтригованный, я отправился в галерею Турака и забрал две картины.
Через несколько дней звонок агента из Миннеаполиса принес важные новости. Оказалось, Бонни Линдберг уже отрабатывала это письмо из Бразилии от 1994 года и заключила договор с местной телекомпанией, KARE 11, на запись всех своих контактов с Карнейру. Эксклюзивный материал из двух частей должен был выйти через несколько недель: канал вставил его в февральcкую сетку. Через несколько недель после выхода программы в эфир я получил кассету. Для ФБР это была пиар-катастрофа.
— Сегодня вечером, — произнес ведущий, анонсируя фильм, — вы узнаете новую информацию по делу, давно брошенному ФБР. Это одно из тех дел, по которым до сих пор никто не арестован и не найдено ни одной картины.
В первой части рассказывалось о краже 1978 года и расследовании семьи.
— Сегодня галереей управляет Бонни Линдберг, — говорил журналист, — и она же стала главным детективом в этом деле после того, как остальные опустили руки, сдалось ФБР, буквально всем стало все равно. Удивительно, сколько ей удалось сделать в одиночку: она искала зацепки на четырех континентах, исколесила США, отправила немыслимое количество факсов и сделала миллион звонков… В последние три года все зацепки стали указывать на Рио — но ФБР их отвергло.
Вторая часть началась с того, что Линдберг развернула большую посылку, только что полученную по почте из Бразилии. Внутри она обнаружила картину «Перед свиданием / Девушка» и не смогла сдержать эмоций, взяв в руки полотно. Затем в сопровождении съемочной группы отправилась в Рио, чтобы договориться о покупке у Карнейру второй части диптиха. В беседе тот похвастался и «Духом 76-го года», висевшим у него дома на видном месте, а также «Важным делом» и «Поспешным отступлением». Журналист сказал о Карнейру:
— Он говорит, что купил картины честно, по закону, и это похоже на правду. У него есть сертификаты из Art Loss Register в Нью-Йорке и Лондоне, подтверждающие, что картины не украдены… И он, конечно, готов расстаться с ними, но сначала хочет вернуть свои деньги — триста тысяч долларов.
Телевизионный репортаж был неточен: какие-то важные факты опустили, в том числе и то, что Линдберг согласилась заплатить Карнейру восемьдесят тысяч долларов за пару картин «Перед свиданием». Кроме того, поскольку тот факт, что я заполучил два из украденных Роквеллов в Филадельфии, не вписывался в стройную версию репортера, он упомянул роль ФБР вскользь, как будто она ничего не значила. Более того, KARE 11 не сообщил, что Бонни Линдберг, так плакавшая на камеру, уже побывала в нью-йоркских аукционных домах, где ей сказали, что пара «Перед свиданием» принесет ей сто восемьдесят тысяч долларов. (Очевидно, она не знала, что галерея «Элейн» получила страховку и, следовательно, больше не владела картинами; покупая их у Карнейру, она считала, что возвращает имущество, по праву принадлежавшее ее семье.)
Выпуск за февраль 1999 года завершался кадрами с изображениями «Духа 76-го года», «Важного дела» и «Поспешного отступления», наложенными на фотографию ухмыляющегося бразильского арт-дилера, пляж в Ипанеме и безапелляционный тон рассказчика.
— Остается вопрос. Что нужно для того, чтобы вернуть Роквеллов законным владельцам?.. Карнейру знает, что обладание означает девять десятых права на собственность, и запер их в Бразилии: Роквелла, наших бойскаутов и флаг.
Утром 11 сентября 2001 года в 8:30 я уже сидел за столом и просматривал папку с перепиской по Роквеллу, полученной от агента ФБР в посольстве США в Бразилии.
После эфира на KARE 11 прошло восемь месяцев. Мы уже больше года терпели всевозможные дипломатические и бюрократические проволочки, осложняющие любое международное дело, и расследование о Роквеллах вступало в новую фазу. После заключения нового договора о взаимной правовой помощи между нашими странами бразильцы наконец согласились на нашу просьбу о допросе Карнейру. Мы с Холлом спешно готовились к поездке в Рио в конце сентября или начале октября.
За несколько минут до того, как пробило девять, в комнату ворвался запыхавшийся коллега.
— Есть у кого-нибудь телевизор?
Я подключил свой портативный черно-белый компьютер с десятисантиметровой диагональю и направил антенну на окно. Сгрудившись вокруг крошечного экрана, мы всемером уставились на горящий Всемирный торговый центр и увидели, как самолет врезался во вторую башню. Не прошло и часа, как руководитель велел нам идти домой, собрать одежду дня на три и ждать дальнейших указаний.
Донна встретила меня у двери.
— Ты надолго уезжаешь?
— Мне сказали, что на три дня, но…
На следующее утро я был уже в пути к «Нулевой отметке»[21].
Я прибавил скорость, направляясь по Нью-Джерсийской платной автодороге, вдоль которой мигали красные огоньки, и позвонил Холлу. Мы знали, что дело Роквелла придется отложить. Каждый из нас понимал, что какое-то время будет занят второстепенными, «сопутствующими» обязанностями. Холл был офицером резерва ВМС США, входившим в разведывательное подразделение, которое специализируется на терроризме, и предполагал, что его скоро вызовут.
Я же должен был работать с коллегами из ФБР в периоды сильнейшего психологического напряжения, поэтому стал координатором «Программы помощи сотрудникам ФБР» в отделении в Филадельфии и отвечал за душевное равновесие пятисот с лишним сотрудников и их семей.
Это была одинокая, тонкая, конфиденциальная работа, на которую я добровольно согласился после того, как меня оправдали на суде в Камдене в середине девяностых. Я пытался помочь всем нашим сотрудникам, у кого возникли неприятности — будь то наркотики, алкоголь, супружеская измена, проблемы с руководством или со здоровьем. Ко мне приходили коллеги и вываливали жуткие истории — о детях или супругах, убитых, арестованных или умирающих от какой-нибудь страшной болезни. Я подолгу слушал. Я не был психиатром и даже не прикидывался им. Моим главным преимуществом стало сопереживание. Я знал, что такое травма, смерть близкого друга и многолетний стресс из-за того, что всеми силами стараешься не попасть в тюрьму. Надеюсь, я как минимум мог служить примером стойкости, посмотреть отчаявшемуся в глаза и честно сказать: «Будь сильным. Худшее, что может с тобой случиться в тяжелую минуту, — утрата веры в свои силы. Не сомневайся: боль — это нормально. Ты справишься. Что бы ни случилось, не сдавайся».
Мне не нравилось снова и снова переживать свою травму, и я никогда публично не обсуждал ту аварию. Но я вызвался стать консультантом «Программы помощи» в Филадельфии, решив, что это лучший способ принести пользу организации, которая не бросила меня в беде.
Эта работа приносила моральное удовлетворение, но была и обратная сторона, которую я не учел: приходилось на своей шкуре ощущать страдания семей жертв. Когда умирал один из агентов, ФБР часто отправляло к родным именно меня. На похоронах мне поручали незаметно сопровождать пожилых и молодых членов семьи. Однажды агента из Филадельфии убил снайпер в Вашингтоне, и, когда я с печальной вестью пришел к его семье, мне пришлось крепко держать ребенка, которого охватил приступ ярости. После таких заданий мне стали мерещиться в семьях жертв призраки Донны и наших детей.
Когда тайный агент становится свидетелем стольких смертей и сломанных судеб, возникает психологический риск. Работа под прикрытием — интеллектуальная игра, и нельзя позволить страху или эмоциям отвлечь себя. Много лет я добровольно участвовал в программе C.O.P. S. Kids в рамках поддержки полицейских, выживших при нападении, и в Неделе национальной полиции в Вашингтоне, которая завершается церемонией возложения венков на могилы погибших офицеров. Однажды по окончании мероприятия я увидел девятнадцатилетнего сына полицейского в инвалидной коляске. Мать с трудом толкала его вверх по холму к памятнику Вашингтону. Я поспешил ей на помощь, и мы разговорились. Молодого человека разбил паралич после аварии. Его старший брат и отец, служившие в полиции, погибли при исполнении в течение года. Когда мы поднялись в гору, сын внезапно схватил меня за руку и стал кричать и плакать: «Пусть вам никогда не будет больно! Обещайте мне, что вам никто никогда не причинит боль!» Я держался, пока не сел в машину, чтобы ехать домой. Пересекая границу между штатами Мэриленд и Делавэр, я уже трясся и плакал. Больше я никогда не ездил на Неделю национальной полиции. У меня не было на это сил. Работая под прикрытием, нельзя зацикливаться на таких сценах.
Я прибыл к «Нулевой отметке» вечером 12 сентября.
ФБР отправило меня оказывать психологическую помощь пожарным, полицейским, агентам, медработникам, солдатам — всем, кто в этом нуждался. Но когда я приехал на место, там все еще разбирали завалы и искали выживших. Я присоединился к спасателям, встал в цепь длиной в сто человек, и мы стали передавать из рук в руки мусор и обломки фундамента Всемирного торгового центра.
Восемь дней спустя, когда спасательная операция официально закончилась и начались восстановительные работы, ФБР отправило меня домой, и я вернулся в пригород. Через несколько часов я уже тренировал Кристин и ее девичью команду четвертого класса, «Зеленые шершни», на футбольном поле. На мне был новый спортивный костюм, но запах «Нулевой отметки» по-прежнему преследовал меня.
Я находился в Филадельфии, но продолжал заниматься терактами 11 сентября. На следующий год каждые несколько дней коллеги из нью-йоркского офиса ФБР присылали результаты поиска жертв: кредитные карты, кошельки, ювелирные изделия, мобильные телефоны, водительские права — все, что можно идентифицировать. Как координатор EAP я должен был отвозить их ближайшим родственникам.
Когда террористы нанесли удар, Норман Роквелл, умерший двадцать три года назад, уже был готов вернуться на сцену.
Отношение «серьезных» критиков (ранее считавших, что Роквелл — просто иллюстратор, который рисовал ностальгические изображения невинной, почти исчезнувшей Америки) начало меняться в конце девяностых. В 1999 году стартовала передвижная выставка его работ — семьдесят картин, написанных с 1916 по 1969 год. Ее везде встречали огромные толпы посетителей и нехарактерно восторженные отзывы. Продлилась она три года.
«Думаю, можно объяснить это модными нынче ревизионизмом и оппортунизмом, — писал тогдашний арт-критик из Newsweek Питер Плейдженс. — Роквелл в тренде еще и потому, что он идет вразрез с ортодоксальным модернизмом… Самое смешное, что он вовсе не был тем доморощенным философом из фильма „Эта замечательная жизнь“[22], каким мог бы показаться».
Этот стереотип сложился по ранним работам Роквелла для журналов Boys’ Life и Saturday Evening Post. Для них он рисовал слащавые иллюстрации: дети у фонтанов с газировкой; семьи, собравшиеся за праздничным столом по случаю Дня благодарения; бойскауты, салютующие американскому флагу; «Клепальщица Рози» и «Рядовой Вилли Гиллис», пропагандирующие войну с Германией и Японией. В 1950-х и 1960-х критики морщились от детального реализма Роквелла, называя его банальным. «На самом деле Дали — брат-близнец Нормана Роквелла, украденный в детстве цыганами», — насмехался Владимир Набоков. Термин «в стиле Роквелла» стал уничижительным.
Суть ревизионизма, ставшего популярным в период работы передвижной выставки 1999 года, заключалась в следующем: Роквелла неправильно понимали и критики, и фанаты. Они ошибочно полагали, что его картины — воплощение консервативных ценностей. Но при более глубоком анализе выяснилось, что Роквелл — хитрый прогрессист. В эссе, вышедшем в поддержку национального турне выставки, искусствовед Дэйв Хикки утверждал, что творчество Роквелла в пятидесятые вдохновило людей на социальные революции. Он вспомнил одну из украденных картин, «Поспешное отступление», написанную для календаря Brown & Bigelow за 1954 год. На ней двое молодых купальщиков убегают с развевающейся в руках одеждой от знака «Купаться запрещено!».
«Роквелл был одним из немногих порождений американской поп-культуры пятидесятых, кто на самом деле поощрял непослушание, несогласие и нарушение правил. Не знаю, какими были бы шестидесятые без ненавязчивого благословения образов Роквелла. Есть замечательная картина, где девочка с подбитым глазом сидит у двери кабинета директора. Она подралась и явно победила в схватке. Нетрудно представить, как несколько лет спустя она будет жечь свой лифчик[23]».
После терактов 11 сентября усилились патриотические настроения, а с ними и интерес к Роквеллу. Он был одним из самых известных американских художников, и напуганные люди находили утешение в знакомых идеалистичных, патриотичных образах. В рамках кампании «Вместе мы выстоим» рекламные изображения обновленных картин Роквелла были опубликованы в The New York Times. В День благодарения Tampa Tribune разместила на первой странице фотографию знаменитой роквелловской «Свободы от нужды», где мать большого американского семейства ставит на накрытый обеденный стол индейку.
В тревожное время после терактов особый символический смысл обрела одна из трех украденных картин Роквелла.
Созданный для бойскаутов и издательства Brown & Bigelow «Дух 76-го года» был приурочен к двухсотлетию США, наступавшему в 1976 году. Одна из последних работ Роквелла перед тем, как он окончательно впал в старческое слабоумие, — дань уважения знаменитой картине XIX века, написанной Арчибальдом Макнилом Уиллардом. На ней под американским флагом марширует отряд с горном и барабаном времен Войны за независимость. Работа Уилларда, сначала названная «Янки Дудл», была написана для Всемирной выставки 1876 года в Филадельфии, посвященной столетнему юбилею войны. В обновленной версии Роквелла отряд состоит из бойскаутов. На заднем плане явно просматриваются силуэты Манхэттена и башни-близнецы Всемирного торгового центра — незначительная деталь, которая позже поможет в нашем деле.
После терактов 11 сентября многие интересные дела, сложные многолетние расследования были отложены. Понятно, что возвращение похищенной собственности, тем более произведений искусства, осенью 2001 года отошло для ФБР на второй или даже третий план. Мне, как и почти всем агентам в моей команде и в других, было поручено проверять сотни подозрительных звонков и безумных сообщений о террористах, сибирской язве, талибах и мужчинах, похожих на арабов, скрывающихся и замышляющих недоброе в окрестностях Филадельфии. Я тихо и усердно работал, ожидая подходящего момента, чтобы снова взяться за дело Роквелла.
У моего партнера, прокурора Холла, тоже сменились приоритеты и близился срок нового задания. Он получил приказ явиться в свое военно-морское подразделение к середине декабря и ожидать годичной командировки. Холл сказал: если бы мы не полетели в Бразилию к началу декабря, он бы вообще не поехал. В конце октября он осторожно обратился к своим непосредственным руководителям. Они одобрили его поездку еще до 11 сентября, но им никогда не нравилась эта идея. Они помешались на контроле и думали, что лучшие идеи идут сверху вниз, а не от тех, кто работает в поле. Вдобавок они не понимали, какой смысл Холлу лететь куда-то за восемь тысяч километров, чтобы выполнить задание, которое даже не завершится арестом. По их мнению, прокурор должен сажать преступников в тюрьму, а не путешествовать по свету, спасая украденные культурные ценности. Так что в октябре, когда Холл снова вернулся к этой теме, его руководители, сославшись на новые приоритеты в связи с 11 сентября, сказали «нет». О поездке в Рио не могло быть и речи.
Холл позвонил мне вне себя от злости. Он собирался обойти свое руководство.
Я разозлился не меньше и сказал, что нужно пойти на это, добавив:
— Если ты не поедешь в Бразилию, Дэйв, я тоже не поеду.
Он был моим напарником. Я чувствовал его поддержку. Мы с Холлом и Гольдманом считали, что наша задача — вместе изменить отношение правоохранительных органов к кражам художественных произведений. И тут мы не могли обойтись друг без друга.
Холл договорился о неофициальной встрече с первым заместителем нового генерального прокурора США — мозгом этой конторы. Дэвид произнес пятиминутную речь, затем вытащил цветную репродукцию «Духа 76-го года». Он указал на едва видное изображение башен-близнецов в правом нижнем углу. Второй по старшинству прокурор улыбнулся. Раньше он был секретарем Верховного суда. На новый пост его назначил Буш. Его политическое чутье не уступало юридической квалификации. Он сразу сообразил, как важно это дело для пиара. Если мы добьемся успеха в Рио, его босс скоро будет стоять перед телекамерами на фоне трех Роквеллов и силуэта башен-близнецов.
Мы с Холлом приехали в Рио рано утром в понедельник, в первую неделю декабря, и остановились на Ипанеме. Мы распаковали вещи, отдохнули и отведали лучшие в нашей жизни стейки.
На следующий день мы встретились в Рио с Гэри Зауггом — агентом ФБР, работавшим в посольстве США в Бразилиа. Он отвез нас на встречу с местными прокурорами. Бразильцы держались любезно, но не особо верили, что мы сможем что-то предъявить Карнейру. Мы охотно согласились, что дело старое, доказательств мало, а главный свидетель в Миннеаполисе — Линдберг — не хочет сотрудничать со следствием. Сотрудники прокуратуры дали понять, что экстрадиция почти невозможна. В Бразилии бегство считается таким же естественным правом, как и свобода слова. Там нет наказания за сопротивление аресту или уход от преследования.
Мало того, по словам сотрудников прокуратуры, никто, судя по всему, не знал, точно ли картины до сих пор у Карнейру. Местная полиция уже обыскала его дом и офис и ничего не нашла. Для нас ситуация стала еще хуже.
В среду мы снова приехали в прокуратуру, чтобы встретиться с тем, кого так долго мечтали допросить.
Жозе Карнейру был невысоким коренастым мужчиной лет пятидесяти, с широким лицом и редеющими черными волосами, слипшимися около ушей. Он владел художественной галереей и частной школой, писал книги об искусстве и поэзии. У него был глубокий баритон, которым он тепло поприветствовал нас на английском. Пришел он один, продемонстрировав уверенность в себе.
Первый ход сделала бразильская прокуратура. Ее сотрудники напомнили Карнейру, что на него открыто дело за неуплату имущественного налога за покупку Роквеллов. Это считалось незначительным правонарушением, мелким финансовым проступком, и Карнейру об этом знал. Он пожал плечами.
Затем в игру вступил Холл, начав с традиционного прокурорского метода — угрозы тюрьмой.
— У вас большие неприятности, — сказал он Карнейру. — Доказательств предостаточно. Вы признали, что украли собственность американцев. В США это серьезное преступление. Если мы предъявим вам обвинение, то добьемся вашей экстрадиции, наденем наручники и отправим в американскую тюрьму. И надолго.
Карнейру ответил хриплым смехом. Он знал: в худшем случае запрос на экстрадицию в США будет означать, что он сможет путешествовать только по Бразилии — стране, по площади сравнимой с континентальной частью США. Карнейру указал рукой на великолепный вид Рио за окном.
— Я не смогу покинуть Бразилию? Добро пожаловать в мою прекрасную тюрьму!
Холл сел: больше аргументов у него не было. У него оказались связаны руки. Как помощник генерального прокурора США он был вынужден действовать осторожно, подчиняться инструкциям Министерства юстиции и говорить далеко не все, даже в чужой стране. Он представлял правительство США, и любые свои предложения или обещания ему пришлось бы выполнять. Кроме того, у него был строгий приказ не предлагать ничего, кроме обещания не преследовать по суду.
Я же, как агент ФБР, мог говорить и обещать что угодно. Мои слова не стоили ни гроша, но Карнейру об этом не знал. Я мог лгать, искажать факты, угрожать — делать почти все, разве что не бить подозреваемого. Я примерил роль продавца.
Начав с попытки уравнять шансы, назвал проблему геополитической дилеммой, а не потенциальным преступлением.
— Жозе, посмотрим, сможем ли мы решить вопрос. Попробуем найти способ. У нас будет то, что мы хотим, у вас не возникнет неприятностей, и местная прокуратура получит то, что ей нужно. Все сохранят лицо, все будут довольны. Что скажете?
— Люблю, когда все довольны, — сказал он. Для начала неплохо.
— Зачем же усложнять, Жозе? — спросил я. — Платить большой налог? Что вы собираетесь делать с этими картинами? Какой вам от них толк? Вы так любите Нормана Роквелла, что хотите, чтобы они всегда висели у вас на стенах и стали проблемой для ваших детей и всех остальных? Ведь вы знаете, что не можете вывезти их из Бразилии. И давайте будем честны: эти картины гораздо ценнее в США, чем где-либо еще. У нас вы получите за них вдвое больше, чем здесь, но продать их вы не сможете. Какая от них польза вам, Жозе? Почему вы держите их в заложниках, выступая против Америки?
Карнейру поднял палец.
— О, Боб. Я люблю Америку! Мы хорошие друзья. Я люблю США. Я постоянно езжу туда покупать произведения искусства.
— Отлично, замечательно, — сказал я, наклонившись вперед, но не меняя дружеского тона. — Но я вам кое-что скажу, Жозе. Если вы не сделаете это для нас, возможно, мы не сможем ничего сделать для вас здесь. Но я гарантирую, что внесу вас в список тех, кому навсегда запрещен въезд в США.
Это был блеф. В декабре 2001 года списков террористов еще не существовало.
— Вы говорите, что любите США, но захватили в заложники наши картины. Норман Роквелл — американский художник. В моей стране его работы знает каждый. Вы удерживаете один из столпов нашего искусства. И вы думаете, что кто-то захочет с вами дружить после этого?
Карнейру, похоже, не тронул мой призыв, но он не возражал.
— Дайте мне немного подумать, — сказал он. Мы договорились встретиться снова на следующий день.
В четверг первый ход сделал Карнейру, выдвинув предложение.
— Триста тысяч, — сказал он. — И вы обещаете не арестовывать меня.
В Европе правительства нередко платят выкуп и предлагают амнистию, чтобы вернуть украденные картины. Это игра, и в ней участвуют все: воры, страховые компании и правительства. Никто публично об этом не говорит, иначе появятся новые желающие украсть. Но главное — картины возвращаются в музеи, страховые компании экономят миллионы, воры получают деньги, а полиция закрывает дело. США в эту игру не играют.
Цифра в триста тысяч долларов вывела Холла из себя.
— Это безумие, — сказал он. — Речь об украденных картинах. Правительство США не заплатит за Роквеллов ни цента.
Он дал понять Карнейру, что тот ведет переговоры не с толстосумами из американского казначейства.
— Мы с Бобом приехали сюда, чтобы помочь, стать посредниками между вами и Brown & Bigelow. Вы сделаете предложение, а мы им его передадим.
Пока Карнейру обдумывал услышанное, я вышел, чтобы позвонить человеку из Brown & Bigelow в Миннеаполисе. Разговор вышел коротким. Предложение в триста тысяч долларов было отклонено, и я вернулся за стол переговоров. Мы торговались большую часть дня: заставляли Карнейру опускать цену и выбегали из комнаты для консультаций с Миннеаполисом. Когда цена достигла ста тысяч долларов, я начал пытаться убедить обе стороны, что это хорошая сумма. Людям в Миннесоте я сказал, что они получат картины стоимостью в один миллион долларов всего за сто тысяч. Карнейру я заверил, что ему заплатят достаточно, чтобы он погасил долг перед налоговиками и избежал проблем. Я дал им один и тот же совет: «Более выгодной сделки вы не дождетесь. Сто тысяч — это большая удача для вас».
Карнейру хотел получить от Холла расписку с обещанием не открывать на него судебного дела.
— Договорились, — сказал Холл.
Карнейру встал.
— Я дам вам знать завтра. Позвоню вам утром.
Поздно вечером мы с Холлом пошли побродить по пляжу Ипанемы, курили кубинские сигары. Звезды южных созвездий толпились в ночном небе. Несколько минут мы молча пускали дым.
Холл повернулся ко мне.
— Ну что?
— Он ищет выход, — сказал я. — Ему надо сохранить лицо, отделаться от налоговой и не разориться.
— Так, и что ты думаешь?
Я поднял сигару.
— Нам крупно везет.
В пятницу утром Карнейру позвонил Гэри Зауггу, агенту ФБР в Бразилии, и дал согласие на сделку. Он пригласил нас забрать картины к себе в школу в Терезополисе, примерно в ста километрах к северу.
Мы ехали из Рио два часа и все это время наблюдали, как километр за километром тянутся трущобы: открытые канализационные люки, босоногие дети в рваной одежде, хижины с неровными стенами — до горизонта. Из-за близости к роскоши Ипанемы впечатление от нищеты усиливалось. За городом дорога вела в красивый национальный парк Серра-дус-Органс — великолепный заповедник с холмами, реками и водопадами на высоте девятисот метров над уровнем моря. Незадолго до полудня мы прибыли в школу Карнейру — помещение на первом этаже отштукатуренного здания на главной улице Терезополиса.
Мы подтвердили банковский перевод от Brown & Bigelow на сумму сто тысяч долларов, а помощники Карнейру принесли картины. Он энергично пожал нам руки, явно довольный, настояв, чтобы мы сфотографировались с ним на фоне картин. На фото Холл и Заугг стояли рядом с «Духом 76-го года» и «Важным делом». Теперь Холл улыбался. От хмурого вида, с которым он сидел на пляже пару дней назад, не осталось и следа. Я держал в руках картину гораздо меньших размеров — «Поспешное отступление».
Карнейру настоял, чтобы мы внимательно изучили произведения, прежде чем уйдем. «Я сохранил их в отличном состоянии, как видите». Так и было.
Для завершения сделки мы предстали перед местным судьей, который быстро провел заседание на португальском языке. Заугг переводил. Мы с Холлом с трудом следили за происходящим, но улыбались и много кивали. Через десять минут вышли за дверь с картинами и направились в Рио.
— Давайте тоже устроим поспешное отступление, — сказал Заугг, когда мы подошли к машине. — Заберем ваши вещи из гостиницы и найдем первый же рейс. — На обратном пути он позвонил коллегам в посольство и обо всем договорился.
В международном аэропорту Галеан Заугг воспользовался своим дипломатическим статусом и стремительно провел нас с тремя небольшими пакетами через охрану и таможенный контроль. У трапа я осторожно подошел к стюардессе авиакомпании Delta, стараясь никого не напугать. Прошло всего три месяца после 11 сентября, и большинство американских пассажиров и экипажей еще нервничали, особенно на дальних рейсах.
Я показал ей свой значок ФБР и объяснил ситуацию.
— Нам нужно пронести это на борт. Их нельзя отправлять в багаж и нельзя засунуть в отделение для ручной клади над головой.
— Нет проблем. У нас есть шкаф между первым классом и кабиной. Положите их туда. Они будут в безопасности.
— Большое спасибо. Очень любезно с вашей стороны. Но нам предстоит десятичасовой перелет, и я должен постоянно держать картины на виду. А наши места — в эконом-классе.
Стюардесса посмотрела на сложенный план посадки пассажиров. По ее списку я видел, что первый класс наполовину пуст.
— Официальное задание ФБР, верно?
— Официальное.
— Что ж, тогда, думаю, мы найдем вам места в первом классе.
Несколько дней спустя новый генеральный прокурор США в Филадельфии, амбициозный Патрик Михан, созвал пресс-конференцию. Из глубины зала я наблюдал, как он стоит на фоне картин перед кучей телекамер и толпой журналистов, наводнивших помещение.
— Норман Роквелл был самым американским из художников, — сказал Михан. — Он сумел уловить характер США, особенно в тяжелые времена. Сейчас это дело особенно важно для американской души.
На следующее утро в газетах по всей стране появилась фотография генерального прокурора, указывающего на башни-близнецы на картине «Дух 76-го года». Холл увидел это в вашингтонской прессе. Он доложил о возвращении картин пентагонскому начальству на следующий день после нашего приземления в аэропорту.
Мы доказали, что нам по силам находить наши произведения искусства и за границей. Пришло время поднять ставки и сделать это под прикрытием.
Глава 14. Собственность дамы
Мадрид, 2002 год
Брифинг был назначен на семь часов вечера из-за удушающей июньской жары.
Мы вошли в стерильный конференц-зал без окон в американском посольстве: четыре агента ФБР и четыре комизарио, или инспектора, из Национального корпуса полиции Испании. Американцы сели по одну сторону продолговатого переговорного стола, испанцы — по другую.
На свое первое секретное задание за границей я отправился в Испанию, чтобы попытаться раскрыть величайшее преступление в сфере искусства — кражу восемнадцати картин на сумму пятьдесят миллионов долларов из дома мадридского миллиардера, строительного магната, тесно связанного с королем Хуаном-Карлосом. В дело вмешалась и геополитика. Это был год после 11 сентября, и ФБР активно налаживало отношения с союзниками против Аль-Каиды. Потому-то директор ФБР Роберт Мюллер — третий лично рассмотрел и одобрил план нашей операции.
Брифинг в посольстве начал комизарио тоном дежурного полицейского, в стиле «только факты». Политическое давление он тщательно скрывал.
— Восьмого августа 2001 года трое неизвестных разбили окно в частной резиденции Эстер Копловиц по адресу Пасео-де-ла-Гавана, дом 71, Мадрид. На шум вышел единственный охранник, и они справились с ним. Чтобы попасть на второй этаж, подозреваемые использовали его ключ. Пострадавшей не было дома, а в связи с ремонтом резиденции картины были сложены у двух стен. Было украдено восемнадцать картин — кисти Гойи, Цугухару Фудзиты, Брейгеля, Писсарро и других.
Комизарио перевернул страницу блокнота.
— Мы установили, что охранник причастен к преступлению, он должен был дать информацию главарю грабителей — Хуану Мануэлю Канделе Сапихии. Сеньор Кандела нам хорошо известен. Он член преступной организации под руководством Анхеля Флореса. Они называют себя «Каспер» и специализируются на ограблениях банков и кражах дорогостоящего имущества. Мы занимаемся этой бандой уже одиннадцать лет.
Я уже знал подробности о банде «Каспер», и под рассказ комизарио мой мозг переключился на мысли о сыне Кевине, который две недели назад окончил школу. Я не мог поверить, что скоро он станет студентом. Донна и сама подумывала о возвращении к учебе и старалась закончить последние работы, необходимые для получения ученой степени. Джефф учился в десятом классе, Кристин — в восьмом. Возможно, возьму кого-нибудь из них с собой в Мадрид в следующий раз…
В руках комизарио появилось фото уродливого лица в профиль и анфас, и я снова стал внимательно слушать. Человек на фотографии был лысым, с раскосыми глазами, длинными черными бровями и крупными зубами. На любителя искусства точно не похож. Скорее на хладнокровного преступника.
— Сеньор Кандела. Возраст — тридцать восемь лет. Привлекался семь раз. Наркоторговля, подделка документов, вооруженное ограбление.
Комизарио поднял второй снимок. Этот преступник тоже был лысым, но с более широким лицом, неопрятной бородкой и жесткими карими глазами.
— Анхель Флорес. Возраст — сорок два года. Привлекался пять раз. Наркоторговля, хранение краденого и вооруженное ограбление. Последний арест 22 июня 1999 года по обвинению в убийстве, но суд не вынес обвинительного приговора.
Я еще раз посмотрел на фото. Убийство? Я знал, что у Флореса длинный «послужной список» уголовных статей, он хвастался влиянием на испанских судей и полицию (благодаря которому обвинения против него внезапно исчезали), но никто не упоминал убийства. Я сделал для себя пометку.
— Четвертого декабря 2001 года мы провели обыски у них и у четырех известных нам подельников. Нашли, — он повернулся к помощнику, — como pruebas circunstanciales?
— Косвенные улики.
— Sí. Мы нашли косвенные улики, но картин не было. В феврале этого года с нами связались наши американские друзья.
Сидевший рядом со мной агент ФБР понял намек и встал. Конрад Мотыка был высоким мужчиной с рельефными предплечьями, тонкой бородкой и стрижеными ежиком волосами. Его назначили заниматься организованной европейцами и азиатами преступной бандой в Нью-Йорке.
— Итак, — сказал он, — вот что нам известно. В феврале информатор ФБР за границей позвонил мне и сообщил, что Анхель Флорес обратился к нему с просьбой купить украденные картины Копловиц за двадцать миллионов долларов. Он позвонил моему источнику потому, что у того есть связи с организованной преступностью в странах бывшего СССР. Мой источник сообщил, что Флорес в отчаянии: ему не хватало денег и он переживал, что не сможет заплатить за химиотерапию для матери, больной раком.
— Тогда, — продолжал агент ФБР, — по нашему указанию мой источник сказал Флоресу, что нашел потенциального покупателя — богатого россиянина, сотрудничающего с коррумпированным американским искусствоведом. После нескольких звонков и встречи с источником Флорес согласился продать картины за десять миллионов долларов, как только искусствовед подтвердит их подлинность.
Мотыка указал на меня.
— Спецагент Роберт Уиттман. У него богатый опыт расследований в области искусства, он много раз работал под прикрытием. Будет действовать под своим псевдонимом — Роберт Клэй. Флорес ждет, что он приведет с собой телохранителей на осмотр картин. Одного из них сыграю я. Другим будет специальный агент Херальдо Мора-Флорес, который сидит здесь рядом с агентом Уиттманом. Мы называем его Джи. Анхель Флорес думает, что мы принесем ему миллион евро наличными, а оставшуюся часть переведем на его счет в банке. Он может потребовать номера транзакций, чтобы проверить наличие у нас денег. Мы положили девять миллионов долларов на счет в иностранном банке.
Агент ФБР сел, и комизарио продолжил:
— У нас есть миллион евро наличными от Banco de España. Для сеньора Клэя мы забронировали номер на одиннадцатом этаже гостиницы Meliá Castilla в центре города. Мы разместим агентов в соседнем номере, в холле и на улице рядом с гостиницей. Один из моих офицеров доставит деньги в номер. Он будет вооружен. К сожалению, по испанскому законодательству иностранным полицейским не разрешается носить оружие.
Мы знали, что спорить с этим бессмысленно.
Брифинг завершил Мотыка:
— Завтра они ждут звонка по мобильному от человека, называющего себя Олегом. Это буду я.
— Ты говоришь по-испански?
— По-французски, — сказал Мотыка. — Я не говорю по-испански, а они, насколько понимаю, не говорят по-английски. Но мы все понимаем по-французски.
— Какую картину вы попросите посмотреть в первую очередь?
Все взгляды устремились на меня.
— Брейгеля, — сказал я. — «Искушение святого Антония». Она дорогая, четыре миллиона долларов. Скорее всего, ее труднее подделать, она очень сложная: большая и на ней полно крошечных чертиков, костров и прочих адских образов. А еще потому, что она написана на дереве и прикреплена к коробу люльки.
Когда я вернулся в гостиницу, меня охватила усталость из-за смены часовых поясов. Мотыка, взволнованный и нервный оттого, что впервые собирался работать под прикрытием, пригласил меня поужинать вместе. Я попросил его сжалиться («Я старый человек, до завтра надо хорошо выспаться») и пошел в свой номер. Переоделся, налил колы из мини-бара и включил телевизор. Я нашел BBC, единственный канал на английском языке. Засыпая, я думал о нашем деле.
Завтра, если все пойдет по плану, я войду в другой гостиничный номер на противоположном конце города.
Чтобы встретиться с отчаявшимся гангстером и, возможно, убийцей, готовым заключить сделку на десять миллионов долларов.
Без оружия.
С наживкой в виде миллиона евро.
С напарником из ФБР, никогда раньше не работавшим под прикрытием.
И переговоры будут на французском, которого я не понимал.
Превосходно.
На следующее утро я проснулся рано и попросил завтрак в номер.
Вонзая нож в яичницу, я просмотрел стопку из семнадцати цветных фотографий украденных работ, которые скачал с публичного сайта ФБР, посвященного преступлениям в сфере искусства: «Качели» и «Падение» испанского мастера Франсиско Гойи. «Девочка со шляпой» и «Кукольный дом» японского модерниста Леонара Фужиты (Цугухару Фудзиты). Пейзаж Эраньи французского импрессиониста Камиля Писсарро. «Карнавальная сцена» мадридского интеллектуала Хосе Гутьерреса Солана.
Эти произведения стоимостью в миллионы долларов так же кружили голову, как и все, которыми я занимался раньше.
Но мне было не по себе. Здесь что-то не так. Дело в пострадавшей. Впервые я рисковал своей жизнью не для того, чтобы вернуть произведения искусства в музей или государственное учреждение. Я должен был спасти картины, украденные из частного дома. Для дамы, которую я даже не видел.
Кто она?
Я достал из чемодана досье и открыл его.
Эстер Копловиц была наследницей большого состояния, магнатом, филантропом и отшельницей. Красавица с карими глазами и черными как смоль волосами, по происхождению и статусу связана с представителями испанского королевского рода. Ее сестра Алисия, чуть помладше, тоже была миллиардершей, и десятилетиями они конкурировали за звание самой богатой женщины Испании. Их совместная биография была отличным материалом для легенд. В деловых и благотворительных кругах к сестрам относились с почтением. В таблоидах, ведущих хронику их бурной личной жизни, сестер Копловиц сравнивали с Керрингтонами из американского телесериала «Династия».
Отцом сестер был Эрнесто Копловиц — еврей, бежавший из Восточной Европы во франкистскую Испанию еще до Второй мировой войны. Он управлял строительной компанией Fomento de Construcciones y Contratas, которую приобрел в 1950-х, незадолго до рождения дочерей. Она была гигантом в сфере гражданского строительства. FCC, основанная в 1900 году, клала асфальт на первых мадридских дорогах в 1910 году, в 1915-м выиграла первый контракт на сбор мусора в Мадриде, а затем восстанавливала мосты и железные дороги, взорванные во время гражданской войны в 1930-х. В 1950-х, возглавив FCC, Копловиц стремился заполучать государственные контракты, в частности брал на руководящие посты людей, имевших связи с коррумпированным режимом, в том числе свекра дочери Франко. FCC проложила первые километры современной автомагистрали в Испании, построила базу ВВС США и модернизировала мадридскую телефонную станцию. В 1962 году Эрнесто Копловиц скоропостижно скончался, упав с лошади во время катания в шикарном мадридском клубе Кампо. Он оставил FCC в наследство дочерям, хотя те еще даже не достигли подросткового возраста. До 1969 года компанией управлял опекун, а затем Эстер и Алисия с большой помпой вышли замуж за двух бравых двоюродных братьев-банкиров, Альберто Алькосера и Альберто Кортину, и посадили их в кресла высших руководителей FCC. За двадцать лет мужья значительно увеличили активы FCC, выигрывая крупные контракты на гражданское строительство по всей Испании.
В 1989 году разразился скандал. Папарацци сфотографировали мужа Алисии Копловиц танцующим в объятиях полуголой жены одного испанского маркиза. Алисия быстро развелась с мужем и уволила его из FCC. Когда другой таблоид поймал на измене с секретаршей мужа Эстер Копловиц, та тоже подала на развод и прогнала его из семейной компании. Избегавшие публичности сестры внезапно оказались испанскими героинями-феминистками и владелицами контрольного пакета в компании стоимостью три миллиарда долларов. В 1998 году Эстер выкупила долю Алисии в FCC за восемьсот миллионов.
К лету 2002 года, когда я приехал Мадрид, Эстер Копловиц была основным акционером FCC и самостоятельной бизнесвумен. Годовой доход компании приближался к шести миллиардам долларов, и в ней работало девяносто две тысячи человек по всему миру. FCC настолько разрослась, что вошла в число тридцати пяти ведущих публичных испанских корпораций, цену акций которых определяет индекс Ibex — местный аналог Dow Jones.
Копловиц стала и известным филантропом. Она покровительствовала искусствам и обездоленным и основала фонд, выделивший разным испанским благотворительным организациям более шестидесяти двух миллионов евро. Она подарила пятнадцать миллионов на создание национального центра биомедицинских исследований и еще несколько миллионов на финансирование специальных домов и центров дневного ухода для взрослых с психическими заболеваниями и церебральным параличом. У Копловиц и трех ее дочерей были дома за городом, в городе и на морском побережье. Окна современного белого двухэтажного пентхауса, откуда были украдены картины, выходили на очаровательный мадридский парк.
Работа под прикрытием требует терпения.
Преступники редко бывают пунктуальными. Иногда они приходят рано, чтобы осмотреть окрестности, но чаще опаздывают, демонстрируя, кто хозяин положения. А то и забывают, куда или когда должны были прийти. Они бандиты, а не банкиры. Иногда они являются тогда, когда у них получается, когда хочется, когда закончат другие дела.
Это выводит из себя большинство полицейских и агентов. Они привыкли к ответственности, их учат контролировать любую ситуацию. Им нравятся армейская точность и пунктуальность. Они любят составлять планы и придерживаться их. Я же давно научился адаптироваться к разным ситуациям.
Утром в день нашей операции, 19 июня 2002 года, я запер свой настоящий кошелек и паспорт в сейфе гостиничного номера, а взамен взял удостоверение личности на имя Роберта Клэя. Мы с Мотыкой и Джи встретились в фойе и отправились на такси в великолепную гостиницу Meliá Castilla, где испанская полиция зарезервировала номер на мое имя. Пятизвездочный отель возвышался посреди коммерческого центра города, недалеко от футбольного стадиона «Сантьяго Бернабеу» и от Пасео-де-ла-Кастельяна — одного из самых красивых мадридских проспектов, с деревьями по обеим сторонам.
Из моего номера Мотыка набрал мобильный Флореса в десять утра, как и договаривались.
Никто не ответил. Мотыка попробовал еще раз через полчаса и потом еще через час. Всякий раз вызов переключался на голосовую почту. В полдень Мотыка снова позвонил. И опять захлопнул крышку мобильника.
— Не отвечает.
Комизарио, сидевший тут же в номере, нахмурился. Не меньше ста его офицеров в штатском бродили по холлу и на улице вокруг гостиницы. Многие из них, вероятно, работали сверхурочно, получая за это в полтора раза больше. Я усмехнулся про себя. Видимо, работа над крупным секретным делом в Испании ничем не отличалась от такой же работы в США: иногда, чтобы сохранять спокойствие и сосредоточенность, нужно не меньше усилий, чем при преследовании преступника.
Я нарушил неловкое молчание:
— Эй, кто-нибудь проголодался? Может, пообедаем? Прогуляемся?
— Отличная идея.
Мы убили час, побродив по магазинам рядом с гостиницей. Мотыка не выпускал из рук телефон, чтобы не пропустить звонок от Флореса. Я нашел симпатичный расписанный вручную веер, черный с красными цветами, и купил его для дочери Кристин. Джи тоже приобрел несколько сувениров. Мы заскочили в одно из кафе сети Museo del Jamón, где аккуратными рядами висели большие куски ветчины. Заказали пару бутербродов и по бутылке Orangina и заняли высокий столик в глубине зала, подальше от солнца.
Мотыка посмотрел на молчавший мобильный телефон.
— Мне кажется, испанская полиция готова все отменить. Как думаете?
Джи ответил:
— Не знаю. Но выглядит как-то не очень.
Я сказал:
— Думаю, всем надо успокоиться. Дайте время.
Я поднял свой бутерброд, пытаясь сменить тему.
— Вкусно, да? Интересно, можно пронести такой в самолет контрабандой, когда буду лететь обратно?
— Черт, — сказал Мотыка. — Он не позвонит.
— Да ладно, — ответил я. — В таких делах свой график. Надо немного подождать. Не верь комизарио, твердящим, что это не сработает.
Я заговорил тише:
— Послушай, парень, ты должен помнить, что у испанской полиции свои планы. Вряд ли они очень рады нашему приезду после того, как полгода занимались этим делом и ничего не добились. Как все будет выглядеть, если вдруг ворвется ФБР и за несколько дней все разрулит? Конечно, они не могли отказаться от нашего предложения о помощи — это выглядело бы странно. Но, скорее всего, им хочется скорее свернуть нашу операцию. Тогда они смогут сказать, что честно давали шанс ФБР. Не переживай. Просто не теряй оптимизма, и все.
— Не знаю…
— Дай им пару дней, — сказал я. — Мы предлагаем десять миллионов. Они позвонят.
Мотыка выглядел мрачно.
— Угу.
— Смотри, — сказал я, — мы доедаем бутерброды, возвращаемся. Звоним еще раз. Если Флорес не ответит, перезваниваем через несколько часов. Больше мы ничего не можем сделать.
— Не знаю.
Он начал повторяться.
Но, вернувшись в гостиницу, Мотыка никак не мог оторвать палец от кнопки повторного набора: три часа дня, пять часов вечера, шесть часов, затем девять. Эти звонки начали меня беспокоить. Так сильно давят только копы и дураки. У нас есть деньги. Они нужны преступникам. У нас преимущество. А из-за этих звонков все выглядит так, будто мы жаждем этой сделки. Как будто мы любители или, что еще хуже, полицейские.
Я объяснил это Мотыке. Он отмахнулся.
Когда очередной звонок не принес результата — на этот раз около полуночи, — вмешался комизарио.
— Извините, но уже поздно, — сказал он. — Мои люди очень долго ждут.
Мотыка неохотно кивнул. Казалось, все были готовы сдаться. Некоторые агенты ФБР даже заговорили о том, когда можно лететь домой. Рановато, но я не проронил ни слова. Мой выход еще не был объявлен. Когда я уходил спать, Мотыка сидел с агентом ФБР из посольства.
Я вернулся к себе в гостиницу, позвонил домой и пожелал Донне спокойной ночи, передал привет детям, а потом лег спать.
В предрассветной темноте загудел мой телефон.
— Боб? — Это был Мотыка.
— Да, что случилось? — неуверенно спросил я, пытаясь сфокусировать взгляд на будильнике. Было шесть утра. Какого черта?
Он едва сдерживал волнение.
— Я разговаривал с Флоресом! Я набрал его еще раз после того, как все ушли. И он ответил! Связь прерывалась, но мы разговаривали три раза. Он говорит, что картины у него. Все в силе!
Я сел на кровати, сон как рукой сняло.
— Круто!
— Да, знаю.
Я жаждал подробностей.
— Так в чем же было дело? Почему он не отвечал?
— Да ерунда какая-то. Говорит, что должен был уехать из города. Сказал, что вернется сегодня днем и позвонит в пять вечера. Но главное — все в силе.
Я спросил о нашей группе поддержки.
— А комизарио?
— Санчес уговорил их дать нам еще один день.
— Отличные новости. Люблю хорошие новости. Здорово сработано!
Мы встретились у меня в номере в Meliá после обеда. В 17:00 все собрались, и Мотыка набрал номер Флореса.
Ответа не было.
За следующие четыре часа Мотыка пробовал еще пять раз. В девять часов вечера вмешался комизарио и остановил операцию. По его словам, все выглядело так, будто банда Флореса играет с могущественным ФБР. Он считал, что это очень хорошие преступники с очень хорошими информаторами. Возможно, они сообразили, что к чему. Или блефовали с самого начала.
— Вот что я вам скажу, — произнес он. — Нам неловко из-за всей этой истории, и мы приглашаем вас на ужин сегодня вечером. Мы угощаем.
Во время утешительного ужина в ресторане гостиницы настроение было мрачным. Что тут говорить? Мы возвращались с пустыми руками. Директор ФБР получит подробный отчет. Мы потратили впустую кучу денег и времени. Я все еще не мог поверить, что мы так быстро сдаемся. Но тут была замешана политика, поэтому я не проронил ни слова.
К десерту темы для беседы исчерпались, и мы замолчали. Джи тыкал вилкой в недоеденный пирог на тарелке. Мотыка безучастно уставился на бокал с сангрией. Комизарио ел ложкой толстый кусок шоколадного торта. Я взглянул на газету, лежавшую под локтем Джи, на заголовки международного издания USA Today. «Цены на жилье начали расти, экономика развивается. Губернатор Вентура выходит из гонки. На Западе бушуют пожары. Сенат говорит бейсболу: нужно проверять на стероиды…»
Телефон Мотыки зазвонил, выведя нас из ступора. Он заговорил по-французски.
— Oui?.. Oui? Bon, bon. Pas de problème, — Мотыка расплылся в улыбке. — Vingt minutes? Um, uh, l’entrée du Hotel Meliá Castilla?.. M-m-m-m… OK, à bientôt.
Он закрыл крышку телефона.
— Мы снова в деле. Фойе. Двадцать минут.
Мы ждали в фойе, расположившись в креслах с высокими спинками и дорогой малиновой обивкой. За нами стояла пара восточных сине-белых ваз — скорее всего, дешевые подделки. Полки на дальней стене были уставлены старинными замками. Насколько я мог судить, настоящими.
Мотыка заметил Флореса и Канделу в фойе и встретил их крепкими рукопожатиями. Они задержались на несколько минут, а потом агент подвел Канделу, чтобы познакомить его со мной и Джи. Флорес стоял примерно в шести метрах, скрестив руки на груди.
К моему удивлению, Кандела говорил по-английски.
Похоже, он был очень рад познакомиться с американским искусствоведом, и я ухватился за это, применив технику, которую называю «отвлекающим моментом». Вы устанавливаете контакт, найдя какой-нибудь общий интерес, никак не связанный с делом. Так вы усыпляете бдительность собеседника: он думает, что учит вас тому, чего вы не знаете. Этот прием я использовал, когда заставил Джошуа Бэра рассказать мне об индейских артефактах, и когда попросил Дениса Гарсию прислать мне заметки о пластине, и когда Том Марчано отправил мне копию закона о запрете на продажу орлиных перьев.
Я сделал первый выпад.
— Вы любите старинные вещи?
— Sí.
— Подойдите, хочу показать вам то, что мне действительно нравится.
Я подвел его под руку к дальней стене, к витрине со старинными замками. Несколько минут мы говорили о ремеслах и истории.
— Они из Севильи, — сказал он. — Севильские замки известны повсюду.
— Правда? — сказал я, притворяясь, будто мне интересно.
— Если хотите, я свожу вас в Севилью и покажу.
— Конечно, с радостью. Вы могли бы показать мне, что лучше купить.
Мы снова сели в красные кресла и заговорили о картинах. Я кивнул на Мотыку и сказал:
— Мой друг занимается денежным вопросом. Мое дело — картины.
Кандела улыбнулся. Я сказал ему, что сначала хочу проверить Брейгеля на подлинность. Он согласился, но чтобы убедиться, что мы поняли друг друга, я достал стопку фотографий украденных картин.
— Брейгель, — сказал я, выбрав карточку с картиной. — «Искушение святого Антония».
Он посмотрел на меня вопросительно.
— Брейгель, — повторил я.
Кандела изучал бумажную распечатку.
— Это из ФБР, — сказал он. — Этот список из ФБР.
Я затаил дыхание. Кандела соображал лучше, чем я думал. Фотографии действительно были с публичного сайта ФБР. Я скопировал их и вставил на пустые страницы, полагая, что это просто репродукции картин. Но Кандела сразу узнал размеры и форматы с сайта бюро. Видимо, он следил за расследованием своего ограбления.
Пытаясь скрыть ужас, я решил как можно меньше врать. Улыбнувшись, сказал:
— Вы узнали их, да? Точно, сайт ФБР. Единственное место, где я смог найти все фотографии.
Кандела искренне рассмеялся.
— А, интернет! Да, у ФБР лучшие снимки.
Я тоже засмеялся, стараясь не вспотеть. Вот это прокол. К счастью, пронесло!
Кандела взял пачку фотографий и начал просматривать их, помечая галочкой картины, которые пока есть в наличии, и крестиком те, что он уже продал.
Когда он закончил, я сказал:
— Вы продали уже семь?
— За восемь миллионов.
Я не знал, верить ли ему.
— Неплохо, — ответил я.
— Давайте я лучше покажу Фудзиту? Он меньше. Умещается в чемодане.
— Нет, нет, — настаивал я. — Брейгеля.
— Хорошо, поехали, — сказал он, вставая. — Отвезу вас к картине.
Мы не были готовы к тому, что придется куда-то ехать, и я беспокоился, что испанцы подойдут и все испортят, если мы направимся к выходу.
— Я никуда не поеду, — сказал я, изобразив испуг. — Вы принесете мне картину, я посмотрю на нее. Я специалист в искусстве, а не в вашем бизнесе.
Кандела понимающе улыбнулся. Он повернулся к Мотыке.
— Все верно, он же не такой профессионал, как мы. Он боится.
Кандела встал.
— Тогда завтра днем.
Мы пожали друг другу руки.
Мотыка проводил его к Флоресу, все еще стоявшему в шести метрах от нас. Я не слышал, о чем они говорили, но подумал, что они обсуждают встречу.
Я посмотрел на часы. Было около часа ночи.
На следующий день, за несколько минут до прибытия Канделы в наш номер, я задремал, опустившись в кресло.
Проснулся оттого, что на меня уставился испанский тайный агент.
— Как ты можешь спать? Ты не нервничаешь?
Я понимал, почему волнуется он. Он охранял пятьсот тысяч евро, а вооружен только крошечным пистолетиком с пятью патронами. Каждый день он вынимает банкноты из банковской ячейки, а вечером отвозит обратно. И его карьера под угрозой всякий раз, когда он берет деньги. Я сказал:
— Нет, я спокоен. Просто мне жарко и я не могу привыкнуть к смене часовых поясов.
В Филадельфии было шесть часов утра; кондиционер в нашем пятизвездочном люксе не работал. И внутри, и снаружи стояла тридцатидвухградусная жара.
Я подошел к окну и открыл его, надеясь уловить ветерок. Высунул голову, посмотрел вниз и отскочил обратно.
— Эй, Джи! А ну глянь! — Я наморщил брови, указывая на окно. Джи подбежал посмотреть.
Десятью этажами ниже мы видели бассейн, вокруг которого расположилось много купальщиц без лифчиков. Джи присвистнул. Затем подошел Мотыка. Веселье длилось всего мгновение. Из соседнего номера, снятого для слежки, прибежал офицер.
— Прекратите! — сказал он. — Мы же пишем все это на пленку!
Кандела прибыл через несколько минут. Не опоздал!
— Bonsoir, — произнес он четко. Он держал прямоугольный пакет, завернутый в черный полиэтилен. Он пожал руку Мотыке, Джи, мне и испанскому агенту под прикрытием, парню с револьвером в штанах. Затем увидел на кровати раскрытую спортивную сумку, наполненную банкнотами. Он помрачнел и спрятал руку в карман. И тут же сказал:
— Здесь, похоже, половина.
— Евро, — объяснил Мотыка. — Это проще, чем доллары.
Кандела опустился на колени рядом с кроватью, ближе к деньгам.
— Все в порядке. Можно я выну несколько банкнот?
— Конечно, не торопитесь.
Он начал считать деньги. Он положил в карман по одной купюре в двадцать, пятьдесят и сто евро, сказав, что должен проверить, не фальшивые ли они. Я взглянул на испанского офицера под прикрытием. Могу поспорить, он думал, что теперь ему грозит недостача в сто семьдесят евро.
Наконец Кандела закончил считать. Он встал и кивнул. Мотыка развел руками и улыбнулся.
— Я показал вам деньги. Теперь вы знаете, что у нас серьезные намерения.
— Oui, mais… un moment, s’il vous plaît. — Он достал свой мобильный телефон, набрал номер и обхватил трубку ладонью, когда заговорил. Затем пошел к двери, оставив деньги и пакет на кровати. — À bientôt.
Я понял: он еще вернется.
Испанский агент под прикрытием посмотрел на меня в замешательстве.
— Его пакет был обманкой, — объяснил я. — Он вернется.
Прошло три минуты. Кандела вернулся и, тяжело дыша, протащил в дверь второй пластиковый пакет.
— Вот, — объявил он. — Теперь можно выдохнуть.
Прежде чем развернуть картину, я для вида надел перчатки.
— Красиво, потрясающая композиция.
Я не лгал. Об особом мастерстве Брейгеля говорили его тонкие мазки, то, как он задолго до эпохи сюрреализма изобразил движение обнаженных чертей, танцующих вокруг котла, пока святой Антоний читает Библию. Даже спустя четыре столетия цвета — пурпурный, малиновый, слоновой кости — не утратили яркости. Это был истинный шедевр.
Кандела согласился, но по своим причинам.
— Да, одна из моих любимых. Тут люди занимаются сексом. Il faut jouir de la vie — надо наслаждаться жизнью, разве нет?
Он стал бродить туда-сюда по комнате, рассказывая о продаже первой партии картин колумбийскому наркоторговцу.
— Они заплатили в евро, огромной кучей мелких купюр.
Я старался его разговорить, пока разглядывал картину.
— Огромной кучей, значит?
— Ой, да. Вся задняя часть внедорожника была забита.
Все рассмеялись.
Я понес картину в самый темный угол комнаты. Кандела пошел за мной, заинтересовавшись моим осмотром.
— Ей четыреста пятьдесят лет, — сказал я, присвистнув. — Написана на доске, а не на холсте.
Кандела кивнул. Он-то, конечно, нисколько не сомневался в ее подлинности и, казалось, терял бдительность.
— Правильно, что проверяете товар. Вы, наверное, решили, что мы можем распространять подделки: сделать с десяток копий и продать десяти разным людям. — Расхаживая по комнате, он хвастал своими подвигами. — Я слов на ветер не бросаю. Уже восемнадцать лет граблю банки и обворовываю музеи, и меня еще ни разу не поймали.
— Не шутите? — произнес я, изобразив удивление.
Он расхохотался.
— Все знают, что это я. Когда пропадают картины, меня арестовывают, но доказательств нет. В газетах пишут, что это не я! Я на такую сложную работу не способен. А вот вам и опровержение, — он указал на картину, — и, если что, мне конец. Именно поэтому я боялся прийти с большой картиной.
Он оглядел комнату и снова сосредоточился на мне. Я все еще стоял, нагнувшись над картиной.
— Итак, — спросил он, — вы довольны?
— М-м-м.
Кандела не умолкал: он предлагал мне работу.
— Вы будете трудиться на меня, и я буду платить вам очень, очень хорошо.
Я не сводил глаз с картины. Он попробовал еще раз.
— В сентябре у меня будет четыре Ван Гога и один Рембрандт.
Я насторожился.
— В самом деле? Четыре Ван Гога?
— Я еще не взял их. — Как только он это произнес, я увидел, что испанский агент поднял трубку. Я придвинулся вместе с Брейгелем к кровати.
Повернувшись к испанскому агенту, я произнес кодовое слово.
— Это подлинник.
Он что-то сказал в трубку.
Через считаные секунды открылась дверь соседней комнаты, и оттуда ворвалась команда в черном обмундировании, размахивая автоматами. Кандела вскрикнул, и люди в черном навалились на него, дубася по мягкому месту. Прикрывая Брейгеля своим телом, я отскочил в сторону и перекатился на край кровати, крича:
— Bueno hombre! Хороший мальчик! Bueno hombre! Не стреляйте!
Лежа на полу, я морщился, пока испанцы избивали Канделу.
Внизу полиция взяла Флореса, ждавшего во внедорожнике с девятью другими работами. Позже правоохранители забрали оставшиеся картины из пляжного домика колумбийского наркодилера.
Мотыка и Джи улетели домой, а я задержался, чтобы помочь придумать легенду для защиты своего источника.
Меня назвали агентом ФБР, а двое «телохранителей» в моем гостиничном номере — Мотыка и Джи — по легенде были русскими и звались «Иван» и «Олег». В суматохе и спешке при задержании полиция якобы по ошибке арестовала меня, позволив Ивану и Олегу ускользнуть. Она планировала слить эту историю испанским СМИ.
Когда все бумаги были оформлены и легенда продумана, я вышел побродить душным мадридским вечером и несколько минут поболтал с Донной по мобильному телефону. Через несколько кварталов я нашел скамейку и сел. Развернул сигару Partágas и закурил.
Пуская дым, я наблюдал за парочкой, прогуливающейся мимо газетного киоска. Гадал, что напишут завтра в заголовках. Потом я вспомнил, что Копловиц завещала картины государству. Когда-нибудь эти работы Гойи, Фудзиты, Писсарро и других художников будут висеть в Прадо, самом знаменитом музее страны. На душе стало спокойнее. Я был доволен.
Я думал о том, как воспримут это дело дома. Конечно, будет фурор в ФБР и в СМИ. Мадридское дело должно было стать новой главой в моей карьере и борьбе бюро с преступлениями в сфере искусства. Я в этом не сомневался. Теперь я верил, что мы можем прилететь куда угодно в любое время на поиски бесценных произведений. Мы можем действовать, даже если украденное не принадлежит американцам. И протянуть руку помощи через океаны и границы — и ее примут с благодарностью.
Я откинулся на скамейке, вытянул ноги, и ощутил блаженство. Так я и сидел, пока окурок тонкой кубинской сигары не опалил мои пальцы.
Глава 15. Национальное достояние
Роли, Северная Каролина, 2003 год
Административный самолет без опознавательных знаков взмыл в светло-голубое небо Каролины.
Самолет директора ФБР используется для самых деликатных заданий. Cessna Citation X может развить скорость до тысячи ста километров в час и напичкан защищенными радиостанциями, телефонами и спутниковой связью. Он может доставить директора или генерального прокурора с одного побережья на другое за четыре часа. Этот самолет ФБР использует для перевозки элитного подразделения по спасению заложников и быстрой доставки правительственных экспертов на место преступления. Иногда Citation X используется для негласной переправки террористов.
Я растянулся в одном из шести больших кожаных кресел, потягивая колу. Напротив сидели мой напарник Джей Хейн и руководитель операции Майк Томпсон. Хрупкий груз, который мы сопровождали, был привязан к креслу рядом с моим. Его втиснули в особый деревянный ящик размером метр на метр. Его оценочная стоимость — тридцать миллионов долларов. Мы летели молча.
Небольшой экран компьютера, встроенного в перегородку из вишневого дерева, показывал время прибытия в Роли. Оставалось десять минут.
Через несколько часов мы представим груз в ящике федеральному маршалу в Роли. Этим завершится дело, при расследовании которого мы, работая под прикрытием, вернули один из главных документов американской истории — пергамент, украденный в качестве военного трофея более века назад.
В ящике лежала одна из четырнадцати оригинальных копий Билля о правах. И стоила она столько потому, что это единственная сохранившаяся копия, которой не было в правительственных архивах.
Самолет грациозно наклонился влево, и мы начали спуск. Я выглянул в овальное окно и заметил серый купол Капитолия штата Северная Каролина. Это и есть место преступления.
Экземпляр Билля о правах штата Северная Каролина по сути и не был копией.
Двадцать шестого сентября 1789 года писарь на первом заседании Конгресса США взял перо и четырнадцать листов пергамента. На каждой странице он вывел крупным каллиграфическим почерком одинаковые варианты предложенного Билля о правах — списка поправок к Конституции, принятых Сенатом и Палатой представителей всего несколькими днями ранее. Председатели палат, спикер палаты Фредерик Мюленберг и вице-президент Джон Адамс подписали каждый из четырнадцати экземпляров. По приказу президента Вашингтона клерк направил по одному экземпляру в каждый из тринадцати штатов на рассмотрение. Окончательный вариант остался у нового федерального правительства.
Вашингтон направил в тринадцать штатов рабочий документ, содержавший двенадцать предлагаемых поправок, включая те десять, которые ассоциируются у большинства американцев с Биллем о правах: свобода вероисповедания, право на надлежащее судебное разбирательство, право на суд присяжных и т. д. Две поправки, не попавшие в первый вариант, были административными, связанными с повышением заработной платы и назначениями членов Конгресса.
Примечательно, что все поправки помещаются на одном листе пергамента длиной семьдесят шесть сантиметров.
В начале октября 1789 года губернатор Сэмюэл Джонстон получил экземпляр для Северной Каролины. После ратификации Билля о правах всеми штатами десять поправок к Конституции вступили в силу сразу, без бюрократических проволочек. И четырнадцать оригинальных экземпляров пергамента с двенадцатью поправками стали документом, который мы теперь считаем Биллем о правах — тем самым, что выставлен в Национальном архиве и обычно продается в качестве сувенира в туристических лавках.
В Северной Каролине к экземпляру Билля о правах и сопровождающему письму Вашингтона сразу отнеслись как к историческим документам. Делопроизводитель поместил их в сейф. Так у них и не было постоянного места до 1796 года, когда в штате закончилось строительство здания законодательного собрания в Роли. Новая столица Северной Каролины, как и город Вашингтон, строилась по единому плану: десять квадратных кварталов, выросших на бывшей плантации и смоделированных по образцу Филадельфии. Здание законодательного собрания сгорело в 1831 году, но помощники вовремя собрали почти все документы и спасли их. В 1840 году, когда в Северной Каролине был построен новый трехэтажный гранитный Капитолий в форме креста, самые важные исторические документы перенесли туда, в помещения государственного секретаря, казначейства и Государственной библиотеки, и в ниши рядом с залом сената штата. Как правило, документы складывали пополам, заворачивали в обычную бумагу, скрепляли шпагатом и клали в шкафчики с дверцами. Скорее всего, папку с Биллем о правах хранили в офисе государственного секретаря на первом этаже, в ячейке, в запертом ящике.
Видимо, там исторический пергамент преспокойно лежал до последних часов Гражданской войны.
Двенадцатого апреля 1865 года, через три дня после того, как Ли сдался Гранту, и за два дня до того, как Бут застрелил Линкольна, Шерман собрал девяносто тысяч солдат на окраине столицы Северной Каролины.
В полночь губернатор Завулон Вэнс запер двери Капитолия и сбежал верхом на коне. Он оставил у мэра письмо для Шермана: мол, обещайте не грабить и не сжигать Роли, и войска Конфедерации покинут город. «Капитолий штата с библиотеками, музеями и большей частью государственных архивов тоже в вашей власти, — писал губернатор Шерману. — Могу лишь надеяться, что не будет повреждений и разрушений. Ведь такой образец знаний и вкуса не поможет в войне ни одной из сторон. И не важно, сберегут они его или уничтожат». Войска Союза, получившие письмо, не давали обещаний, но конфедераты все равно отступили.
Солдаты Шермана не только проигнорировали слова губернатора, но и нарушили свои же правила ведения войны. Они не последовали приказу генерала армии № 100, статьям 35, 36 и 45, как будто не слышали о них (а может, так и было). Эти военные указы, изданные президентом Линкольном 24 апреля 1863 года, стали одним из первых современных законов, защищающих культурное наследие во время конфликтов: «Классические произведения искусства, библиотеки, научные собрания или ценные инструменты, например астрономические телескопы, а также больницы надо защищать от любого возможного ущерба, даже если они оказались в укреплениях во время осады или бомбардировки… Их ни в коем случае нельзя продавать или дарить, если они захвачены армией США. Их нельзя присваивать, бессмысленно уничтожать или наносить им ущерб… Согласно современному военному законодательству, все захваченное и добытое в качестве трофеев принадлежит правительству».
Десятки тысяч солдат Союза, отправившиеся в Роли в тот день, захватили почти все здания — и частные, и государственные. Капитолию тоже пришлось несладко. Солдаты Шермана обшарили комнату законодательных документов, разрисовали стены Капитолия. Начальник военной полиции войск Союза занял губернаторский двухкомнатный кабинет; в самом красивом здании Роли побывали сотни, а то и тысячи солдат, приходившие на собрания или просто поглазеть. «В Капитолии был ужасный беспорядок, — рассказывал один солдат в неофициальной летописи одного из полков Союза. — Перевязанные шпагатом документы и карты валялись на полу библиотеки. Музейные залы были в еще более плачевном состоянии».
Через несколько месяцев, когда чиновники Северной Каролины вернулись, в здании царила разруха, а часть самых ценных документов штата, включая Билль о правах, бесследно исчезла. Разгневанный казначей штата напрасно жаловался Вашингтону: «Этот грабеж, как мне кажется, был хищническим и незаконным, а значит, и неразумным».
Так началось таинственное путешествие Билля о правах, ставшего военным трофеем.
История знает много примеров, когда произведения искусства крали во время войны.
Римская империя, как известно, вывозила тонны военных трофеев. Но она же одной из первых ввела правила защиты культурного наследия. Римским армиям было приказано забирать себе только сполии — обычную военную добычу, но не культурные артефакты (произведения искусства и религиозные символы).
В 1600-е, во время Тридцатилетней войны, в которой участвовали Германия и большинство европейских стран, протестантские и католические армии грабили побежденных врагов. Протестантское войско под предводительством шведского короля Густава Адольфа совершало набеги на католические церкви и монастыри по всей Европе, собирая самые изысканные произведения искусства и наполняя ими стокгольмские замки и музеи. Войска, поддерживаемые Католической церковью, с гордостью приносили трофеи папе Григорию XV. В их числе были сотни книг из знаменитой Палатинской библиотеки в Гейдельберге. Наполеон, прошедший всю Европу, и Британия в процессе колонизации части Ближнего Востока и Азии вывозили ценности в музеи Парижа и Лондона.
Свирепая военная машина Адольфа Гитлера прикрывала самые продуманные грабежи и разрушение культурного наследия Европы. Фашистские войска в европейских странах, начиная с Австрии в 1938 году, отбирали картины и скульптуры, которые желал заполучить фюрер, и уничтожали памятники искусства и культуры, прославлявшие народы, которые он считал низшими. В Польше, Голландии, Бельгии, Италии и России гитлеровцы захватили десятки тысяч произведений, включая работы Рембрандта, да Винчи, Рафаэля и Микеланджело. Во Франции нацистам не так везло. Дойдя до Лувра, они обнаружили только пустые рамы. Французы вывезли тысячи полотен еще до вторжения, «Мону Лизу» завернули в красный атлас и тайно доставили в машине скорой помощи в отдаленный замок на юге страны. В конце войны солдаты союзников обнаружили сорок тонн украденных произведений, складированных в альпийских шале или спрятанных глубоко в соляных шахтах нацистов.
Искусство страдало во всех постколониальных конфликтах и гражданских войнах в Европе. Во время войн с красными кхмерами в семидесятых были разрушены тысячи буддийских храмов, а из лучшего культурного учреждения Камбоджи, Dépôt de la Conservation d’Angkor, украдены скульптуры.
Грабежи в Ираке и Афганистане показали, что и в нашем столетии люди не чужды мародерства. Во время вторжения США в Ирак в 2003 году грабители обшарили оставшиеся без охраны музеи, и были утрачены сотни бесценных сокровищ, многие из которых хранились еще со времен Вавилона. В Афганистане с 1979 по 2001 год три враждующие силы — русские, повстанцы-моджахеды и талибы — украли большую часть лучших произведений искусства и древностей страны.
Однако украденные трофеи не обязательно утрачиваются навсегда.
Одна из моих любимых легенд — история Филадельфии. В 1777 году, когда англичане вторглись в столицу США, оттеснив Континентальную армию обратно в Вэлли-Фордж, офицеры в красных мундирах много месяцев жили в пустовавшем доме Бенджамина Франклина. Тот был тогда во Франции, а по возвращении увидел, что британцы украли большую часть его ценностей, включая и его любимый портрет, висевший над камином.
Картину спасли только в начале ХХ века благодаря случаю. Американский посол в Англии оказался с визитом в доме потомка одного из офицеров и заметил в библиотеке портрет Франклина. В 1906 году, после вежливых переговоров, длившихся несколько лет, англичане подарили картину президенту Теодору Рузвельту.
Теперь портрет Франклина висит в Белом доме.
В 1897 году пропавший экземпляр Билля о правах из Северной Каролины обнаружился в самом неожиданном месте. Как ни удивительно, один любознательный газетный репортер заметил его на стене кабинета в здании Торговой палаты Индианаполиса.
Пергамент висел в рамке в кабинете Чарльза Шотвелла, элегантного и уважаемого бизнесмена, который занимался торговлей зерном, мукой и кормами. В мае 1897 года он пригласил репортера из Indianapolis News для интервью. Когда любопытный журналист спросил о Билле о правах, висевшем на стене, Шотвелл рассказал ему поразительную историю, начавшуюся тридцать лет назад.
Прошел год после окончания Гражданской войны, и он уехал домой в Огайо к родственникам. Он решил навестить друзей детства в соседнем городе и посмотреть, как они пережили войну.
«В тот день я зашел в лавку и встретил одного из мальчишек, которых знал до войны, — вспоминал Шотвелл. — Он рассказал мне несколько историй из своей военной жизни. Он был в армии Шермана, когда тот прошел через Джорджию к морю. Их армия вошла в город Роли в Северной Каролине… и он был одним из солдат, кто побывал в здании Законодательного собрания и ни в чем себе там не отказывал. Они забрели в канцелярию госсекретаря и вытащили… пергамент, который сейчас у меня. Мой приятель сказал, что это военный трофей и он владеет им законно».
Шотвелл поведал, что купил Билль о правах у этого солдата за пять долларов, и проницательный репортер понял, что у него в руках сама история.
Газета в Роли полностью перепечатала новость из Indianapolis News, подав ее как сенсацию. «ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕЛИКВИЯ УКРАДЕНА ЯНКИ ИЗ МЕСТНОГО КАПИТОЛИЯ» — кричал заголовок.
Прочтя статью, судья Верховного суда Северной Каролины Уолтер Кларк пришел в ярость. Он был ветераном Конфедерации, сражавшимся в Энтитеме, и призвал власти Северной Каролины вернуть похищенный пергамент. Казначей штата обратился к чиновникам из Индианы, но Шотвелл отказался сотрудничать и вскоре спрятал военный трофей.
Билль о правах всплыл снова только через двадцать восемь лет.
В 1925 году приятель сына Шотвелла связался с властями Северной Каролины и предложил продать этот документ штату. «Старый джентльмен, купивший его у солдата, полагал, что это военный трофей… — писал этот приятель, Чарльз Рейд из Гаррисберга. — Владелец — очень пожилой человек, хранивший этот манускрипт последние пятьдесят девять лет. Я думаю, что выставить его на продажу старика побудила нужда. Уверен, он готов рассмотреть и принять любой разумный гонорар…» Ему от имени штата ответил секретарь исторической комиссии. По сути, он сообщил Рейду, что человек, держащий в заложниках Билль о правах, бесчестно завладел исторической реликвией штата. «Пока документ не вернется официально во владение Северной Каролины, — писал чиновник высокомерно, — он будет памятником воровству».
Когда Шотвелл умер, Билль о правах унаследовал его сын. Он не пытался продать его, наоборот, они с женой гордо, но без лишней помпы повесили его в своей гостиной в Индианаполисе. После их смерти дочери, Энн Шотвелл Босворт и Сильвия Шотвелл Лонг, положили его на хранение в ячейку одного из банков Индианы.
В 1995 году, через сто с лишним лет долгих и странных скитаний манускрипта из столицы штата Северная Каролина, эти две дамы впервые попытались продать его. Они втайне обратились к адвокату из Индианаполиса. Говорят, он безуспешно связывался с несколькими богатыми и знаменитыми коллекционерами, в том числе Майклом Джорданом, Стивеном Спилбергом и Опрой Уинфри. Интерес проявил арт-дилер Уэйн Пратт, известный благодаря выступлениям в телепередаче Antiques Roadshow. Пратт нанял видного адвоката Джона Ричардсона, имевшего связи в политических кругах Вашингтона. Он занимался сбором средств на президентскую кампанию Клинтона, а его жена была сотрудницей Налогового управления. Пратт и Ричардсон не стали сразу покупать Билль о правах, а начали действовать осторожно, пытаясь найти дилера.
В октябре 1995 года Ричардсон связался с высокопоставленными чиновниками Северной Каролины и предложил сложную и очень секретную сделку, отказавшись назвать своих клиентов. Он заявил, что цена составит от трех до десяти миллионов долларов, в зависимости от результата нескольких независимых оценок. В длинном факсе государственному секретарю по культуре Ричардсон предупредил о страшных последствиях в случае, если сделка сорвется или будет предана огласке. «Еще раз подчеркну, что нам очень важно действовать быстро и конфиденциально. У меня нет прямых контактов с владельцами предмета, между мной и этими людьми минимум три посредника… Они настаивают на анонимности. Нас предупредили, что они нервничают, и, если они заподозрят, что их личность может быть раскрыта против их воли, они могут сделать то, что противоречит нашим интересам».
Власти Северной Каролины обсудили предложение и даже тайно обратились в частный фонд с просьбой о помощи в покупке документа. Но в итоге они отказались от этой идеи, придя к тому же выводу, что и их предшественники: штат не станет платить выкуп за похищенную государственную собственность. Загнанный в угол, Ричардсон прервал контакты с властями штата.
Пять лет спустя Билль о правах из Северной Каролины неожиданно ненадолго всплыл в Вашингтоне.
В феврале 2000 года женщина, не назвавшая себя, позвонила одному из ведущих специалистов страны по историческим документам той эпохи — Шарлин Бэнгс Бикфорд, руководителю проекта Первого федерального конгресса в Университете Джорджа Вашингтона. Она заявила, что у нее есть экземпляр Билля о правах, и попросила Бикфорд взглянуть на него. Историк согласилась, и однажды, вскоре после звонка, женщина пришла в университет. С ней были трое мужчин и большой ящик. Бикфорд представила себя и коллег, но, к ее удивлению, посетители отказались назвать свои имена. Они раскрыли пакет, и через несколько минут ученые убедились, что документ, скорее всего, подлинный. Но поскольку пергамент был в рамке под стеклом — и гости отказались его вынимать, — нельзя было посмотреть на обратную сторону и тщательно изучить описание, где сказано, какой штат получил его в 1789 году.
Бикфорд спросила у гостей, откуда у них манускрипт. Те молчали.
— Что ж, — сказала она, — этот документ бесценен и одновременно бесполезен. Вы не сможете продать его законно.
Не сказав ни слова и даже не поблагодарив, загадочные посетители забрали пергамент и удалились, и Билль о правах снова ушел на дно.
Три года спустя, в марте 2003 года, мне внезапно позвонил коллега из Филадельфии специальный агент Джей Хейн.
Был вечер четверга, в остальном ничем не примечательного рабочего дня. Я ехал домой, и Хейн позвонил мне на мобильный телефон.
— Ты не поверишь, — сказал он.
— Не поверю чему?
Хейн сказал, что все подробности ему неизвестны, но подытожил то, что знал: офису ФБР в Роли срочно требовалась наша помощь, и это связано с нашей родиной — Филадельфией. Дело касалось нового Национального центра Конституции — современного музея, который строился напротив Колокола свободы и Индепенденс-холла. Музей, посвященный празднованию Конституции и поправок, был частным, беспартийным и некоммерческим предприятием и должен был стать одной из крупнейших туристических достопримечательностей Филадельфии. Его поддерживали влиятельные политики, включая губернатора Эда Ренделла и сенатора США Арлена Спектера. Перерезание красной ленточки в честь открытия, на котором должна была присутствовать судья Верховного суда Сандра Дэй О’Коннор, было запланировано всего через несколько месяцев (4 июля), а руководство музея все еще пополняло коллекцию. Несколько недель назад, как сообщил Хейн, Центр Конституции наткнулся на оригинал Билля о правах. Продавец хотел четыре миллиона долларов.
Я был в недоумении.
— Подожди, как можно продать Билль о правах?
— Вот именно, — сказал Хейн. — Ты должен связаться с агентом в Роли Полом Минеллой. Он ждет твоего звонка.
Я набрал номер Минеллы.
Он ввел меня в курс дела. Месяцем ранее вашингтонский адвокат по фамилии Ричардсон и дилер из Коннектикута по фамилии Пратт тайно предложили Билль о правах Центру Конституции. Тогда я еще не знал, что именно эта парочка пыталась продать манускрипт Северной Каролине в 1995 году. Президент и адвокат Центра наняли специалиста для проверки документа, и тот отправил фотографии лицевой и оборотной сторон пергамента экспертам из Университета Джорджа Вашингтона. Тем же, которые исследовали его тремя годами ранее. Они пришли к выводу: запись на обороте доказывает, что это давно утерянная копия из Северной Каролины, украденная во время Гражданской войны. Когда президент Центра Конституции узнал, что это военный трофей — украденная собственность, — он решил посоветоваться с губернатором Пенсильвании. Тот позвонил губернатору Северной Каролины, который ответил, что штат не станет платить за возврат документа. Помощник губернатора Северной Каролины позвонил генеральному прокурору США и связался с ФБР. Не теряя времени — в то же утро, по словам агента в Роли, — федеральные прокуроры в Северной Каролине убедили мирового судью подписать ордер на арест Билля о правах.
В Северной Каролине, как рассказал мне агент, дело двигалось со скоростью света, все проходило на высшем уровне.
— Генеральный прокурор и губернатор участвуют лично.
— Ладно, — ответил я. — Так где же сейчас Билль о правах?
— Мы не знаем.
ФБР подозревало, что он может находиться в офисе или дома у Пратта в Коннектикуте, но проводить обыск слишком рискованно. Это понятно. Если агенты не найдут Билль о правах ни дома, ни на работе у Пратта, люди могут испугаться и снова уйти в подполье вместе с документом.
Я позвонил президенту Центра Конституции Джо Торселле и договорился встретиться с ним на следующее утро в офисе адвоката, занимавшегося сделкой от имени музея.
В ту ночь отдел ФБР в Роли прислал мне по факсу восемьдесят страниц документов из архива штата Северная Каролина: столетний бумажный след документа, включая газетную статью с упоминанием Шотвелла за 1897 год, предложение Рейда от 1925 года и предложение Ричардсона от 1995 года.
На следующий день в девять утра мы с Хейном прибыли в устланный алым ковром офис юридической конторы на тридцать третьем этаже современного небоскреба. Администратор провел нас в угловой кабинет.
Торселла, мужчина лет сорока, был восходящей звездой на политическом небосклоне Филадельфии, бывшим заместителем мэра и доверенным лицом губернатора. Он поддержал кампанию, в результате которой было собрано сто восемьдесят пять миллионов долларов частных средств на строительство Центра Конституции. Его жена работала главным советником сенатора Спектера в Сенатском судебном комитете и хотела быть федеральным судьей. Торселла не скрывал амбициозного желания стать конгрессменом или сенатором.
Его адвокат, Стивен Хармелин, оказался еще более крупной рыбой. Он окончил Гарвардскую юридическую школу в 1963 году, в год рождения Торселлы, и теперь был управляющим партнером Dilworth Paxson — престижной юридической фирмы, которая представляла интересы крупного бизнеса и политических деятелей Пенсильвании. В числе их клиентов были люди с фамилиями Анненберг и Отис, а также судьи, мэр, губернатор, законодатели штата и сенатор США. Хармелин ценил свою репутацию жесткого, но честного и этичного посредника, привыкшего к успеху, многомиллионным сделкам и секретности.
Торселла явно нервничал. Хармелин — нет.
— Чем мы можем вам помочь? — вежливо спросил адвокат.
Я развернул ордер на арест и передал его Хармелину. Он удивился и поднял руки вверх, давая понять, что они не хотят быть причастны к преступлению: «Все, что в наших силах». Он спросил меня, планируем ли мы обыскать дом и офисы Пратта или офисы его экспертов и юристов.
— У меня есть адреса, если они вам нужны, — предложил он.
Я покачал головой.
— Слишком рискованно.
Они молча смотрели на меня. Я сказал:
— Если мы проведем обыск и не найдем документ, продавцы могут испугаться, и мы не увидим Билль еще сто лет. Они уже угрожали увезти его за границу.
Хармелин и Торселла об этом не слышали. Я рассказал историю о попытке Ричардсона скрытно продать Билль о правах Северной Каролине в 1995 году и таинственном визите к экспертам в Университет Джорджа Вашингтона в 2000-м. Я показал им письмо с предложением Ричардсона и туманными угрозами, что документ может быть утрачен, если встревоженные продавцы почувствуют опасность.
Они разозлились, почувствовали себя обманутыми и вслух переживали о том, что скандал навредит их отличному проекту. Наступил идеальный момент для моего предложения.
— Мы хотим, чтобы вы помогли нам вернуть его. Предложите сделку, чтобы они принесли Билль о правах сюда, в ваш офис, а мы его заберем.
Я постарался, чтобы все выглядело очень просто.
Торселла кашлянул.
— Вы хотите, чтобы мы действовали тайно?
— Да. Это единственный способ не дать вывезти документ из страны. Другого нет.
Хармелин встал и вывел Торселлу в коридор. Они о чем-то пошептались. И приняли мое предложение. Прежде чем мы углубились в детали, Хармелин, как любой хороший адвокат, созвал на совещание других юристов, чтобы обсудить непредвиденные обстоятельства. Они целый час думали, что может пойти не так. Что делать, если документ будет поврежден в драке? Кто будет отвечать? Что, если кто-то предъявит иск фирме за участие в мошенничестве? Или позвонит в адвокатскую коллегию штата и обвинит Хармелина во лжи коллеге-адвокату? А если ситуация выйдет из-под контроля или просочится в прессу? Что, если Ричардсон потребует полной компенсации? Наша страховка покрывает это? Что, если Северная Каролина подаст в суд на фирму? Что, если…
— Послушайте! — прервал их я. — Вы просто придумываете, почему план не сработает.
Я повернулся к Хармелину и его галстуку за двести долларов.
— Неважно, что вы скажете Ричардсону. Это все ерунда. Просто скажите что-нибудь, чтобы он принес Билль о правах в этот офис. Помните: вам не придется выполнять свои обещания.
Юристу вроде Хармелина такое трудно было понять, и он спросил, не хочу ли я вести переговоры сам. Я ответил, что слишком поздно вводить нового игрока. Это может напугать Ричардсона.
— Я сыграю роль покупателя, — сказал я. — Буду Бобом Клэем, миллионером-патриотом, владельцем доткома, готовым пожертвовать Билль о правах новому Центру Конституции.
Хармелин неохотно связался по телефону с Ричардсоном и весь остаток дня делал вид, будто ведет переговоры. Сначала было напущено много юридического тумана, и я видел, что ему трудно сдаться. Но ближе к вечеру Хармелин начал входить в роль. К концу последнего разговора в пятницу Ричардсон спросил о благотворителе — том, кто покупает Билль о правах для Центра Конституции.
Хармелин подмигнул мне, когда я слушал разговор в трубке параллельного телефона у него в офисе.
— Его зовут Боб Клэй. Он занимается доткомами. Вы познакомитесь, когда приедете сюда во вторник для заключения сделки.
Положив трубку, Хармелин воодушевился и так успокоился, что даже решил меня подразнить.
— Агент Уиттман, — сказал он, когда мы с Хейном направлялись к двери. — Сделайте одолжение. Если вы собираетесь во вторник притворяться доткомовским выскочкой, прикупите себе более приличную обувь.
Меня не было в конференц-зале, когда началась встреча, посвященная сделке.
Я хотел, чтобы Ричардсон видел знакомые лица, чувствовал себя комфортно. И в помещении были только те трое, кого он уже встречал раньше: Хармелин, консультант по редким документам и еще один адвокат из Dilworth. В пиджаке Хармелина лежал чек на четыре миллиона долларов.
Мы с Торселлой ждали в другом кабинете. Моя группа поддержки — пятеро агентов ФБР, включая Хейна, — находилась неподалеку.
Мы не устанавливали аудио- и видеоаппаратуру. Я подумал, что было бы слишком сложно получить разрешение: запись фальшивой сделки в юридической фирме вызвала бы у адвокатов больше беспокойства и потребовала бы согласования на разных уровнях в ФБР. Кроме того, Ричардсон не выглядел агрессивным. Если бы возникла серьезная проблема, мы бы услышали крики через дверь.
Агенты из наружки сообщили, что Ричардсон прибыл один и с пустыми руками. Через несколько минут они сказали, что в конференц-зал он направляется с большим фолиантом.
Я подождал еще несколько минут, и Хармелин отвел меня в конференц-зал. Билль о правах лежал на столике рядом со стопкой поддельных документов о сделке. Я для вида стал его рассматривать. Он был с метр в длину, написан на выцветшем пергаменте, с неравномерной текстурой, из-за чего некоторые поправки было трудно прочесть. Учитывая путь, проделанный манускриптом, он был в замечательном состоянии. В самом низу виднелась аккуратная подпись Джона Адамса, буквами около пяти сантиметров высотой.
Я повернулся к Ричардсону и пожал ему руку, потом хлопнул Хармелина по спине.
— Господа, — сказал я, — сегодня особенный день. Это будет большой вклад в Центр Конституции. Мне так приятно, что я причастен к такому событию. — Я повернулся к Хармелину, давая ему повод уйти. — Стив, позови Торселлу сюда. Он должен это увидеть.
План состоял в том, чтобы я остался наедине с экспертом по документам и Ричардсоном. Поскольку Билль о правах, по сути, был в наших руках, пришло время попытаться возбудить уголовное дело. Я хотел провести несколько минут с Ричардсоном, чтобы поговорить об украденном документе и выяснить, что он знал о его стодвадцатипятилетнем таинственном путешествии из Роли в Филадельфию. Учитывая, что его мысли занимал куш размером в четыре миллиона долларов, момент был как нельзя более подходящий. Я планировал сразу спросить, насколько осторожным мне нужно быть, есть ли на документе какие-нибудь отметки, доказывающие, что это — украденный экземпляр из Северной Каролины.
Но не сложилось.
Когда Хармелин вышел из комнаты за Торселлой, он толкнул дверь в кабинет, где ждали мои коллеги. Они восприняли это как сигнал к действию и очутились между Биллем о правах и остальными. Томпсон, наш руководитель отряда, вручил Ричардсону ордер на арест.
— Я арестован? — спросил он.
— О нет, — сказал я, пытаясь его успокоить. Я тихо проводил его в дальний угол.
— Что все это значит? — спросил он.
В тот момент уже не было смысла притворяться, и я почувствовал, что должен сказать правду.
— Мы ведем уголовное расследование по обвинению в перевозке украденного имущества между штатами, — сказал я. — Документ теперь стал уликой.
Как я и боялся, Ричардсон отказался говорить дальше.
— Я могу идти? — спросил он.
— Да, — сказал я. У меня не было причин его задерживать. Никаких доказательств того, что он знал, что Билль о правах украден, у нас не было. — Но сначала я должен выдать вам расписку в получении документа.
— Должно быть, вы шутите.
— Нет. — Я взял стандартный бланк расписки на конфискованное имущество, который заполнял десятки раз. Когда я вносил слова: «Описание предмета: экземпляр Билля о правах США», меня осенило, какое историческое значение имел этот момент. Я вспомнил свой первый день в Академии ФБР, когда дал клятву защищать Конституцию и Билль о правах. Я всегда считал, что поклялся защищать идеалы, а не сами документы.
Ричардсон, заикаясь, что-то мне сказал, но в тот момент я был поглощен торжественностью момента и не расслышал.
Я только вручил ему расписку.
Он поправил галстук и вышел за дверь.
Когда мы объявили о находке Билля о правах, в прессе вышли такие восторженные статьи, что головной офис не колеблясь разрешил нам воспользоваться самолетом директора ФБР, чтобы доставить манускрипт домой.
Полет в Роли запланировали на 1 апреля. То, что это День дурака, было совпадением, но, безусловно, облегчило нам задачу.
Перед отъездом я зашел в сувенирный магазин в центре для посетителей Индепенденс-молла и приобрел копию Билля о правах за два доллара. Затем пошел в аптеку и купил кусок плакатного картона размером шестьдесят на шестьдесят сантиметров и суперклей. Мы с Хейном наклеили поддельный Билль о правах на картон и сунули его в ящик размером метр на метр, где находился настоящий Билль о правах, упакованный в защитный пластиковый чехол.
После приземления в Роли четверо местных агентов ФБР встретили нас в аэропорту и отвезли за город. Зал был уже до отказа набит агентами, прокурорами и чиновниками. Мы подразнили аудиторию, демонстрируя официальные документы, подтверждавшие передачу улик. Люди начали терять терпение.
— Ой, простите, — сказал я. — Вы хотите сначала увидеть его?
Кто бы сомневался. Хейн начал открывать ящик, и я предусмотрительно встал перед ним, чтобы подстраховать, если он окажется недостаточно ловким. Он вынул поддельный Билль о правах, поднял его — и уронил на пол.
— Ох, — сказал я, когда Хейн наклонился. — Боже мой.
Я услышал легкий вздох. Закатив глаза, Хейн споткнулся в лучших клоунских традициях и неуклюже наступил на эту чертову штуку, сминая картон.
Как по команде я закричал:
— О боже!
Мы услышали новые вздохи и увидели, как выпучил глаза представитель администрации.
Мы подождали, а потом рассмеялись.
Представителю администрации Роли было не смешно.
Мы осторожно достали настоящий Билль о правах, положили его на стол и официально передали федеральному чиновнику.
Глава 16. Отдел по борьбе с преступлениями в сфере искусства
Мерион, Пенсильвания, 2005 год
Стоя перед дюжиной агентов и руководителей из ФБР в просторной главной галерее музея Фонда Барнса, я указал на современную картину с изображением мужчины и женщины, несущих цветы.
— Это «Крестьяне», — сказал я. — Это Пикассо, современный художник, но в его творчестве видно влияние Микеланджело. Видите ступни и пальцы ног? Мускулистые руки? Мускулистые ноги? Так изображают героев.
Через четырнадцать лет после годичного курса в школе искусств Барнса я вернулся, чтобы помочь провести однодневный семинар для агентов ФБР из недавно сформированной команды по расследованию преступлений в сфере искусства.
— Любая современная галерея — место, где можно многому научиться, — сказал я коллегам из ФБР. — Четыре ее стены — классные доски. Это планы уроков. Каждая картина учит нас чему-то новому в плане света, очертаний, цвета, форм и пространства. Кстати, в одном только этом помещении вы сейчас видите произведения искусства стоимостью не меньше миллиарда долларов.
Мои ученики, похоже, были ошеломлены. Мало кто из агентов разбирался в искусстве, и неудивительно, что суммы их поразили.
— Не пугайтесь, — продолжал я. — Мы здесь не для того, чтобы узнать, как обнаружить подделку или узнать стоимость картины. Когда будет нужно, вы об этом узнаете. Сегодня мы здесь для того, чтобы понять главное. Чтобы ваши глаза привыкали. Чтобы вы учились видеть.
Группа перетекла во второй зал галереи. Я показал рукой на несколько картин и сказал:
— Удивительно, что здесь, в одной этой галерее, вы смотрите на стену и видите Сезанна, потом еще Сезанна, и еще, и еще — одного Сезанна за другим. В этом музее семьдесят его работ.
Я встал перед портретом Ренуара.
— Посмотрите на цвет. На палитру, силуэты людей, как она написана. Видите? А теперь обратите внимание на Сезанна. Видите, как он выписывает складки на скатерти? Это один из самых сложных моментов. Сравните палитры. Ренуар — розовые, ярко-синие, кремовые, телесные тона. Сезанн — темно-зеленые, фиолетовые, пурпурные, приглушенные.
Группа вошла в следующий зал.
— Сможете ли вы сами показать в этом зале, где Сезанн, а где Ренуар?
Осмелевшие слушатели начали выкрикивать ответы, и меня распирало от гордости. Я уже не единственный агент ФБР, кому интересны преступления в сфере искусства.
В истории борьбы ФБР с преступлениями в сфере искусства наступила новая эпоха. Создание соответствующего отдела было большим шагом вперед для бюро. И совершенно естественным после наших успехов в громких делах Роквелла, Копловиц, Antiques Roadshow и Билля о правах.
ФБР назначило в команду по борьбе с преступлениями в сфере искусства восьмерых агентов по всей стране, а меня — старшим следователем. Агенты будут заниматься искусством не полный рабочий день, как я, но станут браться за дела по мере их появления в своих регионах и будут готовы к немедленным действиям. Новая инициатива ФБР не шла ни в какое сравнение с итальянским отделом по борьбе с преступлениями в сфере искусства: там таких специалистов триста человек. Но для начала неплохо.
Похоже, прошли времена, когда ФБР обходилось одним-двумя агентами, проявлявшими интерес к таким преступлениям. Тогда сотрудник вроде Боба Базена брался за дело, а потом неофициально передавал его кому-то вроде меня. Я знал в ФБР всего двоих экспертов в этой сфере, кроме начальника, и оба работали в Нью-Йорке. В шестидесятые и семидесятые это Дональд Мейсон, пожалуй, получивший наибольшую известность благодаря возвращению похищенного Кандинского, а в семидесятые и восьмидесятые — Томас Макшейн, который однажды нашел украденного Ван Гога под навесом для машин на нью-йоркской автозаправке.
В поддержку новому отделу Министерство юстиции выделило группу прокуроров, одним из которых был Боб Гольдман. Им дали особые полномочия для судебного преследования по делам о художественных преступлениях в любой точке страны. С большой помпой и серией публичных выступлений ФБР объявило о создании сайта Art Crime Team, логотипа и даже сувенирных монет. Множились публикации в прессе и похвалы. Незадолго до официального создания отдела по борьбе с преступлениями в сфере искусства я был удостоен высшей награды Смитсоновского института за защиту культурных ценностей — премии имени Роберта Бёрка. Два года спустя такая же честь выпала Гольдману. Конечно, мы приветствовали шумиху в СМИ, но я старался держаться в тени, чтобы и дальше работать под прикрытием. Я никогда не позволял себя фотографировать, а во время пресс-конференций всегда сидел в глубине комнаты. Всякий раз, когда меня снимали для телевидения, мне затемняли лицо.
Несколько месяцев после появления отдела мы занимались мелкими делами, поднимая уровень мастерства. В Пенсильвании я обнаружил восемь вавилонских каменных печатей с надписями, купленных американским морским пехотинцем как сувениры на блошином рынке под Багдадом. Это был первый случай, когда ФБР обнаружило иракские артефакты в США. В ходе операции в одном из гостиничных номеров Сент-Луиса я арестовал фальшивого арабского шейха, который пытался продать мне подделку Рембрандта за миллион долларов. В зале федерального суда в Филадельфии мы с Гольдманом выступили против двух торговцев антиквариатом, обманувших богатого коллекционера во время продажи старинных револьверов Кольта.
А главное — мы заполучили двух серьезных и высокопоставленных сторонников в вашингтонской штаб-квартире. Первым была Бонни Магнесс-Гардинер, ветеран и специалист по культурным ценностям Государственного департамента с докторской степенью по археологии Ближнего Востока. Она стала руководителем программ нашего отдела. Магнесс-Гардинер прекрасно разбиралась в вашингтонских отношениях и в международной дипломатии и, ко всему прочему, была женой профессионального художника. Она мастерски руководила мероприятиями по информированию граждан и давала консультации в ходе расследований.
Второй толчок в развитии нашего дела произошел, когда руководителем Главного подразделения по борьбе с кражами (именно оно курировало отдел по борьбе с преступлениями в сфере искусства) был назначен Эрик Айвс, дальновидный руководитель с большим опытом расследования самых разных преступлений против частной собственности. Айвс попросил меня приехать к нему в Вашингтон в первую же неделю в новой должности. Я встретился с ним в кабинете без окон на третьем этаже здания имени Эдгара Гувера[24] и через несколько минут понял, что мы станем отличными партнерами, несмотря на разницу в возрасте и опыте. Это был бывший морской пехотинец с коротко стриженными песочными волосами и пронзительными зелеными глазами, которому не терпелось заняться делом. До того как Айвс пришел в ФБР, он работал с сетью магазинов Target — ловил крупных воров. Став агентом в Лос-Анджелесе, он начал охоту за такими же ворами и придумал маркетинговый трюк, который помог поймать парочку. Чтобы раскрыть преступления, он разместил фотографии подозреваемых на билбордах вдоль шоссе, полагая, что это отличный способ показать снимки наиболее вероятным свидетелям — дальнобойщикам. Вскоре мы с Айвсом обнаружили, что нас объединяет страсть к раскрытию краж и оправданному риску.
В Вашингтоне Айвс придумал другой подход. Он предложил активно продвигать — по сути, рекламировать — наш отдел для других сотрудников ФБР и простых граждан.
— В бюро работают тринадцать тысяч агентов, а у нас меньше дюжины частично занятых сотрудников, — сказал он мне. — Нам нужно использовать в своих интересах два момента: во-первых, идею о том, что ФБР было основано в 1908 году, чтобы помешать перевозке краденого имущества между штатами; во-вторых, романтичный флер преступлений в сфере искусства, голливудский ракурс, как в фильмах «Афера Томаса Крауна» и «Сокровище нации».
Он знал, что голливудские фильмы — карикатура, но считал, что мы можем использовать это в своих интересах. В рамках первого пиар-проекта мы с Айвсом и Магнесс-Гардинер составили список десяти самых интересных преступлений в сфере искусства. Наша десятка самых опасных преступников по версии ФБР вызвала приятную, умеренную волну шумихи. Мне понравился стиль Айвса: он руководил, но мыслил не как бюрократ. К тому же он помогал мне «продавать» нас.
Мы с Айвсом общались раз в два-три дня, и он ездил как куратор по тайным делам, прикрывая мою спину, — редкая роль для такого начальника. Обычно руководители подразделений в центральных офисах выполняли административные и надзорные функции и редко сами участвовали в деле. Но Айвс проявлял особый интерес к преступлениям в сфере искусства. Мой прямой руководитель в Филадельфии, Майкл Карбонелл, проявил мудрость и невозмутимость, позволив мне работать самостоятельно и с Айвсом. Для Карбо это не всегда было просто: его начальство в Филадельфии, которое платило мне зарплату, постоянно приставало к нему с расспросами, где я, чем занимаюсь и какое отношение эта чертова кража картины имеет к задачам местного подразделения. Карбо, легендарный охотник за беглецами и отличный босс, выбрал тот же девиз, что и я: просто делай свою работу, не обращая внимания на офисные дрязги.
К осени 2005 года, заручившись поддержкой Карбо, мы с Айвсом были готовы реализовать свои амбиции.
А они были огромны.
Глава 17. Старый мастер
Копенгаген, 2005 год
— Ну как, всё на месте?
Иракец, считавший стопки стодолларовых купюр на узкой кровати в датской гостинице, не ответил, даже не пошевелился. И я снова спросил:
— Всё на месте?
Баха Кадхум хмыкнул, но взгляда не поднял. Он продолжал перебирать пачки купюр в два с половиной сантиметра толщиной, которые я ему принес, аккуратно складывая их на мятой белой простыне. Двести сорок пять тысяч долларов. Взамен он пообещал принести мне украденного Рембрандта стоимостью тридцать пять миллионов. Предположительно картина была у его подельника — и он ждал внизу или возле гостиницы. Всегда есть вероятность, что гангстер подсунет подделку или, хуже того, ограбит меня. Я не сводил глаз с его рук.
Кадхум выглядел моложе своих двадцати семи, явно младше, чем я ожидал. Оливковая кожа, орлиный нос и копна растрепанных черных волос. Узкие джинсы, розовая рубашка поло, черные кожаные туфли с пряжками. На шее — золотая цепочка. Я сомневался, что он вооружен, но он показался мне любителем — отчаявшимся и, что еще хуже, непредсказуемым.
Кадхум считал, что я — американский гангстер или как минимум искусствовед, работающий на банду. Нас познакомил отец одного из его хороших друзей, став поручителем. Кадхум думал, что этому человеку можно доверять: ведь он несколько лет скрывал украденную картину Ренуара для их банды под Лос-Анджелесом. Но Кадхум не терял бдительности. Я не мог подготовиться так же, как в Мадриде, когда по моему настоянию на встречу с плохим парнем меня сопровождали три «телохранителя». В Копенгагене я работал один и без оружия.
Пропавшим шедевром был крошечный автопортрет Рембрандта размером десять на двадцать сантиметров, написанный им в 1630 году в возрасте двадцати четырех лет. Это одна из немногих картин художника на позолоченной меди, она как будто светилась изнутри. Но при этом она очень спокойная. Молодой Рембрандт одет в темный плащ и коричневый берет, а на его лице полуулыбка, такая же манящая и таинственная, как у Моны Лизы. Этот автопортрет когда-то был главным экспонатом коллекции в Шведском национальном музее в Стокгольме, но пять лет назад исчез во время одного из самых крупных и зрелищных ограблений в истории искусства.
Эта отлично организованная кража началась за три дня до Рождества 2000 года.
Примерно за полчаса до закрытия музея банда из шести, а может, восьми выходцев с Ближнего Востока рассредоточилась по Стокгольму. Было уже темно, зимнее скандинавское солнце село к трем часам. Температура опустилась ниже нуля, на дорогах и тротуарах стало скользко из-за снега и льда. Музей расположен в конце короткого полуострова, куда можно попасть только по трем главным улицам Стокгольма. Воры воспользовались этим, создав преграды, чтобы отрезать его от остальной части города. На первой из трех улиц член банды поджег припаркованный «Форд». Этот маневр привлек полицию, пожарную часть и десятки зевак. На второй улице бандиты подожгли «Мазду», и туда тоже направились пожарные машины. Чтобы перекрыть третью дорогу, воры уложили там полосы шипованной резины. На реке у музея двое членов банды тихо пришвартовали оранжевый пятиметровый катер, чтобы быстрее улизнуть.
За несколько минут до закрытия трое мужчин в толстовках с капюшонами — один с автоматом, остальные с пистолетами — ворвались в двойную стеклянную дверь галереи. Они приказали охранникам и посетителям лечь на пол.
— Спокойствие, — сказал человек с автоматом по-шведски. — Ни звука, и мы вам ничего не сделаем.
Пока один из вооруженных людей держал на мушке группу туристов, охранников и научных работников, остальные побежали по широкой мраморной лестнице на второй этаж. Воры повернули направо и, толчком распахнув двойные двери, прошли мимо скульптур и масляных холстов. Один направился прямиком к голландскому залу и автопортрету Рембрандта размером с открытку. Второй вошел во французский зал и выбрал двух Ренуаров 1878 года: «Разговор с садовником» и «Парижанку».
Все грабители вытащили из карманов кусачки, перерезали провода, на которых рамы крепились к стенам, и сложили картины в большие черные мешки. Эти три работы были одними из самых маленьких в музее, поэтому их оказалось несложно вынести. Вместе они стоили около сорока миллионов долларов. Грабители поспешили обратно в фойе, прихватили подельника и выбежали через входную дверь. На все про все ушло всего две с половиной минуты. Все трое, каждый со своим сокровищем, побежали по скользкой улице, повернули налево и поспешили к набережной, где сели в пришвартованный катер и скрылись. Полиция застряла в пробке, образовавшейся из-за поджогов, и прибыла на место только в 17:35, через полчаса после того, как воры покинули док.
Кража рембрандтовского автопортрета и Ренуаров нанесла удар не только миру искусства, но и шведской национальной гордости. Национальный музей, городская достопримечательность и образец флорентийской и венецианской архитектуры, открытый в 1866 году, хранил европейские сокровища уже четыре века. Многие из них были собраны просвещенным королем Густавом III.
Шведская полиция начала расследование с одной серьезной зацепки: во время ограбления какой-то лодочник увидел, как трое воров спрыгнули с дока в свой катер. Их спешка, особенно в такую гололедицу, привлекла его внимание. Свидетель потихоньку поплыл за катером грабителей и увидел, как тот помчался через реку Норрстрем и нырнул в канал примерно через полтора километра. Он нашел оранжевый катер у небольшого дока, волна еще не улеглась после бегства пассажиров.
Свидетель вызвал полицию, и на следующий день фотография катера появилась в газетах. Не прошло и суток, как позвонил некто, сообщив, что продал оранжевый катер за наличные несколько дней назад. Покупатель назвался вымышленным именем, но совершил ошибку: дал продавцу настоящий номер мобильного телефона. Полиция отследила звонки по нему и вышла на банду мелких жуликов из пригорода.
Благодаря прослушке и слежке шведские полицейские смогли найти большинство членов банды. Они быстро арестовали шведа, русского, болгарина и троих братьев-иракцев. Во время обыска полиция нашла полароидные снимки пропавших картин рядом со свежими газетами, как для шантажа. Самих картин не обнаружили. Шведский суд приговорил кого-то к нескольким годам тюремного заключения, но полотна как в воду канули.
Год спустя источники в преступном мире Швеции предупредили полицию, что кое-кто пытается продать одного из Ренуаров на черном рынке. Полиция организовала подставную сделку в шведской кофейне и вернула «Разговор с садовником». Я тогда был дома, в Филадельфии, и обрадовался, прочтя об аресте. Но за следующие четыре года никто в правоохранительных органах не слышал ни слова о втором Ренуаре или Рембрандте.
В марте 2005 года мне позвонил Крис Каларко, следователь ФБР по преступлениям в сфере искусства из Лос-Анджелеса.
— Не уверен пока, важно ли то, что у нас есть. Не факт, что вообще что-то есть. Просто хочу ввести в курс дела, — пояснил он. — Тут звонила пара ребят, говорят, они кое-что слышали.
— Та-а-ак?
— Они думают, что некто, возможно, пытается продать Ренуара.
— Что мы о нем знаем?
— Болгарин. Здесь нелегально, минимум с девяностых. Думаю, переехал из Швеции.
Швеция. «Черт побери», — пробормотал я про себя, а затем спросил Каларко:
— Он пытается продать «Парижанку»?
Каларко обещал проверить, и я рассказал ему об ограблении в Стокгольме в 2000 году. Он перезвонил неделю спустя и подтвердил: кто-то пытался продать «Парижанку». Продавец не только назвал картину, но, судя по всему, регулярно общался с сыном, живущим в Стокгольме. Этого человека звали Игорь Костов, и его подозревали в незаконном обороте наркотиков и хранении краденого. Ему стукнуло шестьдесят шесть лет, он был нелегальным иммигрантом из Восточной Европы, жил недалеко от Голливуда, работал в ломбарде и почти всегда носил ветровку с надписью Members Only[25], прикрывавшую его обвисший живот. Костов раньше занимался боксом, что красноречиво подтверждали его плоский нос и шрамы на лбу.
По телефону Костов говорил быстрыми, отрывистыми фразами, сдобренными сильным болгарским акцентом. Его хвастовство звучало забавно. Я попросил Каларко поблагодарить агентов на прослушке за терпение и сообразительность, ведь они смогли уловить намеки, внезапно превратившие их дело из рядового расследования о наркоторговле в международную операцию по спасению шедевра.
Это бесценно. Многие не понимают, что прослушивание телефонных разговоров — тяжелая работа. Оно может дать отличные зацепки и улики, но правда в том, что запись таких бесед — утомительная задача, совсем не такая гламурная, как показывают в фильмах или сериалах вроде «Прослушки» или «Клана Сопрано». На прослушивание уходят часы, недели, а часто и месяцы. Нужно терпеть, ждать звонков, изучать экран компьютера, делать пометки, искать связь между фрагментами разных разговоров, распознавать кодовые слова, выжидать, когда преступники проболтаются по глупости. В США, в отличие от большинства стран, эта работа отнимает очень много времени. Агенты не могут просто записывать все звонки, а потом изучать их в конце смены. Чтобы гарантировать гражданские свободы, агенты должны прослушивать все вызовы в режиме реального времени и записывать только те фрагменты, которые имеют отношение к делу. К счастью, работавшие по этому делу агенты Гэри Беннетт и Шон Стерл насторожились, когда Костов заговорил о Ренуаре.
Беннетт и Стерл сообщили, что Костов предложил продать картину за триста тысяч долларов и уже договорился о сделке. ФБР нужно было быстро принять решение: продолжать расследование по наркотикам или спасать картину. Это оказалось нетрудно.
Агенты тут же организовали наблюдение за домом Костова. Через несколько часов он вышел с квадратным пакетом размером с украденное полотно Ренуара и положил его в багажник. Когда он подошел к двери машины, агенты выскочили, остановили его и приказали лечь на землю. Они попросили показать пакет в багажнике. Костов согласился. Взволнованные агенты открыли багажник и вытащили пакет. Внутри оказалась грязная одежда для химчистки. Костов захохотал.
Агентам было не до смеха. Они забрали Костова в офис ФБР на допрос. Посадили его в комнату без окон и пристегнули один из наручников к кольцу на специальном столе. И принялись допрашивать с пристрастием — и про наркотики, и про краденое, и про картины.
Болгарин изображал саму невинность и играл крутого парня. Стерл и Беннетт не сдавались. Они спокойно объяснили, что у них есть много записей телефонных разговоров. Они сообщили Костову, что тому грозит десять лет тюрьмы. Он выйдет, когда ему исполнится семьдесят семь, — если доживет, конечно. Вогнав подозреваемого в пот, агенты применили стандартную тактику: предложили ему «выход», способ не попасть в тюрьму. Они пообещали: если он поможет ФБР найти картину, они попросят судью не применять к нему сурового наказания.
— Первый шаг за тобой, — заявили агенты Костову. — Скажи нам, где картина.
Костов таял медленно, как ледяная скульптура на калифорнийской жаре. Наконец он признался, что Ренуара ему из Швеции переправил сын для продажи на американском черном рынке. Костов направил агентов в ломбард, где они обнаружили «Парижанку», спрятанную у пыльной стены между полотенцами и полиэтиленовыми пакетами. На поверхности полотна была небольшая царапина, но в целом оно выглядело неплохо.
Мы были в восторге, но держали находку в секрете. Мы планировали использовать Костова, чтобы попытаться спасти еще и картину Рембрандта.
Мы попросили его позвонить сыну и сказать, что он нашел человека, готового купить Ренуара и Рембрандта сразу. Костов согласился, пообещав предать сына ради спасения своей шкуры.
Все лето я был в курсе его разговоров. Читая стенограммы его бесед с сыном, посредником в переговорах с ворами, я содрогался.
— Эти парни психи, — предупреждал сын из Стокгольма.
Отец в Лос-Анджелесе, похоже, не проникся его тревогой, даже казался бессердечным.
— Что они с тобой сделают, убьют, что ли? — саркастически заметил он. — Застрелят?
Сын, казалось, смирился.
— Не знаю. Мне уже все равно.
Костов проделал отличную работу, сбавив цену с одного миллиона двухсот тысяч до шестисот тысяч. Конечно, деньги мы бы забрали обратно, но надо было торговаться так, будто все взаправду. Мы договорились, что заплатим двести сорок пять тысяч долларов наличными заранее и покажем выписку со счета после продажи картин. Костов сказал, что в сентябре полетит в Стокгольм с американским арт-дилером и наличными.
Казалось, все складывается как нельзя лучше. Пока мы не связались со шведскими властями. Международные полицейские операции — дело нелегкое. Конечно, в каждой стране свои законы и процедуры, и их нужно соблюдать. Работая за границей, приходится напоминать себе, что ты в гостях в другом государстве. Можно договариваться дипломатически, но нельзя диктовать условия. Играй по правилам принимающей стороны.
Шведы были очень благодарны за новости о Ренуаре и хотели вернуть Рембрандта, но с сожалением сказали, что не могут дать Костову разрешение на въезд в страну. Он все еще был в розыске, хотя и за незначительные преступления, совершенные десятки лет назад. По шведским законам действие ордера на арест никак нельзя приостановить, даже временно.
Надо было искать другой путь.
* * *
Пока дипломаты искали решение, у меня было время освежить в памяти историю старого мастера.
Романтики верят, будто Рембрандт стал великим, поднявшись из нищеты. Хороший сюжет для романа, но сомневаюсь, что это правда. Именно сомневаюсь, ведь большая часть написанного о Рембрандте — фантазии. Он не вел дневник, не делал копии своих писем и не давал интервью. У художника, которого часто сравнивают с Моцартом или Шекспиром, не было биографа, жившего с ним в одно время. В ХХ веке историки написали о Рембрандте десятки толстых книг, причем истории его жизни сильно разнятся. Ученые не могут даже выяснить, сколько у него было братьев и сестер. В последние годы специалисты начали сомневаться: действительно ли он сам написал свои поздние картины? А может, его ученики? Вдруг он хотел нас одурачить? Мне нравится эта неопределенность. Она только сгущает завесу тайны вокруг Рембрандта. В те месяцы, когда я гонялся за его автопортретом, я с удовольствием узнавал все больше об этом человеке.
В 1630 году, когда Рембрандт Харменс ван Рейн написал этот автопортрет, ему было всего двадцать четыре года. И главное не то, что это автопортрет: за свою жизнь Рембрандт написал более шестидесяти изображений самого себя. Картина важна потому, что художник создал ее в знаковый период жизни. Не прошло и года после смерти отца, когда он решил покинуть родной город и уехать в Амстердам. Через четыре Рембрандт уже будет женат и знаменит.
Он жил в эпоху расцвета Голландии, в благополучной и мирной демократической стране, в период затишья между крупными войнами. Родился в городе Лейдене, к югу от Амстердама, примерно в дне ходьбы от побережья Северного моря. Его отец был трудолюбивым мельником в четвертом поколении и владел несколькими участками земли. Так что семья жила в достатке. Мать была набожной и родила девятерых детей (или десятерых, тут мнения специалистов расходятся). Пятеро (или трое) умерли в раннем возрасте. Рембрандт был одним из младших и проводил больше времени на занятиях, чем на мельнице отца. С семи до четырнадцати лет он учился в латинской школе в Лейдене, а затем поступил в Лейденский университет.
В университете Рембрандт продержался недолго. Знал, что там его не научат искусству живописи. Через год он бросил университет и на три года пошел в ученики к посредственному художнику-архитектору, в основном потому, что тот учил его рисовать чучела животных. Дальше он поучился у художника Питера Ластмана, более именитого наставника. Тот проработал с Рембрандтом около года; считается, что именно Ластман научил молодого художника писать эмоционально.
Голландский мастер начал писать профессионально в возрасте девятнадцати или двадцати лет. Тогда он делил студию в Лейдене с Яном Ливенсом, бывшим вундеркиндом, постарше и поопытнее. У Ливенса и Рембрандта были одни и те же модели, они подражали друг другу, — так и родилась дружба на всю жизнь. Позже Рембрандту стали приписывать некоторые из лучших произведений Ливенса.
К 1630 году, когда был написан тот самый украденный автопортрет, Рембрандт и Ливенс стали восходящими звездами. В том же году их мастерскую посетил поэт Константейн Гюйгенс, секретарь принца Оранского, правителя Голландии. Он восторженно писал о таланте молодого художника: «Это можно сравнить со всей красотой, созданной за века. Вот что я хотел бы сказать тем наивным существам, которые утверждают (и я уже упрекал их за это), будто все, что создается или выражается словами сегодня, уже создано или выражено. Я утверждаю, что ни Протоген, ни Апеллес, ни Парразий не воображали и не могли бы вообразить, случись им оказаться в нашем мире, что простой юноша, голландец, безбородый мельник, сможет так много вложить в одну человеческую фигуру и изобразить это на холсте».
Возможно, украденное полотно — самый важный автопортрет за последние годы жизни мастера в Лейдене. В 1630 году он экспериментировал с техникой, которая станет потом его фирменным знаком, — кьяроскуро, живопись в свете и в тени, игра приглушенных оттенков для придания формы трехмерным фигурам.
В этот период экспериментов Рембрандт писал себя в самых разных видах и настроениях. В 1629–1631 годах он запечатлел свое лицо в дюжине мгновений удивления, гнева, смеха, презрения. На одном из автопортретов он — представитель среднего класса, любознательный, уверенный в себе, в широкополой шляпе. На другом выглядит нищим, обездоленным, растерянным, даже обезумевшим. Почти на каждой картине главная роль отведена волосам и губам: дикая копна вьющихся кудрей или гладко причесанная шевелюра, убранная под берет; сомкнутые в задумчивости губы или полуоткрытые, с налетом озорства.
Зачем Рембрандт написал так много автопортретов?
Некоторые историки считают, что это была своего рода автобиография. Такого романтичного взгляда придерживается ученый Кеннет Кларк: «Следить за тем, как он исследует свое лицо, — почти как читать произведения великих русских писателей». Недавно другие историки пришли к более прозаическому выводу. Они считают, что все упиралось в деньги: он создал так много автопортретов потому, что был деловым человеком и дальновидно рекламировал себя. Автопортреты — в частности, выразительные изображения головы и плеч, или трони[26], — в XVII веке в Европе были в моде и ценились богатыми аристократами. Для Рембрандта ранние автопортреты служили двоякой цели: помогали оплачивать счета и продвигать свой «бренд».
Не знаю, какая теория мне нравится больше. Не сомневаюсь, что Рембрандт стал отличным продавцом в более зрелом возрасте. Но мысль о том, что он был таким уже в двадцать четыре года, когда писал похищенный автопортрет, вызывает у меня скепсис. Думаю, эта картина — просто честное воспроизведение важного момента в истории искусства. Обстановка спокойная, волосы аккуратно уложены, рот закрыт, губы сомкнуты. Рембрандт выглядит задумчивым, зрелым, как парень, готовый отправиться из дома в большой город, чтобы разбогатеть.
В итоге на помощь пришли датчане. Полиция Дании согласилась, чтобы постановочная встреча для покупки Рембрандта была организована в Копенгагене, куда легко добраться из Стокгольма поездом. В глазах наших иракских подозреваемых смена обстановки укрепляла уверенность в искренности Костова. Когда он объяснил — честно, — что находится в розыске в Швеции и не может получить визу, они отнеслись к этому с пониманием.
В середине сентября я вылетел в Копенгаген и встретился с Костовым, тремя агентами из Лос-Анджелеса, представителями американского посольства и местной полицией. К нам присоединился и Эрик Айвс, глава отдела по борьбе с преступностью в Вашингтоне.
На следующее утро я вылетел в Стокгольм. Главный инспектор шведской национальной полиции Магнус Олафссон встретил меня в аэропорту. По дороге в свой офис он предупредил меня насчет двух иракских подозреваемых, братьев по имени Баха и Дия Кадхум. Они были умны и безжалостны, явно склонны к агрессии. Шведы прослушивали их мобильные телефоны и сообщили, что братья спорят, стоит ли доверять мне.
— Они очень осторожны, — сказал Олафссон. — Не думаю, что вам удастся их одурачить.
В своем кабинете главный инспектор вручил мне цветные фотографии обеих сторон картины Рембрандта. Оборотную я изучал дольше. Увеличенные фото лицевой стороны я уже рассмотрел. Она была похожа на открытку, и на изготовление приличной подделки ушло бы немного времени. Оборотная сторона картин часто дает больше информации. Сзади рама из красного дерева была исцарапана, большую часть закрывали три музейные наклейки, включая инструкцию по подвешиванию на шведском языке. Портрет крепился к раме шестью зажимами, ввинченными в дерево. Два были загнуты под неестественными углами.
Я вернулся в Копенгаген на следующий день, и мы начали свою игру. Мы дали Костову новый, непрослеживаемый и предоплаченный сотовый телефон, чтобы тот звонил сыну. В минуты до этого первого звонка внутри страны я ощущал мандраж. Средства потрачены, все уже прилетели в другую страну, дали обещания местному полицейскому руководству и поставили на карту репутацию ФБР, надеясь, что плохие парни еще не сорвались с крючка. Первые два звонка остались без ответа. Мне это напомнило Мадрид.
Что, если мы позвоним, а иракцы нас кинут? Или Костов использовал нас в расчете на бесплатную поездку для встречи с сыном, прежде чем отправиться в тюрьму? Что, если у подозреваемых вообще нет картины?
К счастью, на третий раз Костов дозвонился и выяснил, что продавцы все еще хотят заключить сделку. Сын, Александр (Саша) Линдгрен, согласился отправиться на следующий день в пятичасовое путешествие на поезде в Копенгаген и встретиться с отцом, мной и моими деньгами.
Утром шведская наружка проследила за Линдгреном от его загородного дома до железнодорожного вокзала, а затем до границы, где передала эстафету датским полицейским. Мы встретились в вестибюле Scandic Hotel Copenhagen — современного бизнес-отеля примерно в полукилометре от знаменитого парка Тиволи.
Сын привез с собой сюрприз — трехлетнюю дочь Анну. Он закатил ее в прихожую в коляске с зонтиком, и Костов опустился на колени, знакомясь с внучкой. Линдгрен решил, что его веселая маленькая белокурая дочурка обеспечит им идеальное прикрытие.
Я тоже был рад видеть Анну: это означало, что ее отец и дедушка вряд ли попытаются ограбить меня, когда увидят деньги.
Дав им несколько минут, я прервал сцену воссоединения семьи и взял командование на себя.
— Саша, ты и твоя дочь пойдете наверх со мной. Я отведу вас в свой номер, а сам пойду за деньгами. Вы сможете их пересчитать и убедиться, что все в порядке. — Борис перевел, и мы вчетвером втиснулись в лифт.
В этот раз я снял не апартаменты, как обычно, а крошечную комнатенку, треть которой занимала двуспальная кровать. Оставив троицу на несколько минут, прогулялся на один лестничный пролет выше, в командный центр, где за ними можно было наблюдать по зернистому черно-белому изображению с камеры. Я взял сумку с деньгами и прихватил несколько конфет для Анны.
Вернувшись в комнату, я передал сумку Линдгрену, а конфеты — ребенку. Он пересчитал деньги меньше чем за минуту, а затем вернул их мне.
— Что дальше? — спросил он.
— Очень просто, — сказал я. — Вы возвращаетесь в Стокгольм и привозите Рембрандта. И, — добавил я, — я буду иметь дело только с одним человеком. Номер слишком маленький.
Через несколько мгновений после того, как Линдгрен вывез дочь из номера, отряд спецназа вытащил меня и отвез в безопасное место. Это было разумно: нормальная предосторожность во избежание подставы. Не исключено, что, увидев деньги, Линдгрен мог прийти с оружием и отобрать их.
Поздно вечером шведские полицейские сообщили по телефону, что Линдгрен вернулся в квартиру Кадхумов в Стокгольме. По их словам, свет горел до поздней ночи.
На следующее утро шведы позвонили и сказали, что Линдгрен и братья Кадхум уже в пути. Дия, младший из них, нес большой продуктовый пакет с большим квадратным предметом внутри.
Я снова попросил, чтобы все сохраняли спокойствие и не спугнули преступников. Это было особенно тяжело для шведской полиции. Их агенты следили за теми, кто, по их предположению, вез украденное народное достояние, и вынуждены были наблюдать, как эти парни убегают с ним из страны.
Когда поезд пересек границу с Данией (это означало, что в течение часа они прибудут в гостиницу), я занялся последними приготовлениями. Наскоро поговорил с Донной — напоминая себе без слов, что не стоит слишком увлекаться. Может, Рембрандт и бесценен, но моей жизни он не стоил.
Я привел в порядок мысли и повторил про себя, как должны развиваться события: Костов встречает одного из братьев в фойе, приводит его с картиной ко мне в номер. Мы встречаемся, я ухожу за деньгами, возвращаюсь и даю ему пересчитать их. Кадхум показывает мне картину, приносит ее без Костова. Я подтверждаю ее подлинность, и затем врываются датские спецназовцы.
Я подумал о последней детали — команде спецназа. Сходил в соседний номер поговорить с командиром и повторил код: «Мы договорились». Почти уже задним числом я решил проверить дубликат электронной карты-ключа, которую командир собирался использовать для входа в мою комнату. Я сунул ключ в дверь, но он не сработал. Я пробовал раз за разом. Невероятно. Раздраженный, я побежал в фойе за новыми ключами. Пока бегал, изрядно вспотел. Вот так всегда. Секретный агент знает, что может рассчитывать только на себя, даже если есть вспомогательный персонал и подкрепление. Я оставил новый ключ командиру спецназа. Тот жевал бутерброд.
В 18:17 мне позвонил из датского центра управления операцией коллега из ФБР и сообщил о прибытии братьев в фойе. По его словам, Костов и Баха Кадхум, с пустыми руками, направились вверх по лестнице. Дия Кадхум стоит в фойе, в руках пакет.
«Черт, — подумал я. — Мы только начали, а их план уже меняется».
Услышав тихий стук в дверь, я сказал агенту ФБР:
— Слушай, дружище, давай попозже поговорим.
Я повесил трубку, подошел к двери и впустил Костова и Баху Кадхума в номер. Кадхум не тратил время на любезности.
— Деньги принесли?
— Здесь денег нет, — сказал я. — Пока. Они в другом номере. Мне надо сходить за ними.
Кадхум наклонил голову в замешательстве. Я изображал терпеливого, но опытного гангстера.
— Если я потеряю деньги, — сказал я, указывая пальцем на свою голову и нажимая на воображаемый курок, — пиф-паф, меня убьют.
Кадхум улыбнулся. Я ответил тем же.
Я поднял руки ладонями вверх. Иракец понял. Я притворялся таким же преступником, и мне нужно было его успокоить: убедиться, что он не вооружен и не полицейский под прикрытием с жучком под одеждой.
Я проделал традиционные манипуляции: погладил Кадхума по ребрам, даже слегка приподнял его рубашку, делая вид, будто ищу жучок. Но полного досмотра делать не стал, надеясь внушить ему чуть больше доверия.
— Я тебя не боюсь, — соврал я.
Он улыбнулся, и я сказал:
— Просто сядь, и я принесу деньги.
Выйдя в коридор, я выдохнул. Затем поднялся на один лестничный пролет в безопасную комнату, где ждали агенты ФБР Айвс и Каларко. Айвс вручил мне черную сумку с четвертью миллиона долларов наличными.
Зернистая картинка с камеры видеонаблюдения показала нам Кадхума, сидевшего на кровати. Он теребил мобильный телефон, проверяя СМС. Костов пытался болтать с ним по-арабски, но Кадхум, казалось, раздражен и растерян. Он уткнулся в телефон и отвечал старику односложно.
Я вернулся и плюхнул на кровать черный кожаный чемодан. Кадхум быстро нырнул туда. Я показал на варьете на экране телевизора.
— Мне нравится, — сказал я и засмеялся. Кадхум глядел на деньги, а на меня не обращал внимания.
Тогда я понял, что он в наших руках. Кадхум выглядел так же, как большинство преступников, когда они думают, что их план сработает. Он уже не отступит. Он слишком близко. Он держит в руках двести сорок пять тысяч долларов.
Кадхум положил одну пачку на кровать и вытащил другую. Он пролистал купюры, чтобы убедиться, что это не кукла. Потом положил эту пачку на кровать и схватил следующую.
Я спросил:
— Всё на месте?
Он хмыкнул и продолжил считать. Костов молча стоял у двери.
Когда Кадхум закончил, я спросил:
— Вы принесли сумку?
— Нет.
Я засмеялся и предложил свою. Я расстегнул боковой карман, достал крошечные инструменты для анализа картин и положил их на стол. Это тоже была часть шоу.
Кадхум отвел глаза от денег.
— Можно посмотреть?
Я доставал инструменты один за другим.
— Это черный свет… Это я использую для измерения… Это микроскоп. Видишь лампочку? Это фонарик, я пользуюсь им, когда нужно смотреть на что-то темное.
Кадхум быстро потерял интерес и умолк. Его мобильный телефон защебетал; он прочел сообщение и нахмурился. Он изучал мое лицо. Похоже, что-то шло не так.
Он глубоко задумался, но в этот момент мне этого не хотелось. Я только желал, чтобы он завершил сделку. Что он задумал? Из-за чего задержка? У него точно есть картина? Или это вымогательство, грабеж? Я попробовал сдвинуть дело с места.
— Может, сходишь за картиной?
— Ладно.
Пришло новое сообщение, он казался раздраженным и растерянным. Пытаясь вернуть себе контроль над ситуацией, я предложил:
— Я положу деньги обратно, потом мы пойдем вниз, заберем картину и принесем ее сюда. Если все будет хорошо, я принесу деньги, и вы сможете забрать сумку.
Но у Кадхума был свой план. Он хотел показать мне картину внизу, а затем вернуться в номер за деньгами. Мне это не понравилось. Я хотел, чтобы все происходило в номере, где его снимут на видео, где никто не пострадает, где я могу контролировать обстановку, а вооруженная датская полиция готова ворваться в любой момент.
Я сказал:
— Я подожду тебя здесь, хорошо?
— Как хочешь, — ответил Кадхум.
В 18:29 он ушел вместе с Костовым. Я сосчитал до тридцати про себя, затем схватил сумку с деньгами и бросился в коридор. Я ворвался на лестничную клетку, пролетел один этаж и протянул сумку Каларко.
Вернувшись в номер, я стал ждать. Через несколько минут я связался с Беннеттом, агентом ФБР в командном центре датской полиции. Он поддерживал связь с офицерами, следившими за человеком в фойе, который держал сумку с картиной. Мы ожидали, что он передаст сумку Кадхуму.
Он сообщил плохую новость.
— Объекты только что выбежали из гостиницы. Направляются к железнодорожному вокзалу. Ждите.
Черт. Я в тревоге начал расхаживать по комнате. Куда они собрались? Они узнали, что это постановка? Если да, то откуда? Может, я как-то проговорился? Или Костов? Я рухнул на кровать. Придут ли сейчас датчане? Попытаются ли они захватить пакет, привезенный одним из Кадхумов из Стокгольма?
В этот момент загорелся экран моего датского мобильника. Звонил Беннетт.
— Держитесь. Объекты зашли в другую гостиницу и вышли с другим пакетом. Они возвращаются.
Вторая гостиница, второй пакет. «Умно», — подумал я. Первый оказался муляжом для проверки шведской полиции во время путешествия на поезде. Они отправили картину раньше с четвертым человеком.
В 18:49 я услышал два стука в дверь.
Это был Кадхум — и с ним Костов. Я сильно разозлился, увидев его, но постарался не подать виду. Мой непредсказуемый сообщник нарушил четкие инструкции: исчезнуть, когда появится картина. Он знал, что в критический момент передачи мне не нужны лишние люди в таком тесном помещении, но все равно пришел.
Я был нехарактерно груб:
— Ты нам здесь не нужен. Пойди постой в фойе. — Но он не ушел.
Кадхум протянул мне продуктовый пакет и предложил снова его обыскать. Я знал, что за ним следили все время, пока он отсутствовал.
— Это меня не волнует. — Я смотрел на сумку с подозрением. Если это грабеж, там могла быть мина-ловушка.
Я посмотрел на пакет.
— Не хочешь сам ее вытащить?
— Нет, — сказал он. — Не хочу к ней прикасаться.
Я встал на колени на кровати и вытащил из пакета сверток. Он был размером с украденного Рембрандта, плотно завернут в черную бархатную ткань и перевязан шнурком. Распаковать его оказалось непросто. Я рассмеялся, будто в этом нет ничего особенного, но ничего забавного тут не было. Я прижимал колени к кровати, чтобы стало легче, но чертова штуковина не поддавалась.
— Я не знаю, как его развязать.
Костов подошел, пытаясь помочь. Он встал между мной и скрытой камерой, загораживая агентам обзор.
— Сядь, — прошептал я Костову. — Ты меня нервируешь.
— Я тебя не нервирую, — громко сказал Костов. — Не переживай.
Кадхуму стало любопытно.
— Вы давно знакомы?
Костов ответил, снова пытаясь помочь:
— Мы знакомы еще по Лос-Анджелесу.
Я подумывал разрезать веревку.
— Нет, я не очень хорошо его знаю. Я арт-дилер.
Костов кивнул.
— Он арт-дилер в Лос-Анджелесе. — Этот человек не умел держать язык за зубами. Он мог все испортить. Он нарушал основное правило: нельзя плодить ненужную ложь, которую невозможно доказать. Я знал Лос-Анджелес недостаточно хорошо, чтобы это подтвердить. Это было так же глупо, как и моя оплошность, когда я представился контрабандистам юристом.
Я скрыл раздражение за смехом.
— И в Нью-Йорке, и в Филадельфии. Везде. — Я попытался переключить разговор на главную проблему — веревку. — Не могу развязать.
Костов наклонился ближе, загораживая меня. Я впился ногтями в узлы и вонзил в них зубы. Наконец веревка поддалась. Я развернул бархатную ткань и достал раму. Проверил обратную сторону. Все шесть задних зажимов были на месте, два слегка перекошены, как на музейных фотографиях.
Я поднял глаза.
— Рама подлинная. Вы вынимали ее из рамы, а?
Кадхум недоверчиво посмотрел на меня.
— Мы бы не посмели. Это же Рембрандт.
Я сохранял невозмутимый вид.
— Ты любитель искусства?
— Нет, я просто хочу денег.
Я встал и взял свои инструменты, готовясь изучать картину.
— Мне нужна темная комната. Я не могу осматривать ее на свету.
Костов что-то пробормотал. Я не разобрал его слов, но все равно подыграл.
— Может быть, — сказал я. — Но лак немного густоват.
Костов по-прежнему плохо соображал:
— Да, лак, он очень свежий. Можешь убедиться сам.
Я осторожно поднял картину и отнес ее в ванную, жестом пригласив Кадхума идти за мной. Я вынул из кармана крошечный ультрафиолетовый фонарик и выключил свет в ванной. Прищурившись, я двигал луч по картине, примерно в двух-трех сантиметрах от поверхности. Неповрежденное оригинальное полотно дает равномерное тусклое свечение по всей поверхности. Если картина ретуширована, то краска флуоресцирует неравномерно. Тест простой, но поможет выявить самый распространенный вид мошенничества: небрежные попытки продавцов подделать подпись или дату. Все шло нормально. Если это и не подлинник, то великолепная подделка.
Пока Кадхум заглядывал через мое плечо, я положил фонарик у раковины и достал тридцатикратную лупу и ювелирную десятикратную. У каждой картины есть свои «отпечатки пальцев» — трещинки, которые образуются с годами, когда лак высыхает, создавая четкий произвольный узор. По увеличенным копиям музейных фотографий я изучил правый угол автопортрета, прямо над ухом Рембрандта, и запомнил рисунок. На этой картине он соответствовал оригиналу, но я не остановился, а притворился, что продолжаю изучать ее, в ожидании, что иракцу станет скучно и он уйдет. Я бы предпочел оказаться один в ванной, когда ворвется полиция. Во время перестрелки это самое безопасное место. Дверь можно запереть. Ванны, как правило, сделаны из стали или другого твердого композитного материала, способного задерживать пули.
Несколько секунд спустя телефон Кадхума зазвенел, и он вышел в спальню, чтобы прочесть сообщение.
Я дал сигнал спецназу:
— Все в порядке, — громко сказал я. — Это подлинник. Мы договорились.
Я услышал шаги в коридоре и высунулся из ванной, чтобы проверить, не заперта ли дверь.
Щелкнул ключ-карта, ручка повернулась, а затем… дверь заклинило.
Черт.
Кадхум обернулся. Наши взгляды встретились.
Мы побежали к двери и снова услышали щелчок ключа. На этот раз дверь распахнули силой. Шесть огромных датчан в пуленепробиваемых жилетах пронеслись мимо меня, схватили Кадхума и Костова и повалили на кровать.
Я выскочил, прижимая Рембрандта к груди, пронесся по коридору к лестнице, где нашел Каларко и Айвса.
* * *
На следующий день мы встретились с послом США и начальником полиции Копенгагена, чтобы выслушать благодарности. Мы позировали с деньгами и Рембрандтом. Я стоял поодаль, стараясь, чтобы мое лицо не попадало в кадр.
В тот день я пошел прогуляться в парк Тиволи с агентом ФБР из Калифорнии. Мы сели за столик в кафе и закурили кубинские сигары. Он заказал по кружке пива, и я выпил немного — впервые за пятнадцать лет.
Дело о Рембрандте попало на первые полосы СМИ всего мира, подняв реноме отдела по борьбе с преступностью в сфере искусства на новые высоты как в ФБР, так и в глазах простых людей. Через несколько недель наша крошечная команда уже с трудом справлялась с таким вниманием.
По пути домой я думал обо всем, чего достиг за неполные десять лет. Много раз я действовал под прикрытием, раскрывал преступления на трех континентах и вернул предметов искусства и антиквариата на сумму более двухсот миллионов долларов. На этом этапе моей карьеры я чувствовал, что готов преодолеть почти любое препятствие в каком угодно деле, хоть за границей, хоть на родине.
Всего через девять месяцев я приступил к самому сложному делу в моей карьере: под прикрытием попытался раскрыть самое дерзкое преступление в сфере искусства в истории Америки — кражу на пятьсот миллионов долларов из музея Изабеллы Стюарт Гарднер.
Эта история началась с парижского аукциона в 1892 году.
Операция «ШЕДЕВР»
Глава 18. Миссис Гарднер
Париж, 1982 год
Днем 4 декабря 1892 года на аукционе в знаменитой гостинице Drouot дело дошло до лота № 31.
Голландскую картину выставили без лишней помпы. Никто и предположить не мог, что ей суждено стать объектом самой крупной и загадочной кражи произведения искусства в ХХ веке.
Когда начались торги, Изабелла Стюарт Гарднер из Бостона поднесла к лицу кружевной платок. Это был сигнал ее брокеру продолжать торг. Лот № 31 — полотно Яна Вермеера, голландца, жившего в XVII веке, чей гений еще не был признан всеми. Он назвал картину «Концерт». На ней изображены трое. Юная дама в юбке цвета слоновой кости и черно-золотом лифе играет на клавесине. Вторая женщина в оливковой, отороченной мехом накидке стоит у инструмента и поет с листа. В центре картины, в одежде приглушенных оттенков коричневого и зеленого, мужчина с длинными черными волосами сидит спиной к художнику на краешке стула с яркой терракотовой спинкой.
Работы Вермеера были тогда не так популярны и ценны, как сегодня, но за лот № 31 Гарднер пришлось конкурировать с агентами, представлявшими Лувр и Лондонскую национальную галерею.
Со своего места в зале она не видела своего агента. Она только надеялась, что он видит ее.
Ставки повышались, преодолев планку в двадцать пять тысяч франков, и Гарднер не убирала платок. Торги замедлялись, шаг становился все меньше, пока человек Гарднер не выиграл, сделав окончательную ставку в двадцать девять тысяч. Позже она узнала, что Лувр и Национальная галерея сдались, ошибочно решив, что агент Гарднер тоже работает на крупный музей: тогда считалось, что одному музею накручивать цену для другого — дурной тон. Они пришли в ужас, узнав, что победительница — наглая дамочка с толстой чековой книжкой — американка и планирует отвезти «Концерт» в Бостон.
Не знаю, встречалась ли Изабелла Гарднер с Альбертом Барнсом. Она умерла в 1924-м, за год до того, как он открыл свой музей в пригороде Филадельфии.
Но доктор Барнс и миссис Гарднер кажутся мне родственными душами: оба собрали поразительные частные коллекции произведений искусства. Оба построили музеи, чтобы показывать эти работы широкой публике, выставив их в эклектичном и поучительном стиле. Оба жили на территории музея, и оба оставили завещание, где говорилось, что в галерее все должно остаться точно так же, как при них, ни в коем случае нельзя переместить ни одну картину.
Гарднер, в отличие от Барнса, не заработала свои миллионы сама: женщине в XIX веке это вряд ли было по силам. Она унаследовала состояние, которое ее отец нажил в льняной и горнодобывающей промышленности в Ирландии. Но последние тридцать лет жизни Гарднер прожила так же, как Барнс. Она много путешествовала по Европе, покупая важные произведения художников Возрождения и импрессионистов: Тициана, Рембрандта, Вермеера, Микеланджело, Рафаэля, Боттичелли, Мане и Дега. Финансовые возможности и умелые переговорщики позволяли ей конкурировать с крупнейшими музеями мира.
Гарднер с мужем Джеком путешествовали вокруг света в поисках приключений, и она цветисто описывала их в дневнике. Вот типичная запись от 17 ноября 1883 года. Она говорит о поездке в Ангкор-Ват на повозке, запряженной быками: «Пока я пишу, меня обмахивает маленький камбоджиец, обнаженный до пояса. В стенах Ангкор-Тхома уже найдены сто двадцать обломков…» Гарднер неоднократно возвращалась в свой любимый город — Венецию, остров искусств, музыки и архитектуры. Решив построить в Бостоне публичный музей для своей коллекции, она нашла участок заболоченной местности рядом с районом Фенуэй, спроектировала здание в стиле венецианского палаццо XV века и использовала при строительстве как можно больше европейских материалов. Она привезла колонны, арки, металлоконструкции, камины, лестницы, фрески, стекло, стулья, кассоне, резные деревянные элементы, балконы, фонтаны. Как и Барнсу, Гарднер не нравились холодные, похожие на больницы музеи того времени, где картины висели в ряд, каждая с ярлыком с описанием ее значения. Она устроила свой музей так же, как Барнс двадцать пять лет спустя в Пенсильвании, украсив его изящными произведениями ручной работы: мебелью, гобеленами и антиквариатом. В центре четырехэтажного музея она сделала большой внутренний дворик в средиземноморском стиле со стеклянной крышей и украсила его цветами; благодаря этому теплый солнечный свет проникал в самые важные залы. Гарднер построила естественный музей, ценный сам по себе, как живое существо. Как отмечается в официальном описании музея, «для нее была важна любовь к искусству, а не знание его истории».
Голландский зал, где обитали Вермеер и четыре Рембрандта, — а позже произошло грандиозное преступление, — был обставлен в типичном стиле Гарднер. По обе стороны от входа она повесила семейные портреты Ганса Гольбейна Младшего, а на дверь — большой бронзовый молоток «Нептун». Слева, между картиной ван Дейка и дверью, Гарднер разместила свою первую важную покупку для музея: темный автопортрет Рембрандта 1629 года, похожий на тот, что я спасал в Копенгагене. Под ним она поставила резной дубовый шкаф, а по обе его стороны — итальянские стулья. Рядом со шкафом повесила гравюру Рембрандта размером с почтовую марку в рамке — автопортрет художника в молодости.
Почти все, что Гарднер выставила в Голландском зале, было привезено из-за границы и в основном датировалось XVII веком. Красный мраморный камин — из Венеции, стол — из Тосканы, гобелены — из Бельгии. Итальянский потолок украшали сцены из античной мифологии: Марс и Венера, суд Париса, Леда, Геркулес. Пол был выложен плиткой ржавого цвета, специально заказанной на фабрике моравской керамической посуды и плитки Mercer в Дойлстауне.
На южной стене, на фоне узорчатых оливковых обоев, над рядом стульев цвета лосося, морской воды и румян Гарднер разместила семь картин. Здесь были работы фламандских художников Рубенса и Мабюза[27], но доминировали две из лучших картин Рембрандта: «Господин и дама в черном» и «Христос во время шторма на море Галилейском», его единственный морской пейзаж. Вокруг Гарднер расставила предметы интерьера в духе Барнса, в том числе китайский бронзовый кубок XII века.
Самая необычная композиция в этом зале была выстроена вдоль стены с наружными окнами. Там стоял мольберт с двумя картинами, оборотными сторонами друг к другу. Перед каждой Гарднер расположила стеклянный шкаф-витрину с антиквариатом и стул. Первая, обращенная к задней стене, — «Пейзаж с обелиском», написанный маслом на дубовой доске, авторство которой долгое время приписывали Рембрандту (позже выяснилось, что это работа Говерта Флинка). Вторая была обращена ко входу в Голландский зал, и стул рядом с ней Гарднер расположила так же, как и на самой картине.
«Концерт» был самым ценным произведением в зале.
Глава 19. Висяк
Бостон, 1990 год
Крупнейшая кража в истории США началась ранним воскресным утром в марте 1990 года.
В тот год День святого Патрика пришелся на субботу, и гуляки по всему Бостону еще выходили, шатаясь, из баров в моросящий дождь и густеющий туман. В музее Гарднер двое молодых охранников работали в ночную смену. Один проводил обход по галереям третьего этажа. Второй сидел за пультом с экранами на первом этаже.
В 1:24 ночи двое мужчин в форме бостонской полиции подошли к служебному входу в музей с Палас-роуд, узкой улочки с односторонним движением, в тридцати семи метрах от главного входа, расположенного со стороны улицы Фенуэй. Один из мужчин нажал кнопку на рации.
Ответил охранник за столом, студент колледжа с вьющимися черными волосами ниже плеч.
— Да?
— Полиция. Мы получили сигнал о беспорядках во внутреннем дворе.
У охранника были строгие указания: никогда никому не открывать дверь, ни в коем случае. Он внимательно рассмотрел изображение мужчин с камеры наблюдения. У них были полицейские шляпы со значками и острыми краями. Охранник увидел у них на бедрах большие рации. И пропустил.
Люди в полицейской форме открыли тяжелую деревянную наружную дверь, прошли через вторую незапертую и, повернув налево, встретились с охранником за пультом. Эти двое были белыми, обоим около тридцати, один высокий — возможно, выше метра восьмидесяти, — другой сантиметров на десять ниже и шире. На том, что пониже, были квадратные очки в золотой оправе, плотно сидевшие на его круглом лице. Высокий был широкоплечим, но с худыми бедрами и ногами. У обоих накладные усы.
Говорил только высокий:
— Кто-нибудь еще на смене?
— Да, — сказал охранник. — Он наверху.
— Зови его сюда.
Охранник взял рацию и сделал, как ему сказали. Когда высокий полицейский жестом предложил ему выйти из-за стола — подальше от беззвучной тревожной кнопки, — охранник снова подчинился. До прихода второго охранника высокий полицейский сказал первому:
— Что-то мне твое лицо знакомо. Кажется, у нас есть ордер на твой арест. Покажи мне какой-нибудь документ.
Охранник покорно достал водительские права и билет студента музыкального колледжа в Беркли. Полицейский бросил на них быстрый взгляд, без лишних слов повернул молодого охранника к стене и надел на него наручники. Когда сбитый с толку охранник сообразил, что его не обыскали, его осенило: это не полицейские. Но было слишком поздно. Когда пришел второй охранник, тоже подрабатывающий молодой музыкант, полицейский надел ему наручники до того, как он успел что-то сказать.
— Вы не арестованы, — сказал им вор. — Это ограбление. Ведите себя смирно, и мы вам ничего не сделаем.
— Не волнуйся, — пробормотал второй охранник. — Мне для этого слишком мало платят.
Воры повели своих пленников вниз по лестнице в подвал — влажный, с низко висящими трубами и воздуховодами. Одного охранника они отвели в конец прохода и приковали наручниками к трубе у раковины. Они залепили скотчем глаза и уши молодого человека, а потом наклеили еще полоску от низа подбородка до лба. Второго они отвели в противоположный конец подвала, в темный угол. Его голову тоже обмотали скотчем, а руки приковали к трубе.
Большинство музейных ограблений проворачиваются в считаные минуты, по схеме «хватай и беги». Но в музее Гарднер воры никуда не торопились. Уверенные, что охранники так и не смогли нажать тревожную кнопку, и, скорее всего, вооруженные радиосканерами, которые улавливали полицейские частоты, воры пробыли в музее поразительно долго: восемьдесят одну минуту. До 1:48 (двадцать четыре минуты после входа в музей) они даже не пытались снять картины. Затем сорок пять минут они провели в галереях, срывая шедевры со стен, и еще двенадцать минут вытаскивали холсты за дверь служебного входа. Мы так много знаем, потому что детекторы движения, установленные по всему музею, отслеживали перемещения воров. Грабители перед уходом забрали распечатку записи из кабинета начальника охраны, но на жестком диске компьютера сохранилась резервная копия.
В 1:48 воры поднялись по главной лестнице. На площадке второго этажа они повернули направо, двигаясь по коридору с видом на внутренний двор, и пошли прямо в Голландский зал, к двери с молотком «Нептун». Картины крепились к стенам обычными крючками. Воры быстро сняли четыре работы Рембрандта и небрежно бросили их на плиточный пол, раскидав кругом осколки битого стекла. У мольберта они схватили Флинка — возможно, думая, что это Рембрандт, — и, отодвинув витрину в сторону, занялись Вермеером. Очень аккуратно — видимо, при помощи канцелярских ножей — один из воров начал вырезать полотна из рам.
Второй вор направился назад, мимо лестницы, в зал ранней итальянской живописи, повернул направо, прошел через зал Рафаэля, мимо бесценного Боттичелли и пары Рафаэлей, и вошел в короткую галерею в 1:51. Он легко взломал шкафчик, забитый эскизами в рамках и защищенный только столетним замком. С одной из центральных полок вор снял пять набросков Дега, сделанных карандашом, акварелью и углем. Эскизы казались мелочью по сравнению с гораздо более ценными произведениями искусства рядом с Дега — Матиссом, Уистлером и Микеланджело. Возможно, вор был фанатом Дега или следовал приказам, а может, что-то перепутал в темноте и спешке.
В 2:28 утра оба человека вернулись в Голландский зал. Они прошли мимо автопортрета Рембрандта на дереве, видимо, потому, что он слишком тяжел или его нельзя легко вырезать из каркаса, и унесли пять картин голландцев и пять эскизов Дега. Они вынули кассету из видеомагнитофона, извлекли распечатку записей с детекторов движения и направились к двери. Служебную дверь они открыли дважды — в 2:41 и 2:45.
В то туманное утро воры украли из музея Гарднер еще три произведения искусства, оставив подсказки, над которыми уже давно ломают головы следователи. Они взяли два недорогих предмета: китайскую вазу из голландского зала и позолоченное навершие в форме корсиканского орла с древка наполеоновского знамени в короткой галерее. Зачем им понадобилась такая мелочь? Может, как сувенир? Или это отвлекающий маневр, чтобы запутать следователей?
Третий момент еще больше сбивал с толку. Воры забрали метровый портрет «Шез Тортони» Мане из Голубого зала. Это была единственная работа, украденная с первого этажа. Что самое любопытное, детекторы не уловили движений во время ограбления в этой галерее. Сбоев не было. Значит, Мане вынесли до того, как воры разобрались с охранниками. Есть подозрение, что в ограблении участвовал кто-то из своих. Еще кое-что: тот, кто взял Мане, оставил пустую раму на стуле у стола начальника охраны, и этот жест многие восприняли как жестокое оскорбление.
Загадка Мане, как и большинство подсказок, оставленных в музее Гарднер, интригует, но на самом деле она интересна только бесчисленным диванным детективам в барах и салонах Бостона и в мире искусства.
Кража неожиданно потрясла и Бостон, и мир искусства.
Росла ценность художественных произведений (от импрессионистов до старых мастеров) в аукционных домах с начала шестидесятых до конца восьмидесятых. Увеличивалась и частота краж, особенно в Новой Англии. Воры начали с малого, в первую очередь нацелившись на высшие учебные заведения региона. Они стали главными мишенями потому, что (как быстро поняли воры) в них хранились ценные, но плохо охраняемые предметы искусства и артефакты, подаренные много лет назад давным-давно умершими выпускниками: картины школы Гудзонской долины, древние монеты, винтовки времен Войны за независимость. Если картина исчезла со стены приемной на факультете английского языка, смущенные сотрудники колледжа обычно считали, что это шутка или проделка городских хулиганов, а не бостонских воров, которым было легче украсть произведение искусства из колледжа или особняка, чем ограбить банк. Воодушевленные успехами, воры расширили «сферу деятельности» и переключились на музеи. Самым успешным похитителем произведений искусства в Новой Англии был Майлз Коннор, один из подозреваемых в деле Гарднер. Начиная с 1966 года он ограбил Дом-музей Форбса, поместье Вулворта, Художественный музей Мида в Амхерстском колледже, ротонду Массачусетского законодательного собрания и Музей изящных искусств в Бостоне. К концу восьмидесятых музеи заметили угрозу, но мало что делали для ее устранения. В 1989 году в музей Гарднер назначили нового директора, и эта дама приказала усилить систему безопасности здания. Но к моменту ограбления в 1990 году переоборудование еще не завершилось.
Кражу из музея Гарднер расследовали сотни агентов ФБР и полицейских, и с годами загадки вокруг нее только множились. Следователи плутали в дебрях гипотез, а мошенники, частные детективы, журналисты-расследователи и эксперты только подливали масла в огонь: все они гонялись за вознаграждением, выросшим до пяти миллионов долларов.
Ни одна зацепка не осталась без внимания. Детективы и агенты обыскали траулер в гавани, городской склад, фермерский дом в штате Мэн. Однажды двое туристов, гостивших в доме художника в Японии, заметили картину, показавшуюся им «Штормом на море Галилейском». Агент ФБР и куратор музея Гарднер бросились в Токио. Но это была копия — правда, превосходная.
Иногда какой-нибудь мошенник обращался в СМИ. Одного приглашали в эфир программы «60 минут», другого — в Primetime Live. Художник-мошенник, выступивший на канале ABC, утверждал, что сотрудничает с Коннором, и неоднократно дразнил людей из офиса прокурора США в Бостоне, утверждая, что может вернуть одну из картин в течение часа, если ему заплатят десять тысяч долларов и гарантируют неприкосновенность.
Один газетный репортер не просто расследовал эту историю. В 1997 году он стал ее участником. Под блистательным заголовком «Мы видели!» в статье газеты Boston Herald сообщалось, что одного из ее звездных журналистов, Тома Мэшберга, темной ночью привезли с завязанными глазами на склад в Бостоне и показали свернутый, сильно поврежденный холст, который напоминал «Шторм на море Галилейском». Позже источник Мэшберга прислал ему фотографии этой картины Рембрандта и кусочки краски, предположительно датируемые XVII веком. Первый анализ показал, что краска подлинная. Но дальнейшие тесты в государственной лаборатории опровергли это.
Не раз всплывали связи преступного мира с ограблением музея Гарднер, и тогда обычно появлялись громкие заголовки в местной прессе. Четыре раза за десять лет при загадочных обстоятельствах умирал эксперт, предположительно связанный с делом. Как-то арестовали двоих предполагаемых членов ОПГ, которые планировали ограбить машину инкассаторов, и они утверждали, что агенты ФБР включили их в свой план по возвращению картин. Пока множились слухи о связи ограбления музея Гарднер с мафией, предполагаемый главарь бостонской мафии Уайти Балджер — человек, которого СМИ называли главным подозреваемым в этой истории, — бежал из США накануне дня, когда его должны были арестовать за убийства, не связанные с этим делом.
Почти все новые повороты и подробности расследования попадали в газеты и одиннадцатичасовые новости — от убитых, обвиняемых и беглых бандитов до ложных заявлений о том, будто картины видели в Японии. Репортер Herald рассказал свою историю на всю страну в передаче «Ярмарка тщеславия» и написал вариант для киносценария. Был снят документальный фильм с участием Гарольда Смита — именитого частного детектива, специалиста по кражам произведений искусства. Аудитория приняла его с интересом.
Даже ФБР, обычно скупое на комментарии, подпитывало шумиху. Для снятого в середине девяностых репортажа по случаю годовщины преступления ведущий агент ФБР в Бостоне дал официальное интервью, что весьма необычно для оперативника, работающего над нераскрытым делом. Он сказал The New York Times: «Даже не вспомню, в каком другом преступлении было столько подозреваемых. Это ошеломительно».
Ошеломительно — возможно. Повергает в отчаяние — наверняка.
Затем, в 2006 году, после шестнадцати лет ложных обвинений и мошеннических игр ФБР получило вроде бы надежную наводку.
И эта ниточка оказалась у меня на столе.
Глава 20. Французская ниточка
Париж, 1 июня 2006 года
Спустя чуть более века после того, как на парижском аукционе Гарднер заполучила «Концерт», я отправился в столицу Франции прочесть лекцию. И отработать новую ниточку.
Каждый год руководители оперативных отделов, работающих под прикрытием, собираются в какой-нибудь столице. Конференция проходит под засекреченным названием — например, безликим Universal Exports[28].
Там вы услышите лекции о новых веяниях преступного мира, новости о важных международных юридических событиях и договорах, презентации успешных операций — истории агентов под прикрытием об известных делах. Весной 2006 года эта группа пригласила меня прочесть лекцию об операции по возвращению Рембрандта в Копенгагене. Я полетел в Париж со старым коллегой из Филадельфии Дэниелом де Симоне, начальником отдела секретных операций ФБР. Мы с нетерпением ждали встречи с коллегами и возможности наладить личные связи, неоценимые в международных расследованиях. Группа планировала круиз по Сене с ужином и поход в парижский театр оперы, который увековечил Ренуар.
Во время обеда я представился коллеге де Симоне в Париже, начальнику французского секретного подразделения под названием SIAT. Он был занят организационными вопросами конференции, пожимал руки направо и налево, вел светские беседы, но, когда мы встретились, приподнял бровь.
Он поставил свой бокал с красным вином.
— Вы, конечно, слышали об этих картинах то же, что и мы?
Мы говорили иносказательно. Вокруг было много народу. Но я знал, что он имел в виду подсказку, которую французы на днях передали ФБР: двое французов из Майами, похоже, пытаются договориться о продаже двух из украденных шедевров. Один — Рембрандт, второй — Вермеер. В мире в пропавших числился только один Вермеер — тот, что из Бостона.
— Вы должны встретиться с офицером, который получил эти сведения.
— С удовольствием.
— Хорошо. Он работает в другом отделе, но я найду вам номер его мобильного.
Я встретился с человеком из SIAT у туристического входа в Лувр, возле большой стеклянной пирамиды.
Мы легко узнали друг друга в толпе туристов, одетых в футболки и шорты, — по костюмам. Моим собеседником оказался седеющий офицер, специалист по преступности в сфере искусств в Париже. Крупный, с морщинистым лицом и узкими голубыми глазами, он представился как Андре. Мы пожали руки и посмеялись над собой: два суперсекретных спеца по кражам произведений искусства в пиджаках и галстуках встретились в самом известном музее Франции! Мы с Андре пошли прогуляться подальше от толпы под теплым солнцем, вспоминая полицейских и музейных руководителей, которых оба знали.
Три минуты спустя мы повернули направо на мощеную булыжником улицу, прошли по тротуару под одной из великолепных арок и покинули дворцовый комплекс. Мы пересекли улицу Риволи с дешевыми сувенирными лавками, двигаясь на север по улице Ришелье. Мне не терпелось приступить к делу и засыпать его вопросами о ниточке, связанной с кражей в музее Гарднер. Но это был его город, его ниточка. Я отдал инициативу ему.
Через два квартала толпа поредела. Мы всё шли, и Андре сказал:
— А вы знаете, что во Франции два департамента: Национальная полиция и Национальная жандармерия?
Я знал, но вел себя осторожно, уже наслушавшись о соперничестве между этими службами.
— Сложноватая структура, да?
— Oui. Есть важные различия, и вам нужно понимать их.
Андре объяснил мне: жандармерия, созданная в Средние века, — подразделение Министерства обороны[29]. Ее офицеров отличают стойкость и дисциплина, они действуют в основном в сельской местности и в портах, но по традиции работают и в Париже. Национальная полиция, созданная в 1940-е, подчиняется Министерству внутренних дел Франции. Она больше занимается городской преступностью. Андре работал в Национальной полиции.
— Иногда Национальная полиция и жандармерия расследуют одно и то же дело, соревнуются, и это доставляет нам массу неудобств, — сказал он.
Андре отметил еще один важный нюанс.
— Вы должны понимать, что такое SIAT.
SIAT был подразделением Национальной полиции, созданным в 2004-м — в том же году, когда французы отменили многолетний запрет на приобщение к делу доказательств, полученных офицерами под прикрытием. Во времена действия запрета во Франции тайных агентов привлекали, но неофициально, без документов, часто с устного одобрения местной администрации. Тогда каждое подразделение жандармерии и полиции использовало для работы под прикрытием своих людей. Когда закон изменился и было создано SIAT, многие секретные сотрудники перешли туда. Но некоторые ветераны, вроде Андре, остались на старом месте. Они сочли структуру SIAT, перегруженную правилами, слишком бюрократичной и зацикленной на разграничении полномочий, а потому неэффективной. Андре предупредил меня, что SIAT захочет управлять всем, если будут запланированы секретные операции во Франции.
— Кто руководит отделом преступлений в сфере искусства? — спросил я.
— Тоже сложный вопрос. Он под юрисдикцией Национальной полиции, но по политическим причинам начальник всегда из жандармерии.
— И что он за человек?
— Нынешний — очень хороший, умный, — сказал Андре. — Ему важнее вернуть важную статую церкви или картину музею, чем посадить человека в тюрьму. Проблема в том, что Саркози, до того как стать президентом Франции, был министром внутренних дел, а у него подход другой. Он помешан на законе и порядке. В Национальной полиции его интересовали только результаты — аресты, аресты, аресты. Только статистика. Он хотел показать, что борется с преступностью.
— В ФБР похожая ситуация. Для нас главное — не произведения искусства, а обвинительные приговоры в суде. Так измеряется наша деятельность. Есть даже циники, которые называют дела и обвинительные приговоры «статистикой». Некоторые по ней и определяют эффективность ФБР. У вас проблемы с полицией, жандармерией и SIAT, и у нас примерно то же.
— Да, я слышал об этом, но думал, что после 11 сентября все изменилось.
— Так все думают, но это, наверное, относится только к терроризму, — сказал я. — А в остальном ситуация прежняя.
ФБР — до сих пор очень децентрализованная правоохранительная организация из пятидесяти шести местных подразделений по всей стране. Каждое действует в своей епархии самостоятельно. Если местный офис начинает расследование, он редко уступает кому-то инициативу на своей территории. Протокол расследования ФБР священен: если нет никаких чрезвычайных обстоятельств, расследования проводятся агентами местного отдела ФБР в городе, где совершено преступление, а не из штаб-квартиры.
— Наше дело ведется в Бостоне, потому что картины были украдены оттуда.
— Агенты ФБР в Бостоне — эксперты по кражам произведений искусства?
— Нет. Ограбления банков. Спецназ, все такое.
Андре склонил голову в замешательстве.
— Это ФБР, друг мой, — сказал я. Мне не хотелось вдаваться в подробности: Андре, казалось, все еще оценивал меня, решая, сколько можно мне рассказать о ниточке, ведущей во Флориду. И я не стал объяснять, что, несмотря на мой опыт, энтузиазм Эрика Айвса из штаб-квартиры и успехи нашего отдела, дело Гарднер почти наверняка будет вести бостонский офис. Мне придется работать на них. Теоретически штаб-квартира может отменить решение местного руководителя или отобрать дело у отделения. Но такое случалось редко. Это расценивается как оскорбление руководителя местного отдела и становится пятном на его репутации. Такую обиду он и его друзья никогда не забудут. ФБР — гигантская бюрократическая структура. Руководители среднего звена переводятся на новые должности в местные отделы и в Вашингтон каждые три-пять лет. Потому-то руководители в центральном офисе не любят устраивать бурю в стакане. Руководитель, которому вы сегодня перейдете дорогу, может завтра стать вашим боссом.
— Не беспокойтесь, — сказал я. — Я уже давно этим занимаюсь, и у меня никогда не было таких проблем. Я просто делаю свое дело.
Мы всё шли, уже пересекли другой оживленный бульвар. Француз сказал:
— Знаете, Боб, когда работаешь с кражей художественных ценностей, нужна осторожность. Важно работать тихо, иногда применять методы, которые не то чтобы незаконны, но против правил. Наш начальник понимает, что иногда нужно быть осторожным.
Я кивнул.
Французский полицейский остановился на тротуаре и посмотрел мне в глаза.
— Они опасные люди. Ребята, у которых ваши картины. Корсиканцы. Я свяжу вас кое с кем во Флориде. — По словам Андре, его информатор во Флориде не знал, что он полицейский, и раньше он уже пользовался услугами этого человека неофициально. — Нужно все делать очень тихо, понимаете?
— Конечно.
— Я дам ему ваш номер в США. Как вы ему представитесь?
— Боб Клэй, арт-брокер из Филадельфии.
— Хорошо.
Я сказал:
— Вот что еще хочу прояснить. Картины на продажу — это?..
— Oui, Вермеер и Рембрандт.
— Вермеер?
— Oui, — сказал он и ушел.
Через некоторое время Андре позвонил мне на мобильный.
— В общем, так, — сообщил он. — Я сказал этому парню, что вы занимаетесь торговлей произведениями искусства, крупными сделками на много миллионов. Вы живете в Филадельфии, и мы уже сотрудничали с вами раньше, заработали кучу денег.
Это было хорошее поручительство.
— Отлично, — сказал я, — огромное спасибо. Так он мне позвонит?
— Oui, — ответил он. — Этого парня зовут Лоренц Конья.
— Вы хорошо его знаете?
— Лоренца? Он в бегах. Много лет работал бухгалтером в Париже. Сотрудничал с организованной преступностью. Отмывание денег. Очень умный, очень богатый. Переехал во Флориду. Большой дом, большая машина, «Роллс-Ройс». Знает многих здесь, во Франции, Испании, на Корсике.
— Я могу ему доверять?
Француз рассмеялся.
— Он преступник.
— Если он скажет, что может достать Вермеера…
— Я расскажу вам кое-что о Лоренце, — продолжил полицейский. — Не думаю, что он будет лгать вам. Лоренц не мошенник. Он авантюрист. Он считает себя бизнесменом, который заключает сделки на грани закона и беззакония. Понимаете?
— Конечно.
— Но он может доставить немало проблем, если вы попытаетесь чересчур его контролировать, — сказал Андре. — Потерпите. Он будет водить вас туда-сюда, но, думаю, приведет к тому, что вам нужно.
Глава 21. Лоренц и Санни
Майами, 19 июня 2006 года
Лоренц не разочаровал.
Через две недели после того, как мы начали общаться по телефону, я полетел в Майами встретиться с ним. Он предложил прокатиться на его «Роллс-Ройсе», и за нами медленно поехала группа наружного наблюдения из ФБР.
Лоренц был одет в классическую рубашку Burberry лососевого цвета с монограммой LC курсивом на груди, синие джинсы, коричневые сандалии, на руке — золотой Rolex Daytona Cosmograph. Стройный сорокаоднолетний мужчина с коротко подстриженными вьющимися каштановыми волосами.
— Хорошая машина. Новая? — спросил я, заранее зная ответ: я проверил данные о его автомобилях, и мне было любопытно, скажет ли он правду.
Лоренц ответил честно.
— Год. Я покупаю новую каждые полтора года. Не люблю водить машину с пробегом больше тридцати тысяч километров. Плохо для имиджа.
Я восхитился консолью из вишневого дерева, провел пальцем по матовой серебряной надписи PHANTOM. Я говорил то, что он хотел слышать.
— Очень красиво.
Лоренц кивнул:
— Если даже королева не брезгует…
Я засмеялся и осознал, что не могу понять, шутит ли он.
— Ее Величество ездит на таком же, — добавил Лоренц. Он свободно говорил по-английски, но с таким сильным акцентом, что иногда я не сразу его понимал. — Если вы никогда не водили эту машину, то не поймете, какой у нее плавный ход. Снаружи ничего не слышно. Когда набираешь скорость больше ста, это совсем не чувствуется. Доходишь до ста семидесяти, а кажется, что еще сто. Все на высшем уровне. Люк, рулевое управление, тормоза. На заднем сиденье два DVD-плеера. Много лет это была машина для стариков. Но новые великолепны. Ко мне каждый месяц приходит парень, чтобы ухаживать за кожей. А другой моет машину каждые две недели.
Он постучал по стеклу костяшками пальцев.
— Пуленепробиваемые стекла. Заказной бронированный корпус. Четыреста пятьдесят тысяч долларов.
— Впечатляет.
Он втянул носом воздух:
— Что и требовалось.
Лоренц выехал на скоростную автомагистраль «Долфин» и направился на запад к аэропорту. По радио звучала нудная поп-песня — фальцетом под синтезатор. Лоренц сделал музыку погромче.
— Хороший звук, да?
Я посмотрел на Лоренца с любопытством и пожалел, что не записываю разговор. Как понравилась бы моим агентам и руководству эта беседа! Мы занимались делом Гарднер две недели, и агенты ФБР уже разделились на два лагеря: тех, кто считал, что Лоренц сможет достать украденные бостонские картины, и тех, кто настроен скептически. Я не примкнул ни к одному из них, я еще прорабатывал Лоренца и не был готов судить. Действуя под прикрытием, особенно когда речь идет о кражах предметов искусства, никогда не знаешь наверняка, пока не проверишь. Лоренц дурак? Мошенник? Дельный человек? Нельзя понять, пока не пообщаешься с ним.
Лоренц явно любил поговорить о себе, а я был не прочь послушать. Это простой способ расположить его к себе, и пока я ни разу не поймал его на лжи. Слова о том, что его состояние равно ста сорокам миллионам долларов, было невозможно проверить: свои активы он разбросал по Флориде, Колорадо и Европе и оформил на разные имена и корпорации, да и свои имя и фамилию произносил всегда по-разному — наверняка нарочно. Но даже простые проверки его отчетов о доходах показали, что у него есть миллионы, если не десятки миллионов долларов — по крайней мере, на бумаге. Но важнее было то, что французская полиция подтвердила связи Лоренца с западноевропейским преступным миром, особенно с бандами, которые занимались кражами предметов искусства.
По телефону мы с Лоренцом не обсуждали мое прошлое прямо. Поскольку за меня ручался его приятель в Париже — тайный агент полиции, не было нужды говорить об этом открыто. После нескольких звонков Лоренц попросил меня прилететь и встретиться с ним лично. Он сказал, что у него есть друг, который едет из Франции, и я должен с ним познакомиться.
В международном аэропорту Майами Лоренц припарковал «Роллс-Ройс» на краткосрочной парковке, и мы пошли к международному терминалу. У нас оставалось еще сорок пять минут, и Лоренц купил две бутылки воды Fiji.
Я сделал глоток.
— Похоже, у тебя дела идут неплохо. Давно ты во Флориде?
— Десять лет. Но я жил во многих странах. Я говорю на семи языках.
— Семи? Как ты их выучил?
— Когда я был моложе, я работал в Club Med по всему миру. Французская Полинезия, Бразилия, Япония, Сицилия.
— Чем ты занимался в Club Med?
— Неважно. Мне было двадцать. Делал что прикажут. Бассейн, пляж, бармен, официант. Я думал только о еде, питье и, кхе, о девочках. В этом возрасте у тебя минимум три-четыре девчонки в неделю, каждую неделю, и так три года.
Я рассмеялся.
— Потом вернулся во Францию, изучал бухучет, финансы, начал работать на одного умного дядю в Париже. Мне было двадцать пять. Я делал для него всякое-разное, а потом узнал, что он использовал мое имя, оформил меня как президента своей корпорации. У компании было много долгов, и у меня начались неприятности — ведь я вроде как президент. Я не справился — оставалось только затеряться. Я бухгалтер, поэтому оказываю финансовые услуги. У меня очень хорошо получалось, я отмывал деньги, создавал офшорные компании в Люксембурге. Представь, что у тебя есть миллион евро, а через десять минут он переходит на другое имя, в другую страну, в другую валюту. Понимаешь?
— Да, конечно. — Он был черным бухгалтером.
— У меня отлично получалось. У меня был красивый офис возле Елисейских Полей. Какое-то время это классно. Французские и итальянские специалисты, иногда в Испании. Мы занимались золотом, наличными, бриллиантами, картинами, чем угодно. Потом была пара паскудных ситуаций. Русские и сирийцы небрежные. Вот так все сложилось, и я уже слишком много знал. Пришлось покинуть Францию. Если бы я не уехал, то попал бы в могилу или в тюрьму.
Я знал, что Лоренца однажды арестовывали в Германии и еще во Франции по подозрениям в валютных махинациях, но освобождали через несколько месяцев. А сейчас он числится в розыске во Франции из-за финансовых махинаций. Я не стал упоминать об этом. Я ожидал, что он скоро сам все расскажет. Я спросил:
— И ты приехал сюда?
— Верно, во Флориду, в 1996 году. Я приехал сюда с тремястами пятьюдесятью тысячами долларов, и мне повезло с недвижимостью. В первый же месяц попался один дурак, швейцарец, у которого суд продавал с молотка квартиру из-за долгов. Я еду в суд на торги. Его квартиру купить не получилось, но я приобрел другую. Я плачу семьдесят тысяч долларов за пентхаус стоимостью четыреста в Авентуре[30]! Понимаешь, Боб, я соображаю в финансовой системе, поэтому все просто. И у меня есть знакомый, правильный сотрудник банка, который берет скромную мзду за помощь в получении кредита.
Я рассмеялся:
— Правильный сотрудник банка…
Мы посмотрели на табло и увидели, что самолет приземлился. Группа агентов под прикрытием ждала в таможенной зоне, хотела выяснить, прибыл ли друг Лоренца один или с кем-то еще.
Я спросил:
— Какой план, когда мы встретимся с твоим парнем?
— Мы возьмем Санни и поедем пообедать. Поговорим о делах. Санни умный. Не крупный воротила, но он знает кое-каких людей на юге Франции. Думаю, у них есть картины, которые тебе нужны. Он пытается переехать сюда. Санни хочет участвовать в делах. Он постарается произвести на тебя впечатление и скажет, будто может продать что угодно.
— Меня интересуют только картины, — ответил я. — Никаких наркотиков, оружия, ничего подобного.
— Да, да, конечно, — сказал Лоренц.
Он наклонился и осторожно взял меня за руку.
— Послушай, друг, — сказал он, — мы с тобой акулы, и у нас есть маленькая рыбка, которая может привести нас к крупной. Но эта крупная рыба, ребята с картинами во Франции, — очень плохие парни. Надо подойти к делу очень серьезно. Приготовь деньги. Я снижу цену, а потом мы ухватим свой куш. По рукам?
— Достанешь то, что мне нужно, — ответил я, — и я тебя не обижу.
Через несколько минут появился Санни — невысокий полный мужчина лет пятидесяти, каштановые волосы взъерошены после долгого полета. Он катил два больших синих чемодана. Мы пожали друг другу руки и направились к «Роллс-Ройсу».
Как только мы оказались на свежем воздухе Флориды, Санни закурил «Мальборо».
Мы продрались сквозь пробку и примерно через сорок минут добрались до La Goulue — дорогого бистро к северу от Майами-Бич.
Мы втроем сели за стол, накрытый белой льняной скатертью. Санни заказал обжаренные кальмары с соусом песто из базилика. Лоренц — гигантские гребешки. Я попробовал приготовленную на пару рабирубию. Уж что-что, а где можно вкусно поесть, Лоренц знал точно.
Пока мы обедали, Лоренц командовал парадом — говорил, говорил, говорил. Он опускал некоторые имена — видимо, гангстеров из Парижа. Рассказал о своем новом Jet Ski и о каком-то выгодном деле с квартирой в Форт-Лодердейле, которое он тогда проворачивал. И он ручался за меня Санни, придумав историю, будто мы встретились много лет назад в художественной галерее на Саут-Бич. Санни тихо слушал, ковыряя кальмаров.
Наконец Лоренц повернулся ко мне.
— Санни может достать тебе много чего.
Санни поджал губы.
Лоренц сказал:
— Боб ищет картины.
— Да, — отозвался Санни. — Я слышал. — Он посмотрел на свою тарелку и продолжил есть. Пока я не стал развивать тему. Лоренц взял чек и демонстративно положил свою черную карту American Express на стол.
На обратном пути в гостиницу мы остановились в магазине сотовых телефонов, и Лоренц купил для Санни мобильник. Я запомнил номер. Он нам еще понадобится, если мы решим работать с ним.
На следующее утро мы втроем встретились за завтраком с бубликами. Как всегда, группа наблюдения ФБР находилась поблизости.
Когда мы сели, Санни попросил посмотреть наши мобильные телефоны.
— Пожалуйста, выньте свои батареи, — сказал он.
Лоренц засмеялся:
— Зачем?
Санни объяснил:
— Полиция, ФБР. Они могут отследить вас по мобильнику, даже когда он выключен.
— А, ерунда, — сказал Лоренц.
— Нет, это правда, — сказал Санни. — Я видел передачу про это на канале «24».
— По телевизору?
— Просто выньте их.
Мы так и сделали.
— Хорошо, — сказал Санни, — я могу достать три или четыре картины. Рембрандта, Вермеера и Моне.
— Моне или Мане? — спросил я.
Санни выглядел растерянным.
— Моне или Мане? — повторил я.
— Да, — сказал он, и я понял, что он не знает разницы. Потому-то его предложение казалось более искренним. Он просто называл фамилии, которые ему велели озвучить. Если бы он играл со мной в какую-то игру, то лучше подготовился бы и знал разницу.
— Картины хорошие, — сказал Санни. Он плохо говорил по-английски, но я по большей части понимал его. Сам я по-французски изъяснялся еще хуже. — Они были украдены много лет назад.
— Откуда?
— Не знаю, — сказал он. — Думаю, из какого-то музея в США. Они у нас, и за десять миллионов они ваши. Можете это устроить? Десять миллионов?
— Да, конечно. Если ваши картины настоящие, если у вас есть Вермеер и Рембрандт. Санни, моему покупателю понадобятся доказательства. Вы можете скинуть мне на почту фотографии? Доказательства?
— Посмотрю.
Игра продолжалась все лето.
В офисах ФБР в Вашингтоне, Майами, Бостоне, Филадельфии и Париже агенты и руководители сдержанно выражали оптимизм, обмениваясь электронными письмами, и устраивали телефонные конференции. Французская полиция сообщила нам больше подробностей о Санни и Лоренце, подтвердив их связь с арт-брокерами из преступного мира. Правоохранительные органы по обе стороны Атлантики организовали прослушку разговоров. Я поддерживал связь с Лоренцем по телефону. Он сказал, что Санни постепенно продвигается вперед. Я убедил Лоренца поторопить его.
Лето заканчивалось. Дело шло к секретной сделке во Франции. Эрик Айвс, начальник Главного управления по борьбе с кражами в штаб-квартире ФБР, занялся организацией поездки группы агентов ФБР в Париж в середине октября для первой официальной встречи с французами.
Однажды утром после Дня труда мне позвонил Эрик.
— И что ты думаешь? — спросил он.
— Что я думаю о чем, Эрик?
— Санни, Лоренц, Бостон.
— Я думаю, дело на мази, — сказал я. — Вот что я думаю.
В первую неделю октября 2006 года, накануне большого полицейского совещания ФБР и французов в Париже, я прилетел в Майами повидаться с Лоренцем и Санни.
Мы встретились ближе к вечеру у любимого заведения Лоренца, тайско-японского ресторана недалеко от Семьдесят девятой улицы. Лоренц и Санни уже были там, телефоны лежали на столе, батареи — отдельно.
Я сел и вынул аккумулятор из своего телефона.
— Ça va? Рад тебя видеть, Санни.
— Ça va, Боб.
Я хлопнул Лоренца по спине и подмигнул ему.
— Отличная работа, приятель. Сегодня вечером отметим, да?
Лоренц сиял.
— Точно. Уже этим занимаюсь, — он указал на чашу с мороженым из зеленого чая, с шапкой взбитых сливок. Так Лоренц представлял себе «отмечание». Он поднял стакан воды и произнес тост:
— За следующую сделку!
Я сказал:
— Аминь, mon ami.
Санни склонил голову в замешательстве — на это мы и надеялись. «Сделку», которую мы отмечали, мы с Лоренцем выдумали накануне вечером. Это была часть нашей игры, которая должна была впечатлить Санни.
Лоренц наклонился к Санни и быстро зашептал по-французски. Он объяснил, что мы с ним только что заключили сделку на восемь миллионов долларов по украденному Рафаэлю. Каждому из нас заплатили по пятьсот тысяч долларов, сказал он. Лоренц лгал довольно лихо. Санни кивнул. Он был впечатлен, как мы и планировали.
Выдуманная сделка стала частью разраставшихся дебрей вранья: я разыгрывал Лоренца, а он думал, что мы с ним разыгрываем Санни. Уверен, что и у Лоренца были свои планы. А Санни? Кто знает, что на самом деле у него на уме?
Мы с Лоренцем продолжали шутить по поводу фальшивой продажи Рафаэля, пока Санни наконец не вмешался, заглотив наживку.
— Хорошо, — сказал он. — Картины в Европе — мы готовы. Но это должны быть только мы трое. Будем работать сообща, чтобы не попасться.
— Конечно, — согласился я.
— Да, да, — в нетерпении произнес Лоренц.
— Только мы трое, — повторил Санни. — Мы поедем на юг Франции и…
Он изложил замысловатый сценарий обмена, включавший смену гостиничных номеров: деньги в одном, картины в другом, кто-то в заложниках в третьем. Санни говорил с акцентом, и я понял не все. Но это не имело значения. Мы могли бы уточнить позже. Я просто хотел, чтобы дело сдвинулось с мертвой точки.
По одному пункту Санни выразился предельно ясно:
— Когда увидите картины, поймете, что они настоящие. Но тогда вы должны будете их купить. Итак, еще раз повторю: деньги должны быть при вас. Это серьезно. Если вы увидите картины, то должны будете их купить.
— Я и хочу их купить, — ответил я. — Вермеера и Рембрандта?
— Да, да, у нас они есть, — сказал Санни. — Главное — не деньги и не картина, а то, чтобы мы все остались довольны и в безопасности. Никто не хочет неприятностей. Очень важно, чтобы больше сюда никто не вмешивался, кроме нас.
Санни взял салфетку и достал ручку.
— Вот так, — сказал он, нарисовал треугольник и нацарапал буквы у каждой вершины: S, L и B. — Это Санни, это Лоренц, это Боб. Только мы. Мы не можем никого впустить в треугольник. Иначе никак. Если что-то пойдет не так, мы поймем, что предатель — один из нас.
Глава 22. Друзья и враги
Париж, октябрь 2006 года
Проблемы всплыли через неделю, почти в самом начале нашей первой официальной встречи с французской полицией по делу музея Гарднер.
Начальник ФБР из Бостона — назовем его Фредом — начал с хамского требования:
— Мы будем вести наружное наблюдение, поэтому должны быть вооружены.
Фред говорил громче, чем нужно, неуклюже произнося каждый слог. Чтобы французы лучше его поняли, он поднял большой и указательный пальцы, изобразив пистолет.
— Нужно сразу это обговорить, не откладывая в долгий ящик.
Фреду нравилось командовать, а в силу священных протоколов ФБР он считался главным руководителем по делу музея Гарднер: еще в 1990 году эту кражу отдали бостонскому отделу по борьбе с ограблениями банков и насилием, а Фред теперь возглавлял его. Он работал в ФБР семнадцать лет, но все это время командовал спецназом и ловил грабителей банков, а не занимался преступлениями в сфере искусства и не проводил международные секретные расследования. Это была его первая поездка за границу. Ему даже не приходило в голову, что мы в гостях, на чужой территории.
— Мы здесь, чтобы вернуть свои картины, — сурово сказал Фред, как будто его показная решимость поможет выполнить работу. — Люди, у которых наши картины, будут вооружены. И мы тоже.
Его слова были настолько возмутительны, что все присутствующие — шестеро французских полицейских, шестеро агентов ФБР и американский прокурор — проигнорировали их. Фред насмотрелся фильмов про полицию. Насколько я знаю по своему опыту в Бразилии, Дании, Испании и других местах, в большинстве стран иностранным полицейским не разрешено носить оружие.
Один из агентов ФБР, служивший в посольстве, вежливо оборвал Фреда, вернувшись к обсуждаемому вопросу — совместной американо-французской спецоперации под прикрытием.
Благодаря этой первой важной встрече ставки поднялись для всех. Французская полиция оценила ситуацию и организовала мероприятие в новом музее на набережной Бранли, где выставлены артефакты коренных народов Азии, Австралии, Северной и Южной Америки, Африки и Полинезии. Это был один из самых интересных и разнообразных музеев, какие я видел. При его проектировании основной темой стали джунгли: снаружи он утопает в зарослях деревьев и травы, внутри устроены темные переходы, экспозиции слабо освещены. Легко заблудиться.
Руководил собранием подполковник жандармерии Пьер Табель, начальник отдела по борьбе с преступлениями в сфере искусства. Андре, офицер под прикрытием, который подарил мне первую зацепку, дал Пьеру хорошую оценку: восходящая звезда жандармерии, мудрый, понимает тонкости политики, будущий генерал. Он занимался деликатными делами, его отдел нередко участвовал в международных операциях и расследованиях, где жертва была знаменитой, богатой или связана с видными политиками. Пьер понимал, что тут нужны осмотрительность и нестандартный подход. Судебные органы готовы были смотреть на это сквозь пальцы.
Мы с Пьером обсуждали наши дела по телефону с сентября, и он мне нравился. У нас сложились тесные рабочие отношения, и я чувствовал, что мы добьемся успеха. Я сразу понял, что Пьер хороший начальник: поощряет своих людей, не сует всюду нос без причины и не чинит бюрократических препятствий. Он понимал, что дела в сфере искусства нельзя расследовать так же, как другие секретные дела, и мы оба думали, что цель — вернуть бостонские картины, а не во что бы то ни стало арестовать кого-нибудь во Франции. Вдобавок, как он объяснил мне, максимальное наказание во Франции за кражу любого имущества — всего три года тюрьмы.
Накануне Пьер встретил меня по прилете в аэропорт Шарль-де-Голль из Филадельфии — жест одновременно вежливый и мудрый. Он перехватил меня до того, как я успел поговорить с кем-то еще, в том числе с коллегами из ФБР в посольстве США, и по дороге в город мы обсудили дело, побеседовали о результатах моей работы под прикрытием в Штатах и успехах Пьера в прослушивании телефонных разговоров и наружном наблюдении и решили, что Санни и Лоренц, вероятно, организуют продажу картин из музея Гарднер где-нибудь во Франции.
Пьер уже предупреждал, что не сможет контролировать все нюансы операций здесь. По его словам, в таком громком деле захотят засветиться многие руководители самых разных служб: постоять на трибуне на пресс-конференции, сфотографироваться. «Все захотят кусок этого пирога», — повторял Пьер. Он предупредил меня, что начальник отдела секретных операций SIAT, скорее всего, потребует главную роль. Поскольку французское законодательство не так давно стало регулировать работу под прикрытием, шеф SIAT предпочитал действовать осторожно, и это иногда досаждало авантюристам, занимающимся преступлениями в сфере искусства. Я же предупредил Пьера о субординации и протоколах в ФБР, и мы оба согласились, что войны за власть и внутриведомственное соперничество по обе стороны Атлантики могут усложнить ситуацию.
Конечно, на франко-американской встрече в тот день глава SIAT выступил сразу за Фредом: он объявил, что планирует вовлечь в дело французского офицера под прикрытием. Я объяснил, что Санни, скорее всего, будет сопротивляться появлению четвертого человека. Я даже набросал на бумаге тот самый треугольник и пояснил его словами Санни: «Здесь должны быть только мы трое». Руководитель SIAT ответил, что это невозможно.
— Во Франции есть ордер на арест Лоренца, — сказал он, — он не может сюда приехать. — И усомнился, что мне разрешат работать под прикрытием во Франции. Он пояснил, что новый французский закон о работе под прикрытием очень сложный.
— Конечно, я понимаю, — ответил я, стараясь не спорить на виду у такой толпы. Если то, что сказал глава SIAT, правда, две трети нашего треугольника — Лоренц и я — не смогут участвовать в сделке во Франции. Ничего хорошего это не предвещало.
Самые обнадеживающие новости сообщили два офицера из ведомства Пьера, руководившие группами прослушки и наружного наблюдения. Одна из них (дама) заявила, что «на девяносто девять процентов уверена»: картины из музея Гарднер у банды, с которой общается Санни.
Пьер добавил:
— По телефону они общаются с человеком в Испании условным шифром. Но его легко понять. Они говорят о поиске квартир для кого-то по имени Боб. Одна, по их словам, на улице Вермеера. Вторая — на улице Рембрандта.
— Вы знаете того, с кем разговаривает Санни? — спросил кто-то.
— Да, — сказал французский наблюдатель. — Это корсиканцы, известная банда[31].
Корсика, французская территория в Средиземном море, кишела организованными преступными группировками, а сотрудников национальной полиции там не жаловали, как и агентов ФБР в Пуэрто-Рико.
После встречи Фред подошел к Пьеру. Я услышал, как бостонский начальник снова упомянул о пистолете, и Пьер ответил: «Извините, но…» Я подошел к Пьеру и отвел его в сторону, чтобы извиниться.
— Нет проблем, — сказал Пьер и понизил голос. — У меня тоже неприятности. То, что сказал мой босс из SIAT, — будто ты не сможешь работать во Франции, — неправда. Но он босс, и я не могу выставить его на посмешище перед американцами.
Я покачал головой. Слишком много поваров[32]. Слишком много контор ФБР. И французских правоохранительных органов. И конкурирующих сторон. Это не сулит ничего хорошего для такой сложной операции под прикрытием, требующей скорости, гибкости, творческого подхода и риска.
Пьер, казалось, почувствовал, о чем я думаю, и произнес:
— Как я уже говорил, в этом деле у нас будет много начальников. Каждый хочет кусок пирога.
Когда мы вернулись в США, ответственный за дело агент в Бостоне, Джефф Келли, собрал необходимые документы для серьезного секретного расследования: форму на семь страниц под названием FD-997. Он определил стоимость картин из музея Гарднер в пятьсот миллионов долларов, подытожил многочисленные мероприятия ФБР, направленные на их поиски, начиная с 1990 года, и изложил план операции под прикрытием во Франции.
Вдобавок Джефф дал этому делу название: операция «Шедевр».
Через несколько недель после парижской встречи Лоренц позвонил мне и сказал, что мы будем покупать картины в Испании, а не во Франции.
Для меня смена места была кстати. Я обзавелся множеством друзей в испанской полиции еще во время операции в Мадриде — в их содействии можно было не сомневаться. У меня на стене висела медаль от испанского правительства, и самая богатая женщина страны была передо мной в долгу.
— Хорошо, нет проблем, — ответил я Лоренцу. — Люблю Испанию.
— Санни хочет знать, какая тебе нужна сначала: «большая» или «маленькая».
Я не знал, имеет ли он в виду миниатюрного Вермеера, стоившего намного больше, или гигантского Рембрандта, чья цена была ниже.
— Я хочу обе, так что это не важно, — сказал я. — О чем речь? О Мадриде? Барселоне? Через пару недель?
Лоренц ответил:
— Я тебе сообщу.
Я позвонил Эрику Айвсу в Вашингтон и передал ему хорошие новости. Мы запланировали поездку в Мадрид через десять дней. Накануне Эрик организовал телефонную конференцию между всеми участвующими в деле офисами ФБР — Вашингтоном, Парижем, Бостоном, Майами, Мадридом и Филадельфией. Разговор не задался.
Фред с места в карьер объявил, что поездка в Мадрид отменяется. Это застало врасплох всех, кроме агентов ФБР в Париже. Особенно это смутило нашего агента в Мадриде: он уже активно сотрудничал с испанской полицией, обеспечивая спецназ, наружку, разведку и поддержку тайных агентов. Бостонский начальник сослался на некие «проблемы с безопасностью» в Испании, предположив, что местная полиция не заслуживает доверия.
Фред дал понять: его бесит, что я договариваюсь о чем-то, не согласовывая каждую деталь с ним.
— У нас проблемы с коммуникацией, — сказал он. — Надо, чтобы все были в курсе. — Фред отчитал меня за прямой контакт с агентом ФБР в Мадриде. Я напомнил ему, что Эрик уже получил согласие штаб-квартиры на то, чтобы я установил контакты в Испании, и я знал нашего человека в Мадриде по делу Копловиц. Но Фреду было все равно. — Это не твоя работа, Уиттман. Я тут главный.
Я решил пока отступить. Меня не волновало, что эти парни взъелись на меня. Главное — двигаться вперед, остальное неважно.
Но я знал, что мы никогда не вернем картины из музея Гарднер, если у нас будет толпа руководителей.
После телефонной конференции мне нужно было подышать. Я отправился бродить по офису и оказался за столом моей приятельницы, спецагента Джерри Уильямс, проработавшей в конторе двадцать пять лет и представлявшей ФБР в Филадельфии. Она сменила Линду Визи, которая вышла на пенсию.
— Выглядишь не очень, — сказала Джерри.
Я рассказал ей о телефонной конференции. Она нахмурилась.
— Похоже, у нас начинается грязный дележ полномочий всякий раз, когда в деле другие организации.
Она была права. Основные федеральные правоохранительные органы — особенно ФБР, Управление по борьбе с наркотиками, Служба внутренних доходов, Управление по борьбе с незаконным оборотом алкоголя, табака и оружия и Служба иммиграционного таможенного контроля — почти всегда сражались друг с другом за контроль над совместными расследованиями. Вы удивитесь, узнав, как часто разные правоохранительные органы прячут друг от друга улики или пытаются друг друга оттеснить. Джерри спросила:
— Штаб-квартира не очень-то вам помогает?
— Стараюсь, но…
— Ну, ты же понимаешь, Бостон ни за что не откажется от такого дела.
В следующие недели мое беспокойство усилилось: я часто связывался по телефону с Эриком в Вашингтоне, Фредом и Джеффом Келли в Бостоне и агентами в посольствах США в Европе. Поскольку мне нужно было проверить слова Санни и Лоренца, я общался с Пьером, чьи следователи по делам о преступлениях в сфере искусства прослушивали их телефоны. Мы договорились связываться каждый четверг утром. В ходе одного из таких звонков он предупредил меня: его французское начальство не радо, что операция может переместиться в Испанию. Они будут яростно сопротивляться.
Я даже не стал спрашивать Пьера, почему французы против. Это было очевидно. Если дело провернут в Испании, победная пресс-конференция состоится в Мадриде и все награды достанутся испанской полиции, а не французам.
Но начальству Пьера не стоило так волноваться.
В конце ноября 2006 года, вскоре после того, как Санни вернулся в Майами, Лоренц позвонил и сообщил мне, что план снова изменился: теперь Санни предлагал продать все одиннадцать картин из музея Гарднер во Франции, а не в Испании.
— Сколько ты готов заплатить? — спросил Лоренц.
— Тридцать миллионов, — ответил я. Это была стандартная цена на черном рынке — пять — десять процентов от рыночной стоимости.
— Наличными?
— Если я куплю их в США — да, — сказал я. — Иначе банковским переводом.
Лоренц спросил, смогу ли я подготовить финансовые отчеты, чтобы доказать серьезность наших намерений. Нужны доказательства, что у нас найдется тридцать миллионов.
— Думаю, это можно устроить, — ответил я.
— Magnifique, — сказал Лоренц. — Прекрасно. Если сможешь найти деньги и помочь мне попасть во Францию, думаю, мы получим картины через шесть дней.
Это была великолепная новость. Деньги — не проблема. Тридцать миллионов — просто цифра. Да, большая, но все равно цифра на бумаге: деньги временно перемещались с одного счета на другой. Речь шла не о наличных, которые надо было предъявить. Миллионы остались бы в банке.
Я сообщил Пьеру:
— Думаю, мы едем во Францию, — и бегло изложил новые детали.
— Хорошо, хорошо, — сказал Пьер. — Как считаешь, сможем мы использовать нашего секретного агента?
— Пока не знаю, — произнес я, уклоняясь от прямого ответа. — А ты сможешь добиться отмены ордера на Лоренца? Похоже, он нам понадобится во Франции.
— Стараюсь, друг мой, стараюсь.
Пьер снова встретил меня в аэропорту Шарль-де-Голль, когда я прилетел на вторую большую американо-французскую встречу в конце ноября 2006 года. Мы опаздывали, и Пьер включил мигалку и сирену, чтобы утренняя пробка расступилась перед нами.
Пока мы ехали по центру города, Пьер рассказал, что ему пытались помешать.
— Ты пропустил отличный ужин вчера вечером — с Джеффом, Фредом и твоими парнями из посольства.
Что за черт? После ночного перелета я с трудом соображал и подумал, что неправильно его понял.
— Ужин?
Пьер улыбнулся.
— Просто интриги, друг мой, — сказал он. — Офисные интриги. Они приехали на день раньше, чтобы встретиться с нами без тебя. Мне кажется, они тебя боятся.
Пьер поймал мой хмурый взгляд.
— Не волнуйся, мы отвезли их в дешевый ресторан, — пошутил он. — Сегодня вечером мы поедим куда лучше.
Пьер высадил меня у гостиницы, но мой номер еще не был готов. Я принял душ в фитнес-центре, а когда вышел, увидел приятную картину: Пьер болтал с Эриком Айвсом из Вашингтона. Эрик, глава отдела по борьбе с преступлениями в сфере искусства, кипел от негодования: он узнал, что и его тоже не позвали на тайный американо-французский ужин Фреда.
Брифинг собрали в строгом конференц-зале в современном здании Министерства обороны. Пьер кратко описал ситуацию и быстро повернулся к старшему своей группы наружного наблюдения. Офицер сообщила, что Санни встречался с известными корсиканскими бандитами на углу улицы в Марселе, а в прослушанных разговорах он упоминал «рамы для Боба».
Затем мы поломали голову над насущной проблемой: как доставить Лоренца во Францию. Высокопоставленный чиновник тамошней полиции, присутствовавший в зале, настаивал: ордер на арест Лоренца десятилетней давности отменить нельзя. Французский ордер, добавил он, действителен почти во всех странах Евросоюза, поэтому Лоренц не может поехать и в Испанию. Но французский чиновник задумался вслух: а что, если мы позволим Лоренцу въехать во Францию под вымышленным именем с поддельным паспортом США? Американцы переглянулись. Почему бы и нет.
Потом я отвел Пьера в сторону:
— Почему вдруг твое начальство хочет впустить Лоренца во Францию?
Он ответил с легкой улыбкой:
— Беспокоятся, что вы заберете дело в Испанию. Они хотят, чтобы аресты произошли в Париже.
Казалось, теперь все срастается. Вернувшись в гостиницу, я позвонил Лоренцу и велел ему готовиться к вылету в Париж через несколько дней.
— Хочу поскорее все закончить, — сказал я. — Моему покупателю уже не терпится. Он вывел деньги из бизнеса, чтобы собрать тридцать миллионов, и теперь они в банке, не приносят особых процентов. Пока мы тянем волынку, он несет убытки.
Лоренц подтвердил, что готов и очень хочет заключить сделку — при условии, что это не помешает его горнолыжным каникулам в Колорадо.
— Так, может, лучше сделать это в январе, после праздников?
Я впал в ступор и не знал, как реагировать. Так что просто сказал:
— Куда ты собираешься, в Вейл?
— Крестед-Бьютт. Только что продал там комплекс, но оставил одну квартиру для себя.
Пока я, сидя на кровати, переваривал услышанное, потирая виски в недоумении, позвонил агент ФБР из посольства. Он сообщил, что бюрократы против плана выдать Лоренцу фальшивый американский паспорт. Но агент придумал новую идею: что, если мы заключим сделку в Монако? Лоренц мог бы полететь из Нью-Йорка без пересадок в Женеву, а затем на частном вертолете преодолеть воздушное пространство Франции и попасть в крошечное независимое княжество на Ривьере. Поскольку ни Швейцария, ни Монако не входят в Евросоюз, французский ордер там не действует.
«Хм, — подумал я. — Неплохая идея, очень неплохая».
Ожидая, когда в Париже, Бостоне, Вашингтоне, Марселе и Майами согласуют все административные и политические вопросы по делу Гарднер, мы с Эриком планировали небольшую поездку — тайную миссию по спасению сокровищ, украденных из Африки.
Наш самолет вылетел в Варшаву на следующий день, рано утром.
Глава 23. У труса нет шрамов
Варшава, декабрь 2006 года
В Зимбабве есть пословица: «У труса нет шрамов».
Мне передали сведения о том, что пять предметов, считающихся национальным достоянием Зимбабве и украденных из крупного музея страны, могут находиться в Польше. Когда я предложил Эрику секретную миссию по их спасению, он не колебался ни секунды. Ему было наплевать, что это не имеет никакого отношения к Америке и у нас в разгаре дело Гарднер. Эрик понимал, что так надо и это поможет улучшить репутацию ФБР в двух странах. Вдобавок перелет из Парижа в Варшаву длится всего два часа двадцать минут.
Польское дело было образцовым международным расследованием. Оно шло всего три недели — от первого сигнала до операции под прикрытием в гостинице. Участвовали правительства стран на трех континентах, но минимум людей и никаких лишних бумажек. Самая долгая встреча по делу — часовой брифинг, который мы провели с польской командой спецназа в Варшаве. Это были самые симпатичные лысые амбалы с бычьими шеями, каких я когда-либо видел. Они даже смеялись над моими шутками.
— Эта операция, — сказал я, — называется ОБЗБ.
— Что значит ОБЗБ? — спросил кто-то.
— «Обеспечить безопасность заднице Боба».
Мы сразу договорились: никаких СМИ. Из-за дела Гарднера я не хотел светиться в Европе, а польская полиция надеялась привлечь обвиняемых к ответственности по этому делу, не вызывая агента ФБР под прикрытием в суд как свидетеля. Насколько я понял, польская полиция планировала сохранить все следы работы ФБР в секрете. По крайней мере, официально нас с Эриком никогда там не было, как и моего коллеги из отдела ФБР в Филадельфии Джона Китцингера.
Нашей целью стал поляк по имени Мариан Дабуски. Он разместил в интернете объявление о продаже трех зимбабвийских подголовников, или муцаго, и двух масок для шлемов народа маконде. Когда предложение увидел честный дилер из Денвера, он подал мне сигнал. Подголовники представляли собой вогнутые пьедесталы длиной около тридцати и высотой около пятнадцати сантиметров, которые использовались как жесткие подушки на религиозных церемониях: жрец лежал на спине, шею поддерживал подголовник; жрец закрывал глаза и, войдя в транс, пытался общаться с мертвыми. Подголовники, датируемые XII веком, были изготовлены кочевниками Зимбабве, Судана, Уганды, Кении и Танзании и были весьма похожи на бесценные артефакты, которые я видел в музее на набережной Бранли в Париже. Один из них очень напоминал украденный в прошлом году в Национальной галерее Зимбабве в Хараре. Тогда белый человек средних лет, удивительно похожий на Дабуски, вошел в музей среди дня, сорвал четыре подголовника и две маски со стены и выбежал через парадную дверь. Охранник рванул за ним по улице и загнал в угол, но, когда они начали ругаться, толпа приняла черного охранника за преступника и начала избивать его. Белый вор ускользнул с добычей.
Я связался с Дабуски по электронной почте — написал, что я американский топ-менеджер из офиса IBM в Будапеште и хочу пополнить коллекцию африканских артефактов. Он согласился встретиться со мной в лобби-баре гостиницы Marriott, через дорогу от Варшавского дворца культуры и науки. Он и его жена опоздали на час, но принесли три коробки размером с череп.
Мы отправились в номер, уже нашпигованный камерами и жучками. Польский спецназ засел в номере слева, а командиры, включая Эрика и Джона, смотрели видео в номере справа. Когда чета Дабуски развернула маски, я притворился, что внимательно изучаю их. На самом деле я искал серийные номера музея, выгравированные под подбородком. На одной не было учетных отметок, но на другой я заметил странное пятно. Напоминало коричневый крем для обуви, похоже на попытку что-то скрыть. Разобрав одну цифру — возможно, 3, — проступившую сквозь крем, я понял, что это украденные маски. Я принял предложение: тридцать пять тысяч долларов за две маски и три подголовника — и подал условный сигнал.
Учитывая, как мне катастрофически «везло» с ключами от номера в Дании, в Варшаве я попробовал другой вариант. Один из спецназовцев постучал в дверь, и я раздраженно проворчал:
— Кто там, черт возьми?
Как только дверь открылась, поляки вытащили меня наружу, бросились в номер и арестовали обоих Дабуски, бросив их на пол и накинув на их головы черные капюшоны. Полиция, следуя плану скрыть мою роль в деле, устроила затем грандиозный спектакль, рассказывая, будто я непонятно как улизнул в суматохе.
Затем последовало два сюрприза.
На стойке регистрации в Marriott мне выдали счет за три номера, забронированные по моей кредитной карте на имя Роберта Клэя. Он оказался на восемьсот долларов больше, чем ожидалось. Судя по всему, мои друзья из польского спецназа угостились выпивкой из мини-баров в номерах и выгребли ее всю после того, как я сбежал. Удивленный и раздраженный, я заплатил по счету, понимая, что придется потратить несколько дней на бумажную волокиту, чтобы обосновать эти расходы.
Второй сюрприз случился через несколько недель после моего возвращения в Филадельфию и дела Гарднер. Мне позвонил агент ФБР из посольства США в Варшаве. Он сказал, что польский прокурор, который явно не в курсе, что произошло на самом деле, обратился к нему с просьбой.
Разговор выглядел примерно так.
Агент ФБР в Варшаве:
— Чем я могу вам помочь?
Варшавский прокурор:
— Э-э-э, мы арестовали поляка по фамилии Дабуски в отеле Marriott в Варшаве за попытку продать африканские артефакты американцу.
— Вы уверены?
— Да, но американец сбежал, и нам нужна ваша помощь, чтобы выследить его.
— Конечно, я могу попробовать. Как его зовут?
— Роберт Клэй.
Агент ФБР и глазом не моргнул.
— Хорошо, — ответил он прокурору, — я сейчас же займусь этим.
Глава 24. Недоверчивость
Филадельфия, январь 2007 года
Фред, бостонский начальник, позвонил мне по мобильному телефону поздно вечером в воскресенье. Я был дома и смотрел матчи плей-офф Национальной футбольной лиги со своими мальчишками.
Прошло два месяца после нашей парижской встречи. Пока шансы на успех были. Мы ждали, оформят ли бюрократы Лоренцу фальшивый паспорт, одобрят сценарий с Монако или придумают какой-то другой план.
Я знал, что Фред жаловался на меня Эрику Айвсу в Вашингтоне. Он был зол потому, что я общался напрямую с Пьером в Париже и предупредил всех участвующих в деле сотрудников ФБР: если мы не пошевелимся, то упустим возможность купить картины. Фред считал, что я беру на себя его полномочия.
Во время разговора я почувствовал нотки удовлетворения в голосе Фреда, и мне стало тревожно. Затем он сказал:
— До нас дошли слухи, что Санни думает, будто ты коп. Это все меняет, Уиттман. Мы должны вывести тебя из игры — привлечь кого-то из моих ребят или французского агента.
Фред поторопился, с чего-то посчитав свои сведения надежными.
— Откуда ты знаешь, что Санни думает, будто я коп? — спросил я.
— От французов, — ответил он. Видимо, из их прослушки.
— Эй, секундочку, Фред, — сказал я. — Это чушь. Я разговаривал с Лоренцем вчера вечером, они с Санни по-прежнему в деле. Не удивляюсь, что Санни беспокоится, не коп ли я. Черт, он мог сказать это по телефону, чтобы посмотреть, отреагируем ли мы. Просто проверить меня и узнать, прослушивают ли его телефон. Он параноик во всем. Помнишь треугольник, который он нарисовал? Преступники всегда проверяют друг друга, чтобы выяснить: может, перед ними стукач или переодетый агент полиции. Это нормально. Я слышал такие разговоры в ходе большинства своих долгих секретных расследований. В Санта-Фе, Мадриде и Копенгагене. Но каждый раз преступника в итоге одолевала жадность, и он шел на сделку.
Фред дал понять, что не намерен это обсуждать. Он позвонил, чтобы дать мне распоряжение: я уже вне игры.
— Отныне, — сказал он, — французы будут иметь дело непосредственно с Лоренцем. Они используют своего агента в Париже — Андре, полицейского под прикрытием, — чтобы общаться с ним.
— Подожди, я не могу разговаривать с Лоренцем?
— Прямо сейчас — нет.
— Фред, как ты себе это представляешь? Он должен позвонить мне. Что я ему скажу?
— Мы думаем над этим. Собираемся организовать несколько встреч.
Я позвонил Эрику Айвсу в Вашингтон и рассказал ему о звонке Фреда и о новых инструкциях.
— Это смешно, Боб, — сказал он. — Посмотрим, что я смогу сделать.
Я знал, что для Эрика это будет непросто. Чтобы отменить все, что наворотил Фред, понадобится поддержка его боссов в Вашингтоне, готовых противостоять боссам Фреда в Бостоне. К сожалению, начальство в Вашингтоне обычно неохотно вступает в конфликт с руководителями на местах. Они не любят поднимать волну, особенно когда сталкивается старый офицер вроде Фреда с более молодым, как Эрик. ФБР — это организация «старичков».
У оперативников есть поговорка, объясняющая это явление: Mind over matter. The bosses don’t mind and the agents don’t matter[33].
* * *
Разумеется, Лоренц позвонил на следующее утро. Я сказал ему, что мне, возможно, придется на время отойти от сделки. Неотложная семейная медицинская проблема. Я выражался туманно. Предложил представить его своему коллеге.
Лоренц взорвался.
— Боб, о чем ты, черт возьми, говоришь? В сделке только мы трое. Ты, я, Санни. Ты не можешь все бросить. У тебя в банке тридцать миллионов. Я тут кричу на Санни, говорю ему, что тебе они обходятся в сто пятьдесят тысяч долларов в месяц и надо торопиться, что ты хочешь купить бостонские картины. И что мне теперь делать?
— Речь о моей семье, Лоренц, — сказал я. — У меня проблема в семье. Я не знаю, что сказать.
Лоренц снова выругался, что-то крикнул мне по-французски и бросил трубку.
На следующий вечер, незадолго до полуночи, Лоренц перезвонил. Он был полон энтузиазма и вел себя так, будто предыдущего разговора не было.
Он похвастался, что только что заключил сделку с недвижимостью на двадцать миллионов долларов в Колорадо и теперь планирует сам купить картины из музея Гарднер во Франции, а потом перепродать их мне. Он говорил быстрее и напористее, чем обычно. Я даже не должен был отвечать на его звонки, а тут выяснилось, что мы на грани провала. Я просто слушал. Лоренц сказал, что планирует поехать в Париж и сделку организует французский полицейский под прикрытием, Андре, который нас познакомил.
На следующий день после бодрящего звонка Лоренца проявился Фред. Прежде чем я успел рассказать ему о разговоре с Лоренцем, он начал болтать о последнем плане. Он сказал, что французский полицейский под прикрытием, Андре, обещал Лоренцу использовать свои связи с преступным миром, чтобы помочь тому пробраться во Францию, и Лоренц и Санни купят картины из музея Гарднер во Франции сами, а затем продадут их мне.
— Да, я знаю, — сказал я. — Лоренц сказал мне об этом вчера вечером.
Тут я оплошал. Фред взбесился. Он начал кричать:
— Ты разговаривал с Лоренцем! Тебе нельзя с ним разговаривать!
— Фред, — сказал я, — он позвонил мне сам.
Успокоившись, он заговорил о новых встречах — возможно, в Майами, Париже, Бостоне или Вашингтоне. Но теперь не слушал я. Я кипел от злости. Нам оставались считаные недели до раскрытия крупнейшего преступления против собственности в американской истории, мы намеревались обмануть корсиканских бандитов и вернуть давно утраченные шедевры. Но Фреда, похоже, больше волновали протоколы, встречи и защита своей территории.
Вскоре он решил применить старое доброе бюрократическое оружие — докладную записку. В ФБР такие документы называют «электронными коммуникациями», или EC: они рассылаются по электронной почте всем, с кем человек контактирует. Примерно через неделю после нашей эмоциональной беседы Фред написал ну очень предвзятое ЕС, где не только представил искаженную версию того, как шла операция, но и поставил под сомнение мою честность. Самое ужасное в нем — заявление французского участника о том, что я планировал оттягивать операцию по делу Гарднер, пока не выйду на пенсию в 2008 году, чтобы потом потребовать награду в размере пяти миллионов, обещанную музеем, себе лично. Нелепица. Агенты ФБР не имеют права на вознаграждение за раскрытые дела, даже после ухода на пенсию. И все это знают.
Кипя от злости, я распечатал экземплярчик и передал его своему непосредственному руководителю в Филадельфии Майку Карбонеллу. Мы с Майком были ровесниками, хотя он работал в ФБР на десять лет дольше. Он занимал в Филадельфии тот же пост, что и Фред в Бостоне, — глава отдела по борьбе с ограблениями банков и насильственными преступлениями.
Я вошел в кабинет Майка, держа в руках клеветнический опус Фреда. Впервые за десять лет я обратился к начальству за помощью. Обычно я решал свои проблемы сам.
— Ты должен это прочесть, — объявил я.
Он закрыл папку, лежавшую перед ним на столе, и взял бумагу. Сказать, что Майк ругается матом, — все равно что заявить, мол, Рембрандт написал несколько автопортретов. К тому моменту, когда он добрался до второй страницы, градус ругательств повысился:
— Чертово дерьмо… Он написал всю эту чушь в долбаном ЕС?.. Какого лешего?
Я спросил, как мне лучше поступить. Но Майк все не унимался:
— За двадцать восемь лет никогда не видел ничего подобного.
Я сказал Майку, что звонил во Францию и выяснил: все цитировавшиеся Фредом фразы были шуткой.
— Ну, тогда понятно, что происходит, — сказал он. — Ты на пороге раскрытия огромного дела, и эти ребята хотят тебя убрать.
— Что мне делать? — повторил я.
— Твоя задница сейчас под угрозой. Ты знаешь, что работа под прикрытием всегда добровольная. Тебе решать. Ты по-прежнему не против работать под прикрытием с Фредом или с парнями из Франции, которые проводят операцию? Ты доверяешь им свою жизнь?
— Нет. — И удивился стремительности своего ответа.
Я спросил Майка, можно ли передать дело из Бостона руководителю в Филадельфии, Майами или Вашингтоне.
— Сомневаюсь, — сказал он. — Ты знаешь систему. Никто в Вашингтоне не хочет рисковать, чтобы кого-нибудь не обидеть.
Майку, который скоро уходил в отставку, было наплевать, наживет ли он врагов. Он направил свой гнев вверх по иерархической лестнице. И — редкий случай — в штаб-квартире приказали удалить ЕС Фреда из базы ФБР.
В конце концов высшее руководство в Вашингтоне вызвало всех на ковер, чтобы снять разногласия и попытаться спасти операцию «Шедевр». Мне разрешили возобновить общение с Лоренцем. Но приказали не разговаривать с Фредом, и, видимо, ему тоже запретили общаться со мной. Оставался открытым вопрос, могу ли я работать под прикрытием во Франции или Испании — и, если будет разрешение, придется ли мне сотрудничать с Фредом.
После встречи в Вашингтоне мы вернулись к текущим делам, пытаясь придумать, как подкрепить мою легенду, убедить продавцов, что я высококлассный арт-брокер, игрок, а не полицейский. Мы придумали несколько вариантов. По одному сценарию мы втроем отправимся в Лос-Анджелес на вечеринку и столкнемся с восходящей звездой Голливуда, которая часто помогала ФБР. Знаменитость узнает меня, остановится поболтать секунд на тридцать, и все поверят, что мы с ней когда-то работали вместе.
Но мы не стали разыгрывать вариант с Лос-Анджелесом, а придумали лучший способ втереться в доверие к преступникам. Я должен был предложить Санни и Лоренцу поучаствовать на правах «партнеров» в двух «сделках с картинами» — в Майами и во Франции. Как и в случае с Джошем Бэром в Санта-Фе, я должен был убедить их, что мы соучастники. Обе сделки, конечно, были бы фальшивыми, операциями под прикрытием. В США я должен был продать поддельные картины в Майами тайным агентам ФБР, изображающим колумбийских наркоторговцев, на борту яхты, принадлежащей ФБР. Французская сделка будет аналогичной, за исключением того, что я буду продавать поддельные картины французским тайным агентам в Марселе.
Я изложил план в длинном электронном письме и разослал его всем участникам. В конце добавил: «Предупреждаю всех: в этой работе нам необходимы полное содействие и поддержка друг друга. Дамы и господа, мы все должны действовать сообща».
Как только мне дали зеленый свет, я начал готовиться. Позвонил в Вашингтон и договорился одолжить мешочек с бриллиантами и полдюжины крюгеррандов из хранилища конфискованных улик ФБР. Я позвонил в Майами, чтобы арендовать яхту, и добыл несколько поддельных картин для первой сделки — шесть фальшивок, давным-давно изъятых правоохранительными органами: Дега, Дали, Климт, О’Кифф, Сутин и Шагал. Подразделение ФБР в Майами согласилось предоставить своих тайных агентов в помощь.
Когда все было готово, я позвонил Санни и Лоренцу.
Договориться с Санни оказалось легко. Я сказал, что мне нужна его помощь в качестве физической силы. Он так хотел заработать хоть немного, что согласился без лишних вопросов.
С Лоренцем я действовал иначе. Он не нуждался в деньгах и не считал себя особенно сильным физически, поэтому я сыграл на его слабости. Он был так богат и так скучал, что у него развилась страсть к острым ощущениям. Лоренц был фанатом адреналина. Он любил кататься на гидроциклах и горных лыжах, прыгать с парашютом и проворачивать рискованные сделки с недвижимостью. Так что, когда он отказался присоединиться ко мне в сделке на яхте, я задел его мужское самолюбие.
— Я знаю тебя уже год, Лоренц, — сказал я. — Ты, конечно, говоришь правильные вещи, водишь «Роллс-Ройс» и все такое, но я еще ни разу не видел тебя в деле. А мы обсуждаем сделку на тридцать миллионов. Скажем так, я хотел бы посмотреть, как ты справишься с похожим делом, прежде чем мы вместе приступим к главному.
— Хорошо, хорошо, я с тобой, Боб, — согласился он. — Но на следующей неделе не могу.
— Почему?
— Собираюсь в отпуск.
Я прикусил язык.
— Снова лыжи?
— Гавайи.
На Гавайи уезжал не только Лоренц.
Пока мы готовились к операции на яхте в Майами, моего самого верного союзника в Вашингтоне, Эрика Айвса, перевели в Гонолулу. Это не было связано с делом музея Гарднер, просто в ФБР есть обычай тасовать молодых руководителей по всей стране каждые три года. Но это была огромная потеря. Во время расследования по делу Гарднер Эрик неоднократно противостоял руководителям-бюрократам. В последний день он даже отправил письмо с просьбой дать мне свободу действий в моей работе.
ФБР не нашло замены Эрику. Его должность начальника отдела краж в особо крупных размерах осталась вакантной. Много месяцев спустя ситуация только ухудшилась. ФБР реорганизовало свою деятельность и ликвидировало отдел крупных краж, передав его дела другим подразделениям. Отдел, занимавшийся похищенными произведениями искусства, был переведен в департамент по борьбе с насильственными преступлениями, где сразу стал низкоприоритетным. Его затмевали основные задачи ФБР: отлов похитителей, гангстеров, торговцев наркотиками, грабителей банков и беглецов.
В этой бюрократической машине специалисты по искусству утратили энтузиазм.
Пока Лоренц отдыхал, совместная операция Майами и Марселя на яхте была приостановлена. Но мои коллеги во Франции не теряли времени зря.
Из беседы с Пьером в четверг я узнал, что теперь начальник французского SIAT и агент ФБР в Париже собираются выжить меня и провести операцию во Франции своими силами. Тот самый глава SIAT, который когда-то сказал мне, что Лоренц не может въехать во Францию, теперь строил планы, как провезти его в страну и заключить сделку без меня. Я был потрясен. Одно дело, когда оперативником вроде меня командует бостонский начальник, и совсем другое — когда коллега-американец в Париже устраивает сговор против меня с полицейским другого государства.
Я рассказал Пьеру про Фреда, его бредовую докладную, недовольство и совещание в Вашингтоне, потерю Эрика как главы подразделения и о том, как это повредит борьбе с преступностью в сфере искусства. Мы обсудили сделку на яхте в Майами, и, когда я упомянул, что ее отложили на три недели из-за отдыха Лоренца на Гавайях, Пьер рассмеялся.
— Что тут смешного, черт возьми? — спросил я.
— Мои люди в Париже, ваши в Париже, Фред в Бостоне; Лоренц греет бока на пляже, когда ты хочешь заключить сделку; твоего друга Эрика перевели, — ответил он. — Все вставляют тебе палки в колеса.
Накануне сделки на яхте в Майами я принес шесть поддельных картин домой к Лоренцу. Втащить их помогал Санни.
Мы втроем сидели под пальмами у бассейна и курили сигары в нескольких шагах от причала и любимых гидроциклов Лоренца.
Я изложил план: шесть картин за миллион двести тысяч долларов. Лоренц старался изображать крутого, но было заметно, что он взволнован. Я сомневался, что он когда-нибудь пачкал руки, — он платил, чтобы это делал за него кто-то другой. Санни тихо сидел и курил, потягивая воду Evian. Закончив, я спросил Санни, есть ли у него вопросы.
— Нет, все понятно, — ответил он. — У меня есть страховка. Пистолет.
— Никакого оружия, — возразил я. — Если нас обыщут на яхте, это оскорбит хозяев. Я никогда не ходил на сделку с оружием. Не было нужды.
Санни засмеялся.
— А я никогда не ходил на сделку без оружия!
Он повернулся к Лоренцу.
— Объясни Бобу, что сказал Патрик. — Патрик был одним из тех, с кем они контактировали на Французской Ривьере.
— Он хочет продать нам с десяток картин, — сказал Лоренц. — Там есть Моне и, думаю, остальные. Он пришлет фотографии. Он говорит, что они стоят сорок миллионов евро, а он хочет шесть миллионов.
— Сколько это в долларах? — спросил я. — Десять миллионов?
— М-м-м, скорее девять, — ответил Лоренц. — Тебе интересно? С этими парнями шутки плохи. Как только ты дашь согласие на покупку, ты должен будешь довести дело до конца.
— Или? — сказал я, притворяясь, что не понимаю, чтобы спровоцировать реакцию.
Санни усмехнулся и встал, затем начал взволнованно шагать туда-сюда и быстро говорить по-французски. Лоренц переводил:
— Дело серьезное. Мы не хотим ссориться с этими людьми. Они хладнокровные убийцы. Они застрелили моего лучшего друга. Он ехал в своей машине, а киллер на мотоцикле остановился у светофора и выстрелил в него. Мы имеем дело с плохо организованными бандами. У них около двухсот человек: во Франции, Испании, Сербии, на Корсике. У разных банд разные тайники с картинами. Некоторые из них годами сидят в тюрьме и прячут картины, ожидая приговоров. Часть картин сильно повреждены, ведь их вырезали из рам. Один из больших Рембрандтов, которые ты ищешь, совсем плох. Наш друг Патрик постарается отреставрировать его.
Я встревоженно прервал тираду Санни.
— Нет-нет! Скажи ему, пусть не делает этого. Это может ухудшить ситуацию, снизить стоимость. Я обращусь к профессионалам. У меня есть знакомые.
Я сказал Санни, что подумаю о покупке Моне, но на самом деле очень хотел полотна старых мастеров, особенно Вермеера и Рембрандта. Но Санни был непреклонен.
— Для начала надо брать то, что они предлагают.
Сделку на яхте в Майами провернули на следующий день.
Мы привезли в гавань шесть картин в новом платиновом «Роллс-Ройсе» Лоренца. Я и Санни перенесли их на крытую яхту «Пеликан». Она курсировала у порта Майами до раннего вечера, мы наблюдали, как секретные агенты в бикини танцуют и едят клубнику, и я «продал» фальшивые картины фальшивым колумбийским наркоторговцам за миллион двести тысяч долларов.
Они заплатили фальшивым банковским переводом, алмазами и крюгеррандами из хранилища ФБР. Когда мы сошли с яхты, я бросил мешочек с десятью бриллиантами Санни и дал Лоренцу несколько золотых монет.
— Это за вашу помощь сегодня.
Санни взвесил мешочек и сказал:
— Ужин с меня.
Отмечать мы отправились в La Goulue. По дороге в Майами-Бич Санни больше интересовали разговоры о наркоторговцах и девушках в бикини, чем о живописи. По его словам, на яхте он обсудил с одним из колумбийцев возможную сделку с «дурью».
— Я не знаю этих парней, — сказал Санни. — Я их не знаю. Может, они копы.
— Да, будь осторожен, я тоже их плохо знаю, — ответил я, пытаясь казаться равнодушным, но не отговорить от сделки с наркотиками. — Но все-таки не стоит связываться с веществами, Санни. Ты заработаешь больше на предметах искусства. Дружище, если тебе они нравятся, это твое дело. Может, ты с ними лучше знаком. А что до этих ребят, я знаю только, что их деньги хороши. Но решать тебе. Я не хочу вмешиваться.
— М-м-м, — произнес Санни. — Не знаю.
Я увел разговор в сторону, не зная, заглотнет ли он наживку. Вариант с наркотиками, придуманный агентами из Майами, должен был расширить возможности в деле Гарднер. Как минимум мы надеялись, что познакомим Санни с другими тайными агентами ФБР, которым он сможет доверять. Мы бы подождали, понаблюдали, как развивается дело Гарднер, и, если это будет уместно, предъявили Санни серьезное обвинение в наркоторговле и попытались обмануть его: пригрозить долгим тюремным сроком, если он не поможет нам вернуть бостонские картины. И мы считали, что сценарий с наркотиками может стать нашим спасательным кругом в чрезвычайной ситуации. Если нам нужно будет внезапно арестовать одного из участников сделки по картинам из музея Гарднер — здесь или во Франции, — мы сможем переложить вину на одного из новых приятелей Санни, внушив всем, что он доносчик.
К моменту прибытия во французский ресторан мы уже снова говорили об искусстве, а не о кокаине. Мы обсудили план с перелетом на вертолете в Монако и возможность встретиться там с Патриком, французским связным Санни. Я сказал, что будет гораздо проще, если Патрик и его партнеры просто прилетят во Флориду и встретятся с нами. Тогда мы сможем все прояснить. Лоренцу эта идея понравилась, и Санни сказал, что позвонит Патрику.
Затем Санни вдруг спросил, нравится ли мне Пикассо.
— Конечно, — ответил я, и он спросил, слышал ли я о недавнем ограблении в Париже: краже двух картин на сумму шестьдесят шесть миллионов долларов из квартиры внучки Пикассо. Я подтвердил. Лоренц и Санни лукаво улыбнулись.
Принесли наш заказ, и Санни сказал:
— Давайте есть. Поговорим о делах позже.
Мы разговаривали о семьях, гидроциклах, гавайских каникулах Лоренца и о том, как выгодно он купил свой новый платиновый «Роллс-Ройс». К картинам Пикассо мы не возвращались.
Все было очень вкусно. Счет принесли, когда Лоренц болтал по телефону, и Санни воспользовался возможностью, чтобы вежливо извиниться и ускользнуть, оставив чек Лоренцу.
* * *
В мае Бостон и Париж начали новый раунд бумажной волокиты.
Это была хитроумная комбинация с целью выдавить меня, и началась она с докладной из Бостона в Париж. На первый взгляд изложенные в ней темы были довольно безобидны: поскольку преступники подозревают, что «Боб — коп», не считает ли французская полиция, что моя вымышленная личность скомпрометирована? Могу ли я спокойно приехать под прикрытием во Францию и встретиться с теми, кто предлагает продать картины из музея Гарднер?
Последовал ответ из Парижа: прямых доказательств того, что меня раскрыли, нет, но «возникнет серьезная опасность», если я буду работать под прикрытием во Франции.
Я изучил эти два документа и покачал головой. Конечно, международная операция под прикрытием очень опасна! Не нужно быть агентом ФБР, чтобы это понять. Но, зная культуру ФБР, где стараются не рисковать лишний раз, я догадывался, что такая докладная станет сигналом тревоги, мигающим желтым огоньком. Теперь все в курсе, что во Франции меня могут ранить или убить, и ни один из руководителей не хотел, чтобы такое произошло по его вине, особенно если всех предупредили в письменном виде.
Никто прямо не говорил, что мне нельзя оставаться в деле и работать под прикрытием в Париже, но обстановка накалилась. Мое начальство в Филадельфии вступило в контакт с Фредом и его боссами, а затем с руководителями ФБР в Париже и Майами. После этого филадельфийское начальство сказало мне: атмосфера настолько нездоровая, что Бостон не хочет видеть меня даже в роли консультанта. Внутренняя борьба дошла до того, что под угрозой оказалось все дело и безопасность участников, включая меня. Боссы из Филадельфии посоветовали мне отказаться от него. Я с неохотой согласился.
Но как сказать об этом Лоренцу и Санни, ничего не испортив?
Я постарался выразиться как можно короче, вежливее и правдивее.
— Ребята, было приятно с вами работать, — объяснил я, — но мой начальник мне уже не доверяет и хочет ввести в дело кого-то другого.
Я сказал, что больше не могу отвечать на их звонки.
Лоренц в истерике оставил мне голосовые сообщения и отправил несколько тревожных электронных писем. В них сквозили отчаяние и уязвимость, которых при личном общении я не замечал.
«Добрый вечер! — писал Лоренц в одном из писем на ломаном английском, с кучей заглавных букв и восклицательных знаков. — Я очень расстроен. Я сегодня в очень трудной ситуации. К чему было так рисковать моей жизнью, моим будущим, тратить мое время? Бессмысленно! Почему? Я думал, что мы действительно сможем получить эти картины, а теперь я знаю, что это просто иллюзия. Почему? Почему? МНЕ ОЧЕНЬ НУЖНО, ЧТОБЫ МНЕ ХОТЬ ЧТО-ТО ОБЪЯСНИЛИ. Спокойной ночи! Сладких снов!»
Я чувствовал, что должен ответить, но написал очень сухое, формальное сообщение, с теплотой сотрудника из службы поддержки корпоративных клиентов: «Понимаю твои переживания и вопросы и передаю их…» Я чувствовал себя ужасно, но у меня не было выбора.
Лоренц ответил через несколько минут. «Это нелепо! Я трачу кучу денег, а теперь ты кидаешь мне КОСТЬ, КАК СОБАКЕ? Быть благоразумным? Поговорить с кем-то еще? Нет! Единственный, с кем я стану разговаривать, это БОБ! ТОЛЬКО БОБ! Я больше никому не доверяю».
Я сообщил в офисы ФБР в Бостоне и Париже об этих письмах и звонках, и там выразили недовольство. Недолго думая, они отправили запрос моему боссу в Филадельфии, требуя все записи и следственные документы о моих контактах с Лоренцем. Докладная выглядела как повестка в суд.
Я переживал самый тяжелый период в своей карьере в ФБР с 20 декабря 1989 года — с той ночной аварии. Я стал раздражительным, перестал спать. Я пытался скрыть это от детей, тяжесть разочарования легла на плечи Донны. Она понимала, что мне остался всего год до пенсии, и призывала бороться за свою репутацию.
О моем отчаянии знали немногие. С виду все выглядело хорошо, моя популярность как главного агента ФБР по борьбе с преступлениями в сфере искусства только росла. Тем летом я помог вернуть оригинальный написанный от руки экземпляр романа Перл Бак «Земля», награжденного Пулитцеровской премией. На пресс-конференцию пришло много народу, но, заняв свое обычное место подальше от телекамер, я не мог справиться с чувством опустошенности.
Несколько недель я выполнял приказы и не связывался ни с кем из участников дела Гарднер. Но я не мог запретить Лоренцу или Пьеру связываться со мной.
Однажды в середине июля Лоренц прислал мне несколько писем, которые я не сумел проигнорировать. К каждому была прикреплена фотография картины Пикассо, лежащей рядом с парижской газетой недельной давности. Я сразу же узнал картины, украденные из квартиры внучки Пикассо, — те, что Санни и Лоренц вскользь упомянули в ресторане несколькими месяцами ранее. Лоренц хотел, чтобы я их купил.
Я не ответил, но сообщил начальству. Вскоре из Парижа позвонил Пьер.
— Ты знаешь о полотнах Пикассо, украденных в Париже? — спросил он. — Я только что видел письма.
— Да, — осторожно сказал я.
— Это еще не всё, — сказал Пьер. Я знал, что он слушает много телефонов, включая Санни, и его команда старалась отслеживать звонки Лоренца во Францию. — По данным прослушки, Санни и Лоренц договариваются с бандитами, у которых Пикассо, о продаже картин нашему секретному агенту, Андре. И по телефону говорят, что ему можно доверять, потому что он работает с человеком по имени Боб в Майами. Не думаю, что в Майами есть другой такой Боб.
— Пожалуй, нет.
Я покачал головой, пытаясь понять ситуацию. В начале расследования дела Гарднер Андре поручился за меня Лоренцу, заставив его поверить, что мы работали вместе как теневые торговцы произведениями искусства. Но теперь, когда Лоренц и Санни считают, что мы втроем совершили серьезное преступление — организовали «продажу» на «Пеликане», весомость гарантий удваивалась. Санни и Лоренц говорили ворам, что Андре надежен, потому что можно доверять Бобу. Да, Лоренц обижен на меня, ведь я отказался от сделки по картинам Гарднер. Но он по-прежнему считал меня достойным доверия. В конце концов, мы вместе провернули дельце, и никого не арестовали. Что может быть лучшим доказательством моей надежности?
— Итак, из-за бостонского дела возникла проблема, — сказал Пьер. — Твои друзья Фред со товарищи из ФБР просят нас подождать. Не брать картины прямо сейчас. Ты понимаешь почему?
— Да, понимаю. — Когда Андре и его коллеги-офицеры завершат дело Пикассо арестами, воры узнают, что кто-то из причастных к нему на самом деле был стукачом или полицейским под прикрытием. Подозрение, скорее всего, падет на Андре и, возможно, на его американского партнера Боба, чья добросовестность помогла Санни и Лоренцу убедить воров сотрудничать с Андре. И тогда использовать Лоренца и Санни для возвращения картин Гарднер будет невозможно.
Я понимал дилемму Пьера. Он не мог упустить картины Пикассо стоимостью шестьдесят шесть миллионов долларов. Если бы стало известно, что он не вернул полотна, решив сделать любезность ФБР, разразился бы скандал и, скорее всего, его карьера оказалась бы под ударом.
Я предложил Пьеру вот что: во время полицейского налета притвориться, будто арестовали его агента под прикрытием. Тогда воры не поймут, кто их предал. Как минимум мы выиграем время.
Пьеру понравилась идея.
— Ты хороший шахматист, — сказал он и пообещал так и поступить.
Невероятно, но во время парижской операции приказ Пьера не был выполнен: французский спецназ не арестовал тайного агента вместе с ворами. Хуже того, во время допроса другой француз-полицейский подтвердил одному из воров, что покупатель на самом деле был агентом под прикрытием. Ворам в Париже не потребовалось много времени, чтобы связать Андре с Лоренцем и со мной.
Пьер позвонил и извинился за провал. Он сказал, что это произошло случайно, и я поверил ему.
К сожалению, последствия наступили незамедлительно, и самые серьезные.
Через несколько дней после операции по возврату Пикассо позвонил Лоренц. Он был в панике.
— Они хотят убить меня! И тебя! Тебя и меня! Они хотят убить нас обоих!
Я велел ему успокоиться и начать с начала. По его словам, партнеры похитителей Пикассо сейчас в Майами с Санни и требуют ответов от Лоренца и денег на адвокатов для воров.
— Я был в видеосалоне, — пробормотал Лоренц. — Ты же знаешь, я хожу туда каждый вторник за новыми фильмами? Они проследили за мной, хотели посадить в машину и увезти. Я же говорил, эти парни не шутят.
— Как ты сбежал?
— Я увидел их из салона и попросил жену позвонить по номеру 911, а когда полицейские приехали, я вышел поговорить с ними.
— Умно. Ты сейчас где?
— В гостинице. Loews. Сюда можно привести собак. — Лоренц обожал двух своих дворняжек и брал их повсюду. Он начал хвастаться размером и стоимостью номера, и я не стал его перебивать. Мне надо было подумать.
Я хотел побольше узнать о бандитах, угрожавших Лоренцу. Во-первых, они могут привести меня к пропавшим картинам из музея Гарднер. Во-вторых, они угрожают мне. Но я должен найти такой способ вмешаться, который окажется правдоподобным для Лоренца и не очень странным для Боба Клэя. Здесь у меня имелось преимущество. Лоренц не знал, что я в курсе, как он назвал ворам мое имя, говоря о партнере Андре. Мне следовало знать только то, что французские воры никогда обо мне не слышали.
Так что я сказал:
— Лоренц, притормози. Ты сказал, что они хотят убить и меня. Почему меня? Я всего лишь прочел электронные письма, которые ты мне отправил. Я не участвовал в сделке.
Лоренц попал в ловушку и стал пенять на Санни.
— Санни сказал им, что ты партнер Андре и мы можем доверять ему, потому что доверяем тебе. Теперь они хотят знать, где ты живешь. Они желают убить тебя, ведь ты виноват в том, что их друг в тюрьме.
Я взорвался.
— Что за?.. Почему Санни так сказал? Ладно, черт с ним! Что эти типы о себе возомнили? Я хочу встретиться с ними! Устрой это!
Лоренц перезвонил на следующий день. Мы встретились с двумя французами в баре роскошной гостиницы во флоридском Голливуде. Через три дня.
Оперативный план встречи в гостинице был общим компромиссом. Как позже от руки написал один сотрудник ФБР на титульном листе своего итогового отчета, он выглядел как «полный бардак».
С учетом всех обстоятельств меня официально вернули в дело, но Фред дал понять, что это временно. Он настоял, чтобы я на этой встрече как-нибудь представил его секретного агента из Бостона. Того, кто должен был заменить меня, звали Шон, и он часто изображал бостонского бандита. Мне было велено поручиться за него, объяснить, что он теперь будет заниматься сделкой с картинами из музея Гарднер. Я сомневался, что это сработает. Шон был хорошим парнем, но ничего не знал о международных сделках по предметам искусства. Да и дело Пикассо уже напугало французов — в этом и был смысл встречи. В общем, самый неподходящий момент, чтобы заставить их переключиться на незнакомого человека.
— Что, если эти люди откажутся иметь дело с Шоном? — спросил я. — И будут настаивать на работе со мной? Что мы скажем?
— Скажем, чтобы проворачивали свои дела в другом месте, — ответил Шон.
Я рассмеялся.
— Серьезно? Как насчет того, чтобы использовать их? Взять ситуацию под свой контроль? Может, завуалированно пригрозить им?
— Никаких угроз, только не от меня, — сказал Шон. — Не хочется, чтобы кто-нибудь записал разговор, где я кому-то угрожаю.
Шон больше хотел прикрыть свою задницу, чем защитить мою. Я решил не тратить силы на споры с ним.
Прежде чем пойти встретить Лоренца в холле, я сунул в каждый карман по пистолету. Впервые за девятнадцать лет я шел на операцию под прикрытием с оружием. Но ситуация была особенная: мне угрожали. Те, с кем я планировал встретиться, не картину хотели продать, — они желали знать, почему им не надо убивать меня.
Пока я прятал оружие, Фред бросил на меня взгляд. Я сказал ему:
— Если эти люди начнут доставать меня, я их убью.
— Пожалуйста, не надо ни в кого стрелять, — ответил Фред.
— Я не хочу ни в кого стрелять и никогда не стрелял. Но эти ребята уже сказали Лоренцу, что хотят убить меня.
Шон навострил уши.
— Они настолько опасны?
— Да, — сказал я. — Лоренц рассказал мне об одном из этих парней. Он помешан на ножах. Парень порезал себя на первой встрече с Лоренцем, чтобы показать, насколько он крут. Раскроил себе руку и сидел, не перевязывая рану. Кровь текла, и это выглядело страшно. И он сказал Лоренцу: «Боль для меня — не проблема. Это и есть смысл жизни». Вот так, Шон. Я отношусь к таким парням серьезно.
Мы с Шоном встретили Лоренца в холле.
Прежде чем мы вошли в бар, Лоренц описал двух потенциальных убийц, ожидавших нас вместе с Санни. Он называл их «Ваниль» и «Шоколад». Ванилью был белый, с длинными темными волосами и кривым носом. Шоколад — чернокожий, лысый, на зубах серебристые брекеты. Именно у него был пунктик насчет ножей и комплекция футбольного полузащитника.
Мы встретились с ними в баре и вшестером сели за угловой стол: Лоренц и мы с Шоном с одной стороны, Санни, Ваниль и Шоколад с другой.
Ваниль и Шоколад были большими, но не тупыми. Они вели себя осторожно и демонстрировали напускное уважение ко мне. Если бы я был тем, кем себя назвал, — теневым арт-дилером, который общается с клиентами-миллионерами, — я мог бы принести им немалые деньги. Французы это понимали. Было бы глупо сыпать оскорблениями, пока они не узнают меня получше. Но если они решат, что я стукач или коп, то смогут разобраться со мной позже.
Почувствовав их нерешительность, я перешел в наступление.
— Послушайте, — настойчиво сказал я, держа руки под столом в нескольких сантиметрах от спрятанного оружия, — кто-то во Франции кинул вашего человека, и теперь у всех из-за этого неприятности. Ваша проблема — во Франции.
Шоколад возразил:
— Здесь замешано ФБР. Оно не во Франции.
Я ответил:
— Думаешь, я не знаю про ФБР? Они пришли ко мне домой, разбудили меня, напугали жену до чертиков, задавали вопросы о Пикассо и каких-то людях в Париже. Когда в моем доме появляются агенты ФБР, это плохо для бизнеса. У меня репутация.
Шоколад хотел знать, почему мое имя всплыло в Париже. Откуда французский полицейский под прикрытием знал, что можно им воспользоваться, чтобы приманить воров?
Я улыбнулся и откинулся на спинку стула.
— Чертовски хороший вопрос. Мне тоже интересно. Хотел бы я знать. — Я показал на Санни. — Может быть, они прослушивают его телефон. Вы же знаете, мы с Санни работаем вместе.
Шоколад спросил о расходах своих друзей, арестованных по обвинению в краже Пикассо, на адвокатов. Поможет ли Лоренц оплатить их?
Лоренц любил изображать крутого. Но тут он знал, что есть только один правильный ответ, если он хочет остаться в живых.
— Oui, — резко произнес он и отвел взгляд.
Проблема решилась, я убрал руки с карманов и сменил тему, представляя Шона. Он протянул руку в знак приветствия, но Шоколад и Ваниль только посмотрели на него.
Шон говорил грубовато, как крутой парень из фильмов сороковых.
— Короче, слушайте. Теперь работаете со мной. С Бобом больше не общаетесь. По всем делам — только со мной. Для вас бизнес — это я. Все через меня.
Санни и его французские друзья выглядели растерянными, будто хотели сказать: «Что это значит, черт возьми?» Лоренц им перевел. Шоколад быстро заговорил по-французски с Санни, а затем повернулся к Шону.
— Non, мы будем иметь дело только с Бобом, Санни и Лоренцем.
Шон покачал головой.
— С этого момента вы звоните мне, или до свидания.
Шоколад хрипло рассмеялся. Он сказал Шону:
— Кто ты такой, напомни?
Корявый план Фреда трещал по швам. Я вмешался.
— Звоните Шону. Это правильно. Вот что, поостынем, подумаем месяц, а затем снова свяжемся, ладно?
Шоколад не соглашался. Он снова заговорил с Санни по-французски. Подошла официантка, и Шон неуклюже подпрыгнул, чтобы взять счет. Он сунул ей кредитку. К чему такая спешка?
Санни и его друзья встали и направились к пляжу. Мы с Лоренцем и Шоном пошли в другую сторону, к вестибюлю и гостевой стоянке. Лоренц был неожиданно молчалив, пока мы с ним не оказались одни в «Роллс-Ройсе». Он только открыл рот, но тут зазвонил его телефон. Это был Санни. Они говорили по-французски. Лоренц засмеялся.
Он повесил трубку и покачал головой.
— Они говорят о твоем друге Шоне, спрашивают, кто этот урод. Говорят, что хотят засунуть его в багажник машины, но не могут, потому что она взята напрокат, а он слишком большой, не поместится туда. Санни говорит, что они считают его идиотом и не хотят иметь с ним дело.
— А ты что думаешь?
— Он придурок, — сказал Лоренц. — И я думаю, что он, возможно, коп.
— Ты о чем?
— Он не гангстер. Это очевидно.
— Почему?
— Он милашка. «Ой, если вы не будете иметь дело со мной, я ухожу». Ах, напугал. Настоящий гангстер смотрит тебе в глаза и говорит очень тихо и спокойно: «Хочешь меня надуть? Тогда тебе не поздоровится. Ты мне сейчас скажешь, почему мне не надо убивать тебя сегодня. Скажи мне сейчас, или до конца дня ты будешь на том свете. Спасибо. До свидания». Вот как разговаривает настоящий бандит.
— Эм-м…
Лоренц надавил на педаль и рванул с места.
— Этот парень, Шон, оплачивал счет зеленой картой American Express! Настоящий гангстер не пользуется кредитными картами. Он платит наличными. Всегда, всегда! И никогда не берет чек! Никогда! Никогда!
Я не знал, что сказать. Он был прав.
Лоренц повернул к дамбе и к центру Майами. Через несколько секунд он сказал:
— Я высажу тебя у гостиницы, и, возможно, мы больше не увидимся. Если бы не та сделка на яхте, я бы точно думал, что ты полицейский. Но сейчас, — Лоренц на мгновение отвел взгляд от дороги и покосился на меня, — я не знаю, коп ты или нет, и мне все равно. Я в ужасной форме, понимаешь? Все кончено.
Лоренц надавил на педаль газа и включил радио.
Он вышел из игры.
С уходом Лоренца бостонский отдел ФБР свернул операцию «Шедевр».
«Отлично», — думал я. Из-за бюрократии и дележа полномочий по обе стороны Атлантики была упущена самая реальная за десять лет возможность вернуть картины из музея Гарднер. И мы не смогли уничтожить крупнейшую во Франции группировку воров, занимающихся произведениями искусства. Это была слабо связанная сеть бандитов, у которых имелось около семидесяти украденных шедевров.
Наш провал убедил меня в том, что ФБР — уже не та мощная сила, частью которой я стал в 1988 году. Оно становилось бюрократической махиной, избегающей риска, как и любое другое госучреждение, где полно посредственностей и людей больше волнует карьера, а не раскрытие дела.
Отдел по борьбе с преступлениями в сфере искусства, созданный с такой помпой, казалось, ждала та же судьба, учитывая постоянную текучку кадров. Мы потеряли не только Эрика Айвса, но и нашего лучшего прокурора Боба Гольдмана. Мелочные и неуверенные в себе начальники в Филадельфии выдвинули моему лучшему другу ультиматум: откажитесь от художественных преступлений и вернитесь к делам, связанным с наркотиками и ограблениями банков, или ищите другую работу. Гольдман поймал их на слове и уволился, резко оборвав двадцатичетырехлетнюю карьеру в правоохранительных органах. Что еще хуже, половина оперативников, назначенных в наш отдел с самого начала, теперь перешли в другие, надеясь быстрее продвинуться там по службе. Это печально.
Осенью 2007 года, когда начался обратный отсчет последнего года на посту агента ФБР, я планировал завершить несколько долгих дел, подготовить себе замену и подумать о вечеринке по случаю выхода в отставку. Я хотел попутешествовать с Донной, навестить сыновей в колледже, сходить на выступления дочери.
Но в один прекрасный день зазвонил мой секретный телефон.
Это был Санни.
Глава 25. Финал
Барселона, январь 2008 года
Через четыре месяца после звонка Санни я сидел в обшарпанном гостиничном номере в Барселоне и вел переговоры с его боссом Патриком.
Нас было шестеро. Мы сидели вокруг шатающегося стола на двух односпальных кроватях. Мы с Патриком расположились с противоположных сторон у открытого окна. Санни и испанский агент под прикрытием сидели на краю одной из кроватей. Двое моих подручных, агенты ФБР из Майами, по-прежнему изображали колумбийских наркоторговцев и развалились на второй койке.
Скрытая камера в потолочном вентиляторе все записывала. Испанский отряд спецназа ждал по соседству.
Патрик, стройный самоуверенный француз армянского происхождения шестидесяти лет, под два метра ростом, сидел примерно в тридцати сантиметрах от моего лица и курил крепкие «Мальборо». У него были коротко стриженные седые волосы и белая щетина на подбородке. Карие глаза смотрели на меня терпеливо и сосредоточенно, взглядом снайпера. Он тщательно подбирал слова и выстраивал их в короткие предложения.
— Мы с тобой уже не молоды, — сказал Патрик по-французски. — Деньги — это хорошо, но свобода очень важна.
Я надеялся взять с собой франкоязычного агента ФБР под прикрытием для перевода, но бюро не смогло найти подходящего. Так что эту функцию выполнял офицер-испанец. Он переходил с французского на английский и с английского на французский быстро и с удовольствием, но у него был тревожный тон и женственный тембр, не соответствовавшие накалу переговоров. Я уже представлял себе, как мачо из ФБР смотрят видео в соседнем номере и гогочут.
Я сказал:
— Я тоже не хочу в тюрьму.
— Да, мы знаем, что важнее.
— Итак, — сказал я, надеясь, что они во всем признаются под запись, — расскажи мне об ограблении.
Патрик был только рад.
Я всегда говорю новичкам: надо отрабатывать все ниточки. Никогда не знаешь, какая из них приведет к разгадке.
Иногда результата приходится ждать долго.
Когда Лоренц самоустранился, агенты в бостонском офисе ФБР закрыли дело. Но подразделение в Майами не хотело отпускать Санни; там начали новое дело — операцию «Шедевр II» — и подманили его обещанием крупной сделки с наркотиками. Вскоре он снова позвонил мне, чтобы поговорить о картинах.
Сначала речь шла о Вермеере и Рембрандте. Но он стал предлагать и другие картины: четыре работы, в том числе Моне и Сислея, украденные прошлым летом из музея в Ницце. По словам Санни, эти две группы картин хранились у разных банд.
Я дал понять, что мне нужны полотна из Бостона, а не из Ниццы. Санни ответил, что сначала я должен купить картины из Ниццы. Это поможет завоевать доверие.
Когда путь к картинам из музея Гарднер снова открылся, я дал согласие, и Санни организовал встречу в Барселоне, чтобы договориться о цене картин из Ниццы. Мне показалось любопытным, что для встречи Санни выбрал Испанию. Мы знали по прослушкам, что Вермеера, скорее всего, там и держат.
Я решил, что упускать такой шанс нельзя. Даже если Санни водил меня за нос с работами из музея Гарднер, мы бы вернули картины из Ниццы и помогли моему другу Пьеру раскрыть крупную кражу. А если сделка с картинами из Ниццы приведет к сделке по Гарднер, мы сорвем джекпот.
Я подошел к встрече в Испании с особой осторожностью. Незадолго до того я узнал, что через несколько недель после нашей встречи в гостинице во Флориде Санни нашел одного из информаторов ФБР и предложил ему шестьдесят пять тысяч долларов за убийство Лоренца.
В гостиничном номере в Барселоне я не мешал Патрику рассказывать подробности крупного ограбления в музее Ниццы. Он гордился своей работой.
Патрик объяснил, что воскресенье в августе — самый немноголюдный день недели в самом тихом месяце. Он выбрал выкрашенный в абрикосово-кремовые тона Музей изящных искусств, потому что тот расположен на холме в спальном районе, вдали от туристических маршрутов. Я знал, что у этого заведения есть нечто общее с музеями Гарднер и Барнса: он был источником вдохновения и резиденцией меценатки, украинской княгини, жившей в XIX веке[34]. Там до сих пор хранятся важные работы, хотя он уже не смотрится так величественно на фоне городской бухты Ангелов: теперь он загорожен лесом безликих жилых домов.
Патрик описал своих четырех сообщников как двух близких друзей и двух неизвестных цыган. Все пятеро были одеты в синие комбинезоны работников коммунальных служб, лица закрыты банданами или мотоциклетными шлемами. Музей почти не охранялся. Камер наблюдения нет. Сигнализации тоже. Полдюжины дежурных охранников — безоружные прыщавые дети. «Слабаки», — вспоминал Патрик. Во Франции не было хуже одетых мужчин.
Патрик сказал, что его команде на все потребовалось четыре минуты.
Держа в руках пистолеты, воры открыли стеклянную входную дверь и приказали охранникам и горстке посетителей лечь на пол. Цыгане-подручные держали всех на мушке в фойе, остальные бросились к картинам. Один рванул через сад под открытым небом на первом этаже к задней галерее и схватил две картины фламандского художника Яна Брейгеля Старшего: «Аллегорию воды» и «Аллегорию земли». Патрик и его подельник поднялись по шестидесяти шести мраморным ступеням на второй этаж, затем сделали еще тридцать четыре шага, пройдя мимо фрески Шере и «Поцелуя» Родена в зал с картинами импрессионистов, висевшими на простых крючках. Патрик с приятелем сняли «Скалу близ Дьеппа» Моне и «Аллею тополей на берегах Луана» Сислея и помчались вниз по лестнице. Воры скрылись на мотоцикле и в синем фургоне «пежо».
Я уже читал досье французской полиции и хорошо знал эту историю. Но, когда Патрик рассказал свою версию, я восхитился его хитростью и безрассудством.
Делая одолжение Пьеру, я начал настаивать на Сислее и Моне. Найти их было важнее остальных, потому что они были собственностью французского правительства и предоставлены взаймы музеем Орсе в Париже. Брейгель принадлежал городу Ницца и стоил меньше.
Переговоры начал Патрик, оценив картины в сорок миллионов долларов. Я сказал, что он сошел с ума, все они стоят на легальном рынке не более пяти миллионов, а это значит, что на черном рынке им цена пятьсот тысяч. Мы торговались больше полутора часов в отвратительном номере с грязными шторами и спертым от сигаретного дыма воздухом. Кондиционер не работал, а потолочный вентилятор я включить не решился, боясь, что он испортит скрытую камеру и микрофон.
Патрик был агрессивным переговорщиком, и я оказался в необычной ситуации. В других случаях — с Рембрандтом в Копенгагене, головным убором легендарного воина апачи Джеронимо в Филадельфии, картинами Копловиц в Мадриде — я мог предложить любую сумму, зная, что мне не придется отдавать купюры. Но тут была вероятность, что придется попрощаться с деньгами за картины из Ниццы, — если мы будем почти уверены, что это приведет к картинам из музея Гарднер.
К вечеру Патрик снизил цену до трех миллионов. Ему не терпелось заработать. Он спланировал это великое ограбление, осуществил его, и теперь ему всего-то нужно показать четыре красивые фотографии, из-за которых он мог загреметь обратно в тюрьму. Он сказал, что оставил картины из Ниццы во Франции и приехал только поговорить. Но что, если он лгал? Что, если картины у него с собой? Соблазнит ли его мешок с наличными? А как насчет картин из музея Гарднер?
Я решил попробовать пару вариантов.
А если я отдам Патрику пятьдесят тысяч долларов на месте за четыре картины из Ниццы, а остаток — после того, как продам их? Я пообещал Патрику: если не продам, то верну ему картины, а пятьдесят тысяч долларов он сможет оставить себе. Он отказался.
— Ладно, — сказал я, — а если я дам пятьдесят тысяч долларов только за Моне и Сислея? Тогда остальные будут у тебя, пока я пытаюсь продать первые две.
Патрик снова отказался.
Я пошел ва-банк. На случай, если Санни солгал и Патрик имеет доступ к картинам из музея Гарднер, я выдвинул свое предложение. Я указал на друзей из Майами, сидевших на кровати, и заявил Патрику, что у них в порту пришвартована яхта, готовая переправить картины во Флориду.
— Итак, — подытожил я, — Санни знает, что у меня на счету в банке есть тридцать миллионов долларов. Деньги будут переведены, как только я получу Вермеера, Рембрандта и другие картины из Бостона. Так что, пока я здесь, почему бы нам не заключить и эту сделку тоже, а потом перенести все картины на яхту?
Санни молчал, отвернувшись от нас обоих. Патрик перешел с французского на английский:
— Ты хочешь Вермеера? Я достану тебе Вермеера.
— Ты можешь его достать? — спросил я.
— Нет проблем, — уверенно сказал он. — Я могу достать все, что захочешь. Я найду тебе Вермеера. Их полно. — Он предлагал украсть для меня картину.
— Нет, не нового — это слишком опасно, — сказал я. — Мне нужен тот, что давно числится пропавшим.
Патрик кивнул.
— Я продам тебе картины из Ниццы. А потом мы поговорим с Санни.
— Ладно, — сказал я. — Договорились.
Итак, Патрик не мог достать картины из музея Гарднер. Я надеялся, что Санни решил проверить меня при помощи этой сделки. Если я завоюю его доверие, у нас еще есть шанс.
Мы с Патриком торговались еще час и наконец остановились на ориентировочной цене — чуть меньше трех миллионов долларов за все картины из Ниццы.
Патрик затянулся сигаретой. Он выпустил дым из уголка рта в сторону переводчика. Потом произнес по-английски:
— Боб, очень важный момент. Мы хотим, чтобы все было по-тихому. Понимаешь?
— Понимаю.
— Чтобы никому ни слова.
— Silencieux[35], — сказал я.
— Voilà[36], — сказал Патрик и потушил сигарету.
После встречи в Барселоне я больше никогда не видел ни Санни, ни Патрика.
Мы говорили по телефону условным шифром, но, как только определились с ценой, я попросил их продумать логистику вместе с агентами ФБР под прикрытием из Майами. Я объяснил, что моя специальность — финансы, а не контрабанда.
Четыре месяца спустя, когда Патрик и его друг из Франции приехали к Санни на юг Флориды, я сказал им, что слишком занят и не могу с ними встретиться. Мои коллеги в Майами устроили для Санни, Патрика и их друзей последнюю вечеринку на борту «Пеликана» и назначили окончательную передачу картин из Ниццы на июнь в Марселе. Французы по-прежнему не разрешали мне или кому-то еще из ФБР находиться под прикрытием в Марселе, а Санни не желал встречаться ни с кем, кроме меня. К счастью, теперь делом командовал Патрик, а он был настолько глупым и отчаянным, что согласился иметь дело с моим покупателем в Марселе — разумеется, агентом SIAT, сотрудником французского отдела секретных операций.
Окончательный захват был лишь вопросом времени.
Утром 4 июня 2008 года синий фургон «Пежо» выехал из гаража в Карри-ле-Руэ, крошечном приморском городке на Ривьере, к западу от Марселя. За ним двигалась маленькая развалюха бежевого цвета. За рулем сидел Патрик.
Французы из наружного наблюдения сообщили по рации, что фургон, как и ожидалось, направляется на юго-восток. Обе машины проехали через центр Марселя по узким закоулкам, путая следы, чтобы их не засекли в утренний час пик рабочего дня. Но спецов Пьера из наружки им обмануть не удалось. Да и как? Французская полиция точно знала, куда они направляются. Воры ехали на встречу с агентом из SIAT, который, по их мнению, работал на меня.
Добравшись до старой гавани, фургон и развалюха направились к корнишу имени Джона Фицджеральда Кеннеди — живописной дороге вдоль скалистого побережья Ривьеры на высоте около пятнадцати метров над волнами мерцающего Средиземного моря. Гангстеры появились во всеоружии, готовые к бою. У одного из сидевших в фургоне был автомат. Патрик прятал под курткой кольт сорок пятого калибра. Его пассажир, огромный мужчина со светлыми волосами до плеч, сжимал в руках ручную гранату чешского производства.
Автомобили проехали мимо четырехзвездочного Pullman Marseille Palm Beach, стильного отеля, врезавшегося в морское побережье ниже шоссе. Пьер с небольшой армией французских полицейских координировали операцию, сидя в Pullman, в двухстах метрах от места захвата, обеспечив командный центр группой спецназа и (на всякий случай) чемоданом, набитым евро.
Миновав гостиницу, машины гангстеров въехали в долину, обрамленную общественными пляжами и плохим полем для гольфа, и припарковались у ряда баров и магазинов вдоль пляжа. Это место выбрала полиция: там легко заблокировать все выходы. Было еще рано, утреннее солнце только поднималось над холмами на востоке, отбрасывая теплый оранжевый свет на разворошенный ветром пляж, — и воры нашли много свободных мест на бесплатной парковке вдоль улицы.
Патрик и его приятель с гранатой вышли на тротуар и потянулись, стоя в пятидесяти метрах от моря. Ребята в фургоне остались ждать.
Французский офицер под прикрытием, который должен был проверить подлинность картин, пошел по тротуару к Патрику. Он был один, но немало его переодетых коллег бродили неподалеку: подметали тротуар перед магазином, гуляли с собакой, сидели на автобусной остановке.
Воры и полицейский встретились на пляже.
Кто-то отдал приказ по рации.
Двадцать полицейских собрались в группу и вытащили оружие. У них было явное превосходство. Они схватили Патрика, друга с гранатой и — ура! — агента под прикрытием, спасая его легенду, да и мою, вероятно, тоже.
В Филадельфии было два часа ночи, но Пьер все-таки позвонил сообщить мне новости. Французская полиция нашла все четыре картины в синем фургоне. В хорошем состоянии.
Он спросил меня о Санни и Лоренце.
Я сказал, что Лоренцу не будет предъявлено обвинение в преступлении, потому что он не участвовал в сделке по Ницце. Санни арестуют на рассвете у него дома недалеко от Форт-Лодердейла. А уже днем разойдутся пресс-релизы.
Есть два варианта обвинительных заключений большого суда присяжных.
Краткая форма — расплывчатое изложение нарушения закона на паре страниц. Она предпочтительна, когда дело банальное или власти хотят отвлечь внимание от еще не оконченной секретной операции, связанной с ним.
Есть и форма подробного обвинительного заключения: многостраничный детальный документ, где изложена суть преступления и пересказаны все встречи обвиняемого и секретных агентов. Прокуроры почти всегда выбирают ее, когда планируют созвать пресс-конференцию. Правила требуют от них придерживаться фактов, содержащихся в обвинительном заключении. Чем больше захватывающих деталей они излагают в нем, тем больше могут говорить перед телекамерами.
Я не видел американских документов по делу о картинах из Ниццы, пока не было обнародовано обвинительное заключение и не вышел пресс-релиз.
Я был раздосадован, но не удивлен. Санни предъявили обвинение только в одном уголовном преступлении, но прокуратура подробно изложила это дело в акте, включая и мою роль агента под прикрытием. Они не упомянули о связи этого дела с расследованием по картинам из музея Гарднер и не сообщили моего имени, но описали все так, что этого и не требовалось. Если партнеры Санни действительно держали картины из музея Гарднер в Европе, теперь они знали, что нельзя доверять ни мне, ни кому-либо еще, кто связан с Санни. Обвинительное заключение, опубликованное в интернете, четко указывало на то, что я был агентом ФБР под прикрытием.
В гневе я позвонил Пьеру и рассказал ему об этом. Он ответил:
— Как я уже говорил, каждый хочет себе кусок пирога и чтобы его лицо красовалось на фотографии. Все жаждут, чтобы их похвалили.
Мы несколько минут шутили о своем начальстве, и я напомнил ему, что его вот-вот произведут в генералы. Мы говорили о том, когда могли бы увидеться снова, блуждая вокруг да около главного вопроса.
Наконец я спросил:
— Пьер, как думаешь, у нас был шанс?
— Ты имеешь в виду бостонские картины?
— Да.
— Безусловно, — сказал он. — Мы даже догадываемся, у кого они могут быть. Мы знаем, с кем общался Санни. Но теперь, когда мы арестовали Санни и растрезвонили, что Боб — агент ФБР, все пропало. У нас не будет шанса еще много лет. Может, попробуешь еще раз?
— Нет, я завязал. Через три месяца ухожу на пенсию.
— Кто займет твое место?
Я колебался: он наступил на мою любимую мозоль. Я хотел помочь в обучении того, кто меня заменит, но ФБР, похоже, никого не собиралось готовить.
— Не знаю, Пьер. Не знаю. Хороший вопрос, — ответил я.
Послесловие Роберта Уиттмана
Работа под прикрытием — дело деликатное и опасное. Для меня риск — неотъемлемая часть работы, а воры, которых я арестовывал, теперь знают, кто я на самом деле. Но они не в курсе всего. Думаю, это к лучшему. Я совсем не хочу подвергать опасности сотрудников правоохранительных органов и других людей, которые рисковали своими жизнями, чтобы помочь мне. Многие из пойманных нами преступников — вовсе не благородные разбойники. Это головорезы, способные, не колеблясь, отомстить моим друзьям. Чтобы не раскрывать личности моих коллег и некоторые методы ФБР, я опустил или слегка подкорректировал ряд деталей. Но суть произошедшего осталась без изменений.
Эта книга — мемуары, а не автобиография или разоблачение. Это моя версия событий и больше ничья. В основном книга состоит из моих воспоминаний. Я и мой соавтор Джон Шиффман стремились максимально точно воссоздать события. Мы просмотрели новостные сообщения, правительственные отчеты, книги по преступлениям в сфере искусства, по истории искусств, личные записи, видео, фотографии и расписки, а также официальные и неофициальные документы и стенограммы. Мы посетили места преступлений и музеи в США и Европе. Чтобы воспроизвести диалоги во время ряда событий, мы пересмотрели аудио- и видеозаписи и стенограммы прослушки. Мы побеседовали с друзьями и членами наших семей, и они помогли вспомнить некоторые разговоры и важные детали. Спасибо им за помощь в написании мемуаров, максимально близких к истине.
Благодарности
5 октября 1979 года
Поскольку мы начинали каждую главу какой-нибудь датой, здесь я укажу самую важную дату в моей жизни — день, когда я встретил свою жену Донну. Без нее я не был бы тем, кем стал. Она направляла меня, отдавала мне свои силы, когда я был слаб, несла, когда я не мог идти, через все испытания и лишения. Без нее не были бы написаны ни эта книга, ни строки моей жизни. Спасибо тебе, любимая, за то, что выбрала и верила в меня все эти годы. Мы вместе проживали эти истории.
Мои дети: серьезный, тихий и прилежный Кевин, шумный, общительный и уверенный в себе Джеффри, умница и красавица, звезда моих очей Кристин — мой источник вдохновения. Они многому научили меня, и один из самых важных уроков — преданность делу и семье. Я с гордостью могу сказать, что все они лучше меня. Мои родители, Роберт и Ятиё Уиттман, мой брат Уильям Уиттман и его жена Робин и мой дядя Джек Уиттман и его жена Дорис научили меня ставить перед собой высокие цели и поощряли стремление их достичь. Спасибо и семье Донны: ее матери Джеральдин и отцу, Уильяму Гудхэнду — старшему, брату — Уильяму Гудхэнду — младшему и его жене Сьюзен, которые поддерживали меня и в плохие времена, и в хорошие.
Эта книга не была бы написана без помощи многих людей. Прежде всего благодарю моего соавтора Джона Шиффмана. Он очень талантлив, и я думаю, эта книга станет началом его долгой и успешной писательской карьеры. Я с удовольствием помог ему осуществить мечту. Его жена, Кэтрин Данн Шиффман, очень старалась, чтобы мы не увлекались и писали понятным языком. Мой агент Ларри Вайсман и его партнер Саша Альпер, поверившие в меня и в наш проект с самого начала, сыграли важную роль в нем. Рик Хорган и Джулиан Павия, мои редакторы в Crown, — истинные джентльмены. Они внесли много удачных правок и отличных предложений.
Что касается ФБР, должен выразить особую благодарность Линде Визи за помощь и советы на протяжении многих лет. Спасибо бывшим руководителям моей команды — Джону Лоудену, Тому Дауду, Майку Томпсону, Генри Джеймсу Суини, Майку Карбонеллу и Джону Китцингеру. Я рад, что служил под их началом. Cпециальные уполномоченные филадельфийского подразделения — Боб Ройттер, Боб Конфорти, Джефф Лампински, Джек Экенрод, Джоди Вайс и Ян Федарчик — применили свои блестящие знания при расследовании преступлений в сфере искусства, хотя те не были в приоритете у руководства.
Я никогда не работал в одиночку — всегда в команде. И хотя полный список оперативников составить невозможно, будет упущением не упомянуть нескольких из них, оставшихся в моем сердце. Во-первых, это Стивен Хини, талантливый и увлеченный следователь и мой названый младший брат, который всегда помогал мне организовывать операции под прикрытием и задержания в Филадельфии. Кроме того, спасибо специальным агентам Дагу Хессу, Пэм Страттон, Майклу Томпсону, Джею Хейну, Митчу Банте, Джуди Тайлер, Конраду Мотыке, Шону Стерлю, Алехандро Перазе, Гэри Беннетту, Крису Каларко, Эрику Айвсу, Бобу Базену, Джо Маджаровичу, Фрэнку Брострому, Кэти Бегли, Брайану Мидкиффу, Аманде Моран, Лу Визи, Джеку Гарсии, Тому Даффи, Джесси Коулман, Элу Боднару, Джей-Джею Клэйверу, Мартину Суаресу, Генри Меркадалю, Винсу Панкоке, Майку Герману, Джейсону Ричардсу, Тиму Карпентеру, Джиму Винну, Джоанне Луни, Грегу Джонсону, Хоакину «Джеку» Гарсия, Марку Барри, Лео Тадео, Рону Козиалу и Рону Нолану. Административные сотрудники Джерри Уильямс, Р. Дж. Сатурно, Джон Томас и Рон Хоско всегда относились ко мне по-дружески и часто меня поддерживали. Линн Ричардсон и Бонни Магнесс-Гардинер из штаб-квартиры ФБР, которые руководили программой по расследованию краж произведений искусства, заслуживают похвалы за то, что поддерживали нашу работу, влияя на наших руководителей.
Спасибо всем коллегам из правоохранительных органов: прокурору Морин Барден, которая научила меня разным хитростям и состраданию; трио, работавшему со мной по делу о краже ювелирных изделий: прокурору Крису Холлу и полицейским Эдварду Куинну и Джеку Куинну, научившим меня проводить уголовное расследование правильно; специальному агенту и специалисту по рыбам и дикой природе Люсинде Шредер за отличную работу под прикрытием в делах Джошуа Бэра и о головном уборе Джеронимо; полковнику полиции Пьеру Табелю, бывшему руководителю французского отдела по борьбе с преступлениями в сфере искусства; офицеру французской полиции Дамьену Делаби; Карлу Хайнцу-Кинду и Фабрицио Росси из Интерпола; генералу Джованни Нистри, руководителю итальянского отдела по борьбе с кражами произведений искусства; полковнику Мэтью Богданосу из Морской пехоты США; Вернону Рапли и Гэри Олдману из Скотланд-Ярда.
Благодарю и гражданских лиц, помогавших мне в профессиональной деятельности: тех, кто неравнодушен к делу сохранения предметов искусства и древних артефактов для будущих поколений. Спасибо Герберту Лоттье и Марку Такеру из Музея искусств Филадельфии, Бобу Комбсу и Уилбуру Фолку из музея Гетти, Рону Симончини из Музея современного искусства, Джей-Джею Маклафлину из Смитсоновского института, Джону Бурелли из Метрополитен-музея, Дику Дренту из музея Ван Гога, Деннису Ахерну из галереи Тейт, Энтони Аморе из музея Изабеллы Стюарт Гарднер, Милтону Эстероу из ARTnews, Рене Бомгарднеру из Фонда Барнса, Кристен Фрелих из музея Этуотера Кента; Кларку Эриксону, Брайану Роузу, Пэм Кости, Терезе Мармион и Стиву Эпштейну из Пенсильванского университета; Шарлин Бэнгс Бикфорд из проекта Первого федерального конгресса; Стивену Хармелину из Dilworth Paxson LLP, Уолтеру Альве из музея «Царские гробницы Сипана», Энди Ньюману из Newman Gallery, Карлу Дэвиду из David Gallery, арт-дилеру Джорджу Тураку, Бо Фриману из аукционного дома Freeman Fine Arts, Биллу Банчу из William Bunch Auctions, Роберту Крозье, Уильяму О’Коннору и сообществу ICEFAT, Шэрон Флешер из Международного фонда исследований в области искусства, а также Крису Маринелло и Джулиану Рэдклиффу из Art Loss Register.
Трем лучшим в мире юристам, Майку Пински, Бобу Гольдману и Дэйву Холлу: спасибо вам, мои консультанты. Без вас у меня бы ничего не вышло.
Наконец, спасибо моему другу Денису Бозелле, о котором я думаю каждый день.
Роберт Уиттман
Филадельфия, штат Пенсильвания
* * *
Джон Шиффман благодарит Билла Маримова, Вернона Лёба, Тома Макнамару и Эйвери Роум из Филадельфии; Тома Машберга из Бостона; Винсента Носа и Алин Маньян из Парижа; Элени Папагеоргиу из Милана; Блайта Боумена Прулкса из Ричмонда; Кейтлин Лукач и Брук Ширер из Вашингтона. Спасибо моим потрясающим компаньонам по написанию книги и путешествиям — Бобу и Донне Уиттман. Питеру Франческине — grazie mille. Отдельное спасибо Полу, Севе, Белле, Уиллу, Джейку, Нику и Сэму. И конечно, Кэти: ты настоящее сокровище.
Об авторах
Роберт Уиттман двадцать лет служил специальным агентом ФБР. Он помог создать Отдел по борьбе с преступлениями в сфере искусства и был его старшим следователем. Он представлял США по всему миру, участвуя в расследованиях и обучая полицию и музеи разных стран методам расследования, возвращения предметов искусства и мерам безопасности. Он президент международной компании Robert Wittman, занимающейся вопросами безопасности произведений искусства. С ним можно связаться на сайте .
* * *
Джон Шиффман — журналист-расследователь газеты Philadelphia Inquirer. Он юрист, в прошлом — заместитель директора программы стипендиатов Белого дома, обладатель десятков журналистских наград и финалист Пулитцеровской премии в 2009 году. С ним можно связаться на сайте .
Примечания
1
Алла прима — одна из основных техник масляной живописи, главной отличительной особенностью которой является написание всей картины до полного высыхания красок. Прим. ред.
(обратно)2
Золотые южноафриканские монеты. Названы в честь Пауля Крюгера, президента Трансвааля, и начали выпускаться в 1967 году. Прим. ред.
(обратно)3
Заболоченный парк во Флориде. Прим. ред.
(обратно)4
Провенанс — история владения художественным произведением, предметом антиквариата, его происхождение. Прим. ред.
(обратно)5
America’s Most Wanted — американское телешоу, выходившее на экраны с 1988 по 2012 год. В рамках программы показывались истории реальных преступников (их роли исполняли актеры), перемежавшиеся отрывками из интервью и речью диктора. Прим. ред.
(обратно)6
Джон Джеймс Одюбон (1785–1851) — американский натуралист, художник, орнитолог, автор книги «Птицы Америки». Прим. ред.
(обратно)7
Barnes A. The Art in Painting. Barnes Foundation Press, 1965.
(обратно)8
Инфилдер в бейсболе — участник защищающейся команды, находящийся на игровом поле. Принимает отбитые мячи, летящие на игровое поле. Прим. ред.
(обратно)9
Речь о сражении испанской и американской армий на холме Сан-Хуан в 1898 году: в нем участвовал добровольческий кавалерийский полк под названием «Мужественные всадники», заместителем командира которого был будущий президент США Теодор Рузвельт. Прим. ред.
(обратно)10
Игра слов: Goldman — от англ. gold (золото) и man (человек). Прим. ред.
(обратно)11
Колокол свободы — один из главных символов борьбы США за независимость от Великобритании. Создан в 1753 году, находится в Филадельфии. Прим. ред.
(обратно)12
В местности Руби-Ридж (штат Айдахо) в 1992 году случился инцидент с применением огнестрельного оружия. В результате погибли федеральный маршал США Билл Деган, а также супруга основного фигуранта дела Рэнди Уивера Вики и его четырнадцатилетний сын Сэмми. Прим. ред.
(обратно)13
Речь о Мэйфлауэрском соглашении (1620), по которому английские религиозные диссиденты, прибывшие на барке «Мэйфлауэр» в Северную Америку, получили право внутреннего самоуправления от Виргинской компании. Прим. ред.
(обратно)14
Wilson J. T. The Black Phalanx: African American Soldiers In The War Of Independence, The War Of 1812, And The Civil War. Da Capo Press, 1994.
(обратно)15
Аффидевит — в США и Великобритании письменное показание или заявление, даваемое под присягой или удостоверяемое нотариусом или другим уполномоченном на это лицом при невозможности личной явки свидетеля. Прим. ред.
(обратно)16
Кеннет Лэй (1942–2006) — американский бизнесмен, более всего известный своей ролью в скандале, приведшем к банкротству корпорации Enron. В 2004 году ему было предъявлено обвинение в связи с мошенничеством, но до вынесения приговора он не дожил. Бернард Мейдофф (род. 1938) — бывший председатель совета директоров фондовой биржи NASDAQ, в 2009 году приговоренный за аферу к 150 годам тюремного заключения. Прим. ред.
(обратно)17
Уайетт Эрп (1848–1929) — американский констебль и картежник, получивший известность как герой книг и фильмов в жанре вестерн. Прим. ред.
(обратно)18
Часть Билля о правах. Суть ее в том, что обвиняемый в совершении преступления имеет право на судебное разбирательство, не может дважды привлекаться к ответственности за одно и то же правонарушение и не обязан свидетельствовать против себя, а государство «не имеет права изымать частную собственность без справедливого вознаграждения». Прим. ред.
(обратно)19
Имеются в виду города Миннеаполис и Сент-Пол. Прим. перев.
(обратно)20
Консигнация — форма комиссионной продажи товара, при которой его владелец передает товар на склад второму субъекту сделки. Прим. ред.
(обратно)21
Так стали называть место, где до взрыва находился Всемирный торговый центр. Прим. перев.
(обратно)22
Речь идет о фильме Фрэнка Капры (англ. It’s a Wonderful Life; 1947). Прим. перев.
(обратно)23
«Девочка с синяком под глазом» (1953). Прим. перев.
(обратно)24
Штаб-квартира ФБР. Прим. перев.
(обратно)25
«Только для членов клуба» (англ.).
(обратно)26
Трони (от нидерл. tronie — голова, лицо) — разновидность портрета, одна из форм жанровой живописи. Прим. ред.
(обратно)27
Мабюз (настоящее имя Ян Госсарт; 1479–1541) — голландский художник, график, резчик по дереву, основоположник романтизма в нидерландской живописи. Прим. ред.
(обратно)28
Мировой экспорт (англ.).
(обратно)29
В августе 2009 года, через несколько лет после того, как закончилось это дело, ситуация несколько изменилась.
(обратно)30
Пригород Майами. Прим. перев.
(обратно)31
В целях безопасности некоторых лиц упоминания этой группы намеренно расплывчаты.
(обратно)32
Автор имеет в виду английскую пословицу «Слишком много поваров портят бульон» (аналог русской «У семи нянек дитя без глазу»). Прим. перев.
(обратно)33
Игра слов; можно перевести как «Разум выше сути. Начальству все равно, а агенты не важны». Прим. перев.
(обратно)34
Речь идет о княгине Елене Кочубей, жене князя Льва Кочубея, по заказу которой был построен дворец. Прим. перев.
(обратно)35
Молчок (фр.).
(обратно)36
Вот-вот (фр.).
(обратно)



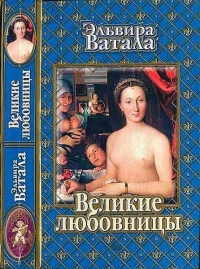
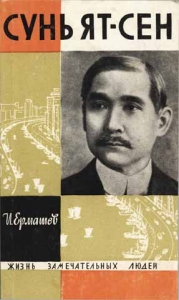

Комментарии к книге «Операция «Шедевр». Спецагент под прикрытием в мире искусства», Джон Шиффман
Всего 0 комментариев