Мип Гиз, Элисон Голд Я прятала Анну Франк. История женщины, которая пыталась спасти семью Франк от нацистов
Miep Gies with Alison Leslie Gold
Anne Frank Remembered
Copyright © 1987 by Miep Gies with Alison Leslie Gold
Afterword copyright © 2009 by Miep Gies with Alison Leslie Gold
© Новикова Т., перевод на русский язык, 2019
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2019
* * *
Понедельник, 8 мая 1944 года
Как видишь, Мип никогда не забывает о нас, затворниках…
Анна ФранкБлагодарности
Мы благодарим Яна Гиса, нашу опору как в прошлом, так и по сей день, Питера ван дер Цвана за его помощь, Джейкоба де Вриса – за великолепные фотографии, Джейкоба Прессера – за превосходный справочный материал, Яна Вигеля – за разрешение использовать фотографии, Мариан Т. Брайтон – за советы, музей Анны Франк в Амстердаме и фонд Анны Франк в Женеве – за фотографии, репродукции и разрешение их использовать, издательство Doubleday & Co., Inc – за разрешение использовать выдержки из «Дневника Анны Франк», copyright 1952 by Otto H. Frank, литературного агента Мередит Бернстейн, редактора Боба Бендера, Шарон Г. Смит – за неоценимую помощь, и Лили Мак – за вдохновение: хотя нацисты отняли у нее радость юности, она сохранила способность во всем видеть красоту.
Пролог
Я не герой. Мое имя – в самом конце длинного списка благородных голландцев, которые сделали то же, что и я, и даже больше – намного больше! – в те темные и ужасные времена. Эти годы до сих пор живы в наших сердцах. Не проходит дня, чтобы я не думала о них.
Более двадцати тысяч голландцев помогали прятать евреев и других людей, нуждавшихся в укрытии. Я искренне делала все, что было в моих силах. Мой муж тоже помогал людям, хотя всего этого оказалось недостаточно.
Я никогда не считала, что совершила что-то выдающееся и заслуживаю особого внимания. Когда меня уговорили рассказать мою историю, я задумалась о том, какое место занимает в ней Анна Франк и что значит ее жизнь для миллионов людей, чьи души она затронула. Говорят, каждый вечер где-то в мире поднимается занавес и начинается пьеса, поставленная по дневнику Анны. Ее книга «Убежище» была переведена на множество языков, ее голос услышали в самых дальних уголках земли.
Мой соавтор – Элисон Лесли Голд – считает, что людям важны мои воспоминания о тех печальных событиях. Все их участники уже покинули этот мир. В живых остались только я и мой муж. Я рассказываю все так, как помню.
Чтобы сохранить дух дневника Анны, я решила использовать имена, которые она придумала для нас. Анна составила целый список псевдонимов – он есть в ее тетрадях, – чтобы скрыть настоящие имена, на случай если после войны ее рассказ будет опубликован. Но меня она называет Мип – это очень распространенное в Голландии имя, поэтому менять его она не стала. Моего мужа зовут Яном; Анна называет его Хенком. Нашу фамилию Гис она заменила на Ван Сантен.
Когда дневник впервые вышел в свет, господин Франк решил оставить псевдонимы Анны всем героям, кроме членов его семьи, – из уважения к нашей личной жизни. Чтобы мой рассказ не расходился с дневником Анны и по тем же соображениям, я поступила так же. Я использовала варианты придуманных Анной имен либо вымышленные имена для тех, о ком она в дневнике не упоминала. Единственное исключение – моя настоящая фамилия, Гис. Имена всех остальных людей хранятся в официальных архивах Нидерландов.
Прошло больше пятидесяти лет. Многие детали этих событий стерлись у меня из памяти. Я старалась восстановить их как можно точнее. Нелегко вспоминать подробности. Время лечит не все. Моя история – это история самых обычных людей, живших в невероятно мрачное время. Я всем сердцем надеюсь, что подобное никогда, никогда не повторится. Мы, простые люди всего мира, должны сделать все, чтобы это не повторилось.
Мип Гис
Часть первая. Беглецы
Глава 1
В 1933 году я жила с приемными родителями в доме номер 25 на улице Хашпстраат. Небольшую уютную комнатку на чердаке я делила со своей приемной сестрой Катериной. Наш тихий квартал на юге города называли Речным; улицы здесь носили имена голландских и европейских рек, которые протекают по Нидерландам: Рейн, Маас, Екер. Река Амстел находилась прямо за нашим домом.
Квартал был построен в 20–30-х годах XX века. В то время крупные прогрессивные корпорации строили большие жилые массивы для своих работников, и в этом им помогало правительство. Мы очень гордились таким вниманием к рабочим людям. Они получили комфортабельное жилье с санузлами, и в каждом квартале был уютный зеленый садик. Другие районы были целиком построены частными фирмами.
Вообще-то наш квартал нельзя было назвать тихим. На улицах все время играли дети, в воздухе звучали крики и смех. Иногда мы свистели или громко звали своих друзей. Каждый придумывал свой особый свист, чтобы друзья знали, кто их зовет. Мы небольшими компаниями ходили в бассейн в Амстелпарке, болтали по пути в школу и домой. Голландские дети, как и их родители, с раннего детства учатся верности в дружбе. Они готовы горой встать за своих друзей, если видят несправедливость.
Хашпстраат походила на все другие улицы, застроенные красивыми пятиэтажными жилыми домами из темно-коричневого кирпича с покатыми оранжевыми крышами. От дверей начинались крутые лестницы. Окна выходили и на улицу, и во двор. Все деревянные рамы были выкрашены в белый цвет, в каждом окне красовалась белая кружевная занавесочка и стояли комнатные цветы или другие растения.
В нашем дворе росли вязы. Рядом находилась небольшая зеленая лужайка для игр, а дальше – католическая церковь, по колоколам которой мы определяли время. Когда звонил колокол, в небо взмывали стаи птиц: воробьев, голубей, чаек. Чаек у нас было очень много.
С востока границей нашего района был Амстел. По этой реке постоянно сновали кораблики. На севере проходил величественный бульвар Зюйдерамстеллен, где можно было сесть на трамвай № 8. По обе стороны бульвара росли стройные тополя. Зюйдерамстеллен пересекал торговую улицу Схелдестраат, где было полно магазинчиков, кафе и цветочных прилавков с охапками ярких свежих цветов.
Но родилась я не в Амстердаме, а в столице Австрии, Вене, в 1909 году. Когда мне было пять лет, началась Первая мировая война. Мы, дети, понятия об этом не имели, но однажды увидели, как по улицам маршируют солдаты. Мне было так интересно, что я убежала из дома посмотреть на это зрелище. Помню форму и оружие, помню, какие эмоции испытывали люди вокруг. Чтобы рассмотреть все получше, я выбежала прямо под копыта лошадей. Местный пожарный поймал меня, поднял на руки и понес домой, а я все вытягивала шею, чтобы хоть что-то рассмотреть.
Дома в Вене были старыми и находились в неважном состоянии. В центре дома был двор, а сам дом состоял из множества квартир, в которых жили рабочие. Одна из таких темных квартир была нашей. Пожарный передал меня матери и ушел. Мама сурово сказала мне: «На улицах солдаты. Это небезопасно. Никуда не выходи».
Я не поняла, но послушалась. Все вели себя очень странно. Я была слишком мала, поэтому мало что запомнила из того времени. Помню, что двое моих дядьев, которые жили с нами, ушли на войну, и все очень огорчались из-за этого.
Дядья мои вернулись с войны целыми и невредимыми. Один из них женился. Они съехали от нас, и когда война кончилась, я жила только с мамой, папой и бабушкой. Я и так была не слишком крепким ребенком, а во время войны не хватало продуктов. Я стала худенькой, постоянно болела и не могла развиваться нормально. Мои ноги напоминали спички с крупными коленными чашечками, зубы крошились. Когда мне было десять лет, родилась сестра. Еды в семье стало еще меньше. Мое состояние ухудшалось, и родителям сказали, что нужно что-то делать – иначе я умру.
В то время иностранные рабочие пришли на помощь голодающим детям Австрии. Так я была спасена. Меня вместе с другими австрийскими детьми отправили в далекую страну Нидерланды, чтобы подкормить и подлечить.
Была зима – в Вене в это время всегда очень холодно. В декабре 1920 года родители собрали мои скудные пожитки и отвезли меня на огромный венский вокзал. Мы долго ждали среди множества других больных детей. Врачи осмотрели мое хрупкое, слабое тельце. Хотя мне уже было одиннадцать, выглядела я гораздо младше. Мои длинные светлые волосы мама стянула в хвост, перевязала его лентой из хлопковой ткани и сделала пышный бант. На шею мне повесили карточку с каким-то странным именем – именем людей, которых я никогда не видела. В поезде было полно детей, и у каждого на шее висела карточка. Поезд тронулся, и лица родителей вскоре скрылись из виду.
Дети были напуганы. Никто не знал, что нас ждет. Некоторые плакали. Большинство из нас никогда не бывали дальше своей улицы и уж точно не выезжали из Вены. Я была слишком слаба, чтобы чем-то интересоваться. Мерный стук колес убаюкивал меня, я засыпала и просыпалась. Путешествие длилось бесконечно. Поезд остановился глубокой ночью. Нас всех разбудили и вывели из вагона. За дымящим паровозом я увидела табличку с надписью «ЛЕЙДЕН».
Появились какие-то люди, которые говорили на непонятном языке. Они привели нас в большой зал с высоким потолком и усадили на жесткие деревянные стулья. Дети сидели рядами, бок о бок. Мои ноги не доставали до пола, и мне страшно хотелось спать.
Рядом с измученными больными детьми толпились взрослые. Потом они стали подходить к нам по очереди, рассматривали наши карточки и читали имена. Мы были абсолютно беспомощны и не могли сопротивляться их бесцеремонным рукам.
Невысокий мужчина очень уверенного вида прочел мою карточку.
– Ja, – резко сказал он, взял меня за руку и помог подняться.
Он повел меня прочь. Я не испугалась и с готовностью пошла за ним.
Мы оказались в городе. Здания здесь были совершенно не похожи на те венские дома, к которым я привыкла. Ярко светила белая луна. Погода стояла очень ясная, и в лунном свете я могла все разглядеть. С интересом осматривалась вокруг, пытаясь понять, куда же мы идем.
Мы вышли из города. Домов вокруг уже не было, одни деревья. Мужчина начал насвистывать, и я разозлилась. «Наверное, он крестьянин, – думала я. – Наверное, он подзывает свою собаку». А я страшно боялась больших собак. Сердце у меня упало.
Но мы шли дальше, и никакой собаки поблизости не было. Неожиданно впереди показались новые дома. Мы вошли в один из них и поднялись по лестнице. Нас уже ждала женщина с резкими чертами лица и добрыми глазами. На лестничной площадке я огляделась и увидела, что на меня смотрят какие-то дети. Женщина взяла меня за руку, отвела в другую комнату и дала мне стакан кипяченого молока. Когда я выпила, меня повели наверх.
Все дети исчезли. Мы вошли в маленькую комнатку с двумя кроватями. На одной лежала девочка моего возраста. Женщина помогла мне раздеться, развязала бант и уложила меня на вторую кровать, укрыв одеялом. В тепле я расслабилась, веки мои отяжелели, и я мгновенно заснула.
Никогда не забуду это путешествие.
На следующее утро в комнату вошла та же женщина. Она принесла мне чистую одежду, помогла одеться и проводила вниз. За большим столом сидел тот мужчина, девочка из моей спальни и четверо мальчиков разного возраста. Все, кто с любопытством смотрел на меня ночью, собрались за столом. Я ничего не понимала из того, что они говорили, а они не понимали меня. Но потом старший мальчик, который собирался стать учителем, попытался что-то сказать на ломаном немецком – он учил его в школе. Он стал моим переводчиком.
Несмотря на языковые проблемы, все дети были добры ко мне. В моем жалком состоянии доброта многое для меня значила. Она была моим лекарством, таким же, как хлеб, мармелад, жирное голландское молоко, масло, сыр и домашнее тепло. Да, и еще маленькие шоколадные шарики, «градинки», и другие шоколадки, которые называли «мышатами». Их клали на хлеб, густо намазанный маслом. Я даже не представляла, что в мире существуют такие лакомства.
Через несколько недель я заметно окрепла. Все дети, включая старшего, моего «переводчика», ходили в школу. Считалось, что быстрее всего ребенок выучит голландский язык в школе. Поэтому глава семьи отвел меня в местную школу и о чем-то долго разговаривал с директором. Директор согласился принять меня.
В Вене я училась в пятом классе, но в Лейдене пришлось пойти в третий. Директор привел меня в класс, на голландском языке объяснил детям, кто я и откуда, и все захотели мне помочь. Ко мне потянулось столько рук, что я даже не знала, какую пожать первой.
Есть сказка, в которой младенца в деревянной колыбели унесло наводнением. Колыбель плыла по бурлящим водам и могла утонуть. Тогда кошка прыгнула в колыбель и, раскачивая ее из стороны в сторону, направила к берегу. Ребенок оказался в безопасности. Я была этим ребенком, а голландцы, с которыми свела меня жизнь, стали той кошкой.
В конце января я уже многое понимала и могла кое-что сказать по-голландски. К весне я стала лучшей ученицей в классе.
В Голландии мне нужно было провести три месяца, но я все еще была слаба, и врачи решили оставить меня на три лишних месяца, а потом еще на три. Семья полностью приняла меня и считала своим ребенком. Мальчики так и говорили: «У нас две сестры».
Мужчина, которого я стала называть своим приемным отцом, работал мастером в угольной компании Лейдена. Хотя у них было пятеро своих детей, а достаток в семье – весьма ограниченный, эти люди решили, что там, где семеро, всегда найдется еда и для восьмого. Они всей душой привязались к маленькой голодной австриячке из Вены. Поначалу они называли меня моим именем – Эрмина. Но потом лед в наших отношениях окончательно растаял, и это имя стало казаться слишком формальным. Мне дали ласковое голландское прозвище – Мип.
К местной жизни я привыкла довольно быстро. Главное для голландцев – gezellig, то есть домашний уют. Я научилась кататься на велосипеде, намазывать хлеб маслом с двух сторон, полюбила классическую музыку. Я должна была интересоваться политикой и каждый вечер читать газеты, а потом рассказывать о прочитанном.
Но одна сфера голландской жизни оставалась для меня недоступной. Когда сильно похолодало, вода в каналах замерзла. Семья Нийвенхойс (так звали моих приемных родителей) вместе со всеми детьми отправились смотреть на замерзший канал. Вокруг царила атмосфера праздника: повсюду продавали горячий шоколад и горячее анисовое молоко, люди катались на коньках, держась друг за друга. Многие ухватились за длинный шест и кружились вокруг него. Ярко светило красноватое зимнее солнце.
К моим ботинкам кожаными ремешками прикрепили деревянные коньки с изогнутыми лезвиями и вытолкнули меня на лед. Я запаниковала, мне подкатили деревянное кресло и велели толкать его перед собой. Но из этого ничего не вышло, и меня быстро увели на берег. Я страшно замерзла и не могла развязать узлы на мокрых кожаных ремешках. Пришлось снять перчатки. Узлы не поддавались. Пальцы мерзли все сильнее. Я страшно разозлилась, поклялась, что никогда в жизни не подойду ко льду – и сдержала свое обещание.
Когда мне было тринадцать, наша семья переехала в южную часть Амстердама, в тот район, где улицы носили названия рек. Хотя район этот расположен на самой окраине и за рекой Амстел уже начинаются поля, где пасутся черно-белые коровы, мы жили в городе. Городская жизнь мне нравилась. Особенно я любила электрические трамваи, каналы, мосты, шлюзы, птиц, кошек, велосипеды, яркие цветочные прилавки и палатки, где торговали селедкой. Я любила старинные дома, выходящие прямо на каналы, концертные залы, кинотеатры и политические клубы.
В 1925 году, когда мне было шестнадцать, Нийвенхойсы отвезли меня в Вену, чтобы я встретилась со своими родными. Красота Вены меня поразила, но люди показались совершенно чужими. Когда пришло время уезжать, мать честно сказала моим приемным родителям: «Будет лучше, если Эрмина вернется в Амстердам с вами. Она стала настоящей голландкой. Мне кажется, что в Вене она будет несчастна». Напряжение спало, и я вздохнула с облегчением.
Мне не хотелось обижать своих родных просьбой разрешить мне уехать. Но больше всего на свете я хотела вернуться в Нидерланды. Я действительно стала голландкой, и все мои чувства были голландскими.
Повзрослев, я стала очень серьезной и рассудительной. Я стремилась к независимости, начала много читать и думать о философии. Читала Спинозу и Анри Бергсона, записывала в дневник свои самые сокровенные мысли, бесконечно их анализируя. Все это я делала тайно, только для себя, а не для обсуждения. Я жадно стремилась понять смысл жизни.
А потом страсть к ведению дневника исчезла так же неожиданно, как и возникла. Мне вдруг стало стыдно, я испугалась, что кто-нибудь может увидеть мои записи и узнать мои сокровенные мысли. Тогда я разорвала все свои дневники и выбросила их, поклявшись никогда больше не писать ничего подобного. В восемнадцать лет я окончила школу и начала работать в конторе. Хотя я оставалась очень скрытной и независимой женщиной, любовь к жизни брала свое.
В 1931 году, когда мне было двадцать два года, я снова приехала в Вену повидаться с родителями. К этому времени я была уже взрослой и путешествовала в одиночку. Начав работать, регулярно писала своим родным и посылала им деньги при каждой возможности. Поездка в Вену была интересной, но на этот раз никто не заговаривал о моем возвращении в Австрию. Голодная одиннадцатилетняя девочка с карточкой на шее и бантом в волосах осталась в далеком прошлом. В Вену приехала энергичная молодая голландка.
Поскольку никто не озаботился изменением моих документов, формально я оставалась гражданкой Австрии. Но, прощаясь со своими родителями и сестрой, я точно знала, кто я такая. Я знала, что буду им писать и посылать деньги, периодически навещать их и, когда придет время, привезу к ним своих детей, но моим домом навечно останется Голландия.
Глава 2
В 1933 году мне исполнилось двадцать четыре. Год был для меня трудным. Несколько месяцев не могла найти работу – меня и еще одну сотрудницу уволили из текстильной компании, где я начала свою трудовую деятельность. Время было тяжелым, многие, особенно молодежь, остались без работы. Найти новое место оказалось непросто, но я была молода, независима и страстно хотела работать.
В нашем доме жила пожилая дама, госпожа Блик. Она иногда пила кофе с моей приемной матерью. Госпожа Блик занималась весьма необычным для женщины делом, хотя для голландских женщин работа вне дома считалась нормой. Госпожа Блик была коммивояжером и порой целую неделю проводила в разъездах, демонстрируя и продавая предметы домашней утвари женам фермеров и клубам домохозяек.
Каждую субботу она возвращалась с пустым чемоданом и отчетом для фирм, которые поставляли ей образцы и выполняли собранные ею заказы. Однажды она узнала, что в фирме, с которой она постоянно сотрудничала, заболела секретарша и ей нужна замена. В тот же день, не заходя домой, она поднялась к нам. Приемная мать вызвала меня из кухни и рассказала о новой работе. Госпожа Блик протянула мне лист бумаги с адресом и сказала: «Отправляйся в понедельник утром…»
Я радостно поблагодарила соседку. Как здорово снова стать независимой, снова начать работать! Нужно подняться пораньше, чтобы опередить всех конкурентов. Где находится контора? Я взглянула на адрес. Отлично, всего двадцать минут на велосипеде. Пожалуй, даже пятнадцать – ведь я всегда быстро езжу. На листке было написано:
Г-Н ОТТО ФРАНК
Н. З. ФОРБУРГВАЛ 120–126
Понедельник выдался ясным. Я поднялась пораньше, вытащила свой крепкий подержанный велосипед из дома, стараясь не испачкать и не помять свежевыстиранные и выглаженные юбку и блузку. Я всегда гордилась своим умением хорошо одеваться. Из экономии сама шила одежду, но она мало отличалась от того, что выставлялось в витринах модных магазинов. Волосы я укладывала самым модным способом – в свободный валик. Друзья, смеясь, говорили, что с такой прической я похожа на американскую кинозвезду Норму Ширер. Я была маленькой, чуть выше пяти футов, голубоглазой, с густыми светло-русыми волосами. Недостаток роста я пыталась компенсировать туфлями на каблуках, прибавляя себе несколько сантиметров.
Я направилась на север и быстро выехала из нашего тихого района. Как всегда, я энергично нажимала на педали. Юбка развевалась вокруг моих ног. Я уверенно влилась в поток велосипедистов, направляющихся на работу в деловой центр Амстердама.
Мельком взглянув на сверкающие витрины гигантского универмага «Де Бейнкорф», где выставляли самые модные наряды, я пересекла просторную, оживленную, полную голубей площадь Дам, откуда трамваи направлялись к Центральному вокзалу. Я миновала королевский дворец и старинную Ньиве Керк – «Новую церковь», – где в 1898 году была коронована Вильгельмина. Тогда ей было 18 лет. (В 1890 году она стала наследницей Вильгельма III, а регентшей – ее мать Эмма.) Я свернула на оживленную Н. З. Форбургвал. На этой улице тоже было полно трамваев и рабочих, но застроена она была преимущественно домами XVII–XVIII веков с красивыми крышами. Последние метры я прошла пешком, ведя рядом свой велосипед.
Нужный мне дом оказался самым современным на улице – почти небоскребом. Над входом, отделанным бежевым камнем, красовался полукруглый навес. Девять застекленных этажей разделяли полосы коричневого камня. Дом гордо устремлялся к облакам. Необычное здание имело название – черными буквами на фасаде было написано GEBOUW CANDIDA (Здание Кандида). Я поставила велосипед на стойку и поправила волосы, растрепавшиеся во время езды.
Фирма «Травис и компания» занимала две небольшие комнатки. Меня встретил симпатичный русоволосый юноша лет шестнадцати в рабочей одежде. Он распаковывал и сортировал товары в складском помещении. В комнате было темновато. За складом я увидела деревянный стол с черной пишущей машинкой и черным телефоном. Юноша представился. Его звали Виллем, он отвечал за склад и был на посылках. Я сразу поняла, что это приятный и дружелюбный голландец. Но как следует познакомиться мы не успели. Меня позвал из другой комнаты красивый голос с сильным акцентом.
Высокий, стройный мужчина с открытой улыбкой представился мне скромно, но с достоинством. Я поздоровалась. Началось обычное для приема на работу собеседование. Наши взгляды встретились, и я сразу же почувствовала доброту и мягкость этого человека. Его некоторая резкость объяснялась застенчивостью и легкой нервозностью. В кабинете стояло два стола. Господин Франк извинился за плохое владение голландским – он лишь недавно переехал из Франкфурта, его жена и дети все еще оставались в Германии.
Я с радостью перешла на немецкий. В его глазах блеснула благодарность – говорить на родном языке ему было гораздо легче. Мне показалось, что Отто Франку немного за сорок. Он носил усы. Когда улыбался, а делал он это часто, я замечала неровные зубы.
Судя по всему, я ему понравилась, потому что он сказал:
– Прежде чем вы приступите к работе, пойдемте со мной на кухню.
Кровь бросилась мне в лицо. Неужели я получила работу? Я не понимала, зачем нам идти на кухню – может быть, выпить чашечку кофе? Но, естественно, я последовала за ним. По пути меня представили еще одному работнику, господину Кралеру, с которым господин Франк делил кабинет. Позже я узнала, что Виктор Кралер, как и я, родился в Австрии.
На кухне господин Франк начал собирать в мешочки фрукты, пакеты с сахаром и другие продукты, продолжая беседовать со мной очень вежливо и спокойно. Я узнала, что фирма «Травис и компания» располагается в Кельне и производит продукты для домашнего приготовления пищи. Одним из них был пектин, который господин Франк активно рекламировал голландским домохозяйкам. Пектин делали из яблок («из яблочных огрызков», – пошутил господин Франк) и импортировали из Германии. Смешав его с сахаром, свежими фруктами и другими компонентами, женщина могла за десять минут приготовить домашний джем.
Господин Франк протянул мне лист бумаги.
– Вот рецепт. А теперь приготовьте джем!
Он повернулся и вышел, оставив меня на кухне одну.
Я сразу же почувствовала себя очень неуверенно. Как господин Франк мог узнать, что я все еще живу с приемными родителями и не имею почти никакого представления о кухне и готовке? Да, я лучше всех в семье варила кофе – но джем? Я взяла себя в руки и внимательно прочитала рецепт. Процесс был мне незнаком. Но я напомнила себе, что можно сделать все, что угодно, если постараться. Я собралась с духом и сделала все по инструкции.
Я приготовила джем.
Две недели я трудилась на маленькой кухне, делая джем банка за банкой. Каждый день господин Франк приносил пакеты с разными фруктами и оставлял их на стойке. Для каждого фрукта был особый рецепт. Я быстро все освоила и на третий или четвертый день стала настоящим специалистом. Джемы у меня получались превосходные: густые, яркие, сочные, ароматные. Банки с восхитительным джемом выстраивались стройными рядами.
Господин Франк предложил нам с Виллемом взять по баночке джема домой, чтобы угостить родных, и мы с радостью согласились. Сам господин Франк ничего не брал, потому что жил один в небольшом отеле в центре города и собирался оставаться там, пока его семья не переедет в Амстердам.
Господин Франк редко говорил о семье. Мы знали лишь, что они живут у его тещи в Аахене, близ юго-восточной границы Голландии. Жену господина Франка звали Эдит, маленьких дочерей – Марго Бетти и Аннелиза Мария. Аннелиза была еще малышкой, поэтому все звали ее Анной. Его мать и другие родственники жили в швейцарском Базеле.
Я чувствовала, что ему одиноко. Он был очень семейным человеком, а тут остался один. Естественно, я с ним об этом не говорила. Это была слишком личная тема.
Я называла его господином Франком, а он меня – госпожой Сантроушиц. В то время не было принято называть друг друга по именам. Но когда я окончательно освоилась (а произошло это довольно скоро), я решила оставить формальности и попросила называть меня просто Мип. Господин Франк согласился.
Мы быстро подружились – оказалось, что оба живо интересуемся политикой и наши политические взгляды похожи. Хотя я старалась не давать волю ненависти, но весьма резко отзывалась о фанатике Адольфе Гитлере, который недавно пришел к власти в Германии. Господин Франк разделял мое отношение, хотя его чувства были более личными – ведь он был евреем. Он и Германию покинул из-за антисемитской политики Гитлера.
Гонения на евреев в Германии вроде бы прекратились, но ситуация оставалась тревожной. У меня никогда не было какого-то определенного мнения о евреях. В Амстердаме они были обычной частью городской жизни – такие же люди, как и остальные. Гитлер поступил очень несправедливо, приняв какие-то законы против них. К счастью, господин Франк смог переехать в Голландию, и его семья тоже скоро окажется в безопасности. В ходе наших разговоров на немецком языке мы оба согласились, что очень разумно покинуть гитлеровскую Германию и оказаться под защитой новой родины, Голландии.
Дни шли, а заболевшая девушка так и не возвращалась. Как-то утром в конце второй недели господин Франк появился на работе с пустыми руками. Он вошел в кухню и сделал мне знак, чтобы я сняла фартук – я работала в фартуке, чтобы не испачкать одежду джемом.
– Мип, идите за мной! – сказал он и провел меня в свой кабинет.
Там он указал мне на стол у окна и объявил:
– Теперь вы будете работать за этим столом. Я назвал его «Службой жалоб и информации». Вы скоро поймете почему.
Я устроилась в углу и принялась разглядывать улицу, где сновали трамваи и велосипедисты. Я быстро поняла, чем мне предстоит заниматься. Я стала настоящим специалистом в приготовлении джема и теперь могла консультировать наших покупателей.
Мы предлагали клиентам конверт с четырьмя пакетиками пектина. На пакетиках были написаны рецепты приготовления разных джемов. В конверте лежали сине-оранжевые наклейки для банок и квадратики целлофана: их следовало смачивать, накрывать ими банки и закреплять резинкой. Наша представительница госпожа Блик предлагала этот товар по всей Голландии, а еще мы продавали небольшие наборы магазинам и аптекам.
Многие домохозяйки начали пользоваться нашим продуктом, но часто не следовали рецепту в точности. Женщины всегда дают волю воображению на кухне и пытаются изменять рецепты по-своему: чуть-чуть того, чуть-чуть этого. Поэтому джемы получались либо резиновыми и жесткими, либо водянистыми.
Голландские женщины очень экономны – и по необходимости, и из принципа. Голландцы разумно тратят деньги и неодобрительно относятся к пустым тратам. Женщины, которые купили наш товар и не получили желаемого, приходили в ярость. Они звонили нам и ругались. Моя задача заключалась в том, чтобы внимательно их выслушивать, выяснять, что они сделали неправильно, и рассказывать, почему их выдумки испортили джем. Я успокаивала раздраженных клиенток, давала им высказаться, а потом объясняла, в чем была их ошибка. После этого я рассказывала, как сделать все правильно. «Травис и компания» хотела иметь преданных и довольных покупателей.
Господин Кралер, который тоже сидел в этом кабинете, был крепким, симпатичным мужчиной, темноволосым и энергичным. Он всегда держался серьезно и никогда не шутил. Ему было около тридцати трех лет. Он постоянно занимался своими делами и общался со мной довольно формально, хоть и вежливо. Он посылал Виллема с разными поручениями и следил за его работой, поэтому у нас почти не было точек соприкосновения. Я подчинялась только господину Франку, и, поскольку мы с ним отлично поладили, меня это очень радовало.
Господина Франка моя работа явно удовлетворяла, потому что он стал давать мне и другие поручения – ведение бухгалтерии и машинопись. Дела компании шли не слишком хорошо, но мы оставались на плаву благодаря идеям господина Франка и энергии госпожи Блик.
Однажды господин Франк с широкой улыбкой рассказал мне, что снял квартиру в том районе, где жила я, на юге Амстердама. В последнее время там поселилось много беженцев из Германии. Теперь его семья могла к нему приехать. Я видела, что он очень счастлив. Но вскоре после этого сообщил другую новость: заболевшая сотрудница, госпожа Хил, поправилась и возвращается на работу. Стараясь не показать своего огорчения, я кивнула, думая, что это должно было случиться.
– Но, – добавил господин Франк, – мы хотели бы предложить вам постоянную работу. Вы хотите остаться здесь, Мип?
Я была в восторге.
– Да, да, конечно же, хочу, господин Франк!
– Дела идут лучше, – пояснил он. – Работы хватит вам обеим – и вам, и госпоже Хил. Мы поставим еще один стол и устроим все наилучшим образом, немедленно.
Однажды утром господин Франк поинтересовался, есть ли у нас на кухне кофе и молоко. Я решила, что мы ждем посетителя, но потом увлеклась работой и подняла голову, лишь когда открылась входная дверь. «Наверное, это посетители господина Франка», – подумала я. В кабинет вошла круглолицая, довольно консервативно, но хорошо одетая женщина. Ее темные волосы были стянуты в пучок на затылке. Ей было за тридцать, а за ней семенила маленькая черноволосая девочка в белоснежной шубке.
Господин Франк услышал стук двери и вышел навстречу посетителям. Поскольку я сидела ближе всех, он сначала представил их мне.
– Мип, – сказал он по-немецки, – познакомьтесь с моей женой, Эдит Франк-Холландер. Эдит, это госпожа Сантроушитц.
По поведению госпожи Франк я сразу поняла, что она происходит из культурной, богатой семьи. Она представилась сдержанно, но искренне. А потом господин Франк с улыбкой добавил:
– А это моя младшая дочь Анна.
Маленькая девочка в пушистой белой шубке посмотрела на меня и сделала книксен.
– Придется говорить по-немецки, – пояснил господин Франк. – Боюсь, пока что она по-голландски не понимает. Ей всего четыре года.
Я видела, что маленькая Анна очень стесняется и все пытается прижаться к матери. Но ее сияющие крупные темные глаза, которые ярко выделялись на нежном личике, живо осматривали все вокруг.
– Я – Мип, – сказала я. – Сейчас принесу кофе.
Я бросилась на кухню, чтобы приготовить кофе и закуски для гостей.
Когда я внесла поднос в кабинет, Франк уже представлял жену и дочь господину Кралеру и Виллему. Анна во все глаза смотрела на Виллема и на все, что ее окружало. Она все еще стеснялась, но я ей явно нравилась. Ее любопытство вызывали предметы, которые нам, взрослым, казались совершенно обычными: упаковочные коробки и бумага, шпагат, держатели для счетов.
Анна выпила стакан молока, а господин и госпожа Франк забрали свой кофе в кабинет господина Франка. Мы с Анной направились к моему столу. Девочка с восторгом смотрела на блестящую черную пишущую машинку. Я поднесла ее ручку к клавиатуре и нажала на клавишу. Глаза девочки заблестели, когда она увидела, что рычажок сдвинулся и на бланке счета, заправленном в машинку, появилась черная буква. Потом я подвела ее к окну – там наверняка происходило что-то интересное для ребенка. И я была права. Вид очаровал девочку: трамваи, велосипеды, прохожие.
Наблюдая за Анной, я думала: «Вот такого ребенка я хотела бы иметь. Тихого, послушного, любознательного». Анна допила молоко и снова посмотрела на меня. Можно было обойтись без слов – ее глаза откровенно говорили, чего она хочет. Я забрала пустой стакан и налила ей еще молока.
Со временем моя работа по разбору жалоб и информированию клиентов сошла на нет. Наши покупательницы привыкли следовать рецептам и готовили джем без проблем. Дела у фирмы шли лучше, и я стала большую часть времени посвящать бухгалтерии, счетам и машинописи. Виллем стал моим настоящим другом. Я считала его младшим братом. Мы отлично ладили.
Каждое утро я приезжала на работу на велосипеде. Обед брала с собой. По пути я проезжала школу Монтессори, где учились маленькая Анна и ее старшая сестра Марго (она была на два года старше Анны). Это было современное кирпичное здание, вокруг которого постоянно бегали хохочущие дети. Франки поселились на Мерведеплейн в Речном квартале, в трех-четырех улицах к северо-востоку от нас. Их квартира находилась в таком же доме из коричневого кирпича.
Каждый день в нашем районе появлялись новые беженцы из Германии, преимущественно евреи. Шутили, что в трамвае № 8 пора вешать табличку: «Кондуктор говорит и по-голландски тоже». Многие беженцы были более состоятельными, чем голландские рабочие. Женщины прогуливались в мехах, носили драгоценности, и это сразу произвело фурор в нашем районе.
Я никогда не ходила, если могла бежать, поэтому стремительно уносилась на работу на своем подержанном велосипеде и была на месте ровно в восемь тридцать. Ни господин Франк, ни господин Кралер, ни даже Виллем в это время еще не появлялись. Придя в контору, я сразу же готовила кофе на всех. Это была только моя утренняя обязанность. Я любила варить хороший, крепкий кофе и видеть, как он нравится моим коллегам. После кофе мы принимались за работу.
Однажды в кабинет принесли новый стол и поставили напротив моего. Вскоре появилась девушка моего возраста, светловолосая, немного пухленькая простушка. Она заняла принесенный стол, а я осталась за своим. Это была госпожа Хил, та самая девушка, болезнь которой так затянулась. Теперь в одной комнате работали я, Виллем и госпожа Хил.
С новой сотрудницей я как-то не поладила. Мы болтали о том о сем, и она постоянно демонстрировала свою особую осведомленность. Шла ли речь о музыке, бухгалтерии или о чем угодно, она всегда стремилась оставить за собой последнее слово. Настоящая зазнайка-всезнайка.
Госпожа Хил часто говорила о новой политической группе, к которой недавно присоединилась. НСБ была голландским аналогом гитлеровской национал-социалистической партии. Нацисты неожиданно появились и в Голландии. Чем чаще она рассказывала о новых догмах нам с Виллемом, тем больше я злилась – она была настоящей расисткой в отношении евреев.
В конце концов я не выдержала.
– Послушай, – сказала я, глядя ей прямо в глаза, – ты же знаешь, что наш начальник, господин Франк, – тоже еврей?
Она недовольно наклонила голову и ответила:
– Ну да, я это знаю. Но господин Франк – благородный человек.
– Значит, все христиане – благородные люди? – резко спросила я.
Она замолчала и недовольно фыркнула. Больше мы не разговаривали. Атмосфера, которая всегда была теплой и уютной, неожиданно стала напряженной. Никто не говорил о политике в присутствии госпожи Хил. Я гадала, что думает господин Франк об ее нацистских убеждениях. Я бы на его месте ее уволила. В конторе воцарилась атмосфера подозрительности, словно все ждали очередной неприятности.
Но моя жизнь не ограничивалась только работой. Я проводила время очень весело. Любила танцевать и, как многие голландские девушки, ходила в танцевальный клуб. Я была одной из первых девушек Амстердама, освоившей чарльстон, тустеп, танго и медленный фокстрот. Мой клуб находился на Штадхаудерскаде. Вместе с подружками я раз в неделю брала уроки, мы разучивали па с учителем и пианистом, а потом танцевали друг с другом.
По субботам и воскресеньям в клубах устраивали бесплатные танцы. Мы танцевали с молодыми людьми под популярные в то время песенки «Когда ты взяла тюльпан», «Голубые небеса», «Я не могу дать тебе ничего, кроме любви, крошка». Я любила и умела танцевать, так что сидеть мне не приходилось. Юноши выстраивались в очередь, чтобы потанцевать со мной и проводить до дома.
Среди моих поклонников были очень привлекательные молодые люди, в том числе высокий, хорошо одетый, симпатичный голландец на несколько лет меня старше. Его звали Хенк Гис. Я познакомилась с ним еще на текстильной фабрике, где мы работали вместе. Мы подружились, и хотя наши пути разошлись (я стала работать в «Травис и компания», а Хенк – в городском бюро социальных работ), мы продолжали общаться. Хенк мне очень нравился. У него были густые светлые волосы и теплые, живые глаза.
Хенк тоже жил в Речном квартале. Он вырос в старом Южном Амстердаме на берегу Амстела, где находились фермы и паслись коровы и овцы. Теперь у него была комната в семейном доме на Рейнстраат. На этой торговой улице было много магазинов, витрины которых скрывались в тени высоких, пышных вязов.
Идеи господина Франка способствовали процветанию «Травис и компании». Он стал гораздо лучше говорить по-голландски, и мы подолгу засиживались, придумывая рекламу нашего продукта. Потом я размещала эту рекламу в журналах и газетах, популярных у домохозяек.
Господин Кралер не всегда был доволен мной так же, как господин Франк. Виктор Кралер был очень серьезным и педантичным. Даже свои темные волосы он причесывал одинаково изо дня в день.
Однажды господин Франк дал мне письмо и попросил написать ответ. Я составила ответ, принесла в кабинет, который он делил с Кралером, и протянула господину Франку. Он спокойно все прочитал и одобрил мой вариант. Кралер тоже заглянул в текст, но он ему не понравился.
– Нет, это надо написать по-другому, – заявил он.
Я еле сдержалась. К тому времени я уже точно знала, как нужно писать деловые письма. Господин Кралер возражал только потому, что я была женщиной. Я знала, как писать бизнесменам, а как – домохозяйкам. Хотя Кралер был женат, детей у него не было, и служебный этикет он воспринимал очень старомодно. Франк казался более современным человеком. Но консерватизм был единственным недостатком господина Кралера. К нам он относился справедливо и по большей части занимался своими делами.
Госпожа Хил несколько дней не появлялась на работе. Она прислала господину Кралеру записку, а затем он получил письмо от ее доктора. В письме говорилось: «В силу психического заболевания госпожа Хил не способна выполнять обязанности, возложенные на нее в “Травис и компания”». Мы затаили дыхание. Но ничего не случилось, и мы решили, что распрощались с ней. Господин Франк шутливо воскликнул:
– Отличный способ избавиться от нацистки!
Мы все согласились с ним, и никто из нас впоследствии не интересовался здоровьем госпожи Хил. Мы надеялись, что забыли о ней навсегда.
В 1937 году контора «Травис и компания» переехала в дом № 400 на канале Сингел. Мы заняли несколько этажей величавого старинного здания. Склад и мастерские расположились в подвале.
Наш новый дом находился в двух шагах от плавучего цветочного рынка, выходящего на канал Сингел – один из самых красивых каналов в центре Амстердама. Совсем рядом проходила шикарная торговая улица Лейдсестраат, улица студентов и книжников Спей и еще одна торговая улица Калверстрат. Жалованье у меня было невелико, но это не мешало мне бродить и любоваться витринами модных магазинов. В солнечный день я любила гулять после обеда и рассматривать новые платья.
Иногда ко мне присоединялся и Хенк Гис. Господин Франк несколько раз встречался с ним и считал, что из него может получиться надежный компаньон. Они походили друг на друга – высокие и худые, но Хенк все же был выше. Светлые волосы падали ему на лоб густыми волнами, а черные волосы Франка были тонкими и редеющими. Они были похожи и по характеру – неразговорчивые, принципиальные, обладающие прекрасным чувством юмора.
Однажды господин Франк пригласил меня к себе домой на ужин.
– Приводите с собой и господина Гиса, – добавил он.
Я приняла приглашение. Мне польстило, что начальник приглашает меня на ужин в свою семью. Следовало приехать ровно в шесть, поесть и довольно быстро уйти, чтобы визит был как можно короче. Вежливость не позволяла надолго задерживаться после ужина. Мы с Хенком пришли к Франкам ровно в шесть.
Хотя господин Франк и дома был в костюме с галстуком, но вел он себя гораздо свободнее, чем в конторе. Госпожа Франк приветливо с нами поздоровалась. Ее темные, блестящие волосы были уложены на прямой пробор и собраны на затылке в мягкий узел. На ее круглом лице с большим лбом ярко выделялись черные глаза. Она была несколько полновата, и это придавало ей вид благородной матери семейства. Хотя она уже неплохо владела голландским, но все же говорила с сильным акцентом, сильнее, чем у господина Франка. Хенк, как и я, свободно владел немецким, поэтому мы говорили по-немецки. Я помнила, как трудно было учить голландский язык в школе. Франкам же – взрослым людям – приходилось еще тяжелее.
Госпожа Франк очень скучала по Германии, гораздо сильнее, чем ее муж. В разговоре она часто с печалью вспоминала их жизнь во Франкфурте, чудесные немецкие сладости и качество немецкой одежды. Ее мать, госпожа Холландер, переехала в Голландию вместе с дочерью и внучками, но здоровье ее было слабым, и большую часть времени она проводила в постели.
Всю мебель Франки перевезли из Франкфурта. У них было много старинной мебели из темного полированного дерева. На меня их обстановка произвела глубокое впечатление. Особенно восхитил изящный высокий секретер XIX века во французском стиле, стоявший между двумя окнами. Госпожа Франк упомянула, что это часть ее приданого. Величественные старинные часы от известного франкфуртского мастера Акермана тихо тикали. Когда мы полюбовались часами, Франк сказал, что их приходится подводить каждые три-четыре недели, чтобы они показывали точное время.
Меня привлек небольшой эскиз углем в красивой раме. Художник изобразил кошку с двумя маленькими котятами. Кошка-мать хранила абсолютное спокойствие, а малыши уютно устроились в ее пушистой шерсти. Франки любили кошек. Их собственная кошка бродила по комнате и явно показывала, кто в доме хозяин. Франк сказал, что это кошка его дочерей. Все указывало на то, что главные в доме – дети. Повсюду я видела их рисунки и игрушки.
Все только и говорили о кровопролитной гражданской войне в Испании. Генерал Франко, фашист, почти полностью разбил армию добровольцев из многих европейских стран. В Испании воевали добровольцы даже из таких далеких мест, как Америка и Австралия. Гитлер и вождь фашистской Италии Муссолини открыто поддерживали Франко и помогали ему. Поскольку все мы были антифашистами, последние известия из Испании нас очень огорчали. Было похоже, что отважные борцы Сопротивления вот-вот потерпят окончательное поражение.
Мы уселись за стол и позвали детей. Анна прибежала тут же. Ей было уже восемь лет, но она оставалась очень худенькой и хрупкой. Меня поразили ее искрящиеся зеленые глаза. Глаза были посажены очень глубоко, и когда девочка щурилась, казалось, что они обведены темными тенями. Анна унаследовала нос матери и рот отца, у нее был немного неправильный прикус и подбородок с ямочкой.
Десятилетнюю Марго мы увидели впервые, когда она вошла и села за стол. Она была очень красивой. Меня поразили блестящие темные волосы. У обеих девочек волосы были подстрижены чуть ниже ушей и расчесаны на пробор. Чтобы волосы не падали на глаза, их скрепили заколками. У Марго были темные глаза, когда она улыбалась, ее красивое лицо делалось еще красивее. Нас она стеснялась, но вела себя безукоризненно – как, впрочем, и маленькая Анна. И обе девочки прекрасно говорили по-голландски.
Я поняла, что Марго – любимица матери, а Анна – папина дочка.
В этом году обе девочки много болели. Из-за детских болезней – в том числе скарлатины – они часто пропускали школу. Но за ужином я с радостью увидела, что, несмотря на внешнюю хрупкость, дети отличались прекрасным аппетитом.
После ужина девочки пожелали нам спокойной ночи и отправились в свои комнаты делать уроки. Я заметила на тоненьких ножках Анны белые носочки и маленькие тапочки. Носочки чуть сползли, и смотрелось это очень трогательно и комично. Меня охватила нежность.
Мы продолжали беседовать. Когда наши кофейные чашки опустели во второй раз, мы распрощались и быстро ушли.
Это было мое первое приглашение в дом Франков. Несмотря на всю официальность обстановки, я теперь знала о них гораздо больше. Госпожа Франк любила вспоминать о прошлом, о своем счастливом детстве, проведенном в Аахене, о том, как в 1925 году она вышла замуж за господина Франка, об их жизни во Франкфурте. Господин Франк вырос там. Его семья занималась банковским делом с XVII века. Он получил прекрасное образование, участвовал в Первой мировой войне, был награжден и дослужился до чина лейтенанта.
После войны во Франкфурте Франк занялся торговлей. Сестра его жила в швейцарском Базеле. Она вышла замуж за человека, который работал на фирму, расположенную в Кельне и имевшую филиал в Амстердаме. Фирма «Травис и компания» занималась продуктами питания. Когда господин Франк решил покинуть Германию, зять предложил ему работу в голландском филиале. Господин Франк с радостью принял это предложение. Он много сделал для «Травис и компании» – этот шаг оказался выгоден и для фирмы, и для самого господина Франка.
Глава 3
Мы с Хенком Гисом стали проводить все больше времени вместе. Постепенно открывали, сколько у нас общего – например, мы оба любили Моцарта. Когда мы были вместе, я часто замечала одобрительные взгляды прохожих – похоже, мы казались красивой парой. Мы оба гордились своим вкусом в одежде. Хенк действительно всегда выглядел очень элегантно. Я ни разу не видела его без галстука. Его голубые глаза сверкали жизненной силой. Наше взаимное притяжение чувствовали даже те, кто просто находился рядом.
Мы часто ходили в кино. Субботние вечерние посещения кинотеатра «Тип-Топ» в старом Еврейском квартале стали приятной традицией. Там показывали американские, английские и немецкие фильмы и выпуски новостей, а также сериал, который был таким интересным, что мы с нетерпением ждали каждую субботу, чтобы увидеть следующий эпизод. Как все молодые голландские пары, мы много ездили на велосипедах, точнее, на одном велосипеде. Хенк крутил педали, а я сидела сзади, болтая ногами. Юбка развевалась на ветру, я прижималась к спине Хенка, обхватив его руками за талию.
В теплые солнечные дни весь Амстердам садился на черные велосипеды – в точности, как мы. Целые семьи выезжали за город. На багажнике сидел один ребенок, второй устраивался на маленьком сиденье на раме. Двое родителей могли взять с собой четверых детей, которые сами еще не умели ездить. Но когда дети подрастали, они сразу же получали свои подержанные велосипеды и катили за родителями по мощенным булыжником улицам и мостам над каналами, как маленькие утята.
Мы с Хенком обожали воскресный рынок в старом Еврейском квартале рядом с величественной португальской синагогой на берегу Амстела. Сюда стекались жители всего Амстердама. Еврейский квартал был очень красив – живописные домики XVII, XVIII и XIX веков, огромный открытый рынок с прилавками и яркими цветами. Здесь можно было купить самые экзотические товары и торговаться до победы. Я часто приходила сюда с приемными родителями. Хенк тоже бывал здесь в детстве. Это нас сближало – на рынке мы чувствовали себя как дома.
В этом квартале жили бедные евреи. Давным-давно они перебрались в Голландию с востока. В последнее время сюда стали прибывать беженцы из Германии, и порой можно было услышать еврейскую или немецкую речь. Но в последнее время иммиграционные законы в Голландии сильно ужесточились. Евреям стало трудно въезжать в страны Западной Европы.
Поток беженцев слегка ослабел. Мы гадали, что же теперь делают эти люди. Особенно беспокоила нас судьба немецких евреев, поскольку Гитлер делал их положение все более невыносимым. Кто примет их?
Однажды наш Виллем слишком быстро покатил трехколесную тележку по берегу Сингела. День был прекрасный. Над каналом кружили чайки. Где-то на улице играла шарманка. Виллем заслушался, на что-то засмотрелся, пропустил поворот и свалился в мутные воды канала Сингел прямо перед нашей конторой.
Мы с господином Франком поспешили на улицу и, не в силах сдержать смех, выловили Виллема и тележку из канала. Господин Франк отправил Виллема домой на такси, а мы вернулись в контору. Это происшествие смешило нас довольно долго.
Но в марте 1938 года нам стало не смешно. Мы все собрались вокруг радиоприемника. Диктор драматическим голосом описывал триумфальный вход гитлеровских армий в город моего детства, Вену. По радио рассказывали о вывешенных флагах, цветах, восторженных толпах горожан. Когда-то Гитлер жил в Вене. Я тоже. Теперь мне было больно. Я представляла себе истерическую радость венской черни, которая приветствовала своего кумира. Я вспомнила о своем австрийском паспорте и горько пожалела, что не удосужилась от него избавиться.
Вскоре мы с изумлением узнали, что венских евреев отправили мыть общественные туалеты и улицы, а все имущество этих несчастных было конфисковано нацистами.
Мне предстояло посетить отдел полиции по делам иностранцев на О. З. Ахтербургвал, 181. Год за годом я приходила сюда, чтобы продлить свою визу. Но в 1938 году меня, к моему ужасу и отвращению, отправили в германское консульство, где забрали австрийский паспорт и выдали германский, с черной свастикой прямо на моей фотографии. Теперь по документам я была немкой. Но это был полный бред, потому что в душе я оставалась голландкой – тогда и навсегда.
Как-то вечером, спустя несколько недель после моего визита в отдел по делам иностранцев и германское консульство, я сидела дома вместе с приемными родителями. Мы только что поужинали, и я отдыхала с газетой за второй чашкой кофе. Раздался стук в дверь. Родители позвали меня.
На пороге стояла молодая блондинка, примерно моя ровесница, с приторной улыбкой на лице. Она хотела поговорить со мной. Я пригласила ее в квартиру и поинтересовалась, что привело ее ко мне. Девушка объяснила, что мое имя ей назвали в германском консульстве. Она, как и я, была германской подданной, и пришла, чтобы пригласить меня вступить в клуб девушек-нацисток. Члены клуба разделяли идеалы «нашего» фюрера Адольфа Гитлера, и сейчас такие клубы, как «наш», появлялись по всей Европе.
Девушка объяснила, что когда я вступлю в клуб (не «если», а «когда»!), то сразу же получу специальный знак и смогу присутствовать на собраниях. А очень скоро «наша» группа сможет совершить поездку на родину, в Германию, чтобы объединить свои усилия с нашими арийскими сестрами. Она продолжала разглагольствовать так, словно я уже была членом ее клуба.
Но улыбка быстро сошла с ее лица, когда я резко отклонила предложение.
– Но почему? – возмущенно спросила она.
– Как я могу вступить в такой клуб? – ледяным тоном ответила я. – Посмотрите, что немцы делают с евреями в Германии.
Она прищурилась и впилась взглядом в мое лицо, словно пытаясь запомнить его до последней черточки. Я невозмутимо взирала на эту маленькую нацистку. Пусть она собственными глазами увидит, что некоторые «арийские» женщины не собираются становиться нацистами.
Я пожелала ей доброй ночи и захлопнула за ней дверь.
В Голландии еще не похолодало. Шли мелкие дожди, было пасмурно и хмуро. В ноябре вечер в семье Франков выдался особенно тяжелым. Мировые новости производили угнетающее впечатление. За несколько дней до этого в Германии прошла печально известная «Хрустальная ночь» – 10 ноября 1938 года.
В эту ночь сотни еврейских предприятий, магазинов и домов в Германии были разграблены, разбиты и сожжены. Нацисты разрушили синагоги, уничтожили священные книги. Тысячи евреев были избиты или убиты, женщин насиловали, а беззащитных детей избивали. В этом аду разрушения тысячи евреев задержали и отправили в неизвестном направлении.
Впоследствии мы узнали, что их обвинили в разжигании насилия и обложили штрафами на миллионы марок.
Мы с Хенком и Франками обсуждали последние известия. Госпожа Франк особо эмоционально осуждала варварство, которое происходило совсем рядом с нами.
Господин Франк в своей обычной нервно-спокойной манере качал головой. Он надеялся, что антисемитская болезнь пройдет, как лихорадка, все закончится, и достойные люди увидят свою родину свободной от этих бандитов и садистов. В конце концов, Германия всегда была культурной, цивилизованной страной. Разве немцы не помнят, что евреи пришли туда много веков назад вместе с древними римлянами?
Когда к столу позвали Марго и Анну, мы перестали говорить об этих ужасных событиях. Мы заулыбались, приглушили голоса и начали болтать только о веселых и приятных вещах, которые можно слушать невинным и впечатлительным девочкам.
Прошло несколько месяцев с нашего последнего ужина в доме Франков. Мы заметили, как изменились Марго и Анна. В девять лет маленькая Анна стала настоящей личностью. На ее щеках играл румянец, она говорила энергично и быстро высоким тоненьким голоском. Марго превращалась в подростка и стала еще красивее. Она была гораздо спокойнее Анны, сидела тихо, с прямой спиной, положив руки на колени. Обе девочки вели себя за столом просто идеально.
Мы узнали, что Анна любит играть в школьных спектаклях. У нее было много друзей, и о каждом она говорила так, словно это был ее лучший и единственный друг. Она рассказывала, как ходила в гости к подругам и как они приходили к ней. Анна с друзьями совершали экскурсии по Амстердаму и порой ночевали друг у друга. Анна обожала кино – как и мы с Хенком. Мы обсуждали увиденные фильмы и разговаривали о кинозвездах.
Марго очень хорошо училась в школе. Она стала лучшей ученицей и не жалела сил и времени на учебу, чтобы сохранить свой статус. Анна тоже хорошо училась, но общение с друзьями интересовало ее больше.
Госпожа Франк очень хорошо одевала девочек. Их красивые платья всегда были накрахмалены и идеально выглажены. Белоснежные воротнички украшала вышивка, чистые волосы были аккуратно причесаны. Я всегда думала, что в будущем должна так же ухаживать за своими детьми.
За ужином мы попробовали восхитительный десерт, приготовленный госпожой Франк. Я любила сладости так же сильно, как и девочки. Все подшучивали, что я никогда не откажусь от добавки. Господин Франк был прекрасным рассказчиком. Когда Марго и Анну отправили делать уроки, он пообещал прийти и рассказать им сказку, когда они закончат. Анна страшно обрадовалась.
Примерно тогда же в «Травис и компании» начал работать новый беженец, старый деловой знакомый господина Франка. Он должен был стать нашим специалистом по специям, поскольку господин Франк стремительно расширял компанию. Человека этого звали Герман ван Даан. Хотя по происхождению он был голландским евреем, но долгое время жил в Германии. Жена его была немецкой еврейкой. Когда Гитлер пришел к власти, Герман с семьей покинул Германию. Фирму по торговле специями назвали «Пектакон».
Господин ван Даан знал о специях все. Ему достаточно было вдохнуть аромат, и он тут же произносил название. Я никогда не видела его без сигареты. Он был высоким, крупным мужчиной с мужественным, открытым лицом, прекрасно одевался, слегка прихрамывал при ходьбе и всегда искал повод для шуток. Хотя ему было слегка за сорок, волос на его голове почти не осталось.
Господин ван Даан был хорошим, спокойным человеком и прекрасно вписался в работу «Травис и компании» и «Пектакона». Он никогда не приступал к работе без чашки крепкого кофе и сигареты. Когда они работали вместе с господином Франком, им всегда приходили в голову блестящие идеи по маркетингу наших продуктов и поиску новых покупателей.
Франки стали часто приглашать гостей на кофе с пирожными по субботам. Иногда звали и нас с Хенком. Обычно присутствовало семь-восемь гостей, чаще всего еврейские беженцы, которым удалось уехать из гитлеровской Германии.
Хотя эти люди раньше не знали друг друга, но у них было много общего. Господин Франк хотел познакомить их с голландцами, чтобы те узнали, почему они бежали, и помогли им в новой стране. Меня и Хенка Гиса господин Франк обычно представлял как «наших голландских друзей».
Господин ван Даан тоже часто приходил к Франкам вместе со своей очаровательной кокетливой женой Петронеллой. Частыми гостями были супруги Левины. Господин Левин был аптекарем, и найти работу в Амстердаме ему оказалось нелегко. Они тоже бежали из Германии, хотя госпожа Левина была христианкой. Левины и ван Дааны снимали квартиры в нашем Речном квартале.
Был еще один гость – хирург-дантист Альберт Дуссель, очаровательный человек, напоминавший французского певца-романтика Мориса Шевалье. Дуссель приходил со своей ослепительно красивой женой, с которой недавно бежал из Германии. Жену звали Лоттой, и она не была еврейкой. Доктор Дуссель мне нравился. Он был очень приятным человеком. Когда я узнала, что мой дантист на улице Амстеллаан принял его на работу, а в будущем он рассчитывает открыть собственную практику, я решила, что буду лечиться только у него. Как я и думала, он оказался прекрасным врачом.
По субботам мы усаживались в гостиной Франков вокруг большого круглого стола из темного дуба. На столе стояли кофейные чашки, сливочники, красивые серебряные приборы и восхитительный домашний торт. Гости говорили одновременно. Все в мельчайших деталях знали, что происходит в мире и особенно в Германии. Когда в марте 1939 года Гитлер оккупировал Чехословакию, это вызвало у нас резкое осуждение. В сентябре 1938 года Германия уже аннексировала Судетскую область «ради сохранения мира», но вторжение в независимую страну было уже настоящей войной.
Девочки Франков тоже принимали участие в этих посиделках, но когда они появлялись, взрослые разговоры смолкали. Детей представляли гостям, они улыбались и здоровались. Анна буквально сияла улыбкой. Марго была более сдержанной. Она превращалась в настоящую красавицу с прекрасной кожей и великолепной фигурой. Им отрезали кусочек торта. Они стояли рядом друг с другом, и Анна едва доставала до носа Марго. Торт они поедали в мгновение ока. Пока девочки не уходили, закрыв за собой дверь, политических разговоров никто не вел, а потом мы снова начинали кричать.
Разговор всегда заходил о жизни в Германии до того, как всем пришлось покинуть родную страну. Как бы ни было трудно нашим немецким друзьям, они всегда были очень сдержанны в своих жалобах. Даже когда взрослым приходилось тяжело, дети ничего не должны были знать. Голландцам свойственно такое же отношение к детям. Все эти люди много трудились ради того, чтобы жить достойно. Никто из них не подозревал, что им придется отрываться от корней, бросать родину и в зрелом возрасте начинать все сначала в чужой стране. К счастью, они оказались в Голландии, стране свободной и толерантной – как ни одна другая.
Облака сигаретного дыма поднимались к потолку. Разговоры можно было продолжать бесконечно, но когда приближалось время ужина, гости начинали расходиться. Обычно мы с Хенком прощались первыми и выходили на Мерведеплейн. Иногда мы почти сталкивались с Марго и Анной, куда-то катившими на своих верных черных велосипедах. Щеки их покрывал здоровый румянец от свежего воздуха. Они прислоняли свои велосипеды к стойке перед входом и спешили наверх. А мы с Хенком быстро пересекали лужайку и отправлялись к себе.
Глава 4
В начале 1939 года, и особенно после оккупации Чехословакии, мы все больше думали о Гитлере. Мы знали, что ему нельзя доверять. Весной и летом все были напряжены и страшно нервничали. В Голландии провели мобилизацию армии, готовясь к войне. Некоторые люди совершенно не интересовались мировыми событиями и думали только о воскресных карточных играх. Другие же реагировали на них, словно это была досадная заноза. Забыть их нельзя – боль всегда с тобой. Но мы старались жить полной жизнью.
Летом королева Вильгельмина официально заявила об абсолютном нейтралитете Нидерландов.
Общая напряженность заставила нас с Хенком задуматься о нашем положении. Мы уже давно искренне любили друг друга. Мы не женились, потому что наши доходы были слишком малы, а сбережений не было вовсе. Мы просто не могли купить мебель и начать самостоятельную жизнь. Такие люди, как мы, часто заключали долговременные помолвки. Но мы все же решили забыть об осторожности. Время шло, а мы не молодели. Мне исполнилось тридцать, Хенку – тридцать четыре. Мы решили, что поженимся, как только подыщем квартиру. И принялись за почти невозможное дело – поиски жилья.
Подыскивая квартиру или комнату – любое приличное жилье, – мы с Хенком обошли весь Амстердам, но так ничего и не нашли. Хенк от природы был более терпелив. Он никогда не показывал своего раздражения, а я чаще упрямилась и злилась. Чем больше выпадало неудач, тем упорнее я становилась. Я поклялась себе, что если в этом городе есть место для нас, то я его непременно найду. И неважно, сколько велосипедных поездок под леденящим ветром в полной темноте придется совершить и как часто мы будем ездить на поиски холодными утрами, до работы.
К сожалению, все мое упорство никак не облегчало наше положение. В Амстердаме всегда принимали тех, кто бежал от тирании. Несмотря на строгие иммиграционные законы, в городе было полным-полно беженцев, политических и религиозных. Они селились во всех свободных помещениях – даже на чердаках и в подвалах. Семьи ютились в крохотных комнатках. Порой в одной комнате находились сразу две семьи. Жилья не хватало. В городе просто не осталось свободных помещений.
Мы продолжали свои безуспешные поиски. И тут произошло то, чего все боялись. 1 сентября 1939 года армия Гитлера вошла в Польшу. 3 сентября Англия и Франция объявили Германии войну. Голландия оказалась между воюющими державами.
В результате блицкрига Польша была завоевана очень быстро, но ничего страшного с нами не случилось. Мы стали называть эту войну «сидячей» – «ситцкриг». А 8 ноября в наших сердцах затеплилась надежда – впервые за долгое время. По радио сообщили о покушении на Гитлера. Попытка оказалась неудачной, но впервые мы узнали, что «хорошие» немцы все же существуют. Если было одно покушение на Гитлера, значит, будут и другие, и какое-нибудь станет успешным. Зря я, что ли, на это надеюсь?
Я хотела, чтобы Гитлер был раздавлен, убит, уничтожен. Обдумав свои мрачные чувства, я поняла, насколько изменилась. Меня учили никогда никого не ненавидеть. Убийство – это тяжкое преступление. И все же я была полна ненависти и мечтала об убийстве.
В Амстердаме началась холодная зима. Каналы замерзли, и на них сразу же появились конькобежцы. Рано выпал снег. 30 ноября советская Красная армия напала на Финляндию. Но когда мы встречали 1940 год и новое десятилетие, радио не сообщило ничего нового. Казалось, что в мире ничего не происходит. Я гадала, что принесет нам Новый год. Мы с Хенком твердо решили в будущем году найти жилье и пожениться. Возможно, мы даже начнем думать о ребенке.
Дела «Травис и компании» шли хорошо. Господин ван Даан преуспевал в торговле специями, и ему понадобились новые работники. Мы поняли, что переросли свое помещение в доме № 400 на канале Сингел. В январе 1940 года господин Франк сообщил, что нашел новое место, где наша компания сможет развиваться. Дом находился неподалеку от нашей конторы, на Принсенграхт – этот канал огибает старую часть Амстердама.
Новое помещение располагалось в доме № 263 на Принсенграхт. Это было узкое старинное здание из красного кирпича, построенное в XVII веке. В этой части Амстердама много таких домов. Мы переехали на запад и теперь граничили с рабочим кварталом Йорданн – от французского слова jardin, «сад». Все улицы здесь носили названия цветов. На нашей улице находились небольшие предприятия, склады и мелкие конторы вроде нашей.
В доме было три двери, выходившие прямо на канал. Первая дверь вела на крутую деревянную лестницу к складам – пока что пользоваться ею мы не собирались. От второй двери короткая лестница шла на площадку с двумя застекленными дверями. На правой двери было написано «КОНТОРА» – там находилась моя комната, где могли работать и другие девушки. Левая дверь вела в коридор и к кабинету Кралера и ван Даана. В конце коридора четыре ступеньки поднимались к небольшой площадке перед второй застекленной двери в личный кабинет господина Франка. Третья входная дверь открывалась в рабочую зону на первом этаже.
Нас приветствовал большой и толстый черно-белый бродячий кот с поцарапанной мордой. Кот долго смотрел на меня. Я выдержала его взгляд, но все же налила ему молока. Мне ненавистны были жирные амстердамские крысы, которые жили в таких старых, сырых домах. Кот мог стать нашим талисманом – и избавил бы нас от крыс.
Персонал у нас поменялся. Виллем ушел, а вместо него появились два работника – мужчина постарше и юноша-ученик.
Вскоре после этого господин Франк вызвал меня в свой кабинет и познакомил с молодой девушкой, которая пришла на собеседование. У нее были русые волосы, она была гораздо выше меня и носила очки. Я сразу поняла, что она болезненно застенчива. Звали ее Элли Фоссен. Господин Франк нанял ее для работы в конторе. Элли был двадцать один год.
Я взяла Элли под свое крыло и усадила ее за стол напротив себя. Господину Франку она понравилась и мне тоже. Мы с Элли быстро сработались и подружились, стали вместе обедать и прогуливаться. Мы часто болтали о том и о сем. Элли была старшей в семье, у нее было шесть сестер и брат.
Вскоре после нашего переезда господин Франк нанял голландца средних лет. Его звали Йо Коопхейс. Он давно сотрудничал с господином Франком и был его давним другом. Господин Коопхейс оказался хрупким, бледным мужчиной с острым носом, в больших очках с толстыми стеклами. Он был спокойным, уравновешенным человеком, очень добрым и внушавшим доверие. Между нами быстро установилось теплое взаимопонимание.
Йо Коопхейс, Элли Фоссен, другие девушки и я разместились в одной комнате. Кралер и ван Даан устроились в своем кабинете. У нас сформировалось две команды: Коопхейс и Франк занимались продуктами для дома и финансовыми вопросами, ван Даан и Кралер – специями, главным образом для колбас.
В конторе то и дело появлялись разные женщины, которые помогали нам с Элли. Обычно это были приятные молодые девушки. Они делали свою работу и уходили. Я стала самым опытным работником, и мне приходилось следить, чтобы все было сделано вовремя и качественно. Я также отвечала за порядок в конторе, и мне это нравилось.
В феврале 1940 года Марго Франк исполнилось четырнадцать, а за день до этого я отметила тридцать первый день рождения. Ужиная у Франков той зимой, мы увидели, что Марго уже не девочка, а молодая девушка. Фигура у нее немного округлилась. Серьезные темные глаза скрывались за толстыми стеклами очков. Она была целиком поглощена учебой и не отвлекалась на глупости. Несмотря на очки, Марго становилась все красивее. Особенно хороша была ее кожа, гладкая и матовая.
Холодной зимой 1940 года Анна приближалась к одиннадцатому дню рождения. Она во всем подражала старшей сестре, внимательно следила, что Марго делала или говорила, и впитывала это, как губка. Она обладала природным даром имитации и могла передразнить всех и вся, причем очень хорошо. Она отлично мяукала, подражала голосам подруг и авторитетному тону учителя. Мы постоянно смеялись над ее представлениями – так ловко она владела голосом. Анна любила всеобщее внимание. Ей было приятно, что нам нравятся ее проделки и шутки.
Анна тоже изменилась внешне. Она все еще была маленькой, худенькой девочкой, но уже вступала в переходный возраст, когда руки и ноги неожиданно становятся слишком длинными для хрупкого тела. В семье она всегда оставалась младшей и требовала дополнительного внимания. В прошлом году Анна болела реже, а вот Марго продолжала страдать от мелких недомоганий – то у нее болел живот, то горло. Дети говорили по-голландски без всякого акцента. Даже госпожа Франк стала говорить гораздо лучше. Иногда, чтобы дать возможность ей попрактиковаться в голландском, мы во время разговора отказывались от немецкого и поправляли ее ошибки, стараясь сделать это весело и необидно. Госпоже Франк новый язык давался тяжелее всех, потому что она слишком много времени проводила дома. Господину Франку было проще – ведь он постоянно с кем-то общался. А девочки чувствовали себя в новой языковой среде как рыбы в воде.
Началась весна 1940 года. Лед растаял, на цветочных прилавках появились влажные тюльпаны и нарциссы. Денег у нас было немного, и на цветы мы могли потратить еще меньше. Весеннее тепло и длинные дни вселяли в нас надежду на лучшее будущее для Европы. Может быть… Все может быть…
Мы с Хенком все свободное время проводили вместе. Чем теплее становилось на улице, тем красивее и милее был для меня Хенк. Его шутки казались мне более смешными, он крепче обнимал меня. 6 апреля мы узнали об очередном покушении на Гитлера. От этого известия я чуть не закричала от радости. Покушение снова провалилось. Оставалось только молиться, чтобы «хорошие» немцы в третий раз добились своего.
А потом Гитлер вошел в маленькую Данию и без всяких усилий – в Норвегию, почти бескровно и без выстрелов. Голландия замерла в страхе. Мы ждали, что с нами будет. К счастью, беда миновала, и мы продолжали радоваться весне.
Глава 5
В один майский четверг я лежала в постели. Я по-прежнему делила комнату со своей сестрой Катериной. Ночь выдалась на редкость благоуханной. Наши обычные разговоры закончились, когда мы вспомнили, что рано утром нужно идти на работу. Рабочий день в пятницу никто не отменял.
Спала я плохо. Сквозь сон мне слышался какой-то низкий, неприятный звук. Я не придала ему значения, лишь укрылась потеплее. Но потом раздалось далекое грохотание. Я продолжала спать. Неожиданно поняла, что Катерина трясет меня, пытаясь разбудить. Внизу кто-то включил радио. Сердце у меня заколотилось. Мы побежали вниз, чтобы узнать, что случилось. Сообщения по радио были противоречивыми. Ночью пролетали германские самолеты? Но почему они летели на запад? Люди выбегали на улицы – вдруг кто-нибудь что-то знает. Некоторые забирались на крыши. Со стороны аэропорта доносились звуки далеких взрывов.
Наступал рассвет. Никто по-прежнему ничего не понимал. Спать мы не могли – все были слишком встревожены. Говорили, что немецкие солдаты в голландской форме десантировались с самолетов. Кроме того, с воздуха были сброшены велосипеды, пушки и военное снаряжение. Никто никогда не видел и не слышал ничего подобного.
Мы нервничали. Сначала пошел один слух, потом другой. И наконец, по радио выступила королева Вильгельмина. С дрожью в голосе она сообщила, что Германия напала на нашу любимую Голландию. Произошло вторжение, но мы будем сражаться.
Это случилось в пятницу, 10 мая 1940 года. Никто не понимал, что делать. Большинство людей, как и я, отправились на работу, словно в обычный день. В конторе царило тяжелое настроение. Все были потрясены. Господин Франк был белым, как бумага. Мы собрались вокруг радиоприемника в его кабинете и целый день слушали новости. Отважная голландская армия вела бои с превосходящими силами противника. Мы выстоим. Разговаривать никому не хотелось. Мы молча занимались своей работой. Нам ничего не оставалось – только ждать.
Во время обеда прибежал Хенк. Мы обнялись, боясь представить, что может случиться. В течение дня несколько раз выли сирены воздушной тревоги. Никаких убежищ в нашем районе не было, поэтому мы просто ждали отбоя. Но бомбы на город не падали. Я не видела ни боев, ни людей в военной форме. Пошли слухи, что немецкие солдаты маскировались под медсестер, фермеров, монахинь и голландских рыбаков. По радио периодически призывали оставаться дома и избавиться от всех алкогольных напитков, чтобы обезопасить женщин от немецких солдат, если они появятся. Люди бросились в магазины, чтобы скупить как можно больше продовольствия.
Вступил в действие комендантский час – после восьми на улицу выходить было запрещено. Нам велели заклеить стекла в окнах, чтобы защититься от осколков и щепок при бомбежке. Нужно было купить черную бумагу, чтобы надежно закрыть окна на ночь. Я так и сделала.
Все это время я слушала радио. Информация поступала противоречивая. Сражаются ли наши голландские войска? Действительно ли голландское правительство послало корабль в Эймейден, чтобы перевезти евреев в Англию? Правда ли, что многие евреи покончили с собой, а другие отплыли в Англию на купленных лодках и катерах? Такая неразбериха продолжалась несколько дней – все выходные. Любая информация распространялась, как лесной пожар. Говорили, что бои идут вокруг города Амерсфоорт, что крестьянам велели эвакуироваться, а коровы остались на пастбищах, и теперь они стонут и ревут, потому что их несколько дней не доили.
Потом до нас дошли еще более страшные слухи: королева вместе с семьей и правительством ночью отплыли в Англию. С собой они забрали весь золотой запас Голландии. Все были потрясены. Монархисты рыдали от стыда. Они чувствовали себя преданными и брошенными. Потом прошел слух, что принц Бернард, супруг принцессы Юлианы, тайно вернулся в Голландию и присоединился к войскам в Зееланде.
Все закончилось так же неожиданно, как и началось. 14 мая в семь вечера по радио выступил генерал Винкельман. Он сообщил, что немцы разбомбили Роттердам и часть территории страны затоплена из-за открытых дамб. Немцы угрожают разбомбить Утрехт и Амстердам, если Голландия продолжит сопротивляться. Чтобы сохранить жизни людей и имущество, Голландия сдается. Генерал просил всех сохранять спокойствие и ожидать дальнейших указаний.
Немцы атаковали нас, как самые подлые воры, среди ночи. Неожиданно оказалось, что наш мир больше нам не принадлежит. Мы ждали, что же будет, но в душах кипела ярость. С нами не могло случиться ничего более страшного – мы потеряли свободу.
Кто-то сжигал антинацистские газеты, английские книги и словари. Другие стали интересоваться друзьями и соседями. Неожиданно стало очень важно знать, кто испытывает симпатию к нацистам и может быть шпионом. И как теперь говорить с теми, кому больше нельзя доверять?
На улицах появились люди в немецкой военной форме. Германская армия триумфальным парадом прошла по Амстердаму. Люди карабкались на плечи друг другу, многие стояли группками. Немцы прошли по залитым весенним солнцем улицам. Их танки и моторизованные части проехали от моста Берлаге до площади Дам. Голландцы смотрели на них с невозмутимыми и спокойными лицами. Из своих крысиных нор вылезли голландские нацисты – они-то были рады и счастливы, махали флагами и бросали цветы. Кто-то, как мы с Хенком, отвернулся и не стал смотреть на это. Для нас было только две стороны: правильная – истинные голландцы, не приемлющие нацизма, и неправильная – люди, симпатизирующие нацистам и готовые сотрудничать с захватчиками. Третьего не дано.
Жизнь продолжалась, почти как обычно. Фирма «Травис и компания» продолжала процветать. Мы спокойно работали целыми днями. Каждый час по четыре раза звонили колокола на Вестеркерк (Западная церковь), которая располагалась на нашей улице. Высокая церковь из красного кирпича считалась местом упокоения праха Рембрандта. Колокола звонили торжественно и печально. Звук их приглушали большие вязы вдоль канала.
Когда мы только переехали на Принсенграхт, я все время прислушивалась к этому звону. Каждые пятнадцать минут отвлекалась от работы, бросала взгляд за окно и смотрела, как чайки пикируют на воду канала, чтобы добыть пищу. Но уже через несколько недель я перестала замечать звон церковных колоколов. Они стали частью нашей жизни.
Как-то раз господин Франк отозвал меня в сторону и с довольным лицом сообщил, что увидел объявление о сдаче комнат в нашем квартале – в доме № 25 по улице Хунзестраат. На следующее утро перед работой мы вместе с ним отправились в самый обычный кирпичный дом на улице Хунзестраат. От квартиры Франков на Мерведеплейн его отделяло всего два квартала. Комнаты находились на первом этаже. Господин Франк позвонил, и нам открыла дверь невысокая, симпатичная женщина, темноволосая и пухленькая – госпожа Самсон. Господин Франк представился, мы пожали руки друг другу. Мы понимали, что госпожа Самсон – еврейка. Она показала нам комнаты, рассказывая, почему они неожиданно освободились. Она была очень разговорчива и общительна.
Оказалось, дочь Самсон вышла замуж и поселилась в Хилверсеме, в нескольких милях от Амстердама. В день нападения немцев вся семья решила бежать в Англию и кинулась в портовый город Эймейден. Муж госпожи Самсон был фотографом, снимал детей в школах. Когда он вернулся домой и узнал, что его дочь и двое маленьких внуков пытаются скрыться, то решил поехать в Эймейден, чтобы найти их и попрощаться. Он не знал, что семья его дочери не смогла сесть на переполненные корабли и вернулась в Хилверсем. Разыскивая родных, господин Самсон поднялся на корабль и не смог сойти. Так он случайно отплыл в Англию.
Теперь госпожа Самсон осталась одна в квартире. Бедная женщина не представляла, увидит ли когда-нибудь мужа. Жить в одиночестве она боялась, поэтому решила сдать комнаты.
Я сразу же сказала, что мы готовы переехать немедленно. Женщина с облегчением вздохнула. В такие времена всегда лучше жить рядом с молодыми, сильными людьми.
Мы с Хенком переехали к госпоже Самсон. Сначала сказали ей, что женаты, но потом, когда лучше узнали друг друга, признались, что пока это не так, но мы собираемся пожениться в ближайшем будущем. Необычные времена требовали необычных действий.
Днем мы слышали гул немецких самолетов. Сообщали, что Люксембург и Бельгия сдались так же быстро, как Нидерланды. Германские войска вторглись во Францию, и там шли бои. Невилла Чемберлена на посту премьер-министра Англии сменил Уинстон Черчилль.
Король Бельгии Леопольд III сдался нацистам и теперь находился у них в плену. Мы постепенно начали понимать, что бегство королевы Вильгельмины было правильным поступком. Она не попала в руки нацистов и находится в безопасности в Англии. Она обратилась к народу Голландии по Би-би-си с заявлением о том, что возглавит правительство свободной Голландии в Англии и будет добиваться, чтобы немцев изгнали с территории нашей страны. Королева призвала нас сохранять спокойствие и самообладание и сопротивляться нацистам всеми возможными способами. Когда-нибудь мы снова станем свободным народом.
В конце мая Гитлер назначил рейхскомиссаром Нидерландов австрийского нациста Артура Зейсс-Инкварта, который после аншлюса занимал пост канцлера Австрии. Зейсс-Инкварт выглядел самым обычным человеком. Он ходил в поблескивающих очках и слегка прихрамывал. Мы возненавидели его с самого первого дня.
В июне на вершине Эйфелевой башни в Париже развевалось знамя со свастикой. Германская армия захватывала одну европейскую страну за другой. Казалось, остановить ее невозможно. Гитлеровские солдаты покорили большую часть Европы – от арктических территорий Норвегии до винодельческих районов Франции, от восточных границ Польши и Чехословакии до низин Голландии на берегах Северного моря. Как могла Англия одна противостоять такой мощи? Но господин Черчилль, выступая по радио, заявлял, что это возможно и обязательно будет сделано. Британия оставалась единственной нашей надеждой.
Летом жизнь в Амстердаме шла почти как обычно. Отцвели каштаны, день стал длинным – солнце светило до десяти вечера. Мы с Хенком постепенно обустраивались со своим скудным скарбом в двух наших маленьких комнатках. К счастью, мебель там была, и мы могли пользоваться кухней и ванной.
Я впервые в жизни стала готовить по-настоящему и сразу поняла, что у меня талант к кулинарии. Хенк был счастлив – я тоже. Порой я думала, что в нашей жизни ничего не изменилось – пока не видела в открытом кафе немецкого солдата или полицейского. Их называли «зеленой полицией», потому что они носили зеленую форму. Тогда я понимала, что мы порабощены. Я пыталась сохранять невозмутимость и спокойно заниматься своими делами.
Немцы пытались покорить нас учтивостью, но их показное дружелюбие меня не обманывало. Я старалась максимально избегать любых контактов. Это оказалось нетрудно, потому что солдат в городе было немного.
По радио теперь постоянно передавали немецкую музыку. В кинотеатрах шли только немецкие фильмы – и мы, естественно, перестали ходить в кино. Был издан указ, запрещающий слушать Би-би-си, но мы не обращали на это внимания – английская станция оставалась для нас единственным источником надежды.
В конце июля из Лондона по ночам начала вещать радио-станция голландского правительства в изгнании «Радио Оранж». Это было как глоток свежего воздуха. Поскольку газеты перестали печатать что-либо, кроме германских новостей, мы ничего не знали о происходящем во внешнем мире и жаждали хоть какой-то информации. Каждую ночь мы приникали к радиоприемникам, хотя это было совершенно незаконно.
Несмотря на все тревоги, голландские евреи не подвергались преследованиям. К ним относились так же, как и ко всем остальным. В августе еврейским беженцам из Германии приказали зарегистрироваться в службе по делам иностранцев, что они и сделали. Ничего страшного не случилось, их просто зарегистрировали – и все.
В кинотеатрах запустили антисемитский новостной выпуск «Вечный жид», но, поскольку ходить в кино мы перестали, ни я, ни Хенк его не видели. Книги, которые не нравились немцам, были убраны из библиотек и книжных магазинов. Говорили, что изменения внесены даже в школьные учебники, чтобы они соответствовали новой идеологии.
В августе над нами пролетали сотни бомбардировщиков, направлявшихся в Англию. Они шли волнами, одна за другой. Каждый день мы слышали бесконечный гул самолетов. Иногда на восток пролетали английские самолеты. Наши сердца замирали. Би-би-си сообщала о бомбежках Берлина, и это вселяло в наши сердца надежду. Но потом германское радио рассказывало о пылающем Лондоне и о том, что британцы почти готовы капитулировать. Мы снова падали духом, и ярость в наших душах росла.
В сентябре гитлеровская авиация начала массированные ночные налеты. Гул этих стервятников смерти стал постоянным спутником ночного сна. Как и было приказано, на ночь я закрывала окна плотными листами черной бумаги. По ночам в доме царила зловещая атмосфера – кромешный мрак, без единого лучика лунного света.
Тысячи голландцев работали на немецких заводах за границей. Другие голландцы устроились в германские компании в Бельгии и Франции. Повсюду висели яркие плакаты, призывавшие голландских рабочих переезжать на работу в Германию. На этих плакатах красовались розовощекие арийские лица.
Подлые голландские нацисты объединились с нацистами германскими. Они пользовались особыми привилегиями. Мы относились к этим гадюкам с презрением. Но мы не всегда знали, кто «хороший», а кто «плохой», поэтому никогда не разговаривали о войне с теми, в ком не были совершенно уверены. Когда я приходила за покупками, полки магазинов были почти пусты. Немцы начали забирать наши продукты и отправлять в «фатерланд».
Положение евреев ухудшилось осенью 1940 года. Всем, кто работал на государственной службе, – учителям, профессорам, даже почтальонам, – было приказано уволиться. Притеснения продолжались. Голландцам, в том числе и Хенку, пришлось подписать «Арийскую декларацию» – официальное заявление о том, что они не являются евреями. Нас потрясли эти указы. Множество достойных и образованных людей были унижены и оскорблены таким постыдным отношением. Но все это не повлияло на жизнь «Травис и компании» – только нашего кота мы переименовали в Моффи. Так в Голландии называли немцев: маффин – это печенье в форме жирной маленькой свинки. Поскольку кот постоянно воровал еду в соседних домах – точно так же, как немцы воровали голландские продукты, – мы решили дать ему это имя.
Господин Франк и господин ван Даан изо всех сил старались скрыть свой страх и неуверенность. Все пытались вести себя по возможности естественно. Но по указу от 22 октября 1940 года нашей компании, как и другим, принадлежавшим евреям или имевшим одного или нескольких еврейских партнеров, пришлось зарегистрироваться.
Петля на шее евреев медленно затягивалась. Сначала им всем было приказано зарегистрироваться в службе переписи населения – за это взималась плата в один гульден. Люди шутили, что немцам просто нужны гульдены. Потом пошел слух, что в Гааге, расположенной всего в тридцати пяти милях от Амстердама, на парковых скамейках и в общественных местах стали появляться таблички «Не для евреев» и «Евреям вход запрещен». Как такое было возможно в Нидерландах?!
Ответ стал очевиден, когда в Амстердаме произошла вспышка дикого антисемитизма. Между евреями и нацистами начались столкновения в старом Еврейском квартале возле рынка. Немцы использовали этот повод, чтобы поднять мосты вокруг квартала, выставить армейские посты и обнести квартал оградой со специальными знаками. 12 февраля 1941 года в голландской нацистской газете написали, что евреи со специально заточенными зубами перегрызают шеи германским солдатам и пьют их кровь, как вампиры. Эта дикая ложь потрясла всех.
Затем столкновения между евреями и нацистами произошли в нашем квартале в Южном Амстердаме. Одна такая стычка случилась в нашем любимом кафе-мороженом «Косо» на Рейнстраат. Говорили, что евреи плеснули германским солдатам в лицо нашатырным спиртом.
В феврале в старом Еврейском квартале было взято четыреста заложников. Ходили слухи о том, что этим людям пришлось пережить страшные унижения – на коленях ползать у ног нацистских солдат. А затем прошла облава, многих евреев схватили и куда-то увезли на грузовиках. Оказалось, их отправили в концентрационный лагерь Маутхаузен. Вскоре стало известно, что эти люди «случайно» погибли. Семьям выслали извещение о смерти их близких от инфаркта или туберкулеза. Естественно, историям о случайной смерти никто не верил.
Голландцы закипают медленно, но, когда чаша терпения переполняется, их гнев не знает границ. В знак протеста против жестокого и унизительного обращения с евреями 25 февраля мы объявили всеобщую забастовку. Мы хотели, чтобы евреи знали, что нам небезразлично то, что с ними происходит. 25 февраля в стране воцарился хаос! Перестал ходить транспорт, закрылись все предприятия. Возглавили забастовку наши докеры, их примеру последовали другие рабочие. До немецкой оккупации в Голландии существовало множество партий и политических групп. Теперь же мы объединились – все выступали против немцев. Февральская забастовка длилась три потрясающих дня. Это событие заметно подняло настроение голландских евреев. Все почувствовали солидарность. Выступить против захватчиков – это опасно, но так прекрасно! Впрочем, за эти три дня забастовки нацисты отомстили голландцам жестокими преследованиями.
Мы с Хенком уже давно не были в доме Франков и очень тревожились за наших еврейских друзей. Меня грызло чувство раскаяния и сожаления. Как мы могли быть такими наивными? Как можно было верить в то, что такой аморальный тип, как Адольф Гитлер, будет уважать наш нейтралитет? Если бы наши еврейские друзья успели уехать в Америку или Канаду! Особенно мы тревожились за Франков и их детей. Два брата госпожи Франк вовремя уехали в Америку.
Когда мы снова увиделись с Франками, то заметили, что со времени оккупации здоровье Марго заметно ухудшилось из-за постоянной тревоги. Она вообще часто болела, но старалась, чтобы болезни не мешали ее учебе. Сейчас она изо всех сил пыталась скрыть свой страх.
А вот Анна стала настоящим экстравертом и откровенно говорила обо всем. Она прекрасно понимала, что происходит в мире, и возмущалась несправедливостью, которая творилась в отношении евреев. Анна давно увлекалась знаменитыми кинозвездами, любила проводить время с подружками. Теперь же у нее появилось новое увлечение – мальчики. Она то и дело рассказывала о своих разговорах с симпатичными представителями противоположного пола.
Казалось, ужасные мировые события ускорили развитие этой маленькой девочки. Анна вдруг решила узнать и испытать абсолютно все. Внешне она оставалась хрупкой, живой, веселой двенадцатилетней девочкой, но душой значительно повзрослела.
Неожиданно я получила приказ явиться в германское консульство. Меня охватили дурные предчувствия.
Я тщательно выбрала костюм, и мы с Хенком отправились в германское консульство, которое располагалось на Музеумплейн, совсем рядом с Рейксмузеем. Здание выглядело весьма зловеще.
Мы подошли к дверям. Нам приказали остановиться и спросили, какое у нас дело. Я показала полученную повестку. После тщательного изучения документа нас впустили внутрь и провели по коридору к какому-то кабинету. Я крепко держалась за Хенка.
Дверь была закрыта. Прежде чем впустить нас, мою повестку снова тщательно изучили. Из-за двери доносились громкие сердитые голоса. Внутренний голос подсказывал мне, что произойдет что-то ужасное. Я еще крепче вцепилась в Хенка.
Мне велели войти. Хенк пошел за мной, но охранник остановил его и велел ждать.
Я вошла одна.
Когда я предъявила повестку, хозяин кабинета не стал вести светских разговоров и сразу потребовал мой паспорт. При этом он смотрел на меня, как на грязную лужу. Он забрал паспорт и вышел.
Время тянулось бесконечно. Я ожидала худшего: меня вышлют в Вену, я никогда не увижу моего дорогого Хенка, меня заставят вступить в нацистскую партию, что-то ужасное случилось с моими родственниками в Вене.
Какой-то чиновник вышел из соседнего кабинета, осмотрел меня с головы до ног, ничего не сказал и ушел. Снова потянулось ожидание. В кабинет зашел еще один чиновник, и все повторилось. Я уже стала думать, что они рассматривают меня, чтобы решить, что со мной делать. Большинство немецких девушек моего возраста работали в Голландии горничными. Я на горничную не походила, и это их озадачивало.
В конце концов, вернулся первый чиновник. В руках он держал мой паспорт. Он спросил, правда ли, что я отказалась вступить в нацистский девичий клуб. Я вспомнила визит той девушки несколько месяцев назад и кивнула.
Чиновник с ледяным выражением лица протянул мне мой паспорт.
– Ваш паспорт недействителен, – холодно сказал он. – В течение трех месяцев вы должны вернуться в Вену.
Я открыла паспорт. На странице со сроком действия стоял большой черный крест.
Не зная, что делать, я отправилась в отдел полиции по делам иностранцев, где регистрировалась каждый год. Здесь ко мне всегда хорошо относились. Я рассказала полицейскому обо всем, что произошло в германском консульстве, показала свой паспорт и спросила, как мне теперь быть.
Он сочувственно изучил документ и печально покачал головой.
– Мы живем в оккупированной стране и не можем вам ничем помочь. Мы бессильны.
Он еще немного подумал и почесал в затылке.
– Единственное, что я могу вам предложить, – вернуться в германское консульство и устроить сцену. Начните рыдать, скажите, что вы не имели в виду ничего плохого, когда отказывались вступать в их клуб.
Я окаменела.
– Никогда!
– Тогда у вас есть только один выход: выходите замуж за голландца.
Я сказала, что собиралась это сделать, но тут он снова покачал головой.
– Для этого вам понадобится свидетельство о рождении из Вены.
Я сказала, что у меня есть родственники в Вене. Может быть, они смогут помочь? Полицейский продолжал качать головой. Он указал на дату возле большого креста.
– Ничего не получится. У вас всего три месяца. Даже в обычное время на пересылку официальных документов уходило больше года. А сейчас у нас необычное время.
Добрый голландец искренне мне сочувствовал.
Я бросилась домой и сразу же села за письмо своему дяде Антону в Вену.
«Пожалуйста, вышлите мне свидетельство о рождении!» – написала я.
Потянулись дни ожидания.
Пока я ждала ответа от дяди, немцы продолжали продвигаться. По радио рассказывали об успехах армий генерала Роммеля в Северной Африке, о том, что Гитлер вот-вот захватит Грецию и Югославию. Хотя правительство Румынии поддерживало нацистов, страна тоже была оккупирована. Мы жадно ловили любые хорошие известия на Би-би-си и «Радио Оранж» – сообщения о военных поражениях немцев, об успешных актах движения Сопротивления, которое постепенно формировалось в Голландии и других странах.
Греки сдались в апреле 1941 года. В газетах появились фотографии флага со свастикой, развевающегося на Акрополе, как когда-то в Париже.
В это же время началась новая антисемитская кампания. Евреям запретили останавливаться в гостиницах, посещать кафе, кинотеатры, рестораны, библиотеки, даже городские парки. Кроме того, они должны были сдать в полицию свои радиоприемники, починив их при необходимости за свой счет. Остаться без связи с внешним миром было немыслимо: радио стало источником всех новостей и надежды.
В конце концов, пришло письмо от дяди Антона. Он сообщал, что для получения свидетельства о рождении ему нужен мой паспорт. «Вышли его немедленно», – писал он.
Я должна была догадаться, что у меня ничего не выйдет. Если я отправлю паспорт в Вену, сразу станет ясно, что он недействителен. Я не могла допустить, чтобы дядя Антон узнал об этом. Сам факт его родства с тем, кто отказался вступить в нацистский клуб, мог подвергнуть опасности его и членов его семьи.
Естественно, господин Франк знал обо всем, что со мной происходит. Хотя у него самого была масса проблем, он относился ко мне с сочувствием, а я всегда доверяла ему. Я рассказала ему о письме дяди Антона. Господин Франк внимательно меня выслушал, все обдумал, изучил мой недействительный паспорт и печально покачал головой.
Но потом он поднял брови:
– У меня есть идея! Почему бы вам не сделать фотокопию первой страницы паспорта? Той, где ваша фотография и официальный германский штамп со свастикой. Отправьте копию дяде и попросите сходить в ратушу. Они поймут, что у вас есть паспорт. Объясните, что выслать паспорт невозможно, поскольку вы не можете обойтись без него в Голландии.
Мы обменялись взглядами заговорщиков.
– Может быть, это поможет…
Я поступила так, как предложил господин Франк. Время тянулось невыносимо медленно. Мы с Хенком чувствовали себя белками в клетке и изо всех сил старались скрывать друг от друга свои чувства. Мысль о том, что придется покинуть Голландию, была для меня невыносима. Это хуже смерти.
Пока я ждала известий от дяди Антона, приняли новые законы против евреев. Теперь еврейские врачи и дантисты не могли лечить неевреев. Я не обращала на это внимания и продолжала лечиться у доктора Дусселя. Евреям запретили посещать общественные бассейны. Я гадала, как же Анна и Марго Франк и их друзья освежаются этим жарким летом.
Евреям было приказано покупать специальную газету, в которой печатались новые указы. Возможно, немцы считали, что так мы, христиане, не узнаем, что с ними творится. Но слухи о каждом новом указе распространялись, как лесной пожар. Кроме того, появились подпольные антигерманские листовки и газеты. Они были совершенно незаконны, но становились глотком свежего воздуха и противоядием от нацистской лжи и жестокости, которая нас окружала.
Я получила письмо от дяди Антона. Он писал: «Я пошел в ратушу с копией твоего паспорта. Повсюду молодые нацисты. Они посылали меня из одного кабинета в другой. В конце концов, я ушел с пустыми руками. Но не отчаивайся. Я попробую еще раз и если ничего не добьюсь, то обращусь лично к мэру Вены!»
Это письмо меня напугало. Если дядя Антон пойдет официальным путем, то выяснится, что когда-то я отказалась вступить в нацистский клуб и мой паспорт аннулировали. Дядя Антон окажется в опасности. Это было ужасно. Что еще хуже – время истекало.
Наконец в июне, когда я думала, что все уже пропало, пришло третье письмо от дяди Антона. Затаив дыхание, я открыла конверт: «Я снова ходил в ратушу. На этот раз меня приняла пожилая дама. Я объяснил, что моя племянница в Амстердаме хочет выйти замуж за голландского парня и ей нужно свидетельство о рождении из Вены. Она улыбнулась и сказала: «У меня так много теплых воспоминаний об Амстердаме. Я провела там немало отпусков. Подождите». Она вышла и вернулась с твоим свидетельством о рождении. Вот оно, дорогая племянница. Господь благослови тебя и твоего голландского жениха. Дядя Антон».
Из конверта выпало аккуратно сложенное свидетельство о рождении.
В конторе все были рады, что у нас все устроилось. Я искренне поблагодарила господина Франка – ведь это была его идея. Он только отмахнулся.
– Я очень счастлив за вас с Хенком, – сказал он.
Элли крепко обняла меня, все столпились возле моего стола, чтобы увидеть документ. У меня кружилась голова от радости.
Мы с Хенком сразу же бросились в ратушу, чтобы назначить дату свадьбы. Но наш пыл быстро охладили. Нам сказали, что для женитьбы на иностранке нужно представить ее паспорт. Мой паспорт был недействителен. Если чиновник окажется сторонником нацистов, меня депортируют. И все же свадьбу назначили на 16 июля 1941 года. Мы решили положиться на судьбу.
16 июля ярко светило солнце – в Амстердаме выдался прекрасный день. Я надела свой лучший костюм и шляпу, Хенк – элегантный серый костюм. Раз уж это был день нашей свадьбы, мы решили прокатиться на трамвае до дома № 25 на площади Дам. Все это время я думала только о черном кресте в своем недействительном паспорте. Я никак не могла расслабиться, Хенк тоже. Когда трамвай подъехал к просторной площади со стаями голубей, велосипедистами и прохожими, я точно знала одно. Что бы ни случилось, даже если меня передадут немцам для депортации или чего-то похуже, я не вернусь в Вену. Никогда. Это невозможно. Мне придется скрываться. Я стану onderduiker, скрывающейся. Уйду в подполье. Я никогда, никогда не вернусь в Австрию!
В тот день господин Франк закрыл нашу контору. Пока мы с Хенком ждали, когда нас вызовут, в ратушу приехали наши друзья – мои приемные родители, наша домохозяйка госпожа Самсон, Элли Фоссен, супруги ван Даан. Госпожа ван Даан надела очень красивую шляпу с полями и костюм с короткой юбкой. Поскольку Марго и мать госпожи Франк были больны, ей пришлось остаться дома, чтобы ухаживать за ними. Господин Франк приехал с Анной. В темном костюме и шляпе он выглядел элегантно. Анна казалась очень взрослой в красивом летнем пальто и шляпке с лентой. Она отрастила волосы, и они блестели на солнце. Все мы очень нервничали. Если возможно, чтобы целая группа людей одновременно сдерживала дыхание, то это происходило с нами. Все знали, что ситуация очень опасна.
Анна с тревогой переводила взгляд с Хенка на меня. Она стояла рядом с отцом и держала его за руку. По-видимому, мы были первой влюбленной парой, которую девочка увидела вживую. Я замечала, как она смотрит на Хенка, и понимала, что она любуется этим высоким, красивым мужчиной. Может быть, я тоже казалась ей красивой? В глазах двенадцатилетней девочки свадьба была потрясающим романтическим событием.
Бракосочетания шли одно за другим. Называли чьи-то имена, приезжали другие люди. Наконец, вызвали нас. Мы с Хенком подошли к столу. Друзья стояли за нашими спинами, как стена. Клерк протянул руку за свидетельством о рождении.
Хенк отдал ему документ. Клерк сделал пометку и сказал:
– Пожалуйста, паспорт невесты.
У меня замерло сердце. Это был ужасный момент. Все это понимали – я, Хенк, наши друзья. Наступила мертвая тишина.
Я держала паспорт так крепко, что он прилип к ладони. Я с трудом разжала руку и протянула его чиновнику. Все взгляды были устремлены на этого человека. Мы пытались угадать его политические убеждения. Он открыл паспорт, пролистал его… Но все это время он смотрел на Хенка, а не на меня и не на мой паспорт. Так и не взглянув на документ, он сказал:
– Все в порядке.
У меня отлегло от сердца. Не могу даже передать свои ощущения. Мои колени подогнулись, в горле пересохло.
Когда мы переходили в соседнюю комнату для официальной церемонии, у меня кружилась голова. Денег у нас почти не было, поэтому мы выбрали самый дешевый вариант – вместе с двумя другими парами. Чиновник сказал трем невестам: «Вы должны повиноваться мужьям своим» – официальный обет будущей жены. Но я ничего не слышала. В голове крутилась только одна мысль: «Я – голландка! Я – голландка! Я – голландка!» И это было прекрасно.
Тут меня потянули за рукав. Все смотрели на меня и чего-то ждали. Прошла секунда. Я взглянула в голубые глаза Хенка.
– Да! – воскликнула я. – Да! Да!
Все вздохнули с облегчением.
Наша небольшая компания вышла на улицу. Летнее солнышко освещало площадь. Все были счастливы. Анна прыгала от радости. На глазах у всех друзей были слезы. Все обнимались, целовались, пожимали друг другу руки. Наш восторг передался даже прохожим. Мы нашли уличного фотографа и попросили его снять нас для памятного альбома.
Меня охватила такая эйфория, что я нарушила голландскую традицию, согласно которой свидетельство о браке получает жених. Я схватила документ и прижала к груди. Моя мечта стать гражданкой Голландии сбылась благодаря Хенку. Я была счастлива. Хенк был моим героем, я любила его всем сердцем.
Мое золотое кольцо заворожило Анну. Она мечтательно смотрела на него. Уверена, что в тот момент она представляла свою свадьбу с таким же высоким и красивым мужчиной, как Хенк. Времена были трудные, и у нас было только одно кольцо, хотя по обычаю жениху оно тоже полагалось. Но мы и на одно еле наскребли денег. Хенк настоял, чтобы мы купили мне кольцо, а когда денег станет побольше, то купим и для него.
Все смеялись над тем, как я забыла ответить чиновнику, что согласна выйти замуж за Хенка. Я призналась, что в тот момент думала только о том, что становлюсь голландкой.
– Еще одна победа над моффенами, правда? – шутили наши друзья.
Мы разошлись по домам. Мы с Хенком отправились к моим приемным родителям на семейный ужин. Господин Франк сообщил, что на следующее утро устроит для нас праздник в конторе.
– Это необязательно, – смутилась я.
Но он не принял моих возражений.
– Я тоже приду! – воскликнула Анна, лучезарно улыбаясь.
Наутро контора преобразилась. Один из наших коммивояжеров привез ливерную колбасу, ломтики говядины, салями, сыр. Все было разложено на тарелках. Никто из нас уже давно не видел столько мяса.
– Еды слишком много, – сказала я господину Франку.
– Пустяки, – отмахнулся он с улыбкой.
Ему приятно было устроить праздник в эти мрачные времена.
Анна пришла в ярком летнем платье и выглядела совершенно счастливой. Она помогала раскладывать еду по тарелкам, резать хлеб, намазывать его маслом. Настроение у всех было приподнятым. Поскольку никто из нас не мог по-настоящему бороться с захватчиками, моя маленькая победа вызывала всеобщую радость.
Анна и Элли передавали нам тарелку за тарелкой. Мы наелись до отвала и пили, сколько могли. Произносились тосты. Нам с Хенком вручили подарки, и это меня глубоко тронуло. В то время было трудно делать сюрпризы, но нашим друзьям это удалось. Анна подарила мне серебряную тарелку – от своей семьи и работников конторы, супруги ван Даан – хрустальные бокалы с изображением виноградных гроздьев. Госпожа Самсон преподнесла мне керамическую шкатулку с серебряной крышкой в виде маленькой рыбки. Были и другие подарки. Я заметила, что Анна с восторгом смотрит на нас с Хенком. Она была очарована нашей романтической историей. Мы стали для нее двумя кинозвездами, а не обычными поженившимися голландцами.
Глава 6
Все лето появлялись новые антисемитские законы – их издавали один за другим. 3 июня 1941 года было приказано пометить большой черной буквой «J» удостоверения личности всех, имевших двух или более предков еврейского происхождения. В Голландии и евреи, и христиане, должны были постоянно носить при себе удостоверение личности.
Люди шептались, что мы, голландцы, и особенно евреи, вели себя глупо, когда честно отвечали на вопросы переписи. Теперь, как бы мы ни исхитрялись, немцы знали всех голландских евреев и их адреса. Когда вышел указ об отметке в удостоверении личности, придумали и систему наказаний. Если еврей не регистрировался по закону, его ждало тюремное заключение сроком на пять лет с конфискацией имущества. Все живо помнили о судьбе отправленных в Маутхаузен: люди исчезли или погибли.
Некоторые антисемитские указы звучали просто смехотворно. Евреям было запрещено держать голубей! Другие были более серьезными: все банковские депозиты и вклады евреев неожиданно оказались заморожены – ими нельзя было пользоваться или переводить с них деньги. Евреи не могли распоряжаться своими сбережениями и ценностями. Петля понемногу затягивалась: сначала изоляция, теперь обнищание.
Прежде еврейских детей не трогали. Теперь же им было запрещено общаться со своими одноклассниками-неевреями. Они могли учиться только в специальных школах, где работали учителя-евреи. Анна и Марго Франк были страшно расстроены из-за того, что им пришлось сменить школу. Я представляла, как девочки страдают.
В Амстердаме появились еврейские школы. В сентябре 1941 года Анна и Марго начали учиться в одной из них. Проявлять ненависть по отношению к взрослым – это одно. Мы видели, что германские свиньи способны на все. Но наказывать беззащитных детей – совсем другое дело.
Мы с Хенком с болью смотрели на страдания наших еврейских друзей, но старались вести себя с ними как обычно. Дома, по ночам, огорчение и гнев брали свое. Я была обессилена. Хотя нам было нечего стыдиться, совесть все же мучила нас.
Настала осень, дни стали короче. В июне немцы напали на Россию и продвигались по этой бескрайней стране, словно ничто не могло их остановить. Часто шли дожди, небо почти все время было затянуто тучами и туманом. Стало труднее покупать все необходимое. В «Пектаконе» мы начали торговать эрзацем, то есть заменителями, поскольку настоящие специи и продукты становилось слишком трудно достать. Эрзац-продукты были плохой заменой.
Наши коммивояжеры колесили по Голландии и доставляли заказы на Принсенграхт. Некоторые заказы поступали от германских частей из гарнизонов, разбросанных по всей Голландии. Коммивояжеры приезжали в амстердамскую контору раз в неделю или две. Эти люди не только привозили заказы – они рассказывали о своих поездках, о том, как живется в разных уголках Голландии. Несмотря на оккупацию, жизнь продолжалась, но все голландские ресурсы – наш уголь, мясо и сыры – отправляли в Германию.
На субботних вечерах в доме Франков я несколько раз встречалась с беженцем из Германии господином Левиным. По новым законам он не мог работать аптекарем. Господин Франк предложил ему устроить лабораторию в пустой кладовой своего дома. Я никогда не бывала в этих комнатах, но господин Левин часто заходил к нам в контору и рассказывал о своих экспериментах. Иногда он приносил готовые кремы на продажу.
До сих пор указы, которые вытесняли евреев из разных профессий и ремесел, не затрагивали господина Франка, господина ван Даана, «Травис и компанию» и «Пектакон». Разумеется, мы не обсуждали, что господин Франк сделал со своими сбережениями и ценностями после принятия банковских законов. Он оставался самим собой, никогда не пропускал работу, не жаловался и не рассказывал о личной жизни.
Все нервничали из-за того, что может случиться в будущем. Новые указы сулили серьезные проблемы и господину Франку, и господину ван Даану, и нашим покупателям. Преследование евреев расширялось и усиливалось. Никто не знал, что нас ждет. Евреи чувствовали себя словно в зыбучих песках. Опасность грозила со всех сторон.
Господин Франк был умным человеком. Что бы он ни думал о своей судьбе, я знала, что он найдет выход. Однажды он сказал Хенку, что хочет обсудить с ним личное дело. Они закрылись в кабинете.
Наедине за закрытыми дверями господин Франк объяснил, что его положение в компании представляет угрозу для всех. Он все тщательно обдумал, взвесил и решил, что ему нужно оставить пост директора «Травис и компании». Уставные документы следует юридически переоформить. Его место займет верный друг, господин Коопхейс. Сам господин Франк станет советником, но фактически продолжит управлять компанией. Перемены коснутся только документов.
Другой доверенный человек, христианин, возглавит «Пектакон», чтобы усилить христианский характер компании. Не согласится ли Хенк стать директором компании по производству специй, а господин Кралер будет управляющим?
Хенк был рад, что его старинная голландская фамилия защитит компанию. Он с радостью пришел на помощь господину Франку, ведь он всегда им восхищался. Хенк мог проследить свои христианские корни на пять поколений. Если уж нацистам этого не хватит, сказал он, то им не хватит ничего.
Бумаги были оформлены и должным образом заверены. 18 декабря 1941 года господин Отто Франк исчез из документов «Травис и компании». Для сотрудников он стал советником. Мы напечатали новые бланки и визитки. Компания «Пектакон» стала называться «Колен и компания».
Жизнь на Принсенграхт шла своим чередом. Господин Франк каждый день приходил на работу, садился за стол в своем кабинете, принимал решения и отдавал приказы. Ничего не изменилось. Только когда мы печатали письма или выписывали чеки, на месте подписи оставался пробел. Затем господин Франк передавал все документы на подпись господину Коопхейсу или господину Кралеру, чтобы все выглядело пристойно.
В декабре 1941 года мы воспрянули духом. После событий в Перл-Харборе американцы объявили войну Японии, а ее союзники, Германия и Италия, выступили против Америки. Это казалось невероятным: Америка со всей ее мощью, с огромными авиационными заводами, стала союзником Англии! Теперь в борьбе с Гитлером нас поддерживала великая держава.
Еще больше радовали новости из России. Летом и осенью гитлеровские армии продвигались по стране довольно успешно, но «Радио Оранж» и Би-би-си сообщили, что в России наступила холодная зима и немцы завязли, не имея возможности идти дальше. Би-би-си предрекала гитлеровским армиям судьбу Наполеона. Немецкое радио все это опровергало, заявляя, что Ленинград и Москва падут со дня на день. Естественно, мы были уверены, что правду говорит Би-би-си.
В январе 1942 года евреям, жившим в маленьких городках близ Амстердама, было приказано немедленно явиться в город. Эти люди должны были представить полиции список имущества, которое они берут с собой в Амстердам. После этого следовало отключить газ, электричество и воду и сдать в полицию ключи от своих домов.
Этим людям не дали времени на поиски жилья, они не успели распорядиться своим имуществом и позаботиться о домах, где многие прожили всю свою жизнь. Они просто пришли в Амстердам с узлами и тележками. Порой вещи целой семьи умещались в одной детской коляске. В Амстердаме и без того было много жителей. Куда могли деться эти люди? Из Хилверсема пришла дочь госпожи Самсон с мужем и двумя детьми пяти и трех лет. Они неожиданно появились на пороге дома, растерянные, не понимающие, что происходит. Госпожа Самсон была напугана не меньше их. Что делать? Где всех разместить? В квартире было всего четыре комнаты, включая наши.
Мы с Хенком все обсудили и сказали госпоже Самсон, что с радостью съедем и освободим ее комнаты. Мы не стали говорить, что нам некуда идти. Госпожа Самсон категорически отказалась нас отпускать. Мы решили, что там, где живут трое, проживут и семеро.
Дочь, зять и дети разместились в одной спальне, госпожа Самсон во второй, а мы с Хенком – в третьей. Гостиная стала общей, как в большой семье. Нам было тесно, но другого выхода не нашлось. За обедом зять госпожи Самсон изо всех сил пытался шутить. Он был скрипачом, но работать больше не мог. Иногда ему удавалось нас рассмешить, но чаще всех мучил жуткий страх. Мы с Хенком старались как можно меньше времени проводить дома. Мы ничего не могли сделать, чтобы облегчить положение этих людей, – лишь притворялись, что не замечаем их страхов и тревог. По вечерам мы часто уходили к друзьям на Рейнстраат – они много лет сдавали Хенку комнату, пока мы не стали жить вместе. Мы садились вокруг приемника, слушая Би-би-си и «Радио Оранж». Как измученные жаждой дети, ловили каждый глоток новостей. Иногда по радио со страстными речами выступал Уинстон Черчилль. Он вселял в нас уверенность и давал силы переживать оккупацию день за днем, неделю за неделей, год за годом. Мы верили, что в конце концов «добро» победит. По радио сообщали о новых бомбардировщиках, которые делают в Америке – они появятся через два года. «Сейчас! – восклицали мы. – Они нужны нам сейчас! Мы не можем ждать два года!»
Ситуация в стране стремительно ухудшалась. Немцы ввели продуктовые купоны. Кроме этого, каждый из нас получил специальную карточку с подписями. Раз в месяц или два выдавали новые купоны, и чиновник расписывался в этой карточке. В газетах печатали списки того, что можно было купить на определенные купоны, – не только продукты, но и трубочный табак, сигареты и сигары. Чтобы купить все необходимое, нужно было обойти два-три магазина.
Нам пришлось перейти на эрзац-кофе и чай. Пахли они правильно, но вкуса не имели. Хенку постоянно не хватало сигарет. Он забыл те времена, когда сигареты всегда лежали в его карманах. Теперь, прежде чем закурить, нужно было дважды подумать. Все это нас страшно раздражало, потому что мы знали: немцы забирают наши голландские продукты и товары и отправляют их в Германию.
Евреи постепенно лишались работы, и немцы начали организовывать для них трудовые лагеря. Чаще всего работа находилась «на востоке» – никто точно не знал где. В Польше? В Чехословакии? Ходили слухи, что тех, кто отказался ехать в трудовой лагерь, отправляют в Маутхаузен и там жестоко наказывают. Те, кто подчинялся приказу, были вынуждены тяжело работать за мизерную зарплату, но им обещали «достойное» обращение.
Многие евреи совершали отчаянные поступки, лишь бы не оказаться в этих трудовых лагерях. Кто-то намазывал руки яичным желтком перед медицинским осмотром и мочился на них, надеясь, что анализ покажет почечное заболевание. Кто-то приносил на анализ мочу диабетиков. Некоторые глотали большие куски жевательной резинки – на рентгене они напоминали язву. Другие выпивали огромное количество кофе и до полусмерти парились в бане, чтобы выглядеть слишком слабыми и больными для трудового лагеря и избежать отправки.
Евреям было запрещено жениться на нееврейках и ездить на трамваях. Покупки они могли делать лишь в определенные часы и в определенных магазинах. Им не разрешалось отдыхать и дышать воздухом в своих садиках, в кафе и в общественных парках.
Наши субботние посиделки в доме Франков прекратились, как и ужины, на которые Франки прежде иногда приглашали нас с Хенком. Законы изолировали и отделили от нас еврейских друзей. В нашем районе, где жило много евреев, я постоянно видела опечаленные, встревоженные лица. Евреи беднели с каждым днем. Прокормить детей стало нелегко. Евреи шептались друг с другом, но прекращали все разговоры, когда кто-то приближался. Они стали очень подозрительными и избегали чужих взглядов. Мне было безумно жаль этих несчастных.
Весной 1942 года был принят еще один указ. На сей раз его опубликовали не только в еврейской, но и в голландской газете. С этой недели всем евреям предписывалось носить на груди желтую шестиконечную звезду размером с ладонь взрослого человека. Всем – мужчинам, женщинам и детям. Каждая звезда стоила купон на одежду плюс 4 цента. На желтой звезде было написано JOOD – «ЕВРЕЙ».
В день, когда этот указ начал действовать, многие голландские христиане, глубоко оскорбленные таким унижением их соотечественников-евреев, тоже нашили на одежду желтые звезды. Кто-то приколол к лацканам желтые цветы в знак солидарности. Женщины украшали желтыми цветами волосы. В витринах некоторых магазинов появились таблички с просьбой к христианам проявлять особое уважение к нашим еврейским соседям – например, приподнимать шляпы в знак приветствия, чтобы они не чувствовали себя одинокими. Многие голландцы сделали все, что было в их силах, чтобы продемонстрировать свою солидарность.
Этот указ окончательно вывел нас из себя. Гнев наш вскипел. Желтые звезды и желтые цветы в первые же дни появились повсюду, и наш Речной квартал стали называть Млечным Путем, а Еврейский квартал – Голливудом. Впрочем, прилив гордости и солидарности продлился недолго – немцы перешли к карательным мерам. Начались аресты. Угроза нависла над всеми: каждый, кто чем-то помогал евреям, мог оказаться в тюрьме и по-настоящему рисковал жизнью.
Господин Франк пришел на работу, как обычно. Никто ни слова не сказал о желтой звезде, аккуратно пришитой к его пальто. Мы сделали вид, что не замечаем ее. Для меня ее просто не существовало.
Хотя господин Франк держался спокойно, я видела, что он очень расстроен. Ему не разрешалось ездить в трамвае, и он каждый день шел в контору пешком несколько миль, а вечером проделывал тот же путь обратно. Я даже представить не могла, в каком тяжелом положении оказалась его семья. Мы никогда не говорили об этом.
Как-то утром, когда кофе был выпит и чашки помыты, господин Франк вызвал меня в свой кабинет и закрыл дверь. Он пристально посмотрел на меня своими мягкими карими глазами. Взгляд его проникал в самую душу.
– Мип, – сказал он, – я хочу доверить вам один секрет.
Я молча слушала.
– Мип, мы с Эдит, Марго и Анной решили скрыться, найти убежище.
Он дал мне время обдумать его слова.
– Мы будем прятаться с ван Дааном, его женой и сыном. Вы же знаете, что у нас есть пустые помещения, где мой друг, аптекарь Левин, проводил свои опыты?
Я знала об этих комнатах, но никогда в них не бывала.
– Там мы и будем скрываться.
Господин Франк помолчал.
– Вы продолжите работать, как обычно, но, поскольку мы все время будем находиться рядом, я должен знать, нет ли у вас возражений?
Конечно, возражений у меня не было.
Господин Франк сделал глубокий вдох и спросил:
– Мип, вы готовы позаботиться о нас, пока мы будем скрываться?
– Конечно!
Такие моменты случаются в жизни человека лишь раз, может быть, два… Их значение невозможно описать словами. Такой момент настал для меня сейчас.
– Мип, немцы сурово наказывают тех, кто помогает евреям. Вам грозит тюрьма или даже…
Я прервала его.
– Я сказала: «Конечно!» Именно это я имела в виду!
– Хорошо. Об этом знает только Коопхейс. Мы не говорили даже Марго и Анне. Я поговорю с остальными. Но посвящены будут немногие…
Я не стала задавать вопросов. Чем меньше я буду знать, тем меньше смогу сказать на допросе. Я понимала: когда придет время, господин Франк расскажет мне, кто эти немногие, и все остальное, что мне нужно знать. У меня не было любопытства. Я дала слово.
Глава 7
Весной 1942 года приближалась вторая годовщина германской оккупации. Мощь Гитлера не ослабевала. Все наши надежды были связаны с союзниками. Мы все еще помнили испанскую оккупацию XVI века: тогда угнетатели держали маленькую Голландию под своей пятой восемьдесят долгих лет.
Наша жизнь полностью изменилась. Дети играли в парашютистов – спрыгивали со стульев, держа в руках раскрытые зонтики. В деревнях появился неписаный закон: при появлении самолетов распахивались все двери, чтобы играющие на улице ребятишки могли укрыться в любом доме.
С наступлением темноты прекращалась вся жизнь. Окна закрывались светонепроницаемыми шторами. Во всех магазинах возникли очереди. Все старались купить побольше на случай, если товары закончатся. Стулья у всех стояли как можно ближе к радиоприемникам.
Больше всего тревожились евреи. Их постепенно лишали свободы, работы, мобильности. У них было слишком много свободного времени и тревог. Вынести это было невозможно. Так много размышлений, тревожных мыслей, страхов…
Из-за желтых звезд евреи, которых раньше трудно было отличить от голландцев, стали заметны. Когда дети, которые никогда не общались с евреями, вдруг встречались с ними, их удивляло, что у тех нет рогов или вампирских клыков. Они не могли поверить, что евреи выглядят так же, как и все остальные, хотя немцы представляют их истинными дьяволами. Голландцы никогда не делали различий между людьми, исходя из их национальности или расы. Теперь этот обычай был нарушен. Самое печальное, что все это отравляло умы наших детей.
По ночам нам не давал спать гул бомбардировщиков. Случались воздушные тревоги – оглушительно выли сирены, а потом приходилось ждать отбоя. В нашем квартале не было убежищ, поэтому мы с Хенком привыкли к воздушным тревогам и не обращали на них внимания. Мы просто натягивали одеяло на уши и прижимались друг к другу в теплой постели.
Зимой умерла мать госпожи Франк, госпожа Холландер. Ее смерть была тихой и мирной и принесла заботы только близким. В те дни люди сами занимались своими делами. Господин Франк старался никого не обременять своими трудностями, и мы с уважением относились к его замкнутости.
Как-то раз в мой кабинет зашел господин ван Даан.
– Мип, возьмите пальто и пойдемте со мной, – сказал он.
Я отложила работу и отправилась за ним, гадая, в чем дело.
Мы прошли по Принсенграхт, по мостику перешли на Розенграхт, свернули в узкий переулок и оказались возле мясной лавки. Я остановилась, полагая, что он хочет купить мяса, а я могу подождать его на улице, но он знаком велел мне следовать за ним.
Герман ван Даан вел себя странно. Я подумала, что он решил поделиться со мной какой-то информацией о специях для колбас, и вошла вместе с ним. Он начал беседовать с мясником – было видно, что мужчины давно знакомы. Господин ван Даан жевал сигарету, которую никогда не выпускал изо рта, и, казалось, не обращал на меня внимания. В конце концов, он купил небольшой кусок мяса, мясник завернул его в коричневую бумагу, и мы вышли.
Я не понимала, почему он решил зайти к мяснику возле конторы, хотя сам живет в другом месте – в нашем квартале в Южном Амстердаме было полно мясных лавок. Но я ничего не сказала, а он ничего не объяснил. Мы вернулись в контору.
В течение следующих месяцев господин ван Даан несколько раз приводил меня в ту же лавку, и я не могла понять, почему он не покупает мясо возле дома. Он каждый раз дружески беседовал с мясником, шутил и покупал одинаковый небольшой кусок мяса, а я тихо стояла рядом, пока он знаком не показывал мне, что пора возвращаться в контору. Я надеялась, что господин ван Даан когда-нибудь мне все объяснит.
В конце мая Би-би-си сообщила, что английская авиация совершила массированный налет на Германию. Для бомбардировки был выбрал Кельн, город, расположенный близ границы с Голландией на реке Рейн. Когда радио сообщило, что в налете принимала участие тысяча самолетов, у нас захватило дух.
Теперь, заслышав гул бомбардировщиков, я настораживалась. Я слышала залпы германской противовоздушной обороны. Сквозь затемнение видны были яркие вспышки на небе. Бомбардировщики направлялись к промышленным регионам Германии. Они бомбили заводы и другие важные предприятия. «Хоть одну бомбу для Гитлера!» – молила я.
Тем временем угнетение евреев продолжалось. Теперь им запрещалось выходить на улицу с восьми вечера до шести утра, посещать дома, сады и другие места, принадлежащие христианам. Общение между евреями и христианами приравнивалось к преступлению.
А потом появился очередной унизительный указ: в июне все евреи обязаны были передать немцам свои велосипеды, предварительно приведя их в идеальное состояние. Сдать следовало запасные колеса, насосы и наборы для ремонта. Для голландца нет ничего хуже потери велосипеда.
Как же евреям перемещаться по городу? Как им добираться до работы, если у них еще осталась работа? Как будут жить молодые люди, такие, как Марго и Анна Франк, без своих верных черных голландских велосипедов?
Из «Дневника Анны Франк» Copyright 1952 by Otto Frank. воспроизводится с разрешения издательства Doubleday & Company, Inc
Первое воскресенье июля выдалось очень теплым. Вечером мы с Хенком, госпожа Самсон и все остальные собрались за ужином, а потом занялись обычными вечерними делами. Я готовилась к новой рабочей неделе. В такое время любое необычное событие пугало и тревожило. Когда раздался звонок в дверь, все сразу застыли от тяжелого предчувствия. Мы смотрели друг на друга. Хенк подошел к двери, я последовала за ним. В дверях стоял Герман ван Даан. Он явно был очень возбужден. Мы с Хенком говорили с ним тихо, не желая беспокоить госпожу Самсон и ее родных.
– Идемте со мной, – тихо и встревоженно произнес ван Даан. – Марго Франк получила открытку. Ее отправляют на принудительные работы в Германию. Ей приказано явиться с чемоданом зимних вещей. Франки решили немедленно скрыться. Можете пойти со мной, чтобы забрать то, что понадобится им в убежище? Они не успели подготовиться.
– Мы идем, – решительно ответил Хенк.
Мы надели просторные плащи. Нести чемоданы и узлы было слишком опасно, но под плащами вещи можно было надежно скрыть. Конечно, странно идти в плащах в теплый летний вечер, но это лучше, чем нести что-то в руках.
Хенк сказал госпоже Самсон, что мы идем к господину ван Даану – он не хотел тревожить ее и других членов семьи. Когда господин Франк сообщил мне, что его семья собирается скрыться, я в тот же вечер все рассказала Хенку. Он безусловно меня поддержал. Он был готов помочь Франкам и считал их решение разумным. Но никто не ожидал, что скрываться придется так скоро. Мы шагали быстро, но не слишком спешили, чтобы не привлекать внимания. По дороге ван Даан сказал, что господин Франк сообщил девочкам об убежище для семьи, но не назвал места.
– Вы понимаете, что у них сейчас страшная суматоха, – сказал он. – Нужно столько сделать, а времени совсем не осталось. И их чертов домовладелец постоянно рыщет поблизости, что очень осложняет ситуацию.
Подходя к дому Франков, я почувствовала страшную тревогу за своих друзей. Отправка шестнадцатилетней девочки на принудительные работы – еще одно преступление немцев против евреев. Чем скорее наши друзья скроются, тем лучше. А скольких юных девушек вроде Марго угонят в Германию? Тех, у кого нет такого отца, как господин Франк, кому некуда деться… Сегодня вечером во многих домах царят отчаяние и страх. Мне было трудно сдержаться, чтобы не помчаться на Мерведеплейн сломя голову.
В доме Франков мы не разговаривали. Я чувствовала спешку и состояние, близкое к панике. Это было слишком ужасно. Госпожа Франк передала нам тюки с детской одеждой и обувью.
Я была в таком состоянии, что не стала их рассматривать. Я просто взяла все, что смогла, и постаралась получше замаскировать вещи под плащом и в карманах. То же сделал и Хенк. Мы должны будем доставить все это в убежище позже, когда наши друзья уже окажутся внутри.
Мы с Хенком вернулись домой, выложили вещи, которые прятали под плащами и затолкали под кровать. Потом поспешили на Мерведеплейн за следующей партией.
Из-за домохозяина Франков приходилось говорить тихо и маскироваться. Все старались вести себя как обычно, не спешить, не повышать голос. Мы собрали новый груз. Госпожа Франк быстро все рассортировала и передала нам, и мы унесли вещи домой. Госпожа Франк раскраснелась, волосы выбились из тугого пучка и падали ей на глаза. Анна принесла слишком много вещей, и мать велела ей отнести их назад. Глаза у Анны были словно два блюдца. Чувствовалось, что она испытывает и возбуждение, и ужасный страх.
Мы с Хенком забрали вещи и быстро ушли. В понедельник я проснулась от звука дождя. Как мы и договорились накануне, я поднялась пораньше и отправилась на Мерведеплейн. Стоило мне подъехать, как дверь квартиры Франков распахнулась и появилась Марго. Ее велосипед стоял рядом – она не сдала его, как было приказано. Господин и госпожа Франк остались дома. В дверях появилась Анна с широко распахнутыми глазами.
Я видела, что Марго надела на себя все, что только смогла. Господин и госпожа Франк смотрели на меня.
Мне было нелегко, но я постаралась их успокоить.
– Не волнуйтесь. Дождь слишком сильный. Даже «зеленая полиция» в такую погоду носа не высунет. Дождь нам поможет.
– Поезжайте, – велел нам господин Франк, осмотревшись по сторонам. – Мы с Эдит и Анной придем чуть позже. Поезжайте!
Мы с Марго, не оглядываясь, покатили по улице. Мы направлялись на север, стараясь ехать не слишком быстро, чтобы нас приняли за обычных девушек, направляющихся на работу в понедельник утром.
Мы не встретили ни одного «зеленого» полицейского – слишком сильный был дождь. От Мерведеплейн до Ваалстраат мы ехали по большим оживленным улицам, затем свернули налево на Ноордер Амстеллаан и дальше на Фердинанд Болстраат, Вейзелстраат, Рокин, площадь Дам, Раадхейсстраат – и на Принсенграхт. Никогда еще я так не радовалась нашей мощенной булыжником улочке и мутному каналу.
За всю дорогу мы не произнесли ни слова. Мы обе знали, что с того момента, как сели на велосипеды, стали преступницами. Христианка и еврейка без желтой звезды на незаконном велосипеде. Еврейке к тому же было приказано явиться на принудительные работы и отправиться в гитлеровскую Германию. На лице Марго я не видела страха. Она искусно скрывала свои чувства.
Неожиданно мы стали союзницами в борьбе со всей германской мощью.
На Принсенграхт не было ни души. Мы поставили велосипеды в кладовую и вышли. Я открыла дверь в контору и сразу же закрыла ее, чтобы укрыться от дождя. Мы промокли до нитки. Марго дрожала. Я взяла ее за руку, провела мимо кабинета господина Франка, вверх по лестнице к убежищу. Скоро должны были появиться другие наши работники. Я боялась, что кто-то придет раньше, но ничего не говорила.
Марго явно была в шоке. Я почувствовала это, как только мы оказались в конторе, и взяла ее за руку, чтобы приободрить. Мы ничего не говорили. Марго скрылась за дверью, а я заняла свое место в конторе.
Сердце у меня колотилось. Я села за стол, пытаясь заняться работой. Сильный летний дождь очень нам помог. Один человек уже надежно спрятан в убежище. Троих других тоже защитит дождь.
Пришел господин Коопхейс и увез куда-то велосипед Марго. Потом я услышала, что появился кладовщик. Он топал у входной двери, стряхивая воду.
Утром пришли господин Франк и его жена с Анной. Я ждала этого момента, сразу вышла им навстречу и быстро провела их мимо кабинета господина Кралера на лестницу, которая вела в убежище. Франки страшно промокли. Они принесли с собой кое-какие вещи с нашитыми желтыми звездами. Я открыла им дверь и захлопнула ее, когда они оказались внутри.
Днем никто не появлялся. Все было тихо. Я поднялась к заветной двери и вошла, плотно закрыв за собой дверь.
Я впервые оказалась в убежище. Увиденное меня поразило. Здесь царил полный беспорядок – мешки, тюки, коробки, груды вещей. Я даже не представляла, как все это сюда попало. Я ни разу не замечала, чтобы что-то приносили. Возможно, это делали по ночам или в воскресенье, когда мы не работали.
На этом этаже находились две довольно маленькие комнатки – прямоугольная и длинная и узкая, обе с окнами. Комнаты были обшиты деревянными панелями, выкрашенными в темно-зеленый цвет. Там, где виднелись обои, они пожелтели и кое-где отслоились. Окна были завешены плотными белыми шторами. Из большой комнаты можно было попасть в туалет и умывальную комнату.
Крутая деревянная лестница вела в другое большое помещение, где я увидела раковину, печь и шкафы. Окна тоже были завешены плотными шторами. Отсюда еще одна крутая лестница поднималась на чердак и в кладовые. Лестница на чердак проходила через крохотную комнатку, тоже забитую тюками и мешками. Госпожа Франк и Марго застыли в прострации. Они были такими бледными, что мне показалось, они вот-вот упадут в обморок. Анна с отцом пытались навести какой-то порядок – они что-то переставляли, расчищали, убирали.
– Что я могу сделать? – спросила я у миссис Франк.
Она покачала головой.
– Может, я принесу вам еды? – предложила я.
– Чуть-чуть, Мип, – пробормотала она. – Может быть, немного хлеба, масла и молока?
Положение было тяжелым. Я решила оставить Франков одних. Я не представляла, что они чувствуют, скрывшись от всего мира, покинув свой дом, свои вещи, маленькую кошку Анны Моортье. У них не осталось ни воспоминаний, ни друзей.
Они просто закрыли дверь и исчезли из Амстердама. По лицу госпожи Франк я все понимала. Я быстро вышла.
Часть вторая. В убежище
Глава 8
Через несколько дней господин Франк попросил нас с Хенком сходить в его квартиру на Мерведеплейн и разыграть небольшой спектакль для домовладельца, чтоб выяснить, что произошло после их исчезновения. Нужно было понять, разыскивают ли Франков. Как только спустились сумерки, мы с Хенком отправились туда.
Мы позвонили, и нам открыл домовладелец, еврей средних лет. Сделав вид, что нам ничего не известно, мы поинтересовались господином Франком.
– Он не пришел в контору, и мы хотели узнать, все ли с ним в порядке.
– Франки исчезли, – ответил домовладелец.
Он вышел и вернулся с листком бумаги.
– Я нашел это, – сказал он, протягивая Хенку листок. – Думаю, это адрес в Маастрихте.
Мы изучили надпись. Маастрихт, голландский город на границе с Бельгией и Германией, вполне мог оказаться на маршруте беглецов.
– У господина Франка есть родственники в Швейцарии, – продолжал домовладелец.
– Может быть, они направились в Швейцарию?
Он покачал головой.
– Люди говорят, что господин Франк бежал в Швейцарию с помощью старого армейского друга. Один из соседей видел, как семья уезжала на большой машине. Но никто не знает точно.
Он пожал плечами. Исчезновение Франков его не беспокоило. В те времена люди не удивлялись, когда их друзья просто исчезали.
– Я останусь здесь, – сказал он, оглядывая квартиру. – Если удастся… Я ведь тоже еврей, понимаете…
Стараясь не показывать любопытства, я оглядела квартиру и мебель. Хотела найти кошку Анны, Моортье. Я знала, что Анна сразу же спросит о ней, услышав, что мы побывали в их квартире. Но кошки не было видно.
Мы пожелали домовладельцу доброй ночи.
– Пожалуйста, сообщите нам, если получите известия о Франках, – попросил Хенк.
Домовладелец пообещал.
– Ну, как там Моортье? Вы видели мою кошку Моортье? Домовладелец заботится о ней или прогнал ее? – спросила Анна, стоило мне переступить порог убежища в то утро. – А моя одежда, мои вещи? Вы принесли мне что-нибудь, Мип? Ну же, Мип?
– Анна, Мип не могла ничего взять из квартиры, – мягко пояснил господин Франк. – Как ты не понимаешь?
Он стал объяснять, почему мы ничего не принесли, и я заметила, что он изменился, стал спокойнее и увереннее. Раньше Отто Франк очень нервничал, но теперь у него все было под контролем. От него исходило ощущение безопасности и покоя. Я видела, что он старается подавать пример остальным.
Но Анна не отставала.
– А мои друзья? Что с ними? Кто-нибудь ушел в убежище, как мы? Или они попали в облаву?
Облавы на евреев продолжались.
Франки собрались вокруг нас, и я рассказала, как мы с Хенком сходили на Мерведеплейн. Они хотели знать все.
– А что с Йопи? – спросила Анна, когда я замолчала. – Она живет напротив вас. С ней все в порядке?
Йопи была подругой и ровесницей Анны. Она жила на Хунзестраат. Анна знала, что я иногда общаюсь с ее матерью-француженкой. Та была портнихой и вышла замуж за антиквара-еврея. Жили они над нашей молочной. Иногда я встречала мадам, когда шла за молоком. Она всегда была одна.
– Да, Анна, я видела мать Йопи. У них все в порядке. Они живут в своем доме.
Анна помрачнела. Она хотела больше знать о своих друзьях – девочка очень по ним скучала.
Я объяснила, что не могу ничего о них рассказать. Было бы слишком опасно выяснять такие вещи.
– А что еще происходит? – спросил господин Франк. Его интересовал мир, к которому он больше не принадлежал.
Понимая его чувства, я рассказала все, что знала, – об облавах в разных частях города, о новом указе об отключении телефонов у евреев, о том, что цены на фальшивые документы взлетели до небес.
– А Хенк? Он придет к нам после обеда? – спросила Анна.
– Да, – кивнула я. – Когда все уйдут на обед. Он больше меня знает о том, что творится в городе.
Лица у всех прояснились.
– А во время обеда зайдет Элли.
Все были рады таким гостям. Франкам хотелось, чтобы мы приходили как можно чаще.
Господин Коопхейс приходил часто и всегда приносил с собой что-то особенное. В нем чувствовалась огромная человеческая теплота. Иногда заглядывал господин Кралер. Он советовался с господином Франком о бизнесе, приносил Анне журнал «Кино и театр». Девочка с удовольствием читала статьи о новых фильмах и рассматривала фотографии кинозвезд.
В убежище постепенно воцарялся порядок. Вещи разобрали, все лишнее сложили на чердаке. Возникла домашняя атмосфера – появился старый добрый кофейник, детские учебники, щетки для волос…
Анна приклеила на стену своей спальни фотографии любимых артистов – Рэя Милланда, Греты Гарбо, Нормы Ширер, Джинджер Роджерс, голландской актрисы Лили Баумеестер и немецкого актера Хайнца Руманна. Рядом красовался рекламный плакат нашей компании, «Пьета» Микеланджело, большая розовая роза, шимпанзе на чайной вечеринке, принцесса Елизавета Йоркская и множество картинок с изображением милых детишек. Анна любила детей так же, как и кинозвезд.
Анна и Марго жили в длинной узкой комнате на первом этаже убежища. Соседнюю большую комнату господин и госпожа Франк превратили в свою спальню. Наверху находились гостиная и кухня – там семья проводила день. Чем выше они находились, тем меньше шума слышно было внизу. Но днем, когда в конторе работали сотрудники, приходилось соблюдать тишину. Нельзя было сливать воду в туалете и ходить в ботинках по скрипучей деревянной лестнице. Все сидели тихо, ожидая, пока кто-то из нас сообщит, что работники разошлись.
Я заметила, что в первые дни госпожа Франк почти ничего не говорила, и Марго тоже. Она всегда была добра, готова всем помочь и давно научилась быть незаметной. Она никогда никому не мешала и ничего не требовала.
Каждый день я приносила какие-то вещи из тех, что мы с Хенком забрали с Мерведеплейн накануне бегства Франков, и быстро переправила практически все. Утром перед работой я осторожно поднималась наверх и забирала у госпожи Франк список покупок. Она давала мне деньги, или я сама брала их из кассы внизу, чтобы возместить их позднее. Прежде чем Анна успевала наброситься на меня с расспросами, я обещала ей, что вернусь с покупками, и тогда мы сядем и поговорим.
Облавы продолжались, и евреи лихорадочно искали укрытия. Некоторые совершали опрометчивые и порой очень глупые попытки перейти бельгийскую границу. Все искали «безопасный адрес». Безопасный адрес – убежище – стал самым ценным приобретением. Он был дороже бриллиантов, ценнее горшка золота. Люди использовали все возможности, чтобы получить его.
Дочь и зять госпожи Самсон тоже отчаянно искали убежище. Они безумно боялись за себя и своих маленьких детей. В июле облавы продолжались и захватывали все новые районы Амстердама. Когда дочери и зятю госпожи Самсон удалось найти место, чтобы спрятаться, они захотели рассказать нам об этом. Но мы с Хенком давно поняли, что чем меньше знаешь о других, тем лучше. Никто не представлял, что могут сделать с нами немцы, если схватят. Эти варвары были способны на самые мучительные пытки.
Заметив сборы, мы поняли, что их бегство неизбежно. Они пребывали в панике. Хенк посоветовал им держаться подальше от Центрального вокзала.
«Зеленая полиция» патрулирует Центральный вокзал днем и ночью. Появляться там глупо.
Мы ничего больше не сказали этим несчастным испуганным людям, родителям двоих детей. Они не понимали, что происходит вокруг них. Мы не задавали вопросов, и они ничего нам не говорили.
Однажды вечером, когда мы вернулись с работы, их уже не было. В тот день в городе проходило много облав. Госпожа Самсон сказала, что ее дочь с зятем и детьми решили немедленно скрыться в убежище. Сама она была очень расстроена и напугана. Мы с Хенком подумали, что ей тоже лучше было бы спрятаться, пока не кончатся облавы, и предложили ей перебраться к моим приемным родителям. Она согласилась, и я быстро обо всем договорилась.
Около полуночи в дверь позвонили. Мы с Хенком замерли в постели. Хенк велел мне не вставать, а сам пошел к двери. Но я не могла сдержаться и пошла за ним. На пороге стояла женщина. На руках у нее была дочь госпожи Самсон, мальчика она держала за руку. Женщина объяснила, что родителей детей схватила «зеленая полиция» на Центральном вокзале. Я забрала у нее ребенка. Женщина передала нам мальчика – его взял Хенк.
– Мне велели отвести детей по этому адресу.
С этими словами женщина повернулась и скрылась в темноте. Мы молчали, думая об одном: кто она? Еврейка или христианка? Почему «зеленая полиция» позволила ей забрать двух еврейских детей?
Мы привели детей на кухню, напоили их теплым молоком, дали им хлеба с маслом, а потом уложили спать.
На следующий день госпожа Самсон вернулась и увидела своих внуков. Она пыталась узнать у них, что случилось, но дети были слишком малы, чтобы что-то рассказать. Их родители просто исчезли, попав в лапы к немцам.
Мы поняли, что важно найти убежище для этих малышей и стали по крохам собирать информацию. Оказалось, что в Амстердаме есть студенческая организация, которая прячет детей. Буквально через неделю девочку увезли в Утрехт, а чуть позже мальчика забрали в Эмнес.
После этого мы стали искать «безопасный адрес» для госпожи Самсон. С каждым днем жизнь евреев в Амстердаме становилась все тяжелее. Чем быстрее она скроется, тем лучше. Облавы стали слишком частыми.
Мы с радостью узнали о том, что десять христианских церквей Голландии объединились и выразили публичный протест. Они отправили телеграмму германским властям, заявив о своем глубоком «возмущении» депортациями евреев. Эти шаги они назвали «незаконными» и обвинили немцев в попрании голландской морали и «божественных заповедей справедливости и милосердия».
Немцы не обратили на эти телеграммы никакого внимания.
Через неделю после того, как Франки скрылись в убежище, я, как обычно, поднялась за списком покупок и обнаружила там Германа ван Даана, его жену Петронеллу и шестнадцатилетнего сына. Мальчика звали Петером. Это был симпатичный, плотный юноша, с густыми темными волосами, мечтательными глазами и прекрасным характером.
Я знала, что ван Дааны собирались скрыться в убежище, но им пришлось поспешить, потому что по всему Амстердаму прокатилась волна облав. Если Франки были подавлены, то ван Дааны испытывали настоящее счастье оттого, что оказались в убежище. Они рассказывали о кошмарах, которые творились в Амстердаме. Всего за неделю, прошедшую с исчезновения Франков, с их еврейскими друзьями произошло много ужасного.
Петер взял с собой в убежище кота Муши. Это был худощавый черный кот, очень ласковый и дружелюбный. Анна полюбила его сразу, хотя все еще скучала по своей Моортье и часто печально говорила о ней. Муши тут же почувствовал себя в убежище как дома.
Пришлось устраивать перестановку. Господин и госпожа Франк остались в своей спальне, Марго и Анна – в той же длинной, узкой комнатке возле спальни и гардеробной. Ван Дааны спали в большой комнате над Франками, а Петер поселился в крохотной комнатушке, находившейся наполовину под лестницей, ведущей на чердак. На чердаке все еще лежали неразобранные вещи.
Днем кровать ван Даанов складывали и прислоняли к стене. Их комната служила кухней и гостиной, где все проводили дневное время. Комнаты нижнего этажа располагались прямо над кабинетами и кухней конторы, поэтому оставаться там днем было нельзя. Франки и ван Дааны довольно быстро навели порядок и создали уютный дом даже в таких страшных обстоятельствах.
Ван Дааны рассказывали ужасные истории о том, что на трамвае № 8 евреев отправляют на Центральный вокзал. Анна, Марго и госпожа Франк бледнели от этих рассказов. Многие из депортированных были их старыми друзьями и соседями. Целые трамваи, набитые евреями с чемоданами и желтыми звездами на груди, шли на вокзал, откуда на специальных поездах людей увозили в Вестерборк. Вестерборк был своего рода пересылкой. Он располагался довольно далеко от Амстердама, в Дренте, близ Германии. Я слышала, что некоторые евреи кидали в окна поездов открытки и письма в надежде, что кто-то их подберет и отправит. Отдельные письма дошли до родных и друзей. Люди узнали, что произошло с теми, кто ушел из дома и не вернулся.
После появления ван Даанов я стала делать покупки для обеих семей. Как-то раз господин ван Даан передал мне список необходимых мясных продуктов. Я прочла и покачала головой. На наши купоны просто невозможно было купить столько мяса.
Господин ван Даан улыбнулся, не выпуская изо рта сигареты.
– Помните того мясника на Розенграхт, куда мы с вами ходили?
– Да, конечно, – кивнула я.
– Идите к этому человеку и покажите ему мой список. Ничего не говорите. Он даст вам все, что нужно.
Я посмотрела на него скептически.
– Не волнуйтесь, – лукаво улыбнулся господин ван Даан. – Этот человек хорошо запомнил вас, когда вы приходили со мной. Он знает вас в лицо. Это мой добрый друг. Вот увидите, он даст вам все, что здесь перечислено, – если сможет, конечно.
Теперь я наконец поняла смысл этих странных походов в мясную лавку. Мяснику достаточно было взглянуть на меня – и он тут же собрал все, что просил господин ван Даан.
Чаще всего Хенк приходил на Принсенграхт около полудня, чтобы пообедать со мной в конторе. Его работа находилась на Марникстраат, в семи минутах ходьбы от нашей. Правда, раз или два в неделю Хенк работал в другом месте, в социальной службе Амстердама, и оттуда идти было слишком далеко.
Когда мы с Хенком заканчивали обед, он поднимался в убежище к нашим друзьям, иногда проводил у них десять минут, а порой задерживался на тридцать-сорок, пока работники не начинали возвращаться с обеда. Хенк всегда сидел на краю скамейки, прислонившись спиной к стене и вытянув длинные ноги. Кот Петера, Муши, сразу же прибегал и прыгал ему на колени. Муши обожал Хенка.
Следом за Муши подходил господин ван Даан и тут же просил у Хенка сигареты. Хенк отдавал все, что ему удавалось купить на черном рынке в старом квартале Йорданн, рядом с его конторой. Иногда он приносил египетские сигареты «Мерседес», а порой ему удавалось найти лишь голландские сигареты – впрочем, и они были не слишком плохи.
Ван Даан закуривал и спрашивал: «Что происходит в городе? Что слышно о войне?» Хенк рассказывал все новости, и у мужчин начинались споры. Я обычно разговаривала с женщинами. Только Анна была такой любопытной, что участвовала во всех разговорах, и мужских, и женских. Она была самой любознательной и искренней. Она буквально засыпала нас расспросами.
Когда семьи Франков и ван Даанов скрылись в убежище, они больше не могли получать продуктовые карточки. Нам нужно было как-то кормить семь человек! Чтобы решить эту проблему, Хенк использовал свои связи в подполье. Он попросил наших друзей отдать ему свои удостоверения личности. Они полностью ему доверяли и отдали документы.
Хенк представил удостоверения подпольной организации, чтобы подтвердить, что он укрывает семь человек, и их нужно кормить. Тогда ему дали украденные или фальшивые карточки, а он принес их мне. Я держала их в конторе и пользовалась ими, когда ходила за продуктами.
У Хенка был друг, хозяин книжного магазина и библиотеки на Рейнстраат в нашем Речном квартале. Магазин назывался «Комоз». Каждую неделю Хенк спрашивал у наших друзей, что они хотели бы почитать, а потом шел в магазин и пытался выполнить заказы. Обычно ему удавалось найти то, что нужно. За несколько пенни он мог набрать целую кучу книг.
По субботам я приносила новые книги в убежище – это было очень важно, ведь в выходные контора закрывалась, и к нашим друзьям никто не приходил. В тот же день я забирала прочитанные книги. Чтение было основным занятием в убежище, и каждую книгу читали несколько человек.
Мы с Хенком, Коопхейсом, Кралером и Элли старались выкраивать время для посещений. Наши друзья жаждали общения. Каждый день казался бесконечным для тех, кто заперт в четырех маленьких комнатках. Подышать свежим воздухом можно было только на чердаке. Там открывалось крохотное окошко, в которое виднелся клочок неба и шпиль Вестеркерк. На чердаке сушили постиранное белье. Там же хранились некоторые продукты и старые коробки из конторы. Петер устроил там небольшую мастерскую и занимался мелким ремонтом. Анна и Марго любили приходить на чердак почитать.
Наши посещения происходили по определенному распорядку. Сначала навещала наших друзей я – меня они видели первой после ночи, проведенной взаперти. Но это был чисто деловой визит – я забирала список покупок и выясняла, что потребуется в течение дня. В обед заходила Элли. Ее угощали тем, что готовила госпожа Франк или госпожа ван Даан. За ней приходил Хенк и обсуждал с мужчинами новости дня.
Ближе к вечеру я приносила покупки и могла остаться подольше. Поскольку Франк и ван Даан были специалистами в нашем деле, Коопхейсу и Кралеру тоже приходилось бывать наверху, чтобы решить деловые проблемы или задать какие-то вопросы. В конце дня, когда уходили последние работники, кто-то из нас поднимался сообщить об этом. Теперь беглецы могли свободно двигаться и нормально разговаривать, не беспокоясь о каждом звуке.
В первые недели мы не могли привыкнуть к крутой лестнице, ведущей в убежище. Я по несколько раз в день стукалась головой о низкий потолок над лестницей и появлялась у наших друзей с глазами, полными слез. Голова у меня раскалывалась от боли. Мы все стукались о потолок – все, кроме Хенка. Самый высокий из нас, он никогда не забывал наклониться. Это стало предметом для шуток. В конце концов кто-то прибил на лестнице старое полотенце.
Почти в самом начале Анна спросила меня:
– Мип, а почему бы вам с Хенком не переночевать у нас? Ну пожалуйста, это было бы нам так приятно.
– Что ж, наверное, мы как-нибудь придем, – пообещала я.
Все были бы рады, если бы мы провели ночь в убежище. Но прежде чем мы выполнили свое обещание, нас пригласили на особый вечер. Мы с Хенком будем почетными гостями на ужине в честь первой годовщины нашей семейной жизни. Дата была назначена на субботу, 18 июля. Разумеется, мы согласились.
В тот вечер все работники разошлись, а я задержалась. Вскоре пришел Хенк. Мы оба постарались принарядиться по такому поводу.
Когда вошли в убежище, сразу учуяли соблазнительные ароматы. Мы поднялись по лестнице и вошли в комнату ван Даанов. Стол был накрыт, и друзья радостно нас приветствовали.
Анна вручила мне особое меню, которое она напечатала специально для этого случая. По-видимому, ночью она спускалась в кабинет, чтобы воспользоваться пишущей машинкой. Я прочитала: «Обед, приготовленный в «Хет Ахтерхейс», в честь первой годовщины брака господина и госпожи Гис, эсквайр». Анна назвала комнаты, где скрывалась ее семья, «Хет Ахтерхейс», то есть «Убежище». В меню были перечислены приготовленные блюда с небольшими комментариями. Суп назывался «бульон а-ля Хунзестраат» в честь улицы, где жили мы с Хенком. Нам было очень приятно.
Основное блюдо назвали «ростбиф Шельте» в честь нашего мясника. Затем следовал «салат Ришелье, салат холландез, один картофель». К пункту «соус де беф» имелось примечание: «употреблять в небольших количествах из-за уменьшения количества масла в продуктовых карточках». Еще один пункт меню: «рис а-ля Траутмансдорф» – рис, приготовленный по рецепту из маленькой уютной германской деревушки. А далее «сахар, корица, малиновый сок» – к «кофе с сахаром, сливками и разными сюрпризами».
Я пообещала Анне, что сохраню ее меню на память. Госпожа ван Даан позвала всех к столу. Нас с Хенком усадили на почетные места. Друзья расселись вокруг – девять человек за одним столом на девяти разных стульях.
И вот начался ужин. Еда была великолепна. Я даже не знала, что госпожа ван Даан так хорошо готовит, и сказала об этом господину ван Даану.
– Разве вы не знали, что моя жена – великолепный кулинар? – гордо улыбнулся он.
– Теперь знаем, – ответил Хенк.
Когда летняя жара усилилась, нашим друзьям пришлось нелегко. Шторы постоянно были закрыты – и днем и ночью. Свежего воздуха не хватало. В рабочее время можно было слегка приоткрыть левое окно – словно там работают люди из конторы. И все же духота стояла невыносимая. Чем жарче становилось, тем труднее было дышать в убежище. К счастью, возле нашего дома рос большой, красивый каштан, который немного затенял окна – иначе было бы еще жарче.
Когда в убежище стал воцаряться порядок, его обитатели научились находить себе занятия в течение дня. Поднимаясь, я никогда не видела, чтобы кто-то сидел без дела. Наши друзья читали, что-то учили, играли в игры или чистили морковь. Так им удавалось занять весь день. Днем все сидели в одних носках, не надевая обуви, чтобы не производить шума.
Меня встречали приветливо и радостно. Хотя людям приходилось жить буквально друг у друга на голове, они были исключительно вежливы со мной и друг с другом в моем присутствии. Они научились отлично ладить и легко справлялись с любой задачей. Между ними царило полное согласие.
Марго и Петер были довольно замкнутыми и обычно держались на заднем плане. Темпераментная и разговорчивая госпожа ван Даан любила пофлиртовать. Госпожа Франк, женщина добрая и спокойная, замечала все, что происходило вокруг. Господин ван Даан был шутником, хотя порой впадал в пессимизм. Он постоянно курил. Господин Франк сохранял спокойствие и учил детей. Он был лидером, главным человеком в убежище. Когда нужно было принимать решение, все взоры обращались на господина Франка.
Лето шло. Наступил август, а у госпожи Самсон все еще не было «адреса». В громкоговорителях мы слышали истеричные вопли Гитлера о близости полной победы. Как бы ни были нам ненавистны эти слова, мы не могли на них возразить. Да, Гитлер держал Европу в кулаке и сжимал этот кулак. Если бы он одержал победу до того, как американцы и британцы подготовились к высадке на берегу Ла-Манша, все было бы кончено. Подобные мысли пронзали меня, словно ножом, и я старалась как можно быстрее от них избавиться. Они мешали продолжать жить и бороться.
Трудно было поверить, что облавы могут стать еще страшнее, но в августе это произошло. Евреи пытались выиграть время и предложить выкуп, чтобы избежать депортации. Возможно, свою роль сыграла позиция Еврейского совета, местной организации, которая служила посредником между евреями и нацистами. Многие евреи работали в алмазной индустрии или держали специальные магазины только для своих – еврейские булочные или продуктовые лавки. Покупать что-то в обычных магазинах им было запрещено, или для них выделялось особое время.
Некоторые пытались отсрочить депортацию, доставая фальшивые справки о физических и психических заболеваниях. Среди еврейского населения росла тревога и чувство неопределенности. Все больше людей отправляли на восток. Скрыться от облав становилось труднее, они ширились с каждым днем, и люди старались поменьше бывать в собственных домах. Когда облава заканчивалась, они отправлялись искать уцелевших родных и друзей.
Часто облава разлучала супругов. Одного хватали, другой оставался на свободе, потому что в тот момент находился в другом месте. Если еврейский дом стоял пустым около недели, появлялись представители грузовой компании «Пейс». Они подгоняли грузовик и быстро вывозили абсолютно все, оставляя голые стены. Буквально через пару дней в квартиры вселялись голландские нацисты.
7 августа 1942 года стало «черным четвергом». Облава длилась весь день и всю ночь. Евреев хватали на улицах, под дулом ружей выгоняли из домов, приказывали запереть двери, сдать ключи и идти вон. Их избивали. Говорили, что многие в тот день покончили с собой. Вечером, когда я вернулась с работы, друзья и соседи рассказывали мне об этих облавах.
Элли спросила господина Кралера, не может ли ее отец, которому приходилось кормить шестерых детей, поработать у нас на Принсенграхт. Нам нужен был еще один помощник, а отец Элли остался без работы. Кралер обсудил это с господином Франком, и тот дал согласие. Все ответственные решения по-прежнему принимал именно он. Так у нас появился отец Элли, Ханс Фоссен. Он подчинялся господину Кралеру и занимался тем, что смешивал специи и молол их на специальной мельнице. Затем он упаковывал и рассылал их.
Господин Фоссен был очень худым и высоким, почти как Хенк. Ему было лет сорок пять – пятьдесят. Как-то раз, вскоре после того как он начал работать в нашей конторе, я узнала, что господин Франк посвятил его в тайну убежища. Чтобы повысить безопасность, господин Кралер попросил господина Фоссена пристроить книжный шкаф к стене перед дверью в убежище. В этом шкафу мы хранили чистые бухгалтерские книги в черно-белых переплетах, и никто не мог догадаться, что там вообще есть дверь. Над шкафом висела карта Великого герцогства Люксембург, которую мы повесили давным-давно.
К задней стенке шкафа господин Фоссен приделал крючок, и наши друзья могли открывать дверь изнутри. Тогда весь шкаф отъезжал в сторону, и можно было войти в убежище.
Это была прекрасная идея и, по словам Элли, принадлежала она господину Франку. Когда на улицах Амстердама стали происходить настоящие ужасы, нам казалось, что, входя в убежище, мы попадаем в надежный и священный приют церкви. Там было безопасно, и наши друзья чувствовали себя спокойно.
Каждый раз, отодвигая шкаф, я заставляла себя улыбаться и скрывать горечь, царившую в моем сердце. Я делала глубокий вдох, задвигала шкаф и попадала в атмосферу покоя и радости – больше нигде в Амстердаме нельзя было этого почувствовать. Я не могла тревожить своих друзей и давать волю чувствам.
Глава 9
Евреи, которым пока что удавалось избежать ареста, боялись выходить на улицу. Каждый день был наполнен невыносимой тревогой. Каждый звук предвещал появление «зеленой полиции». Каждый звонок, стук в дверь, шаги, скрип тормозов мог означать облаву. Многие просто сидели дома и ждали.
Госпожа Самсон сообщила, что собирается скрыться – она нашла «безопасный адрес». Мы были очень рады. Она хотела рассказать нам больше, но мы напомнили, что чем меньше мы знаем, тем безопаснее для нее и для нас. Хенк спросил:
– Не могли бы вы подождать несколько дней, до сентября, пока мы с Мип не уедем в отпуск? Если нас схватят и будут допрашивать, мы сможем сказать, что не знаем, куда вы делись, потому что были в отъезде.
Госпожа Самсон согласилась. Мы знали, что много от нее требуем – ей было тяжело ждать даже один день. Но мы отвечали за семерых беглецов, скрывавшихся на Принсенграхт. Если бы с нами что-то случилось, у них возникли бы огромные проблемы.
Трудно было понять, что происходит. В официальной прессе писали абсолютную ложь. Шла грандиозная война. В августе немцы сообщили, что захвачены русские нефтяные промыслы в Моздоке, и это полная победа. Но Би-би-си уточнила эту информацию: да, немцы захватили нефтяные промыслы, но ничего не выиграли, потому что русские разрушили все до основания. Вскоре после этого немцы сообщили, что Шестая армия достигла Волги севернее Сталинграда и город захвачен. Тогда «Радио Оранж» рассказало о понесенных немцами потерях, о готовности русских сражаться до последней капли крови, и о том, что сражение под Сталинградом вовсе не закончено.
Депортацию евреев немцы называли «переселением» и утверждали, что на новых местах к ним относятся хорошо, обеспечивают питанием и кровом, и семьи селят вместе. Но Би-би-си сообщала, что польских евреев в немецких концентрационных лагерях душат ядовитыми газами, что голландские евреи трудятся, как рабы, очень далеко от Голландии – в Германии и Польше. Хотя мы не знали правды, но точно знали, что немцы заставляют голландских евреев, отправленных на принудительные работы, посылать родным открытки. В этих открытках жизнь в лагерях рисовалась в самом лучшем свете: отличная еда, душ и т. п. Все это явно писалось под диктовку нацистов.
Евреи как-то умудрялись передавать информацию об истинном положении дел. Например, в конце открытки, отправленной из одного лагеря, голландский еврей приписал: «Передайте привет Эллен де Гроот». Это звучало как распространенное имя, и немецкая цензура не обратила на него внимания. Но немцы не знали, что слово «ellende» на голландском языке означает «несчастье», а «groot» – «ужасное». В открытке говорилось об «ужасном несчастье».
Противоречивая информация вконец меня замучила. Я боялась думать о ходивших ужасных слухах – о жестоком обращении немцев с беспомощными узниками в далеких лагерях. Чтобы не сойти с ума, я старалась верить только хорошему. Нашим друзьям в убежище я передавала только добрые новости, а все дурное пропускала мимо ушей. Я твердо верила, что эта война закончится для нас победой.
Поскольку времена были тяжелые, мы с Хенком не могли нормально отдохнуть. Нам страшно нужен был отпуск, и мы устроили себе десятидневный отдых в маленьком городке вдали от Амстердама. Но я постоянно думала о наших друзьях, оставшихся в убежище.
Когда мы вернулись на Хунзестраат, госпожа Самсон уже бесследно исчезла.
Летом семьи Франков и ван Даанов были совершенно здоровы, и нас это радовало. Больше всего мы боялись, что кто-то заболеет, а мы не сможем обратиться к врачу. Тревога мучила всех, и особенно госпожу Франк. Она внимательно следила за здоровьем детей, за тем, что они едят и как одеваются, не простужены ли они и не проявляют ли каких-либо симптомов болезни.
Доставать продукты нам помогал не только мясник, знакомый господина ван Даана. У господина Коопхейса был друг, державший в Амстердаме сеть пекарен. Когда наши друзья скрылись в убежище, Коопхейс договорился с ним о доставке хлеба в контору два-три раза в неделю. Мы оплачивали часть хлеба купонами, а все остальное обязались выплатить деньгами после войны. Поскольку на Принсенграхт работало столько же людей, сколько пряталось в убежище, покупка большого количества хлеба не вызывала подозрений.
Я стала ходить в одну и ту же овощную лавку на Лелиеграхт. Хозяин был очень добр. Я скупала все, что он получал. Через несколько недель он заметил, что я покупаю много овощей. Мы не договаривались, но он стал откладывать овощи специально для меня. Когда я приходила, он приносил их мне из другой части магазина. Я складывала продукты в сумку и быстро возвращалась на Принсенграхт. Там я ставила сумки между своим столом и окном, чтобы их не увидел никто посторонний.
Когда можно было подняться в убежище, я переносила овощи туда – все, кроме тяжелого картофеля. Любезный хозяин овощной лавки приносил мне его во время обеда. Я всегда ждала на кухне, чтобы не вызывать подозрений. Он складывал картошку в небольшой шкаф, а ночью Петер спускался и забирал ее наверх. Я никогда не обсуждала это с хозяином овощной лавки, да это и не нужно было.
Мне приходилось покупать продукты не только на нас с Хенком, но и еще на семь человек. Часто я обходила несколько магазинов, чтобы не вызвать подозрений. Времена были тяжелые, все старались запастись продуктами, так что в крупных закупках не было ничего необычного. Многие торговцы закрывали глаза на купонные нормы. Если у меня был купон на два фунта картошки, а я просила три за купоны и немного денег, и мне с радостью давали лишний фунт.
За молоко отвечала Элли. В Голландии молоко обычно каждый день доставляют в конторы и дома. Было очевидно, что работникам конторы нужно много молока, и мы не боялись, что у молочника возникнут подозрения. Молоко доставляли в любую погоду, а во время обеда Элли переносила бутылки наверх.
Господин Франк сказал мне, что план их бегства разработал господин Коопхейс. Они обдумали это вместе, а затем пригласили господина ван Даана и его семью. Тайные комнаты не только обставили, но и создали в них запасы сухих и консервированных продуктов. По вечерам туда перетаскивали мешки с сухой фасолью, консервы, мыло, белье, кухонную утварь. Я не знала, как все это было организовано, но думала, что господину Коопхейсу помогал его брат, у которого была машина. Он мог перевезти самые крупные вещи. Конечно же, господин Кралер тоже был в курсе приготовлений.
В убежище господин Франк следил за учебой детей. Они учились постоянно, им давали домашние задания, и господин Франк все проверял. Поскольку Петер ван Даан не очень любил учиться, господин Франк уделял ему особое внимание и не жалел времени. Отто Франк оказался отличным учителем. Он был добр, в то же время тверд и никогда не терял чувства юмора.
Уроки занимали довольно много времени. Марго было легко учиться. Анна не отличалась такой же усидчивостью, как ее сестра, но тоже училась с легкостью. Она часто что-то записывала в небольшой дневничок в красно-оранжевой тканевой обложке в клетку – его ей подарил отец на тринадцатилетие. Это произошло 12 июня, за несколько недель до того, как Франки укрылись в убежище. Анна делала записи в дневник в своей комнате или в спальне родителей. Хотя все знали об этом, она никогда не писала в присутствии других людей. Господин Франк заметил это и попросил не мешать девочке.
Анна постоянно носила дневник с собой, и остальные частенько ее поддразнивали. Как ей удается придумать, о чем писать? Анна краснела, начинала огрызаться – за словом в карман она не лезла. И все же она предпочитала хранить свой дневник в старом кожаном портфеле отца.
Главным своим достоинством Анна считала густые темно-русые блестящие волосы. Она любила расчесывать их по несколько раз в день, чтобы они были здоровыми и сохраняли блеск. Расчесывая волосы, она всегда накрывала плечи треугольным хлопковым платком, бежевым с розовыми, салатовыми и голубыми розами и мелкими фигурками. Она повязывала платок на шею, чтобы выпавшие волосы оставались на нем. На ночь Анна накручивала волосы на папильотки, чтобы они слегка завивались. Марго тоже накручивала волосы.
Обе девочки помогали готовить, мыть посуду, чистить картошку и убираться в комнатах. Они много учились и читали. Иногда Анна раскладывала свою коллекцию фотографий кинозвезд, чтобы полюбоваться красавцами и красавицами. Она была готова бесконечно говорить о кино и кино-звездах со всеми, кто соглашался слушать.
Каждый раз, когда я проскальзывала в убежище, все были чем-то заняты. Они напоминали мне живые камеи: голова, склонившаяся над книгой, руки, снующие над грудой картофельных очистков, мечтательное выражение на лице женщины, занятой вязанием, пальцы, нежно поглаживающие шелковистую шерстку Муши, ручка, царапающая что-то на бумаге, останавливаясь на мгновение, а затем снова бегущая по листку. И все молчали.
Когда я появлялась на лестнице, лица озарялись. В глазах вспыхивала радость. Все жадно ждали новостей. Первой начинала меня бомбардировать вопросами Анна – всегда она.
– Что происходит? Что ты принесла? Ты слышала новости?
Когда госпожа Самсон скрылась, Хенк быстро переоформил квартиру на нашу христианскую фамилию. Мы боялись оставлять дом на имя еврейки – ведь к нам могли явиться и забрать все ее вещи. Естественно, мы не собирались ничего присваивать – когда господин и госпожа Самсон вернутся, мы все им вернем.
Госпожа Самсон исчезла в сентябре. Примерно через месяц-полтора мы получили письмо из Хилверсема, городка недалеко от Амстердама. Письмо было от госпожи ван дер Харт. Это имя нам ничего не говорило, но, прочитав его, мы все поняли. Госпожа Самсон скрылась в доме госпожи ван дер Харт в Хилверсеме. Ей было очень одиноко, и она попросила хозяйку написать нам и пригласить в гости.
Мы не могли отказаться. В Хилверсем поехали на поезде – сорок пять минут в дороге и еще пятнадцать минут пешком. Адрес был указан в письме. Дом оказался настоящей виллой, какие доступны только очень богатым людям.
Дверь открыла госпожа ван дер Харт. Мы представились. Она провела нас в дом, объяснив, что живет со своим единственным сыном, студентом университета Карелом. Карелу был двадцать один год. Когда началась война, муж госпожи ван дер Харт оказался в Америке, не смог вернуться, и она уже два года ничего о нем не знала. Она извинилась за состояние дома – у нее всегда были слуги, но теперь все приходилось делать самой.
Госпожа ван дер Харт провела нас наверх, в красивую комнату, где жила госпожа Самсон. Хотя та была очень одинока и напугана и ей было трудно жить, не выходя наружу, но она хорошо питалась, и хозяева были к ней добры. Мы узнали, что здесь должны были скрыться дочь, муж и внуки госпожи Самсон. Если бы они не поддались панике и не бросились на Центральный вокзал, то сейчас были бы в безопасности. К несчастью, они попали в руки немцев, а дети их сейчас скрывались в других местах.
Мы рассказали госпоже Самсон все амстердамские новости и пообещали приехать снова. Вечерним поездом мы вернулись в Амстердам.
Примерно в то же время нам написал пожилой еврей, друг господина Франка, с которым мы познакомились на субботних посиделках. Он попросил нас навестить его и добавил, что это очень важно.
Хенк отправился к нему один. Домой он вернулся бледным и измученным и принес два огромных тома с золотым обрезом – великолепное издание Шекспира на английском языке. Хенк рассказал, что этот человек, которому было около шестидесяти лет, жил вместе со старшей сестрой – старой девой, и престарелой матерью. Он сразу спросил, нет ли у Хенка «безопасного адреса» для его семьи. Хенк печально покачал головой.
– Я сразу понял, что таким старым людям найти убежище не удастся. Но мне не хватило духа сказать об этом, и я пообещал разузнать.
Тогда старик снял с полки два тома Шекспира – там было еще немало красивых книг в кожаных переплетах.
– Господин Гис, не окажете вы мне честь сохранить кое-что для меня до конца войны?
– Конечно, – ответил Хенк.
Так в нашем доме появился прекрасный Шекспир.
Мы с Хенком оба знали, что найти для таких стариков «безопасный адрес» почти невозможно. Хенк пообещал разузнать и сделал это, но безуспешно.
Я знала, как он переживает из-за этого старика. Те же чувства испытывала я, когда проходила мимо бедной старой еврейки, сидевшей на ступеньках возле нашей квартиры. «Зеленая полиция» приехала арестовать ее. Взглядом она умоляла прохожих помочь ей. Она была одной из многих евреев, бродивших по улицам и сидевших на ступенях, потому что им запрещалось сидеть на скамейках в парках или в кафе.
В последнее время «зеленая полиция» и СС стали устраивать облавы прямо посреди дня. Так было легче всего застать самых беззащитных – стариков, больных, маленьких детей. Многие бродили по улицам, чтобы не находиться дома на случай облавы. Они часто спрашивали прохожих, не слышно ли об облаве или о приближение солдат…
Как бы ни хотелось мне помочь этой старой женщине и другим, я знала, что не могу этого сделать. Я отвечала за тех, кто зависел от меня. Поэтому я отвернулась от нее, как и все остальные. Я вошла в квартиру и закрыла дверь. Сердце мое разрывалось.
Анна и другие беглецы не раз приглашали нас переночевать в убежище. В их просьбе было нечто очень трогательное. Поэтому однажды я принесла из дома нашу с Хенком ночную одежду, чтобы остаться.
Анна и госпожа Франк пришли в такой восторг, словно их решила посетить сама королева Вильгельмина. Анна была вне себя от радости.
– Мип и Хенк будут ночевать у нас, – сообщила она остальным.
Я сказала госпоже Франк:
– Мы не хотим причинять вам беспокойство.
Она улыбнулась и сжала рукой мое плечо. Уходя, я повторила то же господину Франку:
– Пожалуйста, не беспокойтесь из-за нас.
Он улыбнулся и покачал головой:
– Нет, нет, конечно, не будем…
Днем я рассказала господину Коопхейсу о нашем плане. После работы пришел Хенк. Когда в половине шестого ушел последний работник, господин Коопхейс пожелал нам доброй ночи и запер за собой дверь конторы. Воцарилась полная тишина. Мы убедились, что весь свет погашен, а потом поднялись по лестнице, отодвинули книжный шкаф и вошли. Я закрыла за нами дверь.
Друзья встретили нас весело и радостно.
– Последний работник ушел, – сообщила я.
И сразу же раздались голоса, шаги, в туалете слили воду, захлопали дверцы шкафов. Верхние комнаты ожили.
Анна провела нас в комнату, которую она делила с Марго. По ее настоянию нас с Хенком разместили там, а девочки должны были ночевать у родителей. Анна усадила меня на свою аккуратно застеленную кровать и сказала, чтобы я оставила вещи здесь. Я с радостью согласилась. Свои вещи положила на ее постель, а вещи Хенка – на постель Марго.
Настало время новостей, и все мы собрались в кабинете господина Франка возле приемника Philips. Еле различимый звук «Радио Оранж» наполнил нас радостью:
– Говорит «Радио Оранж». Сегодня все было хорошо. Англичане…
Этот голос вселял в нас надежду. Он был нашей единственной связью со свободным внешним миром.
Когда настало время ужина, нас с Хенком усадили на почетное место, как и в годовщину нашей свадьбы. Мы устроились за столом вдевятером.
На сей раз готовкой занимались госпожа Франк и Марго. Еда была очень вкусной и сытной.
Шторы затемнения опустили и включили свет. Стало очень уютно. Мы долго сидели за кофе и десертом, болтая обо всем. Наши друзья были рады неожиданным гостям. Казалось, они не могут насытиться нашим обществом.
В тот вечер я поняла, что значит быть запертыми в этих тесных комнатках. Я почувствовала беспомощность и страх, которые терзали наших друзей днем и ночью. Да, война шла для всех, но мы с Хенком могли передвигаться, быть дома или выходить на улицу. А эти люди оказались в тюрьме, куда добровольно себя заточили.
Мы неохотно пошли спать, помня, что господин и госпожа ван Даан не могут лечь, пока мы не разойдемся. Мы с Хенком и Франки спустились к себе, снова пожелали друг другу спокойной ночи и заснули в окружении фотографий кинозвезд из коллекции Анны.
Жесткая кровать Анны оказалось очень уютной – там было столько одеял, что вряд ли она могла бы простудиться. Комната вообще была очень симпатичной. Устроившись, я обнаружила, что слышу все звуки из соседних комнат: кашель господина ван Даана, скрип пружин, звук снятых тапочек, слитой воды в туалете. Где-то над моей головой прыгнул Муши.
Часы на Вестеркерке били через каждые пятнадцать минут. Я не подозревала, что они бьют так громко – их бой эхом отдавался во всех комнатах. Церковь находилась совсем рядом – от убежища ее отделял только садик. В конторе звук церковных часов приглушали соседние здания. Днем я почти не замечала их.
Всю ночь я слушала бой часов на Вестеркерке и не могла сомкнуть глаз. Я слышала, как начался сильный дождь, завыл ветер. Тишина в доме угнетала меня. Меня буквально придавил страх людей, которые были заперты в четырех стенах. Я физически ощущала, как этот страх душит меня. Это было так ужасно, что сон не шел ко мне.
Впервые в жизни я узнала, каково это – быть евреем в убежище.
Глава 10
Рассвело. Я все еще не спала. Наши хозяева вставали рано – нужно было воспользоваться ванной, прежде чем в конторе начнут собираться работники. На улице лил проливной дождь.
Мы с Хенком быстро оделись и поднялись наверх завтракать. Все снова собрались за одним столом. Хенк ушел первым, чтобы успеть до прихода работников. По лицам наших друзей я видела, как им не хочется его отпускать.
Я сидела с ними, сколько могла. Мне налили еще кофе и вообще относились как к настоящей королеве. Анна расспрашивала о моих впечатлениях от ночевки в убежище.
– Ты спала? Тебе не мешал звон часов на Вестеркерке? Ты слышала гул бомбардировщиков, летевших в Германию? Тебе вообще удалось поспать?
Поспеть за вопросами Анны было нелегко, но я старалась изо всех сил. Мне не хотелось забыть все, что я пережила этой долгой ночью, наполненной страхом.
Анна пристально смотрела на меня. Мы не говорили об этом вслух, но обе понимали, что я ненадолго пересекла границу между обычным миром и миром беглецов. Теперь я знала, что такое долгая ночь в убежище.
– Ты придешь к нам ночевать снова? – спросила Анна.
Ее поддержали другие.
– Да, да, приходите!
– Мы обязательно придем еще, – заверила я их.
– И ты снова сможешь спать на моей кровати, – обрадовалась Анна. – Так приятно, когда рядом защитники.
Я ответила, что мы всегда рядом.
– Если не телом, то духом.
– И по ночам тоже?
– И по ночам.
Анна минуту смотрела на меня. Потом ее лицо оживилось.
– И тебе не придется мокнуть под дождем, чтобы добраться до работы!
В начале октября 1942 года в Амстердаме прошли массовые облавы. 2 октября назвали «черной пятницей». В тот день в Еврейском квартале распространился слух о новой грандиозной облаве. Люди затаились и с ужасом прислушивались к шагам на лестницах и звонкам в дверь. Слухи были настолько мрачными, что во всех еврейских кварталах Амстердама началась паника.
Облавы прошли по всему городу. Нацисты были безжалостны. Но потом все неожиданно затихло. Неделя шла за неделей. Появились слухи о том, что депортации евреев прекратились. Возможно, лагеря переполнены, а может, немцам больше не нужна рабочая сила.
Осень в Голландии выдалась дождливой, холодной и очень мрачной. Би-би-си и «Радио Оранж» сообщали, что дожди в России замедлили продвижение Шестой армии нацистов. 8 ноября англичане и американцы под командованием генерала Эйзенхауэра высадились в Марокко и Алжире. Великий генерал Монтгомери отбросил в пустыню армию генерала Роммеля. Да, победа была еще далека, но мы уже ощущали ее вкус. Естественно, нацистские газеты кричали о близком триумфе немцев. Скоро Германия будет править всей Европой, Англией, Северной Африкой, Египтом и так далее, и тому подобное.
Отправляясь в магазин, я никогда не знала, что удастся купить. Каждый раз продуктов становилось чуть меньше, а очереди – чуть длиннее. Люди выглядели более потрепанными жизнью. И все же, потратив немного больше времени и усилий, я ухитрялась приобретать все необходимое для нас с Хенком и семерых беглецов.
Каждый раз, когда я входила в убежище, Анна, госпожа Франк и госпожа ван Даан набрасывались на меня с расспросами о жизни по ту сторону книжного шкафа. Мужчины точно так же пытали Хенка. Анна часто спрашивала, увезли ли их вещи из квартиры на Мерведеплейн. Я несколько раз проезжала там на велосипеде и заглядывала в окна, но видела лишь те же самые шторы, которые были еще у Франков. Поэтому отвечала, что ничего не знаю.
О том, что из дома ван Даанов всё вывезли, я узнала случайно. Госпожа ван Даан очень расстроилась, и я поклялась себе никогда больше не сообщать известий, способных вызвать такую реакцию. Но сделать это было нелегко. Из Анны получился бы отличный детектив. Она сразу же чувствовала, что я что-то утаиваю, и всеми силами старалась вытянуть из меня правду. В конце концов, я говорила то, чего говорить не хотела.
Более всего дурные вести расстраивали госпожу Франк. Зима приближалась, и ее настроение портилось с каждым днем. Остальные с радостью выслушали сообщение о прекращении облав. Нас радовали оптимистичные новости об англо-американских победах, которые мы получали от Би-би-си и «Радио Оранж». Но все это не влияло на настроение госпожи Франк. Какими бы обнадеживающими ни были известия, она не видела света в конце туннеля.
Несмотря на то что облавы прекратились, евреи не чувствовали себя в безопасности. Многие скрылись, другие жили в постоянном страхе. У них не было источников дохода – разве что они работали в тех сферах, которые были им разрешены. Но список этих работ постоянно сокращался. Христианам было запрещено пользоваться услугами еврейских врачей и дантистов, но я продолжала ходить к Альберту Дусселю. Он был прекрасным дантистом-хирургом и всегда мне нравился.
Когда я пришла к нему в очередной раз, он напряженным голосом спросил:
– Мип, вы не знаете надежного убежища для меня?
К сожалению, я ничем не могла ему помочь, но пообещала, что, если что-то узнаю, сразу же сообщу.
На следующий день я рассказала господину Франку о своем визите к доктору Дусселю и о том, что он ищет убежище. Господин Франк выслушал меня с интересом: Дуссель и его жена были частыми гостями в доме Франков, как и другие беженцы из Германии. Я знала, что господин Франк относится к дантисту с той же теплотой, что и я.
Я уже забыла об этом разговоре, но через несколько дней господин Франк сказал, что хочет со мной что-то обсудить. Он сказал:
– Мип, где могут прожить семь человек, смогут и восемь. Мы все обсудили и решили, что Дуссель может поселиться с нами. Но он должен прийти завтра рано утром.
Он объяснил, почему не хочет оттягивать – надо, чтобы доктор Дуссель не успел никому об этом рассказать. Тщательная подготовка могла вызвать подозрения и создать опасность для обитателей убежища. Я его прекрасно поняла и сказала, что передам его приглашение немедленно.
После работы я отправилась прямо к Альберту Дусселю и сказала, что нашла для него убежище. В детали я не вдавалась – просто сказала, что есть «безопасное место».
– Но вы должны отправиться туда завтра утром. Это главное условие.
Дуссель побледнел и печально покачал головой.
– Это невозможно, – сказал он. – Я лечу одну пациентку. Очень серьезный случай, затронуты кости. Завтра последняя процедура. Я не могу ее бросить. Она очень страдает.
Он тяжело вздохнул и добавил:
– Это невозможно, невозможно… Через день я смогу, но завтра… нет.
Я ничего не сказала и ушла.
На следующее утро я с тяжелым сердцем вошла в убежище, чтобы рассказать о своем визите к Альберту Дусселю. Господин Франк выслушал меня очень внимательно. Я чувствовала, что наши друзья сильно нервничают при мысли о новом человеке в убежище. Господин Франк решил обсудить все с остальными. Перед уходом из конторы я поднялась и спросила:
– Что вы решили по поводу доктора Дусселя?
– Мы все обсудили, – сказал господин Франк, – и согласились, что настоящий врач не может бросить пациента в процессе лечения. Мы уважаем его решение. Скажите, что, если он готов прийти в понедельник утром, мы найдем для него место. Мип, мы придумали план. Готовы ли вы помочь нам? Предупреждаю, это может быть опасно.
Я сразу же согласилась, и господин Франк рассказал мне свой план.
После работы я зашла к доктору Дусселю и сказала, что он может скрыться в понедельник утром. В его глазах вспыхнула надежда.
– В понедельник утром я смогу. Лечение закончено. Я готов.
– Отлично, тогда план такой. В понедельник в одиннадцать утра идите на главный почтамт на Н. З. Форбургвал. Гуляйте перед почтамтом. К вам подойдет человек и скажет: «Пожалуйста, следуйте за мной». Ничего не спрашивайте и идите за ним. Самое главное – возьмите с собой как можно меньше вещей, чтобы не вызвать подозрений. Вы сможете получить вещи позже, когда окажетесь в безопасности. Мы постараемся это сделать.
Доктор Дуссель сердечно поблагодарил меня. Я понимала, что он видит во мне лишь посланницу – он даже простился со мной весьма своеобразно: «Увидимся после войны». Я пожелала ему удачи. Больше ничего мы сказать не могли. Оба знали, что опасность поджидает еврея повсюду – и особенно в последние часы на пути к убежищу.
Мне показалось, Дуссель надеялся, что убежище окажется за городом, как это было обычно. Встретиться ему предстояло с господином Коопхейсом. Они никогда не виделись, поэтому Дуссель не увидит связи между ним и Франком; к тому же он никогда не бывал в конторе на Принсенграхт. Евреи находились в отчаянном положении, и Альберту Дусселю придется доверить свою безопасность и саму жизнь незнакомому человеку.
В понедельник утром я сидела за своим рабочим столом. В половине двенадцатого ко мне подошел господин Коопхейс.
– Все в порядке, – сказал он. – Я провел его черным ходом в личный кабинет Франка. Он ждет там. Удивился, что мы направились в центр Амстердама, а не за город. Теперь дело за вами, Мип.
Я поспешила в личный кабинет господина Франка.
– Мип! – изумленно воскликнул Дуссель.
Я не могла не рассмеяться при мысли о том, какой сюрприз его ожидает.
– Дайте мне ваше пальто, – сказала я.
Он снял пальто, не скрывая изумления.
Я повесила его на руку.
– Пойдемте, – сказала я. – Мы идем наверх.
И я подтолкнула доктора Дусселя к старой лестнице, которая вела к нашему тайному книжному шкафу, закрывавшему вход в убежище. Я открыла дверь и провела доктора наверх, в комнату ван Даанов, где нас ждали наши друзья. Все собрались за столом. Уже был сварен кофе. Франки открыли бутылку коньяка. Дуссель ничего не понимал. Господин Франк казался ему призраком – он был уверен, что Франки бежали в Швейцарию. Кто бы мог подумать, что они скрываются здесь, в самом центре Амстердама!
Сердце у меня отчаянно колотилось.
– Дамы и господа, – провозгласила я, – дело сделано.
Я повернулась и вышла, оставив их наедине друг с другом.
С этого момента я стала раз в неделю встречаться с женой доктора Дусселя, очаровательной блондинкой на год старше меня. Я передавала ей письма от мужа, а она мне – свои письма, книги, посылки и стоматологический инструмент, о котором он просил. Жена доктора была христианкой. Поскольку ее муж-еврей исчез, опасность ей больше не грозила.
Я говорила госпоже Дуссель, что передам все вещи другому человеку, а он уже доставит их ее мужу. Я делала вид, что не знаю, где скрывается Альберт Дуссель. Она была чуткой и внимательной – и ни разу меня ни о чем не спросила. Мы обменивались письмами и посылками и расставались до следующей недели.
Поскольку в убежище поселился доктор Дуссель, мы с Хенком больше не могли ночевать у наших друзей. Анна была очень расстроена, но от этой идеи пришлось отказаться. Теперь Марго переселилась в комнату родителей, а Анна делила узкую комнатку с доктором Дусселем. Это был оптимальный вариант, но с появлением нового жильца в убежище стало тесновато.
Скоро выяснилось, что Альберт Дуссель боится кошек, поэтому приходилось держать Муши подальше от него. Это оказалось трудновато. Хотя Дуссель боялся Муши, кот не хотел этого понимать и все время старался подружиться с новым жильцом. Он наблюдал за всеми, в том числе и за Дусселем, со своего излюбленного места около печки – ее топили в большой комнате ван Даанов. Уголь доставляли из конторы снизу. Протопить весь дом не удавалось, поэтому жильцам приходилось утепляться всеми доступными способами. Порой они укутывались шалями. Но, несмотря на влажность и холод, в убежище было уютно благодаря печи. Пока с электричеством не начались перебои, можно было зажигать свет.
1942 год близился к концу. Мы с Хенком изо всех сил старались не простудиться – понимали, что не имеем права болеть. К счастью, здоровье нас не подвело. Наши друзья в убежище тоже были здоровы, но с приближением зимы я почувствовала, что их настроение изменилось. Они пали духом. С каждым днем им становится все труднее ладить друг с другом. Присутствие Дусселя действовало на нервы Анне, а ее капризы раздражали доктора. Отношения между госпожой Франк и госпожой ван Даан оставались вежливыми, но слегка натянутыми. Петер все больше времени проводил на чердаке, а Марго могла бесконечно сидеть на одном месте.
Случались небольшие происшествия и недомогания. Ничего опасного: конъюнктивит у Дусселя, растяжение мышц у госпожи ван Даан, другие мелкие жалобы. Этого следовало ожидать. Люди день и ночь проводили в маленьких комнатках. Без движения начались проблемы с мышцами. Говорить приходилось шепотом. Нельзя было свободно пользоваться туалетом. Кипящая энергия Анны не находила выхода.
И все же это была небольшая цена за возможность оказаться в безопасности в оккупированном немцами Амстердаме. Мы знали, что многих евреев отправили из города на восток. Все больше и больше голландцев посылали в Германию для работы на оружейных заводах.
В ту зиму мы с Хенком ездили на велосипедах на работу еще затемно – светало лишь к девяти. В половине шестого уже темнело, поэтому и домой мы возвращались в темноте. Закупать продукты становилось все труднее – я тратила на это все больше времени. Каждый день я бывала в убежище, стараясь казаться веселой и бодрой, и в конце дня возвращалась домой совершенно без сил.
Мы с Хенком подружились с парой молодых голландцев, которые жили напротив нашего дома. Жена была беременна и скоро должна была родить. Иногда мы навещали друг друга по вечерам, невзирая на комендантский час. Мы вместе слушали Би-би-си и пили эрзац-кофе. Новости вселяли в нас некоторую надежду и заполняли пустоту.
Как-то вечером мы с Хенком почувствовали себя полностью обессиленными. День выдался невероятно тяжелым. У меня был припрятан настоящий кофе – на особый случай. Я решила его достать и сварить.
В одной руке я несла кофейник, за другую руку меня держал Хенк. Хотя уже наступил комендантский час, мы с ним перешли улицу и позвонили к нашим друзьям. При виде настоящего кофе их лица просветлели. Мы постарались как можно уютнее устроиться вокруг их приемника и смаковали каждый глоток замечательного напитка, стараясь запомнить его вкус и аромат.
Кофе сотворил чудо. Мы оживились и были готовы противостоять немецким оккупантам. Мы снова почувствовали себя не побежденным народом, а захваченным и дожидающимся помощи союзников.
В конце концов, нам захотелось спать. Мы простились и отправились домой. На следующий день муж зашел рассказать, что после нашего ухода у жены начались схватки, ее на такси отвезли в больницу, где и родился их ребенок.
– С малышом все хорошо, с моей женой тоже! Вот что творит чашка кофе, Мип! – со смехом добавил он.
Я тоже рассмеялась. Последней порции натурального кофе нашлось хорошее применение.
Чем дольше длилась оккупация, тем сильнее кипела во мне жажда мести. Я слышала, что немцы тысячами замерзают в степях России и гибнут в жарких пустынях Северной Африки. При этих известиях сердце у меня билось чаще и душу захлестывали эмоции. Немцы похвалялись, что они в восьмидесяти милях от Сталинграда, потом в тридцати… Они твердили, что великий город Сталинград вот-вот падет и Россия окажется в лапах Гитлера. Как сообщали Би-би-си и «Радио Оранж», солдаты Красной армии поклялись сражаться до последней капли крови. Было очевидно, что русские несут огромные потери. Но и потери немцев были огромны.
Хенк разобрал наш приемник и по частям перенес его на чердак убежища. Теперь дома у нас радио не было, и нам приходилось либо слушать новости по ночам у соседей и знакомых, либо узнавать обо всем из вторых рук.
Мы с Элли стали планировать для наших друзей праздник в честь Дня святого Николая. Хотя Франки были евреями, они придерживались либеральных взглядов. В Нидерландах 5 декабря, День святого Николая, – это детский, а не религиозный праздник, и мы хотели устроить что-то особенное для Марго, Анны и Петера.
Мы с Элли по принятой традиции сочиняли короткие стишки и придумывали маленькие подарки для всех наших беглецов. Поскольку купить что-то в магазинах было невозможно, нам пришлось напрячь воображение и смастерить все своими руками. Втайне от всех мы шили, прибивали, клеили, а потом сложили подарки и стишки в большую корзину с украшениями, оставшимися у Элли с прошлых праздников. Корзину мы припрятали до назначенного часа, когда господин Франк сможет привести всех членов своей группы вниз, в контору, где их будет ждать сюрприз.
Элли ушла домой. Я тоже. Я думала, что приготовить Хенку на ужин, и одновременно представляла, как счастливы будут наши друзья, когда откроют красивую корзину, полную подарков и забавных стишков. Какой чудесный праздник у них будет! Какая радость для детей, особенно для Анны! Эта тринадцатилетняя девушка при любом сообщении о празднике впадала в неуемный восторг, словно шестилетний ребенок.
Думая об Анне, я вспомнила, какой бледной и нездоровой стала она, да и все остальные тоже. Ни одного солнечного лучика, ни глотка свежего воздуха в течение полугода. Нацисты не раз проходили мимо дома № 263 по Принсенграхт, даже не подозревая об убежище. Я прогнала эти мысли. Нужно думать о хорошем – о том, как счастливы будут дети, спустившись в контору и обнаружив корзинку с подарками. А завтра Анна расскажет мне о празднике в мельчайших деталях. Мы сможем вместе посмеяться и вспомнить все.
Глава 11
Мы все были уверены, что в 1943 году война кончится. Погода стояла ужасная – было страшно холодно, сыро, темно. Люди находились в таком напряжении, что порой просто не выдерживали.
Мы с Хенком и все вокруг внимательно следили за событиями под Сталинградом. Никогда еще мы не становились свидетелями такого ожесточенного и кровопролитного сражения. Немцы постепенно отступали. Они тысячами гибли в морозных степях, занесенных снегом. «И хорошо! – думала я. – Пусть они все замерзнут вместе со своим Гитлером!»
Впервые по Би-би-си произнесли слово «поражение». Да, немцы были на грани поражения, но никто и представить не мог, что это слово прозвучит из уст Гитлера.
И все же они сдались – 2 февраля. На следующий день мы собрались вокруг радиоприемников, чтобы узнать новости. Все дрожали и держались за руки. И вот официальная германская радиостанция объявила о поражении. Звучала трагическая тема из второй части Пятой симфонии Бетховена. Как же мы радовались! Мы верили, что это начало конца.
Но за хорошими новостями пришли плохие. Господин Кралер печально сообщил мне, что человек, который на днях неожиданно появился в нашей конторе, – новый владелец нашего дома. Он привел с собой архитектора, чтобы посоветоваться насчет перестройки. Господин Коопхейс пошел показывать ему помещение.
Чувство безопасности мгновенно исчезло. Новый владелец мог делать с домом все, что угодно. Естественно, ему захочется осмотреть все комнаты. Как помешать ему подняться наверх? Это был ужасный момент. Сердце выскакивало у меня из груди. Что сделает этот человек, обнаружив наших друзей? Он goed или slecht – «хороший» или «плохой»? Я с трудом заставляла себя усидеть на месте.
Наконец появился Коопхейс. Я поняла, что он расстроен, и не стала ничего спрашивать. Он покачал головой в ответ на мой взгляд.
– Нет, он не поднялся. – Коопхейс тяжело опустился на стул. – Когда они спросили о складских помещениях, я сказал, что не могу найти ключи. Не уверен, но, кажется, его это не особо заинтересовало. Впрочем, он может вернуться в любой момент, и нам от него не отделаться.
Мы оба задавали себе один и тот же ужасный вопрос. Что теперь делать? Где найти другое место, чтобы спрятать восемь человек, чтобы две семьи и еще один беженец смогли остаться вместе? Мы были страшно подавлены. Другого выхода не было – нужно все сообщить господину Франку. Он у нас главный и должен принять решение.
– Как хозяин мог не сообщить нам, что продает дом? Как он мог быть таким легкомысленным? – возмущался Коопхейс. Над нашими головами завис тяжелый меч.
У господина Франка предложений не было. Оставалось только ждать, когда новый владелец вернется. Мы гадали, что он захочет увидеть. Тревога сдавила наши сердца. Мы ждали всю зиму, но он так и не вернулся.
Элли записалась на курсы стенографии, но училась на них Марго Франк. Каждый раз, получив конверт с очередным уроком, Элли относила его наверх, и Марго принималась за работу. Анна тоже училась стенографии. Поскольку времени у девочек было предостаточно, они стали настоящими профессионалами и часами писали и переписывали что-то с помощью стенографии. Элли отправляла сделанные ими задания обратно и получала следующий урок. На курсах ее считали отличницей.
Зима все тянулась, и мы старались держаться поближе к печкам. Всем хотелось согреться. Хорошо, что комнатки в убежище были небольшими. Все, что могло гореть, оказалось в маленькой печке в комнате ван Даанов. У Франков тоже была своя угольная печка. Когда работа в конторе заканчивалась, весь мусор отправлялся наверх, в топливо. Потом Петер выносил золу и все то, что не сгорело. Отходы мы выбрасывали в мусорный бак, но их было так немного, что никто ничего не замечал.
Я стала отдавать Анне чистые бухгалтерские книги, чтобы она могла делать в них уроки и вести свои записи. Анна по-прежнему ничего не рассказывала о своем дневнике и прятала его в потертом кожаном портфеле отца, который хранился в его комнате. Франки свято оберегали тайну личной жизни друг друга и своих детей, хотя в крохотном убежище это было очень трудно. К Анне они всегда относились серьезно и уважительно. Никому не позволялось трогать ее записи или читать их без ее разрешения.
Как-то утром мы пришли на работу и обнаружили наших друзей в страшном волнении. Ночью они слышали какой-то шум и подумали, что наш склад грабят. Они были очень встревожены. Они боялись, что вор, который залез на склад, мог услышать их шаги и голоса.
Кроме того, приемник в старом кабинете господина Франка был настроен на Би-би-си – настоящее преступление. Стулья стояли вокруг приемника – ясно, что группа людей собиралась здесь, чтобы послушать новости. Все боялись, что вор доложит об этом полиции, а полиция, сложив два и два, совершит налет на контору.
Даже после того как мы внимательно осмотрели склад и не обнаружили следов взлома или чего-то необычного, наши друзья продолжали нервничать из-за радио. Я видела, что они находятся на грани нервного срыва.
Пытаясь их успокоить, мы перевели все в шутку. Мы шутили и поддразнивали их, и постепенно они успокоились и сами стали смеяться над своими страхами и чрезмерно живым воображением.
В марте вышел новый указ. Оставшимся в Голландии евреям предлагали выбор между депортацией и стерилизацией. Выбравшим стерилизацию, обещали спокойную жизнь. В их удостоверении личности будет проставлена красная буква «J» вместо зловещей черной. Этим людям разрешалось не носить желтую звезду на одежде.
В то же время немцы опубликовали обращение к скрывшимся в убежищах. Они обещали не преследовать тех, кто сдастся добровольно. Не преследовать? Никто из нас не верил ни единому слову захватчиков. Наши друзья только головами качали при этих известиях. Они понимали, что им крупно повезло найти безопасное место – во всем Амстердаме не было лучше.
В конце марта снова начались облавы. Опустели дома слепых, душевнобольных и умирающих. Я изо всех сил скрывала все, что знала, чтобы не расстраивать своих друзей. Если была возможность, я никогда не говорила им об этих ужасах. Даже Анна уже не приставала с вопросами. Казалось, никто не хочет знать больше, чем знает.
А потом в жизни евреев, оставшихся в Амстердаме, произошло удивительное, драматическое событие. Сгорело регистрационное бюро, где хранились документы не только о евреях, но и обо всех, в ком была хоть капля еврейской крови. Говорили, что пожар был очень сильным, здание серьезно пострадало, но никто не знал, сколько документов уничтожено. Если бы они исчезли все, то немцы не знали бы, кто подлежит аресту. Мы жадно ждали известий. К сожалению, оказалось, что сгорело совсем немного документов.
Когда зима подошла к концу и наступил апрель, на нас навалились болезни. К счастью, поразили они нас, а не наших друзей в убежище. В один день заболели Элли и ее отец – они не выходили на работу несколько недель. Элли свалилась с тяжелой простудой, а отец ее лег в больницу на обследование.
Наш дорогой господин Коопхейс никогда не отличался хорошим здоровьем. Он постоянно жаловался на желудок, и состояние его ухудшалось. У него началось внутреннее кровотечение, и врач прописал ему постельный режим, на-деясь, что отдых и покой пойдут ему на пользу. Все в Амстердаме постоянно терзались тревогой, и это не могло не сказаться на здоровье. Доктор не знал, что господина Коопхейса беспокоит безопасность наших друзей в убежище – это был невыносимый груз ответственности.
Мы с Хенком и господином Кралером старались как можно чаще навещать беженцев сейчас, когда другие сделать этого не могли. Каждый визит был для них лучом света в тучах. Они страшно скучали по нас, по сплетням Элли, по ее рассказам о парне, с которым она встречалась, и особенно по господину Коопхейсу. Он был весельчаком и всегда приносил маленькие подарочки, которые поднимали всем настроение. Заходя за книжный шкаф, он оставлял за порогом свои тревоги и волнения и приносил с собой только силу и поддержку. После его ухода наши друзья чувствовали себя намного лучше, чем раньше. Но его желудок окончательно разболелся, и ему приходилось лежать в постели.
Мы с Хенком изо всех сил старались заполнить пустоту, которая образовалась в жизни наших друзей. Удивительно, но порой, когда мне казалось, что сил больше нет, я делала над собой усилие и обнаруживала запас, о котором не подозревала. Оказалось, энергии и выносливости у меня больше, чем я думала.
Господин Коопхейс вернулся раньше, чем предписал ему доктор. Он сказал, что чувствует себя хорошо, но был очень бледен. А вот господина Фоссена в больнице задержали, и прогнозы были не очень хорошими. Поэтому господин Кралер решил нанять на склад другого человека. Господин Франк согласился и велел ему начать поиски.
На место господина Фоссена Кралер нанял некоего Фрица ван Матто. Поскольку моя работа не была связана со складом, я не обращала внимания на этого человека. Впервые я его заметила, когда он стал приходить в контору с поручениями от Элли. В нем было что-то отталкивающее. Его визиты каждый раз оставляли неприятное чувство. Он постоянно пытался втянуть меня в разговор, но я держалась холодно и отстраненно.
Поняв, что я в хороших отношениях с господином Коопхейсом, ван Матто еще больше усилил напор. Я могла бы прямо сказать ему, что не собираюсь помогать ему налаживать отношения с Коопхейсом. Этот человек был мне неприятен. Я не понимала почему, но что-то в нем меня отталкивало. Это было лишь ощущение, но я привыкла доверять своим ощущениям.
Мы с Хенком иногда ездили в Хилверсем навестить госпожу Самсон. С собой мы брали небольшие подарки – ничего особенного, потому что делать покупки становилось все труднее. Госпожа Самсон заговаривала нас чуть ли не до полусмерти. Она всегда была разговорчивой, а теперь просто удержу не знала.
Весной 1943 года хозяйка виллы, где пряталась госпожа Самсон, сказала, что хочет поговорить с нами, и провела нас в гостиную.
Мы заметили, что она явно нервничает. Она спросила, знаем ли мы о клятве верности, которую студенты голландских университетов обязаны подписывать по приказу нацистов. В клятве говорилось, что студенты не должны принимать участия в действиях, направленных против рейха и германской армии.
Мы знали об этом, как и о том, что многие студенты не стали подписывать эту клятву. В некоторых университетах Голландии начались студенческие забастовки. Немцы отреагировали как обычно: арестами, тюремными сроками и отчислением непокорных.
– Мой сын Карел, – сказала госпожа ван дер Харт, – отказался подписать клятву. Ему нужно убежище.
Я прервала ее:
– Скажите, чтобы он немедленно приезжал к нам в Амстердам. Он может скрыться у нас.
Госпожа ван дер Харт прятала госпожу Самсон, и мы были обязаны ответить ей тем же – помочь ее сыну.
В мае Карел приехал к нам на Хунзестраат. Он оказался симпатичным стройным блондином среднего роста, очень приятным в общении. Мы поселили его в комнате госпожи Самсон и быстро поладили. Ему очень нравилась моя стряпня, несмотря на недостаток продуктов.
Он признался, что его мать не слишком хорошо готовит. До войны у них были слуги, а потом ей пришлось все делать самой, и получалось у нее неважно. Мы с Хенком переглянулись. Карел рассмеялся. Он знал, о чем мы подумали: во время наших визитов к госпоже Самсон еда всегда была очень вкусной.
– Понимаете, – объяснил Карел, – для других она готовит хорошо, но когда гости уходят, ее еда… она совсем другая…
Мне приходилось стараться – мы с Хенком и представить не могли, как быстро Карел опустошает тарелку. Естественно, мы не могли рассказать господину Франку и другим о том, что в нашем доме прячется Карел ван дер Харт. Это было опасно для нас, а любая опасность тревожила наших друзей.
Мы с Хенком уходили на работу, а Карел весь день сидел дома. Очень одинокая жизнь для молодого человека, но что еще можно было сделать? Мы не знали, чем он занимался весь день – только читал и играл сам с собой в шахматы. Мы подозревали, что иногда он выходит прогуляться, но не спрашивали об этом. Мы постоянно видели его шахматы – он разыгрывал одну партию за другой. Ничего другого не оставалось – нужно было ждать.
Пришло время весенней уборки, но даже этот обычай был нарушен войной – стало очень трудно достать мыло. Нитки и ткань стоили все дороже. Мне приходилось дважды по-думать, прежде чем штопать носки Хенка. Не стоит ли использовать нитки для чего-то более важного? Не понадобятся ли они нашим друзьям?
В нашей жизни было все больше грязного, несвежего, помятого. Все, кто раньше выглядел прилично, стали какими-то потрепанными. А те, кто имел еще меньше, чем мы, скатились в полную бедность.
Порой я тратила на покупку продуктов вдвое больше времени, чем раньше. Длинные очереди в магазинах стали нормой. Добравшись до прилавка, я часто обнаруживала, что купить почти нечего: немного фасоли, вялый латук, гнилой картофель. Все, что я приносила домой, было весьма неважного качества, и это не укрепляло наше здоровье. Я начала ходить по магазинам в других кварталах, надеясь найти новый источник продуктов. Еда перестала приносить удовольствие. Нам приходилось обходиться тем, что удается найти. Изо дня в день мы ели одно и то же, и это вызывало проблемы с пищеварением. Выйдя из-за стола, мы чувствовали себя голодными, а порой и больными. Но в убежище я ни разу не слышала ни одной жалобы. Когда я приносила продукты, никто не высказывал своего разочарования. Наши друзья не жаловались, что неделями приходится есть одну капусту или что-то подобное, что сократилось количество масла и жира. А я никогда не говорила им о том, какими они стали бледными. Одежда детей начала рваться и приходила в негодность. Жена господина Коопхейса находила поношенную детскую одежду и передавала нашим друзьям.
Тяжелее всех приходилось маленькой Анне, которая все время росла. На наших глазах она становилась уже не маленькой. Она выросла из своей одежды, да и тело ее начинало формироваться.
Туфли, в которых она пришла в убежище, стали ей малы. Когда она пыталась их натянуть, мне было смешно, но в душе я чуть не плакала при виде этой нежной растущей ножки, которой следовало бы бегать, танцевать и плавать. То, что Анна росла, было совершенно нормально. 12 июня ей исполнилось четырнадцать. Природа брала свое, несмотря ни на что. Мы постарались сделать ее день рождения настоящим праздником – со сладостями, подарками, книгами и новой (поношенной) одеждой.
Анна всегда очень радовалась, получая или делая подарки. Она умела радоваться всему. В тот год наши подарки ей особенно понравились. Открывая свертки и читая стихи, она заливалась смехом. А нам пришлось казаться веселыми и скрывать свою печаль. Это было нелегко – мы только что узнали, что у отца Элли, Ханса Фоссена, диагностировали рак. У врачей не было надежды. Жить ему оставалось недолго.
Мы все старались поддержать Элли и хоть как-то забыть об ужасном дыхании смерти, коснувшемся нашего дорогого друга, члена нашего маленького кружка.
Глава 12
Господин Франк сказал мне, что его беспокоит зрение Анны. Родители незаметно наблюдали за ней, опасаясь серьезных проблем с ее бойкими зелеными глазами.
Я испугалась. Глаза бесценны для тех, кому приходится жить в убежище. Свободного времени очень много, и занять его можно только чтением, письмом или учебой. Теперь и я обратила внимание, что Анна сильно щурится. Господин Франк добавил, что у нее часто болит голова.
Что делать?
В конце концов проблема стала очевидной, и начались споры. Было решено, что Анне нужны очки. Но никто не знал, как их подобрать. Так возник первый серьезный медицинский кризис.
Я все обдумала и пришла к решению. Рядом с нашей конторой, всего в десяти минутах ходьбы, находился кабинет окулиста. Если мы с Анной быстро сходим к врачу, то сможем за час обернуться и вернуться в убежище. А когда окулист сделает очки, я заберу их, придумав какое-то объяснение, почему девушка не пришла сама.
Незарегистрированной еврейке показываться на улицах было очень опасно, но я не сомневалась, что смогу без риска проводить Анну к врачу и вернуть в убежище.
Я предложила это ее родителям, не пытаясь их убедить: просто изложила свой план.
Анна страшно испугалась и побледнела.
– Мы можем пойти прямо сейчас, – предложила я.
Мне казалось, что чем меньше мы раздумываем, тем легче все получится.
Господин и госпожа Франк переглянулись. Они понимали друг друга с полувзгляда, как все счастливые супруги. Господин Франк почесал подбородок. Господин и госпожа ван Даан и доктор Дуссель принялись обсуждать мой план весьма сурово. Идея действительно была очень опасной. Анна переводила взгляд с отца на мать. Она была напугана до полусмерти. Ей казалось, что на улице она может упасть в обморок от страха.
– Но, если ты согласишься, я пойду, – сказала она отцу. – Я поступлю так, как ты скажешь.
Господин Франк сказал, что они все обсудят и сообщат о своем решении.
– Хорошо, – согласилась я.
На следующий день господин Франк сказал, что они все обдумали: как бы они ни беспокоились за глаза Анны, выходить было слишком опасно.
– Лучше нам оставаться здесь всем вместе, – сказал он и с сожалением добавил: – А об этом мы подумаем после войны. Но… посмотрим…
Вопрос остался открытым, и мы больше никогда не говорили о том, чтобы Анне выйти на улицы Амстердама. Потом опасность возросла еще больше. После серьезного налета на Германию противовоздушная оборона усилилась. В результате один самолет был подбит и рухнул на Мунтплейн, совсем рядом с убежищем. Произошел взрыв и сильный пожар.
Это событие вызвало в убежище настоящую панику. Хотя наши друзья пытались сохранить спокойствие в моем присутствии, они постоянно жили с мыслью, что их могут разбомбить, сжечь или завалить. Непреходящий ужас лишал их сил. Они сознавали свою полную беспомощность в случае бомбежки. Им некуда было идти, для них не было спасения. Когда взрывы происходили близко, их тревога достигала такой степени, что потом они несколько дней были совсем без сил. Я ничего не могла сделать, чтобы облегчить их состояние.
Об уязвимости беженцам напоминали не только бомбежки. После нескольких воображаемых ограблений конторы произошло настоящее. Ничего серьезного: воры забрали продуктовые карточки на сахар. Сахара было мало, но для наших джемов мы все же его получали.
Воры опустошили кассу и забрали несколько мелочей. Но это событие поколебало веру наших друзей в свою безопасность. Под покровом ночи в контору мог пробраться кто угодно. Разыскивая ценности, грабители шарили по кабинетам и могли найти шкаф, скрывавший ход в убежище.
Радиоприемник оставался настроенным на злосчастную Би-би-си. Никто в убежище даже не заметил, что в контору ночью проникли посторонние. В это время, возможно, текла вода и люди ходили по скрипучим полам. Воры могли услышать разговоры наверху. Наши друзья поняли, что их безопасная крепость не так уж безопасна.
Грабители способны были пойти в полицию и сообщить, что в доме кто-то скрывается. Немцы дорого платили за такую информацию – за каждого еврея можно было получить солидную награду.
В те времена воры были в безопасности, а евреи нет.
Неожиданно появились хорошие известия, которые вселили в нас надежду. Режим Муссолини пал. Британские и американские союзники наконец-то высадились в Европе. Свой путь к нам они начали с Сицилии.
Наши друзья в убежище пришли в восторг.
Главными оптимистами были господин Франк и Анна – они считали, что война скоро кончится. Доктор Дуссель и госпожа ван Даан проявляли осторожный оптимизм. Госпожа Франк, господин ван Даан, Марго и Петер оказались самыми осторожными из всех. Они полагали, что союзники освободят нас еще не скоро.
Когда большой радиоприемник в кабинете господина Франка пришлось настроить на немецкую волну, господин Коопхейс сумел раздобыть для убежища небольшой приемник в рабочем состоянии. Теперь нашим друзьям не нужно было спускаться, чтобы послушать Би-би-си или «Радио Оранж». Наш приемник, который Хенк принес в убежище по частям, все еще лежал разобранным на чердаке.
До переезда Франки и ван Дааны сумели создать огромный запас мыла. Его хватило больше чем на год. Но теперь оно заканчивалось, и это порождало новые проблемы для наших друзей, которые всегда отличались особой аккуратностью. В магазинах найти мыло даже по купонам было очень трудно. Кроме того, это синтетическое мыло почти не мылилось и оставляло серую пленку на воде. Каждый день купить что-то становилось все труднее, и поход за покупками превращался в настоящее испытание. Магазины были почти пусты. Когда что-то появлялось, выстраивались длинные очереди.
Как-то утром я окончательно обессилела. Уже многое нагрузила на свой велосипед и пыталась закончить покупки. Я собиралась свернуть за угол, и тут меня сбил мотоцикл с коляской, где сидели два немецких солдата. Я успела спрыгнуть с велосипеда, но во мне что-то вскипело.
Я редко теряю самообладание, но тут слова сами сорвались с моих губ.
– Вы – гадкие, мерзкие… мерзкие люди!
Тут же сообразила, что голландцев расстреливали и за меньшие провинности. Но я не думала о последствиях – мне хотелось оскорбить этих захватчиков.
Я стояла возле упавшего велосипеда и кричала на солдат. Водитель остановил мотоцикл и смотрел на меня. Мотор так шумел, что мне стало ясно – они могут и вовсе меня не слышать. Потом немцы рассмеялись и укатили прочь.
Во время столкновения мимо проезжал трамвай. Водитель и пассажиры все видели. Все еще пылая гневом, я подняла велосипед и медленно покатила по улице, давая трамваю проехать. Но водитель сделал жест, как будто приподнимает шляпу, и пропустил меня. Он понимал, что мне грозило, хотя я сама под влиянием эмоций все еще плохо соображала, – и отдал мне честь.
Сердце мое отчаянно заколотилось, когда я осознала, что произошло. В тот день я принесла в убежище небольшой пакет и книгу для доктора Дусселя и рассказала о произошедшем нашим друзьям. Все поняли, в какой опасности я была. Позже господин Франк сказал мне, что в свертке лежала антинацистская книга, и все очень за меня беспокоились. Если бы ее обнаружили, мне грозила бы тюрьма или смерть.
– Как вы могли подвергнуть Мип такому риску? – возмутилась Анна.
– Никто не устоит перед нашей Мип, – едко ответил доктор Дуссель.
Но Анна была оскорблена.
– Когда в опасности Мип, то в опасности и мы все, – отрезала она.
Однажды, когда я пришла в убежище, Анна принялась мерить свою одежду, представляя, в чем можно было бы вернуться в школу. Она без умолку болтала, а мы улыбались, глядя на нее. Рукава всех свитеров доставали ей лишь до локтя, а пуговицы не застегивались – так изменилось ее тело. Анна расстроилась, но попыталась скрыть огорчение за шуткой.
Порой Анна вела себя, как непосредственный ребенок, но в ней постепенно появлялась новая зрелость и женственность. Она пришла в убежище девочкой, но выйти отсюда должна была женщина. Мы с ней очень сблизились. Порой я без слов понимала ее чувства и желания. Я понимала ее, как женщина женщину. Наш безмолвный язык формировался день за днем, неделя за неделей. Я изо всех сил пыталась удовлетворить ее потребности.
Анна росла и все больше ценила мое общество и общество других гостей из внешнего мира. Марго и Петер не особо сблизились со мной и Хенком. Они никогда ни о чем не просили и не высказывали никаких пожеланий. Анна же всегда любила меня по-настоящему.
Анна воспринимала нас с Хенком как романтических героев. Так было в детстве, так это осталось и в юности. Тяжелые внешние обстоятельства не изменили ее натуры. Высокий, обаятельный, авторитетный Хенк не мог не нравиться юной восторженной девушке. Он никогда не унывал и буквально излучал энергию и жизненную силу. Его едкое остроумие и неисчерпаемые знания привлекали всех вокруг.
Мне казалось, что Анна постоянно изучает меня, восхищается моей независимостью и уверенностью в любых обстоятельствах. Похоже, ее восхищала и моя женственность. Что бы я ни надела и как бы ни причесалась, она всегда говорила мне комплименты и задавала массу вопросов. Она по-разному причесывала свои густые, блестящие темно-русые (почти черные) волосы. Она пыталась экспериментировать с одеждой, чтобы выглядеть более женственно или взросло.
Я испытывала особую симпатию к Анне, которая вступила в очень важный период жизни в столь тяжелые времена. Юные четырнадцатилетние девушки только начинают прихорашиваться – и как много это для них значит! К сожалению, в наших обстоятельствах ни о каком прихорашивании речи быть не могло. Я чувствовала, что порой Анна считает себя красивой, а иногда – уродливой.
Когда я ходила за покупками, то всегда старалась найти что-то взрослое и красивое для Анны. Однажды мне попалось именно то, что нужно. Я нашла пару красных кожаных туфель на высоких каблуках. Туфли были поношенными, но в хорошем состоянии. Размер меня озадачил – будет очень печально, если туфли не подойдут. Но потом я решилась. Покупаю! И будь что будет!
Входя в убежище, спрятала туфли за спиной, подошла к Анне и поставила их перед ней. Я никогда не видела такого счастливого человека, какой была Анна в тот день. Она мгновенно примерила туфли, и они оказались ей впору.
Двигалась Анна очень осторожно – она никогда еще не ходила на каблуках. Она слегка пошатывалась, но была преисполнена решимости. Закусив верхнюю губу, она прошлась по комнате туда-сюда, и так несколько раз, пока окончательно не освоилась.
В конце лета и осенью 1943 года немцы начали охотиться на голландцев в возрасте от шестнадцати до сорока лет. Мужчин отправляли в Германию для «трудовой службы» – так это называлось. Кого-то призывали повесткой, а кого-то просто хватали на улицах. Подъезжали военные грузовики, из них выпрыгивали полицейские с ружьями и заталкивали мужчин в машины.
Это еще больше осложняло нашу жизнь. Хенку было тридцать восемь, и он выглядел здоровым и крепким, насколько это было возможно в такие времена.
Как-то вечером, когда мы оба вернулись с работы, уставшие и измученные, Хенк сказал, что ему нужно сказать мне что-то очень важное.
– Я был у себя конторе и пошел в туалет помыть руки. Следом за мной вошел мой коллега, отличный парень, я хорошо его знаю. Убедившись, что рядом никого нет, он напрямую спросил, готов ли я войти в группу Сопротивления, созданную у нас на работе. Он предложил мне хорошенько подумать – это противозаконно и очень опасно. Я спросил его, что это за деятельность и кто в ней участвует. Он ответил, что из двухсот пятидесяти сотрудников нашего отдела решился обратиться только к восьмерым. Я был удивлен таким доверием – он даже назвал мне некоторые имена. Разумеется, я сразу же согласился.
Я слушала, стараясь не выдать своих чувств.
– Когда я дал согласие, – продолжал Хенк, – он сказал, что мне нужно пойти к доктору, который работает на городскую администрацию. Мы пошли вместе, и доктор записал мое имя. Если у меня возникнут проблемы или нужно будет исчезнуть на несколько дней, я смогу прийти в определенную больницу и назвать имя этого доктора. Тогда меня положат в больницу и позволят быть там какое-то время, пока проблемы не решатся или не будет решено отправить меня в убежище.
Я ждала, что Хенк расскажет мне, в чем будет заключаться его опасная новая работа, но он ничего не сказал.
– Понимаешь, Мип, – сказал он, – я хочу, чтобы ты знала, что я работаю на Сопротивление. Это опасно, и может случиться что угодно. Ты должна быть к этому готова.
Я была женой этого мужчины и не могла не волноваться за него. Я страшно боялась, что с ним может что-то случиться. Но я тоже не собиралась мириться с оккупацией и была рада, что он нашел новый способ бороться с захватчиками. Он умолял меня не тревожиться.
– Если я вдруг не вернусь однажды вечером, спокойно жди известий.
Я посмотрела на него, словно говоря: «Как я смогу оставаться спокойной?!»
– Беспокойся, только если тебе позвонят из больницы. Это единственный повод для волнения, – пояснил Хенк.
Мы решили не говорить об опасной работе нашим друзьям в убежище. Больше Хенк ничего не сказал, и я не стала расспрашивать. Но меня не оставляли смутные догадки, и я все же решилась:
– Хенк, а как долго ты занимаешься этой работой?
– Примерно полгода, – ответил он. – Я не говорил тебе, чтобы ты не волновалась.
Все лето в Амстердаме продолжали хватать евреев. В воскресенье, в один из самых чудесных дней года, немцы устроили большую облаву в нашем Речном квартале в Южном Амстердаме. Все улицы были перекрыты. Подъехало много полицейских грузовиков. В них плечом к плечу сидели полицейские в зеленой форме. Солдаты перекрыли мосты и блокировали перекрестки, чтобы никто не ускользнул.
Раздались пронзительные свистки, тяжелый топот сапог, удары прикладами в двери, долгие звонки, хриплые, устрашающие крики:
– Открывайте! Быстро! Быстро!
Мы с Хенком весь день были дома. И целый день из домов вытаскивали несчастных евреев с желтыми звездами Давида на груди, с чемоданами и рюкзаками. В окружении полицейских эти люди шли по улице, прямо под нашими окнами. Это было чудовищное зрелище, настолько ужасное, что мы не могли на это смотреть.
В тот же день, ближе к вечеру, в нашу дверь робко постучали. Я открыла. На пороге стояла наша соседка сверху – я мало ее знала. Ей было около сорока, она всегда очень хорошо одевалась и работала в одном из самых лучших и дорогих магазинов женской одежды на Лейдсеплейн – в «Хирше». Я не раз любовалась нарядами в витрине этого магазина, но все они были мне не по карману.
Эта женщина жила со своей престарелой матерью прямо над нами. Они были еврейками.
Женщина держала на руках пушистую кошку и кошачью переноску.
– Пожалуйста, – умоляюще заговорила она со страхом в глазах, – пожалуйста, возьмите моего кота и отдайте его в приют или… или, если можете, оставьте у себя…
Я сразу же все поняла. Немцы уводят ее, и осталось совсем мало времени на сборы.
– Давайте…
Она передала кота мне. Никогда и ни за что я не отнесу его в приют! Ни за что!
– Я позабочусь о нем до вашего возвращения, – сказала я соседке.
– Его зовут Берри, – пробормотала она и быстро ушла.
Кот был почти белым, лишь немного черного на спинке. Он смотрел на меня. Я прижала его к груди и вернулась в комнату.
Кот сразу же почувствовал себя как дома. Какой он был милый! Я полюбила его с первого взгляда.
Берри стал нашим ребенком. Каждый день он ждал в коридоре возвращения Хенка, прыгал ему на руки и нежно терся о его подбородок.
Глава 13
Мы с Элли занимались конторской работой – готовили документы и счета, вели бухгалтерию, Марго и Анна помогали нам по вечерам. Мы всегда оставляли девочкам работу в задних кабинетах, а на следующий день утром находили ее выполненной. Но Марго с Анной никогда не заходили в саму контору, потому что шторы на окнах не закрывались.
Девочкам нравилось помогать нам. Они чувствовали себя маленькими ночными феями. Когда все уходили, и двери закрывались, они спускались, выполняли наши задания и уходили к себе. На следующий день никто не догадывался, что в конторе кто-то побывал.
Другие наши друзья тоже пользовались задними кабинетами, когда контора была закрыта – по вечерам и по выходным. Доктор Дуссель начал изучать испанский и часто занимался в кабинете господина Франка, где ему никто не мешал. Возможность уединиться для наших друзей была настоящей роскошью.
На нашей кухне был небольшой нагреватель воды, который невозможно было увидеть с улицы. По выходным наши друзья могли пользоваться туалетной комнатой и мыться горячей водой. Я знала, что иногда они спускаются для того, чтобы сменить обстановку или просто побыть в одиночестве.
Наступающие холода никого не радовали. Вторую зиму им предстояло провести в убежище. Мы не думали, что война продлится так долго, но возлагали особые надежды на эту зиму – союзники должны добиться успеха.
Зима приближалась. И тут госпожа Франк стала вести себя странно. Когда я уходила, она спускалась следом за мной до самого книжного шкафа. Казалось, она провожает меня, но она не прощалась, а стояла с просительным выражением лица. Я останавливалась и ждала, что она скажет, но она просто стояла и смотрела.
Я начала испытывать неловкость, не понимая, чего она хочет. В конце концов я догадалась, что ей нужно поговорить со мной наедине, когда никого не будет рядом, и стала оставаться в убежище подольше. Мы с госпожой Франк уходили в ее комнату, садились на край кровати, и я слушала ее.
В присутствии других она не могла признаться в своем глубоком отчаянии. Все считали дни до прихода армий союзников и постоянно говорили о том, что они сделают, когда война кончится. Но госпожа Франк считала, что этого никогда не будет, и стыдилась своих мыслей.
Иногда она жаловалась на госпожу ван Даан – никто из убежища никогда ничего подобного не делал. Если между ними и существовала какая-то напряженность, никто из нас об этом не слышал. Но госпоже Франк отчаянно нужно было рассказать об этом.
Она жаловалась, что госпожа ван Даан слишком нетерпимо относится к ее девочкам, особенно к Анне, считая ее слишком свободной. Она всегда говорила об этом за столом. Она говорила: «Анна так откровенно высказывается. Она слишком свободна». Критика в адрес дочерей больно ранила госпожу Франк.
Тихим шепотом она рассказывала мне о своих тайных страхах.
– Мип, мне кажется, это никогда не кончится, – говорила она.
Однажды она сказала:
– Мип, запомни: Германия не выйдет из этой войны такой же, какой ее начала.
Я внимательно и сочувственно выслушивала госпожу Франк. Когда мне нужно было уходить, приходилось ее прерывать, потому что меня ждали другие дела. Я всегда обещала, что мы обязательно поговорим еще.
Я оставляла ее в комнате печальной и подавленной.
Зимой 1943 года евреев в городе не осталось. Я не видела никого из них в нашем Южном Амстердаме. Их либо депортировали, либо они сумели найти убежище и скрыться. Я боялась думать о том, что стало с этими людьми. Ходили страшные слухи. Когда еврейские квартиры в нашем квартале опустели, все имущество и мебель оттуда вывезли. Стали появляться новые жильцы. Мы не знали, кто эти люди и откуда они взялись. Мы и не спрашивали. Мы знали, что местные нацисты составляют целые списки своих сторонников, претендующих на новые квартиры.
Теперь евреев можно было увидеть только в каналах, где порой проплывали трупы. Иногда их выбрасывали туда те же люди, которые их укрывали: смерть в убежище была худшим из того, что только можно себе представить. Что делать с трупом? Это была ужасная дилемма, потому что достойно похоронить еврея не было никакой возможности.
Еще один страх, который мучил нас всех: что делать, если кто-то заболеет? Мы столкнулись с этим зимой. Как-то вечером мы с Хенком вернулись домой и обнаружили, что Карел ван дер Харт буквально согнулся от боли, обхватив голову руками. Мы беспомощно смотрели друг на друга. Что бы ни произошло, мы знали, что не можем отвести его к врачу или в больницу – у него не было нормальных документов. Мы должны были справляться сами.
Карел так страдал, что я сперва даже не смогла понять, что за боль его мучает. В конце концов я поняла, что у него болит лоб. Он говорил, что боль «ослепляющая, словно кто-то вонзил нож в голову».
Мы с Хенком уложили и укрыли его. Я не представляла, что делать.
Карел стонал и метался. Я поставила греть воду, потом намочила салфетку, села рядом и положила горячую салфетку ему на лоб. Я пыталась хоть как-то его успокоить.
Я не знала, правильно ли поступаю, но продолжала смачивать салфетку в горячей воде и прикладывать к его лбу. Хенк стоял в дверях и встревоженно на нас поглядывал. Боль не утихала. Прошла ночь. Мои процедуры не помогли. Я стала думать о самом плохом, и все же продолжала прижимать горячую салфетку ко лбу несчастного юноши.
Я не собиралась сдаваться. За темными шторами послышались первые утренние звуки – наступило утро. Неожиданно Карел громко застонал, и из его носа рекой хлынул гной. Когда это кончилось, Карел заморгал, хватая ртом воздух. Потом он поднял руку и с облегчением посмотрел на меня.
– Мип, мне лучше… Боль прошла…
До сих пор не знаю, что с ним было. Нам повезло, что проблема решилась так же неожиданно, как и возникла.
Зима выдалась особо холодной и бурной. С каждым днем продуктов становилось все меньше. Мне приходилось долго колесить по скользким улицам под колючим ледяным дождем в поисках пищи. Я не могла давать себе поблажку. Одиннадцать человек должны были что-то есть, и я была единственным добытчиком. Я чувствовала себя охотницей, вышедшей за добычей, чтобы прокормить свое вечно голодное племя. Постепенно я превращалась в стервятника, готового подбирать даже падаль. Я не могла позволить себе заболеть или отдохнуть.
Болезни – наш главный страх – продолжали преследовать нас. Сначала господин Коопхейс снова оказался в больнице с желудочным кровотечением. Я растянула щиколотку, когда ехала на велосипеде с ужасной простудой, а потом свалилась с гриппом. Боясь заразить остальных, я осталась дома в постели.
Я то просыпалась, то снова проваливалась в сон. Меня бросало в жар, а потом начинало колотить от дрожи под несколькими одеялами. Я постоянно думала о наших друзьях в убежище. Тревога за них тяжким грузом давила мне грудь. Что с ними будет? Что будет? Ни о чем другом я не могла думать.
Я знала, что деньги ван Даанов подходят к концу. Господин Коопхейс тайно продал некоторые их вещи и теперь пытался продать на черном рынке меха и украшения госпожи ван Даан. Полтора года полной бездеятельности и изоляции начинали влиять на нервы людей.
Марго и Петер становились все более замкнутыми. Я замечала неразрешенные конфликты, хотя все встречали меня очень приветливо. Анна все чаще уединялась со своим дневником или сидела на чердаке в полном одиночестве.
Тревога мучила меня даже дома. Я не могла долго оставаться без дела. Хоть и не поправилась до конца, но при первых же признаках выздоровления поднялась и принялась за свои обязанности.
Затем болезнь подкосила семью Элли – дифтерия. Она была так заразна, что Элли не могла работать больше месяца.
Все эти беды не улучшали настроения. В убежище воцарилась мрачная атмосфера. Надо было придумать хоть что-то, что развеселит наших друзей в преддверии праздников. Я начала откладывать все сладости, какие мне удавалось раздобыть: ничто так не поднимает настроение, как сладкое. Тайно копила масло и муку – мне хотелось испечь настоящий торт.
Повторить грандиозный День святого Николая нам вряд ли удалось бы. Но у Анны были другие идеи. После того праздника она вышла из своей депрессии и вступила в тайный сговор с отцом. Господин Франк и Анна сочинили веселые стишки для всех и устроили веселый вечер-сюрприз, наполнив большую корзину туфлями и ботинками. Хозяева обуви обнаружили в них оригинальные, забавные, а порой совершенно дурацкие стишки.
После праздника Анна слегла с сильным кашлем – это был настоящий грипп. Кашель был серьезной проблемой в дневное время. Его нужно было как-то приглушить. Анна довольно долго кашляла и сморкалась, стараясь делать это максимально тихо. Поднимаясь в убежище, я всегда ее навещала.
На Рождество Анна с гордостью вручила мне маленькие сливочные конфетки. Она сама сделала их для меня, помня о моей любви к сладостям. Она тоже тайком откладывала сахар, чтобы приготовить именно для меня эти конфетки. Анна заставила меня попробовать ее подарок сразу же, чтобы увидеть мою реакцию. Когда я облизывала пальцы, она смеялась. Глаза ее блестели.
Этим сюрпризом Анна опередила меня, и мне еще больше захотелось приготовить для нее и всех остальных самый лучший торт, какой только можно придумать. Запасы масла и сахара росли. Приближались последние дни года – короткие, темные и мрачные. Амстердам оставался во власти немцев. Союзники продолжали бомбить Германию, и гул самолетов по ночам не прекращался.
Я, Коопхейс, Элли, Кралер и Хенк запланировали свой сюрприз на пятницу накануне Нового года, когда можно будет задержаться в конторе до ухода всех работников, а потом преподнести нашим друзьям подарки, которые мы для них приготовили.
Рабочий день закончился. Пришел Хенк. Он дождался, когда все работники разъедутся на своих велосипедах, и вошел в контору. Мы понесли наши подарки по крутой лестнице. Хенк раздобыл на черном рынке пиво. Все принесли что-то вкусное, а я испекла свой особый торт со специями – Анна всегда его обожала.
Друзья радостно встретили нашу процессию. При виде моего торта у всех потекли слюнки. Госпожа Франк залила эрзац-кофе горячей водой. Мы разлили пиво по стаканам и собрались вокруг стола. Анна обратила внимание на надпись на моем торте и громко прочитала ее вслух. Под пиво и кофе мы все произнесли заветный тост: «За мир в 1944 году!»
Как-то вечером Хенк не вернулся с работы. Я, как обычно, пришла домой, разожгла огонь и начала готовить ужин. Я ждала знакомых звуков: вот открывается дверь, велосипед встает на свое место в коридоре, Берри прыгает на руки Хенка и начинает ластиться к нему.
Но никто не приходил. Я сняла кастрюлю с огня и стала ждать. Даже Берри, который целыми днями бродил по улицам и садам, пока не возвращался Хенк, ждал вместе со мной. Я занялась мелкими домашними делами – и ждала. С каждой минутой нервничала все больше. Хенк был очень пунктуален. Я привыкла к его предсказуемости – каждый день он возвращался в одно и то же время.
В последнее время Хенк немного рассказывал мне о своей работе в Сопротивлении. Он говорил, что его организация разыскивает тех, кому нужна помощь – мужчин, отказавшихся поехать на работу в Германию, ушедших в подполье и лишившихся работы. Эти люди больше не могли прокормить себя и свои семьи.
Многим грозила опасность в эти дни. Это были такие же люди, как мы. Мы могли оказаться на их месте. Хенк навещал их по паролям и особым спискам. Он оценивал их положение, а затем с помощью своей организации передавал им то, что было нужнее всего: продуктовые карточки и деньги. Поскольку Хенк работал в социальной службе, то мог посещать нуждающихся, не вызывая подозрений.
Я ждала его и места себе не находила. Я не знала, что делать, куда бежать, с кем поговорить. Хенк просто сказал мне, что, если его арестуют, мне сообщат. В такой ситуации чем меньше знаешь, тем лучше.
Время шло. Мне становилось все хуже. Я не могла отделаться от ужасных мыслей: Хенка арестовали, его пытают…
Оставаться дома я не могла. Надела пальто и вышла в ледяную ночь. Из ближайшей телефонной будки я позвонила зятю Хенка. Он занимался импортом и имел связи в полиции Амстердама.
Он снял трубку сразу же.
– Хенк не вернулся домой, – пробормотала я.
К моему изумлению, зять мужа рассмеялся.
– Ну и что? – ответил он. – Он сидит у меня и выпивает. Сегодня мой день рождения.
Я вздохнула с облегчением и почувствовала себя полной идиоткой.
– Хочешь с ним поговорить?
– Нет, пусть отдыхает. Не говори, что это я звонила.
Я вернулась домой и укутала кастрюлю поплотнее, чтобы еда осталась теплой до его возвращения.
На столбах и стенах появились большие объявления в зловещих черных рамках. В них сообщалось о казнях борцов Сопротивления, назывались имена, возраст и род занятий. Тем, кто укрывал евреев, приходилось еще хуже.
Наши друзья всегда расспрашивали нас о жизни за стенами убежища и особенно о Сопротивлении. Хенк был прекрасным рассказчиком. Он рассказывал о борьбе с захватчиками. Кот Петера усаживался на его коленях, а Анна ловила каждое его слово. Глаза у нее горели от восторга.
Естественно, Хенк не говорил, что сам работает в Сопротивлении. Он не хотел их тревожить. Не говорили мы и о Кареле, который прятался в нашем доме. Мы не рассказывали ничего, что могло бы их напугать или встревожить.
В феврале я снова заболела – грипп и бронхит. Все мы болели по очереди. Хенк старался проводить в убежище больше времени, чтобы компенсировать мое отсутствие. Друзья нуждались в наших визитах все больше.
Хотя никто не жаловался, я знала, что запасы пищи, сделанные заранее, подходят к концу. То, что удавалось найти мне, порой оказывалось подгнившим и испорченным, и все же мне приходилось это покупать. От плохой еды у всех начались проблемы с желудком. Найти жиры, особенно масло, стало почти невозможно. Господин ван Даан был страстным курильщиком. Иногда ему приходилось довольствоваться эрзацем, а порой не находилось ничего, и это действовало ему на нервы. Герман ван Даан душу бы продал за сигарету.
Когда же союзники начнут вторжение? Мы уже давно слышали, что планируется грандиозная высадка, которая освободила бы нас раз и навсегда. Мы ждали этого события со дня на день.
В феврале 1944 года мне исполнилось тридцать пять. Но гораздо важнее для нас был день рождения Марго – на следующий день. Ей исполнилось восемнадцать, и нужно было проявить к ней особое внимание. Все мы приготовили для нее маленькие подарки. Мы никогда не забывали о днях рождения наших друзей.
В день моего рождения госпожа ван Даан неожиданно отозвала меня в сторону и попросила выйти в коридор к лестнице. Я приготовилась к плохим известиям, но она вдруг посмотрела мне прямо в глаза:
– Мип, мы с Германом хотели бы выразить свои чувства, но не нашли слов. Примите это в знак нашей любви и дружбы… Вот…
Она сунула мне в руку маленькую коробочку.
– Откройте!
– Это вовсе не обязательно… – заговорила я, но она приложила палец к моим губам.
– Откройте!
Я открыла коробочку. Там лежало кольцо с черным ониксом, в центре которого сверкал бриллиант. Прекрасное старинное кольцо! Но я сразу же запротестовала, представив, сколько сигарет и колбасы можно купить на черном рынке за эту вещь. Ван Дааны продали через господина Коопхейса почти все, что у них было. Но госпожа ван Даан закрыла мне рот рукой, призывая к молчанию. Я посмотрела ей прямо в глаза и сказала:
– Я буду носить это кольцо вечно – в знак нашей дружбы.
Кольцо идеально село на указательный палец. Госпожа ван Даан сжала мое плечо, и мы разошлись.
В конце февраля контору снова ограбили, и это заставило нас понервничать. На сей раз воры оставили главную дверь распахнутой. Нас охватил настоящий ужас. Слышал ли грабитель, что наверху есть люди? Был ли это тот же человек, что и раньше? Не обратился ли он в полицию, чтобы получить награду?
Нашим друзьям не нравился Фриц ван Матто, который заменил господина Фоссена. Хотя они никогда с ним не встречались, но почему-то не доверяли ему и постоянно спрашивали нас, чем он занимается. Они нервничали также из-за того, что много отчаявшихся людей бродило по улицам Амстердама. Некоторые становились ворами, чтобы как-то прожить.
Наконец, настал март. Холодные, темные дни остались в прошлом. Мы готовились встречать весну. Угля становилось все меньше. Порой отключали даже электричество – к счастью, ненадолго. Хенк узнал, что люди, которые снабжали наших друзей в убежище поддельными продуктовыми карточками, арестованы. И эта ниточка оказалась перерезанной. Выхода у нас не было – мы должны были сказать об этом. Благодаря своей подпольной работе Хенку удалось раздобыть пять продуктовых карточек, но на восьмерых этого было мало. Он обещал что-нибудь сделать. Наши друзья встретили это известие спокойно, но, конечно же, они были напуганы.
Однажды, когда я разбирала счета на своем рабочем столе, колокола на Вестеркерке пробили полдень. Я слышала, как работники хлопают дверью, отправляясь на обеденный перерыв. Потом наступила тишина. Хенк должен был прийти на обед, и я продолжала работать, ожидая его появления.
Услышав его шаги, я подняла голову. Муж был чем-то встревожен. Он сказал, что нам нужно поговорить, и я сразу же почувствовала тревогу.
Мы вышли прогуляться вдоль канала. Лед уже подтаял, виднелись проталины.
– Утром к нам домой приходили два «господина» из «Омниа» – как раз, когда я собирался уходить.
«Омниа» была немецкой фирмой, которой управляли голландские нацисты. Она занималась ликвидацией еврейской собственности и компаний, а также выяснением, почему какие-то компании не были ликвидированы.
– Я пригласил их в дом – выбора не было. Когда они вошли, я специально стал говорить громче, надеясь, что Карел услышит и не выйдет. Осмотревшись в гостиной, они объяснили цель своего визита. Похоже, сын госпожи Самсон когда-то занимался торговлей текстилем и использовал адрес матери в качестве официального. Они хотели выяснить, что случилось с ним и с его компанией.
– Я сказал, – продолжал Хенк, – что, насколько мне известно, он женился и вместе с женой переехал в другую часть Южного Амстердама. Что я не представляю, живет ли он на прежнем месте или был арестован. Я ничего о нем не слышал – и это, как ты знаешь, чистая правда.
Он помолчал, потом заговорил снова:
– Они стали обыскивать дом – открывали ящики, просматривали бумаги госпожи Самсон. Я думал только о том, что Карел где-то рядом. Эти люди вели себя очень грубо. Они обнаружили документы о собственности госпожи Самсон – мы никогда их не трогали, а они забрали. Потом они стали расспрашивать меня. Когда я женился? Как нашел квартиру и мебель? Естественно, я не мог сказать им, что, когда госпожа Самсон скрылась, мы оставили ее маленькую спальню и гостиную нетронутой.
Квартира была зарегистрирована на наше имя, поэтому никто не мог увезти «еврейское имущество» – мы хотели сберечь все для госпожи Самсон после войны. Мы даже говорили нашему домовладельцу (к тому времени он уже стал нацистом), что у нас есть еврейское имущество, которое мы перенесли в комнату госпожи Самсон. Тогда его это не заинтересовало, но, слушая Хенка, я поняла, что все изменилось. Возможно, именно домовладелец донес на нас в «Омниа». Хранить еврейское имущество было запрещено, но нас успокаивало то, что мы не скрыли этот факт от домовладельца, хотя сказали ему не всю правду. Мы никогда не трогали вещи госпожи Самсон и не заглядывали в ее документы, хранившиеся в доме.
– Я начал придумывать историю о покупке мебели, – продолжал Хенк, – но это их не интересовало. «Мебель вам не принадлежит», – заявили они. Я начал спорить, они меня не слушали. Потом они сказали: «Хорошо, гостиная, может быть, и ваша, но спальня явно нет. Вы не можете утверждать, что это ваша мебель». «Это наша мебель», – твердил я. Они покачали головой и сказали: «Мы вернемся завтра в час дня. Если вы не скажете правды, вас отправят в лагерь в Вугхт». С этими словами они ушли.
Хенк тяжело вздохнул.
– Тут появился Карел. Он все слышал. Услышав чужие голоса, он осторожно вышел на задний двор, потом через кухню пробрался в коридор, а оттуда в ванную. Он все время опережал нас на одну комнату… Но, Мип, я не собираюсь отдавать им мебель из спальни, – упрямо добавил он.
– Послушай, Хенк, – резко сказала я, – после войны мы купим другую спальню. А если тебя заберут, я не смогу купить себе нового мужа. Завтра ты должен признать, что это не наша мебель. Отдай им все. А сейчас давай обедать. Если придется спать на полу, значит, так и будет.
Хенк согласился со мной. На следующий день он стал ждать возвращения тех людей. Меня мучило беспокойство. Я не знала, что происходит у нас дома, не забрали ли Хенка. В конце концов муж позвонил и сказал, что никто не пришел.
Шли дни, но люди из «Омниа» не возвращались. Вскоре Хенк заметил одного из них в трамвае. Этот человек не обратил внимания на Хенка, и тот не стал ни о чем спрашивать. Потом Хенк снова видел того человека в трамвае, – и снова ничего не было сказано. Мы оставались в подвешенном состоянии, гадая, вернутся ли они.
Когда казалось, что уже ничего не случится, мы с Хенком пришли домой и застали Карела в возбужденном состоянии. Щеки его раскраснелись, глаза горели.
Он сразу же сообщил нам:
– Сегодня я был на скачках на ипподроме.
Мы подозревали, что он выходит из дома, но это известие нас поразило.
– Там была облава, – сообщил Карел.
– С тобой все в порядке?
– Да, все хорошо, но они спросили мой адрес.
– И какой адрес ты назвал?
– Ваш.
Кровь бросилась мне в лицо.
– Как ты мог так поступить? – воскликнул Хенк. – Теперь они придут сюда за тобой.
Услышав эти слова, Карел побледнел. Раньше он об этом не подумал.
– Ты должен уйти, – сурово сказал Хенк. – Мы все в опасности.
Карел все понял и отправился собирать вещи. Было слишком опасно спрашивать, куда он направляется. Он просто ушел из нашей квартиры.
Глава 14
Люди из «Омниа» не пришли. Полиция не искала у нас Карела ван дер Харта, и мы решили, что он может вернуться в нашу квартиру. Когда мы приехали навестить госпожу Самсон в Хилверсеме, выяснилось, что Карел дома. Он спросил, можно ли ему приехать в Амстердам. Мы ответили, что готовы его принять, и он может и дальше скрываться у нас на Хунзестраат.
Возвращаясь в Амстердам, мы обсуждали, действительно ли Карелу будет у нас безопасно. Ответа на этот вопрос не было. Каждый день арестовывали тех, кто скрывался. Облавы и предательства стали обычным делом. За доносы на евреев и скрывающихся платили все больше. Вскоре Карел вернулся в Амстердам и снова поселился у нас. Мы вернулись к старому: игры в шахматы с самим собой и ужин на троих.
Как-то после Пасхи мы с Хенком были дома. Был выходной, и нам не хотелось вылезать из теплой постели. Но довольно рано утром раздался звонок в дверь.
Я побежала открывать. Пришел господин Коопхейс, он был очень возбужден. Отто Франк позвонил ему из конторы. Ситуация становилась очень опасной.
Мы с Хенком бросились на Принсенграхт. Там все было перевернуто. В двери кто-то проделал огромную дыру. Все было разбросано. Я кинулась к книжному шкафу, свистнула, чтобы мне открыли, и поднялась наверх. Хенк последовал за мной. Все ли с ними хорошо? Сердце у меня колотилось.
На втором этаже я обнаружила такой же ужасный беспорядок. Я никогда не видела ничего подобного. Анна в слезах бросилась к нам и обняла меня за шею. Остальные столпились вокруг, словно наше присутствие и прикосновение могло их защитить. Все дрожали и говорили, перебивая друг друга.
Ночью в конторе раздался шум, он был все громче и громче. Беженцы поняли, что в доме кто-то есть. Они не шевелились всю ночь, терзаясь мыслями о том, что их могут схватить. Они были уверены, что вокруг рыщет полиция, которая вот-вот обнаружит убежище.
Хенк отправился чинить дверь. Я осталась с нашими друзьями, выслушивая и успокаивая их. Господин ван Даан повторял одно и то же:
– Я выкурил весь свой табак. Что я буду курить?
– Пойдемте, наведем порядок, – предложила я, и мы принялись убираться.
Когда уборка закончилась, вернулся Хенк. Я никогда не слышала, чтобы он говорил так сурово. Он строго-настрого запретил нашим друзьям спускаться вниз, особенно когда они слышат шум.
– Что бы ни случилось, оставайтесь за шкафом. Если что-то услышите, затаитесь. Молчите и ждите. Никогда не выходите.
Он не хотел пугать наших друзей, но напомнил, что скрывающихся постоянно арестовывают из-за их собственного легкомыслия. Люди забывают о том, что над ними висит постоянная угроза.
Господин Франк был согласен: нужно постоянно оставаться наверху. Он признал свою ошибку и заверил Хенка, что это никогда не повторится. На следующий день Анна напомнила, как я была счастлива, когда моя свадебная церемония завершилась и я стала настоящей голландкой.
– Я тоже хочу быть голландкой, – сказала она.
– Когда все кончится, – пообещала я, – ты сможешь стать, кем захочешь.
В условиях непрерывных лишений бурное наступление весны много для нас значило. В убежище Анна подводила меня к зашторенному окну – шторы теперь все время были влажными. Она показывала мне каждый новый росток зелени на большом каштане за нашим домом.
Величественное красивое дерево покрылось крупными зелеными почками. Анна каждый день наблюдала за их развитием, объясняла мне, как они выросли и насколько быстро набухают.
Как-то утром я более неторопливо, чем обычно, занялась привычными делами. В воздухе уже вовсю пахло весной, хотя было довольно холодно. По небу медленно и лениво ползли пышные облака. Я зашла в нашу овощную лавку на Лелиеграхт.
В очереди стояло несколько человек. Я попыталась через окно разглядеть, чем сегодня торгуют. Наконец подошла моя очередь, но вместо хозяина, который всегда щедро выдавал мне овощи, я увидела его жену. Она была расстроена.
– Что случилось? – спросила я.
– Моего мужа арестовали, – прошептала она. – Его забрали.
Сердце у меня упало. Когда человека забирали, из него могли выбить любую информацию о других.
– Он прятал евреев, – прошептала его жена. – Двух евреев. Не знаю, что теперь с ним будет.
Я быстро купила меньше, чем было нужно, и ушла.
Я думала об этом прекрасном человеке, который всегда находил для меня нужные овощи и даже доставлял тяжелые мешки с картошкой на Принсенграхт. Он наверняка понимал, что я кормлю скрывающихся, но никогда об этом не говорил. Что с ним будет? Что он скажет им, когда его начнут пытать? Выдаст ли он меня?
Арест хозяина овощной лавки стал для нас настоящей катастрофой. Благодаря его доброте я могла кормить восьмерых скрывающихся. Что же делать теперь? Куда идти? Я нервно направилась по Розенграхт в другой маленький магазинчик, находившийся в подвальном помещении.
Этот магазин принадлежал старой женщине, и я стала заходить туда каждый день. Что-то мне подсказывало, что она хороший человек, и у меня созрел план. Каждый день я разговаривала с ней чуть больше. Постепенно она стала встречать меня как старого друга, рассказывала о себе, о проблемах с детьми. Я внимательно и сочувственно ее выслушивала. Она окончательно освоилась и была со мной откровенна.
Поняв, что она мне симпатизирует, я стала каждый раз просить чуть больше, и она всегда давала мне все необходимое, одновременно изливая душу. Но я продолжала заходить в магазин на Лелиеграхт и покупать там немного, чтобы мое отсутствие не показалось странным.
Теперь мы особенно сильно мечтали о потеплении – было известно, что союзники смогут высадиться только в хорошую погоду. В мае погода была отличной, но высадка так и не состоялась.
В убежище все говорили только об этом. Наши друзья так страстно ожидали высадки союзников, будто она могла решить все проблемы. Друзья постоянно спорили с Хенком и друг с другом о том, где именно это произойдет.
Я тоже ждала с нетерпением, потому что положение становилось слишком тяжелым. Я впервые задумалась, как долго смогу кормить всех, кто был на моем попечении. Иногда я ходила из магазина в магазин, а потом отправлялась на черный рынок, и еды все равно не хватало.
И вот это произошло. Высадка началась в Нормандии.
6 июня мы узнали об этом из передачи Би-би-си. У нас с Хенком радио не было, но уже по пути на работу я почувствовала особое оживление и напряжение. Люди стали такими, какими не были уже долгое время. Когда я добралась до Принсенграхт, то уже все знала.
Господин Коопхейс сжал мою руку:
– Да, это правда!
В убежище все буквально прилипли к приемнику, жадно ловя любые новости. Должен был выступить генерал Эйзенхауэр. Все гадали, сколько дней понадобится, чтобы с побережья Нормандии дойти до Нидерландов.
В обед к нам поднялся Хенк. Его щеки раскраснелись от возбуждения. Мы уселись вокруг приемника и впервые услышали чисто американскую речь Эйзенхауэра. Мы утирали слезы, а он говорил о том, что полная победа над Германией будет одержана в этом, 1944 году.
Господин Франк каждый день отмечал продвижение союзников на карте. Цветные булавки постепенно приближались к Голландии. В июне Анне исполнилось пятнадцать. Мы, как всегда, приготовили ей небольшие подарки, чтобы сделать этот день особенным. Хотя Анна очень изменилась и выросла, она все равно оставалась самой младшей и непоседливой. Она быстро находила применение любому листку бумаги, который я ей приносила. Я знала, что ей нужна бумага для занятий и дневника. На этот день рождения мы с Элли приготовили ей небольшую стопку блокнотов, а мне удалось разыскать на черном рынке немного сладостей – Анна была большой сладкоежкой.
Прямо перед днем рождения Петер, который не отличался разговорчивостью, отозвал меня в сторону, сунул мне в руку несколько монет и попросил купить красивые цветы для Анны. Эта просьба меня приятно удивила. Я заметила, каким сильным он стал, как красиво вьются его русые волосы. Новая, нежная сторона его характера глубоко меня тронула.
– Но это секрет, Мип, – предупредил он.
– Конечно! – кивнула я.
Об этом не нужно было говорить.
Найти я смогла только несколько лавандовых пионов. Я вручила Петеру цветы, он покраснел и скрылся с цветами в своей комнатке под лестницей.
Как-то в июле один из наших коммивояжеров приехал с большим ящиком грязной, но очень свежей и спелой клубники.
– Это подарок для ваших работников, – объяснил он.
По субботам мы работали только до обеда. Я ни о чем другом и думать не могла, только о спелой клубнике. Наконец в полдень работники разошлись. Остались только самые доверенные люди – господин Кралер, господин Коопхейс, я и Элли. Кто-то поднялся в убежище, чтобы сообщить нашим друзьям, что все ушли и можно двигаться более свободно.
Я от природы склонна командовать. Когда решила превратить ягоды в джем, то стала действовать и быстро нашла себе помощников. Друзья спустились сверху, мы собрались на кухне, которую было не видно с улицы. Все хотели мне помочь. Мы набрали воды, почистили клубнику, избавились от веточек и грязи, все помыли. Занимались мы этим делом и наверху, и внизу. Мои помощники курсировали между двумя кухнями. Настроение у всех было прекрасным. Сильно пахло душистыми ягодами, которые превращались в джем. Я заметила, что все держатся совершенно свободно, разговаривают, смеются и шутят друг с другом. Казалось, жизнь неожиданно стала нормальной, и мы можем делать все, что захочется.
Я отлично умела варить джем, и все меня слушались. Но никто не воспринимал меня всерьез. Когда я ругала тех, кто ел ягоды, а не бросал их в воду, все только смеялись. Анна так набила рот клубникой, что с трудом разговаривала. Так же вели себя Петер и госпожа ван Даан. А потом все принялись смеяться еще сильнее: хотя я их ругала, но и сама не упустила случая угоститься сладкими ягодами.
В тот день все было прекрасно. Даже наши кошки – Муши и Моффи – свернулись клубочками, наслаждаясь этим счастливым моментом.
В один жаркий июльский день я закончила работу пораньше. В конторе было тихо и сонно. Я решила подняться в убежище и поговорить с тем, кто захочет. Такие внезапные визиты всегда радовали наших друзей – время текло для них быстрее.
Я поднялась по крутой лестнице, прошла мимо комнаты господина и госпожи Франк и увидела Анну возле зашторенного окна. Я вошла. Мои глаза не сразу привыкли к сумраку – в конторе было намного светлее. Анна сидела за старым кухонным столом возле окна. Со своего места она могла видеть большой каштан и сад, но при этом оставаться незамеченной.
Анна что-то увлеченно писала и не замечала меня. Я тихо стояла в дверях и уже собиралась уходить, когда она вдруг обернулась.
Мы с ней общались часто. Анна была как хамелеон, ее настроение быстро менялось, но она всегда держалась очень дружелюбно, обожала меня и восхищалась мной. Но в тот момент я заметила на ее лице выражение, которого не видела прежде. Это была мрачная сосредоточенность, словно у нее мучительно болит голова. Вид ее так поразил меня, что я ничего не могла сказать. Я молчала и глядела в мрачные глаза Анны. Она казалась чужой и незнакомой.
Меня заметила госпожа Франк – я услышала ее мягкие шаги за спиной. Когда она заговорила, я сразу поняла, что она недовольна ситуацией. Она заговорила по-немецки – это случалось только в самые сложные моменты. И все же голос ее был очень мягким и добрым.
– Да, Мип, наша дочь – писательница.
При этих словах Анна поднялась, закрыла книгу, в которой писала, и с тем же мрачным выражением произнесла суровым тоном, какого я никогда не слышала:
– Да, и о тебе я тоже пишу.
Она продолжала смотреть на меня. Я подумала, что надо что-то сказать, но смогла выдавить из себя только сухое:
– Это очень мило…
Я повернулась и вышла. Мрачное настроение Анны меня встревожило. Дневник становился ее настоящей жизнью. Сама того не желая, я ворвалась в очень интимный и глубоко личный для нее процесс. Я спустилась в контору расстроенная и весь день думала об этом. Наверху была не Анна – ее мое появление не смутило бы. Это был другой человек.
Голос Гитлера по радио стал еще более истеричным, слова часто не имели смысла. Было очевидно, что он пытается вдохнуть новую ярость в своих отступающих солдат. Он кричал о таинственном новом оружии, которое делают на его заводах, и грозил союзникам сокрушительным ударом. Это был голос отчаявшегося фанатика, а не военачальника.
Но несмотря на приближение союзников, жизнь в Амстердаме становилась все тяжелее. Иногда я сидела за своим столом, постукивая кончиком карандаша по подоконнику и бездумно глядя на канал. Хотя у меня было полно работы, я не могла сосредоточиться. Думала о своих друзьях – их не было слышно, но я знала, что они рядом. Чувствовала себя слишком слабой, чтобы помочь им. Господи, думала я, что еще я могу сделать? В какой магазин еще не зашла? Что с нами будет?
Тяжелее всего в такие моменты было то, что я не могла ни с кем поговорить об этом – ни поделиться с господином и госпожой Франк, ни рассказать о своих чувствах господину Коопхейсу, с которым общалась чаще всего. Я не могла сказать об этом даже Хенку – у него была тяжелая работа, и я не хотела обременять его своими переживаниями.
Когда у меня выдавался особенно трудный день, домой я приходила совершенно без сил. Иногда замечала, что и Хенк совершенно измотан. Мы не жаловались друг другу. Я просто старалась приготовить самый вкусный ужин из того, что у нас было. Мы с Хенком и Карелом садились за стол. Карел часто болтал – в своей вынужденной изоляции он скучал по обществу. Мы с Хенком в основном молчали. Иногда ходили к нашим друзьям напротив – невзирая на комендантский час – и слушали голландские новости из Лондона.
Знакомый голос произносил: «Добрый вечер. Вы слушаете «Радио Оранж» из Лондона. Но сначала несколько сообщений: «Сойка ходит по крыше», «У велосипеда спустили шины», «Автомобиль едет не по своей полосе».
Эти бессмысленные фразы были шифрованной информацией для подпольщиков.
«Радио Оранж» сообщало новости о бригаде принцессы Ирены, которая сражалась вместе с канадцами с момента высадки в Нормандии. Мы с гордостью узнали о том, что двести пятьдесят голландцев воюют в английской авиации.
В конце июля произошло серьезное покушение на жизнь Гитлера. Несколько часов все думали, что он погиб, но потом он выступил по германскому радио, чтобы развеять сомнения.
Через несколько дней «Радио Оранж» сообщило, что Двенадцатая армия под командованием генерала Брэдли прорвала германский фронт. Затем Третья армия генерала Паттона взяла Авранш. Казалось, Западный фронт трещит по швам. Мы думали, что немцы скоро отступят.
Новости были моим лучшим лекарством.
Лежа в постели, я слышала, как английские бомбардировщики летят в Германию, как стреляют пушки противовоздушной обороны. Днем в том же направлении пролетали американские бомбардировщики. Силы возвращались ко мне. Ночью «Радио Оранж» сообщало о разбомбленных германских городах – Гамбурге, Берлине, Штутгарте, Эссене…
Я могла лишь надеяться, что эта ужасная война вот-вот кончится. Мы все знали, что это случится скоро.
Часть третья. Самые тяжелые дни
Глава 15
Была самая обычная пятница, 4 августа 1944 года. Утром я, как всегда, поднялась в убежище, чтобы забрать список покупок. Наши друзья истосковались за долгую, одинокую ночь. Они были рады меня видеть. У Анны, как всегда, было много вопросов. Она хотела поговорить со мной. Я пообещала, что вернусь днем с покупками, и мы поговорим, как следует, но пока мне было некогда. Я вернулась в контору и занялась делами.
Рядом со мной работали Элли Фоссен и господин Коопхейс. Где-то около двенадцати я подняла глаза. В дверях стоял человек в гражданском. Я не слышала, как открылась дверь. Человек наставил на нас револьвер.
– Не двигайтесь, – приказал он нам на голландском языке. – Оставайтесь на своих местах.
А затем он прошел в кабинет, где работал господин Кралер. Мы окаменели от ужаса.
– Мип, похоже, это случилось, – прошептал господин Коопхейс.
Элли задрожала. Господин Коопхейс смотрел на дверь, но оттуда никто больше не появился. Видимо, человек с револьвером был один.
Как только он вышел из нашего кабинета, я быстро вытащила из сумки фальшивые продуктовые карточки, деньги и обед Хенка и стала ждать. Обычно в это время Хенк приходил обедать. Скоро на лестнице раздались его знакомые шаги. Он не успел войти, как я подбежала к двери, схватила его за руку и проговорила:
– Хенк, у нас небезопасно.
Я сунула ему в руки собранное и вытолкала его прочь. Хенк сразу все понял и исчез.
Сердце колотилось у меня в груди. Я вернулась к столу, где велел мне оставаться человек с револьвером.
Когда Хенк ушел, господин Коопхейс заметил, что Элли вся дрожит и плачет. Он достал из кармана бумажник, передал его Элли и сказал:
– Возьмите это. Идите в аптеку на Лелиеграхт. Хозяин – мой друг. Он разрешит вам воспользоваться телефоном. Позвоните моей жене, расскажите, что случилось, и бегите.
Элли испуганно посмотрела на меня. Я кивнула. Она взяла бумажник и бросилась к двери.
Господин Коопхейс посмотрел на меня и сказал:
– Мип, вы тоже можете уйти.
– Не могу, – ответила я, и это была чистая правда.
Я не могла уйти.
Мы просидели за своими столами, как нам было приказано, около часа. Затем появился другой человек и увел господина Коопхейса. Они скрылись в кабинете господина Кралера. Я сидела за столом, не зная, что происходит в доме, и боялась себе это представить.
Коопхейс вернулся, не закрыв дверь, так что я могла видеть коридор, ведущий в кабинет Кралера. Дверь на склад тоже была открыта. Следом за Коопхейсом вошел немец. Я услышала, как он говорит по-немецки:
– Оставьте ключи девушке.
С этими словами он вернулся в кабинет Кралера.
Коопхейс подошел ко мне, отдал ключи и сказал:
– Мип, вы должны оставаться в стороне.
Я покачала головой.
Коопхейс пристально посмотрел мне в глаза.
– Нет! Только вы можете спасти то, что еще возможно. Все в ваших руках.
Я не успела осознать его слов, когда он сжал мне руку и вернулся в кабинет Кралера, закрыв за собой дверь.
Все это время я думала о двух вещах. Во-первых, мне показался знакомым голос немца. Во-вторых, я сообразила, что они могут подумать, будто я ничего не знала о людях, скрывающихся в нашем доме.
Через несколько минут в комнату вошел голландец с револьвером, который пришел к нам первым. Не обращая на меня внимания, он уселся за стол Элли и набрал номер телефона. Я слышала, как он просит прислать машину.
Через открытую дверь я слышала резкий голос немца, потом Кралера, потом снова немца. И тут я поняла, почему он кажется мне знакомым! Немец говорил с характерным венским акцентом – точно так же, как мои родственники, которых я покинула так давно.
Немец вернулся в мою комнату, но тон его изменился. Я поняла, что он больше не считает меня невиновной. Он навис надо мной и резко произнес:
– Теперь ваша очередь.
Он протянул руку и забрал ключи, которые передал мне Коопхейс.
Я поднялась. Мы стояли лицом к лицу очень близко – я чувствовала его жаркое дыхание. Посмотрела ему прямо в глаза и сказала по-немецки:
– Вы из Вены. Я тоже из Вены.
Он замер. Я поняла, что удивила его: он этого не ожидал. Он расслабился, но тут же собрался и рявкнул:
– Ваши документы! Удостоверение личности!
Я протянула свои документы со словами:
– Родилась в Вене. Замужем за голландцем.
Он изучил мои документы и заметил голландца, который говорил по телефону.
– Убирайтесь! – рявкнул он.
Голландец повесил трубку и выскочил из комнаты, как нашкодивший щенок. Австриец подошел к двери и закрыл ее. Мы остались наедине.
В ярости он швырнул мои документы мне в лицо, а потом, пригнувшись от злости, подкрался ко мне:
– Вам не стыдно, что вы помогаете еврейскому отребью? – прошипел он.
Потом он начал грязно ругаться, твердил, что я предательница, что меня ждет ужасная кара. Он ругался, а я стояла, выпрямившись и не обращая внимания на его слова. Чем больше он кричал, тем больше нервничал. Он стал расхаживать по комнате, затем неожиданно он повернулся на каблуках и спросил:
– И что мне с вами делать?
В этот момент я почувствовала, что контролирую ситуацию. Мне даже показалось, что я немного подросла. Он изучал меня. Я буквально читала его мысли. Мы стояли друг напротив друга, люди из одной страны, из одного города. Один охотится на евреев, другой их спасает.
Австриец немного успокоился. Лицо его стало более человечным. Он посмотрел на меня и в конце концов сказал:
– Из личной симпатии… Так и быть, можете остаться. Но боже упаси, если решите бежать. Тогда мы схватим вашего мужа.
Хотя это было глупо, я не сдержалась:
– Держитесь подальше от моего мужа. Это только мое дело. Он ничего об этом не знает.
Австриец фыркнул:
– Не будьте дурой. Он тоже в этом замешан.
Он подошел к двери, распахнул ее, повернулся и сказал:
– Я вернусь, чтобы убедиться, что вы еще здесь.
«Можешь делать, что захочешь, хоть яду напейся, – по-думала я, – а я останусь!»
– Я вернусь за вами, – повторил австриец. – Один неверный шаг, и вы окажетесь в тюрьме.
Он повернулся и вышел. Я осталась одна.
Не представляла, куда он ушел, и не знала, что происходит в нашем доме. Состояние было ужасным. Мне казалось, я падаю в бездонную дыру. Что я могла сделать? Я буквально рухнула на стул. Все пропало.
А потом я услышала шаги наших друзей – в коридоре за личным кабинетом господина Кралера, на старой деревянной лестнице. По звуку их шагов я почувствовала, что они спускаются, как побитые собаки.
Я замерла. Работники со склада подошли ко мне, чтобы сказать, что им очень жаль и они ничего не знали. Появился ван Матто. Я видела, что австриец передал ему отобранные у меня ключи. Я не представляла, сколько времени прошло. Когда пришел голландский нацист, было около двенадцати. Шаги на внутренней лестнице я услышала около половины второго. Неожиданно вернулась Элли, пришел Хенк. Я поняла, что уже пять часов. Рабочий день закончился.
Хенк обратился к Фрицу ван Матто:
– Как только ваши помощники уйдут, заприте дверь и возвращайтесь сюда.
Когда ван Матто вернулся, Хенк обратился к нам троим:
– А теперь поднимитесь и посмотрите, что там делается.
Ван Матто нес ключи. Мы поднялись к книжному шкафу и отодвинули его от двери, которая вела в убежище. Дверь была заперта, но не повреждена. К счастью, у меня был запасной ключ. Я сходила за ним. Мы открыли дверь и вошли в убежище.
Уже от двери было видно, что в комнатах все перевернуто вверх дном. Ящики открыты, вещи разбросаны по полу. Я в ужасе взирала на этот разгром.
Я прошла в комнату господина и госпожи Франк. На полу среди бумаг и книг лежал маленький дневник в красно-оранжевой обложке – Анна получила его в подарок от отца, когда ей исполнилось тринадцать. Я указала на него Элли. Та наклонилась, подняла его и отдала мне. Я вспомнила, как рада была Анна этому подарку, дневнику, в который она могла записывать свои мысли. Я знала, как дорог он был для девочки. Я осмотрелась в поисках других записей Анны и увидела старые бухгалтерские книги и другие бумаги, которые мы передавали ей, когда странички в дневнике кончились.
Элли была очень напугана и ждала моих указаний.
– Помоги мне собрать все записи Анны, – сказала я.
Мы быстро собрали все странички, исписанные корявым почерком. Сердце мое билось от страха, что австриец может вернуться и застать нас среди «еврейского имущества». Хенк собрал книги – библиотечные и испанские учебники доктора Дусселя. Он взглядом показал мне, что надо торопиться. Ван Матто неловко переминался у двери. Мы с Элли схватили бумаги. Хенк стал спускаться, ван Матто за ним, следом Элли. Она показалась мне очень юной и испуганной. Я шла последней – у меня был ключ.
В ванной я заметила мягкую бежевую шаль с цветными розами и мелкими фигурками, которой Анна укрывала плечи, когда расчесывала волосы. Хотя руки у меня были заняты, я схватила шаль кончиками пальцев. До сих пор не знаю, почему это сделала. Стараясь ничего не уронить, я наклонилась, чтобы запереть дверь, и вернулась в контору.
Мы с Элли стояли, нагруженные бумагами.
– Вы старше, – прошептала она. – Решайте, что делать.
Я открыла нижний ящик стола и сложила туда дневник, бухгалтерские книги и другие бумаги.
– Да, – кивнула я. – Я все сохраню. Я сохраню их до возвращения Анны.
Я забрала бумаги у Элли и сложила их в ящик. Потом закрыла его, но запирать не стала.
Домой мы с Хенком вернулись совершенно разбитыми и обессиленными. Мы сели за стол. Карел, как обычно, что-то рассказывал. Мы не говорили о произошедшем, пока не остались одни. Только тогда Хенк рассказал мне, что он сделал после моего предостережения, когда я отдала ему деньги и фальшивые карточки.
– С деньгами, карточками и едой я отправился к себе – обычно эта дорога занимала у меня семь минут, но сегодня я прошел ее за четыре минуты, хотя и не бежал. Я не хотел вызывать подозрений – вдруг за мной следят.
На работе выложил все из карманов и спрятал между бумагами в своем шкафу. Я лихорадочно думал, что делать. Мне оставалось только ждать, но я так хотел действовать! Невозможно было просто сидеть на месте. Я решил пойти к брату Коопхейса – он работает на часовом заводе, совсем рядом с моей конторой.
Я все ему рассказал. Он был потрясен. Мы смотрели друг на друга, не зная, что сказать и что делать. Я предложил пойти на Принсенграхт, встать на углу, на другом берегу канала и наблюдать за происходящим. Решили, что так будет лучше всего.
Мы быстро пришли на Принсенграхт и встали на другой стороне, наискосок от убежища. Почти сразу перед домом № 263 остановился темно-зеленый полицейский грузовик. Никто не вышел, сирену не включали.
Грузовик подогнали почти вплотную к зданию, прямо на тротуар. Дверь дома открылась. Я увидел наших друзей – каждый из них что-то нес в руках. Их вывели и посадили в грузовик. Издалека я не мог разглядеть их лиц. С ними вывели Коопхейса и Кралера. Их сопровождали двое в штатском. Они закрыли грузовик, сели в кабину и захлопнули дверь. Я не был уверен, что тебя тоже не забрали.
Полицейский дал команду. Грузовик двинулся по Принсенграхт, свернул на мост и поехал уже по нашему берегу. Мы и пошевелиться не могли, чтобы не вызвать подозрений. Машина проехала всего в метре от нас. Двери были закрыты, и я ничего не видел. Я отвернулся.
Мы не знали, кто остался в конторе, что там происходит, насколько все опасно. Поэтому вернулись на свою работу и оставались там до конца дня, когда уже можно было прийти на Принсенграхт.
Мы с Хенком смотрели друг на друга. Оба знали, что будет дальше, но никому не хватало духа об этом сказать. Наконец, Хенк тяжело выдохнул:
– Я пойду туда завтра утром.
На следующий день Хенк сообщил госпоже Дуссель, что ее мужа арестовали.
– Она восприняла это спокойно, – сказал он мне позже, – и была очень удивлена, что все это время он находился прямо в центре Амстердама. Ей казалось, что он уехал за город, хотя ему никогда не нравилась сельская жизнь.
На следующий день, несмотря на потрясение, я пришла на работу, как обычно. Теперь я была начальником и должна была вести дела. Я работала с господином Франком с 1933 года и все хорошо знала. В тот день вернулись наши коммивояжеры. Мне пришлось рассказать им о произошедшем. Все любили господина Франка, и известие о его аресте всех глубоко огорчило. Один из коммивояжеров подошел ко мне и спросил:
– Можно поговорить с вами наедине, госпожа Гис?
Я кивнула, и мы вышли в один из пустых кабинетов.
– Госпожа Гис, у меня есть идея, – сказал тот человек. – Мы все знаем, что война подходит к концу. Немцы хотят уйти домой. Они устали. Когда они будут уходить, то захотят все забрать с собой. Они заберут и голландские деньги. А что, если вам обратиться к австрийскому нацисту из Вены? Он не арестовал вас. Он может вас выслушать. Что, если вы спросите у него, сколько денег нужно, чтобы выкупить тех, кого они вчера арестовали? Только вы можете это сделать.
Я вспомнила, что этот человек входил в голландскую нацистскую партию. И все же он был добр. Господин Франк знал о его принадлежности к нацистам еще до того, как скрыться, ведь тот всегда носил нацистский значок. Я вспомнила слова господина Франка: «Этому человеку можно доверять. Знаю, что в душе он не нацист. Он присоединился к партии, потому что все его приятели сделали это. Он холостяк, ему нужно общение». Если господин Франк ему доверял, то и я могу.
– Спрошу, – ответила я.
– Господин Франк пользовался уважением, – продолжал коммивояжер. – Я смогу собрать деньги среди тех, кто любил его, и мы предложим их австрийцу.
Я сразу же бросилась к телефону и позвонила австрийцу в штаб гестапо на Ойтерпестраат в Южном Амстердаме. Услышав его голос, я представилась и по-немецки спросила, не могу ли я с ним увидеться.
– Это очень важно.
– Ja, – ответил он и велел мне прийти в понедельник в девять утра.
В тот день я пошла в гестапо. На флагштоке развевался красно-черный флаг со свастикой. Повсюду были немцы в форме. Все знали, что те, кто входит в это здание, не всегда выходят оттуда. Я спросила у часовых, где кабинет моего австрийца. Мне назвали номер. Комната оказалась небольшой. В ней сидело несколько человек, они печатали на машинках. Стол австрийца стоял в самом углу. Он увидел меня еще в дверях. Звали этого человека Карл Зильбербауэр.
Я подошла к столу и встала спиной к остальным. Не ожидала, что он окажется не один, поэтому просто стояла и смотрела ему в глаза. Что бы я ни сказала, это услышали бы его сотрудники, поэтому я молчала. Я лишь потерла большим пальцем указательный и средний – дала понять, что речь идет о деньгах.
Увидев мой жест, он ответил:
– Сегодня я ничего не могу сделать. Приходите завтра ровно в девять.
И отвел глаза, отпуская меня.
На следующее утро я вернулась. В комнате был один Зильбербауэр. Я сразу перешла к делу.
– Сколько вы хотите, чтобы освободить арестованных вчера людей?
– Мне очень жаль, – ответил он, – но я ничем не могу вам помочь. Приказ уже отдан. Я не волен в своих действиях.
Не знаю, что мной двигало, но я сказала:
– Я вам не верю.
Он не разозлился, просто пожал плечами и покачал головой.
– Идите наверх, к моему начальнику.
Он назвал мне номер кабинета, продолжая качать головой.
Стараясь сдержать дрожь в коленях, я поднялась к нужному кабинету и постучала. Никто не ответил. Я открыла дверь.
Я увидела круглый стол, за которым сидели нацисты в форме. Их фуражки лежали на столе. Там же стоял приемник. Я сразу узнала английскую речь – они слушали Би-би-си.
Все взгляды обратились ко мне. Случайно я стала свидетелем их предательства, за которое им грозила смерть. Мне нечего было терять.
– Кто здесь главный? – спросила я.
Один из нацистов поднялся. С угрожающим видом он направился ко мне. Губы его скривились, он толкнул меня в плечо.
– Schweinehund, – выругался он, выталкивая меня из кабинета.
Посмотрев на меня, как на мусор, он повернулся и захлопнул дверь перед моим лицом.
Сердце у меня отчаянно колотилось. Боясь, что меня задержат, я быстро спустилась вниз и вернулась в кабинет Зильбербауэра. Он вопросительно посмотрел на меня, я покачала головой.
– Я же вам говорил! – воскликнул он. – Быстро уходите.
Я поняла, что все потеряно. Австриец действительно не мог ничего сделать.
Очень осторожно я направилась к выходу. Вокруг меня сновали гестаповцы, как мухи в черной форме. Я снова вспомнила, что не все, кто вошел сюда, вышел обратно. Я механически переставляла ноги, каждую секунду ожидая, что меня кто-нибудь остановит.
На улице я изумилась тому, как легко оказалось выйти из зловещего здания.
Все хотели увидеть дневник Анны, но я отвечала:
– Нет! Хотя это писал ребенок, но это ее мысли и ее тайны. Я верну его только ей самой – и никому больше.
Меня мучила мысль о том, что некоторые записи Анны могли остаться на полу в убежище. Я боялась вернуться туда, поскольку Зильбербауэр уже несколько раз меня проверял. Он просто заглядывал в кабинет и говорил:
– Хочу убедиться, что вы не сбежали.
Я ничего не отвечала. Он видел то, что хотел, – я никуда не сбежала. После этого он поворачивался и уходил. Я боялась вновь зайти за книжный шкаф. Мне было тяжело видеть эти комнаты без людей. Я просто не могла подняться наверх.
Но знала, что через три-четыре дня все еврейское имущество из убежища вывезут и отправят в Германию. Ван Матто я сказала:
– Когда придут забирать вещи, идите с ними. Поднимитесь наверх и сделайте вид, что помогаете им. Соберите все бумаги и принесите их мне.
На следующий день за вещами приехали. К нашей двери подогнали большой грузовик. Я не могла смотреть, как выносят знакомые вещи и одну за другой грузят в машину. Я отошла от окна, все еще не веря в происходящее и пытаясь представить, что наши друзья занимаются своими делами над моей головой.
Ван Матто выполнил мою просьбу. Когда они уехали, он передал мне стопку записей Анны. Я ничего не читала, просто сложила бумаги в нижний ящик стола.
Как только грузовик отъехал, в конторе стало очень тихо. Я посмотрела вниз. Черный кот Петера, Муши, подошел ко мне и потерся о мои ноги. Наверное, он сбежал, когда наших друзей арестовывали, и где-то прятался.
– Иди сюда, Муши, – сказала я. – Иди на кухню, я налью тебе молочка. Останешься в конторе с Моффи и со мной.
Глава 16
Мы понимали, что теперь нам грозит опасность, и предупредили Карела, что скрываться в нашем доме рискованно. Он быстро собрал вещи и ушел, сообщив, что вернется в Хилверсем. Он спросил, можно ли будет приехать к нам, когда опасность минует? Конечно же, мы были готовы принять его, если станет ясно, что нам ничего не грозит.
После ареста Коопхейса, Кралера и Франка вести дела компании пришлось мне. Поскольку меня не арестовали и фирма принадлежала христианам, имущество из конторы и со складов не конфисковали. Дорогие мельницы для специй остались нетронутыми. И тут я поняла, почему Коопхейс хотел, чтобы я осталась на свободе. Как бы я ни стремилась быть арестованной вместе с нашими друзьями, только я могла спасти фирму. Я все знала досконально и смело приняла на себя руководство. В этом не было ничего сложного. Мне лишь пришлось подписывать чеки и оплачивать труд работников.
Я отправилась в банк, где находился счет нашей компании. Директор принял меня в своем кабинете. Он оказался симпатичным молодым мужчиной, недавно женившимся (как он мне сообщил). Я рассказала ему о скрывавшихся в наших помещениях людях и об арестах. Затем сказала, что буду вести дела для господина Франка, но у меня нет права подписи чеков – а ведь нужно платить работникам и оплачивать счета.
Директор банка выслушал меня и сказал:
– Все будет в порядке. Просто подписывайте все, что нужно, и я авторизую платежи. Мы выделим вам столько средств, сколько понадобится.
Несмотря на произошедшую трагедию, жизнь на Принсенграхт продолжалась. Мы получали заказы на специи для колбас и пектин для джемов и, как и раньше, выполняли их.
Отец Элли, Ханс Фоссен, умер. Страдания его в последние дни были невыносимы. Узнав о его смерти, я вздохнула почти с облегчением.
Хенк продолжал работать на подполье, несмотря на грозившую ему опасность. Многие голландцы скрывались у себя дома или в других местах, чтобы избежать трудовой повинности. Немцы хватали всех подряд и отправляли в Германию. Очень многие нуждались в помощи.
Вскоре после ареста наших друзей Хенк вернулся домой вечером и сказал, что днем оказался в опасной ситуации, связанной с одним из его подпольных «клиентов». Это заставило его серьезно нервничать.
– Я пришел к этим людям, – сказал он, – и обнаружил, что дверь на первом этаже, как и во многих домах в том районе, открыта. Я не стал звонить внизу, а просто поднялся к нужной квартире. Обычно я стучал и произносил пароль, но тут не успел этого сделать. Услышал, как какой-то мужчина говорит по-немецки. Я знал, что эти люди ждали меня, но знал также и то, что никакого мужчины в квартире не должно быть – он скрывался за городом, помогал фермеру. Это меня насторожило. Я прислушался и услышал, как мужчина и женщина говорят по-немецки. Тогда я подумал, что, возможно, по радио идет какой-то спектакль… Но рисковать не стал и ушел. Я вернулся на работу и рассказал обо всем своему товарищу по подпольной работе.
Вскоре после этого подпольная организация решила, что Хенку небезопасно работать дальше. Мы согласились. Нацисты слишком пристально следили за нами. Вместо того чтобы помочь людям, Хенк мог подвергнуть их риску. Ему перестали поручать подпольные задания.
25 августа Франция была освобождена от немцев. Оккупация этой страны длилась четыре долгих года. Союзники продвигались вперед. 3 сентября был освобожден Брюссель, а через день Антверпен.
Мы знали, что следующими будем мы.
3 сентября Би-би-си сообщила, что британцы вошли в южные районы Голландии и освободили город Бреда. Амстердам захлестнула волна безумного оптимизма, почти истерия. 5 сентября – этот день получил название Безумного вторника, Dolle Dinsdag, – немцы начали отступать.
Это были не те надменные, здоровые, хорошо снаряженные молодые солдаты, которые вошли в Амстердам в мае 1940 года. Они выглядели обессиленными и потрепанными, как мы. Они старались унести с собой все деньги и ценности, какие только удавалось награбить.
Вместе с ними на поездах, велосипедах, автомобилях в Германию или на восток Нидерландов отступали голландские предатели, которые все это время сотрудничали с нацистами.
Никто точно не знал, что происходит, особенно сами германские солдаты.
Голландцы вытащили припрятанные красно-бело-синие голландские флаги, стряхнули с них пыль и развесили на домах с оранжевыми лентами. Люди собирались на улицах группами, хотя это все еще было запрещено. Некоторые делали небольшие британские флаги из бумаги, и дети готовились размахивать ими, встречая освободителей.
Но прошел день, затем второй, третий… Ничего не происходило. Постепенно мы снова начали замечать присутствие немцев, словно те, кто бежал, вернулись. Объявление о том, что британцы вошли на юг Голландии, оказалось ложным. Эйфория 5 сентября отступила, но люди не сомневались, что нас освободят со дня на день.
В этой неопределенности мы продолжали жить и заниматься своими делами. Наконец 17 сентября королева Вильгельмина обратилась к железнодорожникам Голландии (их было более тридцати тысяч) с призывом объявить забастовку. Эти действия должны были парализовать немецкий военный транспорт. Речь королевы была очень трогательной. Она призывала рабочих быть осторожными и остерегаться карательных мер, которые могли быть приняты против них. И действительно, наказанием за забастовку в такое время была смерть.
Наступил новый Безумный вторник, который сопровождался всеобщим смятением. В тот день Би-би-си объявила, что британцы и американцы перешли в активное наступление под Арнемом, а Эйзенхауэр вышел на западный берег Рейна, к границе Германии. Железнодорожники начали забастовку. На следующий день весь транспорт остановился.
Бастующие попрятались. Немцы пришли в ярость. Вся страна затаила дыхание в ожидании освободителей. И тут у меня возник вопрос по работе. Я позвонила брату господина Коопхейса, который часто давал мне советы. Я задала свой вопрос, и он ответил:
– Вы хотите спросить об этом моего брата?
Его сарказм поразил меня.
– Как я могу его спросить? Он в концлагере Амерсфоорт!
– Нет, он направляется к вам. Выйдите на улицу.
Эта шутка показалась мне слишком жестокой, но он повторил:
– Выйдите, выйдите на улицу, Мип. Это правда.
Телефонная трубка выпала у меня из рук. Я выбежала из дома. Элли решила, что я сошла с ума, и в тревоге бросилась за мной.
Сердце у меня колотилось. Я озиралась вокруг и вдруг увидела господина Коопхейса. Он переходил мост между Блемграхт и Принсенграхт. Заметив меня, он помахал мне рукой.
Мы с Элли бросились к нему. Обычно я – человек довольно сдержанный, но тут стала громко выкрикивать его имя. Элли вторила мне. Я подбежала к нему, и мы крепко обнялись. Мы втроем смеялись и плакали одновременно.
Вместе мы направились к нашему дому, разговаривая без умолку. Я не могла на него насмотреться. Для человека, который недавно был в немецком концлагере, он выглядел довольно хорошо, даже лучше, чем раньше. Да, он похудел, но щеки его румянились, а глаза блестели – раньше такого не было.
Я сказала, что он прекрасно выглядит. Он рассмеялся и ответил:
– Еда в лагере была отвратительной. Сырая морковь, сырая свекла, иногда водянистый суп… И… вы не поверите… впервые за много лет моя язва прошла. Эти сырые овощи излечили ее.
Меня накрыла теплая волна облегчения. И я торопливо спросила:
– А остальные? После ареста…
Господин Коопхейс покачал головой.
– Сначала нас держали вместе, всех десятерых, но потом меня и Кралера отделили. После этого я ничего о них не слышал.
Благополучное возвращение господина Коопхейса вселило в меня надежду – может быть, спасутся и все остальные. Коопхейса освободили из-за состояния здоровья. Красный Крест помог ему быстро вернуться домой.
Мы продолжали ждать наших освободителей. Дни тянулись невероятно медленно. Сентябрь подходил к концу, погода стала ужасной. Для нас ничего не изменилось – немцы по-прежнему были повсюду. Они обозлились и терзали нас с удвоенной силой. Наша надежда на окончание войны и оккупации постепенно стала угасать.
Чтобы наказать голландцев за забастовку, немцы отменили все гражданские поезда. Теперь по железной дороге перевозили только солдат, боеприпасы и германские грузы. Еду и уголь для населения доставлять перестали. «Пусть они голодают и мерзнут» – такой стала политика немцев. Поставки продовольствия и топлива прекратились. В Амстердам и Роттердам попадали жалкие крохи, которые привозили баржами по рекам. Добыть пропитание становилось труднее с каждым днем. Чтобы приготовить самый простой ужин, мне приходилось часами ходить из магазина в магазин.
В самом конце сентября британцы, к нашему ужасу, потерпели поражение под Арнемом. Вся наша радость и надежда мгновенно угасли. Союзники не продвигались вперед. Немцы надежно закрепились на своих рубежах. Мы впали в отчаяние. Кроме того, приближалась очередная зима. Погода уже стала мрачной и безрадостной. Постоянно шли дожди, было необычайно холодно. У нас не было сил принять то, что готовила нам эта ужасная зима.
По германскому радио продолжал выступать Гитлер. Он грозил всему миру таинственным новым оружием. Затем союзники взяли Аахен – первый германский город. Здесь жили Эдит Франк с девочками, пока господин Франк обосновывался в Амстердаме. Город был так близко к Голландии – и в то же время так далеко.
Голландцев, как раньше евреев, тысячами отправляли в Германию. Взрослые мужчины скрывались, и на улицах можно было встретить по большей части женщин, детей и мужчин старше сорока. Нам крупно повезло, что Хенка не схватили. Удача не изменила ему. Ходили слухи, что Гитлер собирается призывать в армию пятнадцатилетних мальчишек и шестидесятилетних стариков.
Ситуация быстро ухудшалась. В ноябре реки и каналы замерзли, и доставлять продовольствие в город на баржах стало невозможно. Цены на черном рынке удвоились, потом утроились, потом выросли еще. В течение нескольких недель я ходила на работу пешком, оставляя велосипед дома. Это было слишком опасно – если бы немцы увидели приличный велосипед в рабочем состоянии, они попросту отобрали бы его, бросив меня посреди улицы. Я не могла так рисковать. Велосипед нужен был нам для другого.
После возвращения господина Коопхейса мы с ним стали каждый день вместе ходить на работу и с работы – по часу в каждую сторону. Чаще всего погода была пасмурной, шел неприятный холодный дождь. Хенк работал на городскую администрацию и имел официальное разрешение пользоваться велосипедом. Но вскоре и он стал оставлять его дома – в случае поломки ремонт обошелся бы слишком дорого, и достать новые шины было невозможно. Лучше было приберечь велосипед до лучших времен. Хенк тоже стал ходить на работу пешком. У нас не было велосипедов, угля для отопления, газа для готовки и практически не было электричества. Немцы обеспечивали электричеством и всем необходимым только себя и больницы.
Поскольку транспорт не ходил, люди сами отправлялись за едой за город. В ход шло все, что только удавалось найти: тележки, детские коляски, велосипеды на деревянных колесах, тачки… Мы и раньше жили впроголодь, а теперь так стали жить все. Люди слабели и едва не падали в обморок от недоедания.
Я тоже стала выбираться за город, с каждым разом все дальше и дальше. Как-то раз поехала вместе с женой одного из наших коммивояжеров. Мы вышли еще до рассвета и решили забраться как можно дальше на север, но так, чтобы успеть вернуться в Амстердам до комендантского часа – до восьми часов. Поскольку у нас обеих были велосипеды на настоящих резиновых шинах, мы решили рискнуть и поехали на них.
Мы уехали далеко на север и стали бродить от фермы к ферме. Мы буквально побирались, предлагая на обмен деньги и все, что можно было продать. Нам удалось кое-что получить – немного картофеля, свеклы и моркови.
Понимая, что мы очень далеко от дома, мы поспешили в обратный путь и по дороге увидели двух мужчин с тележкой. Нам стало их жалко, потому что мы ехали намного быстрее. Вскоре они остались далеко позади. Погода была неплохой, дождь не шел, времени у нас оставалось много. Мы говорили о том, что эти мужчины наверняка не успеют вернуться в Амстердам до восьми часов – слишком уж медленно они катят свою тележку.
Вечерело, и мы гнали изо всех сил. Неожиданно у моей подруги спустила шина. Нам ничего не оставалось, как идти пешком, толкая свои велосипеды. Поняв, что мы не успеваем в Амстердам к восьми часам, решили заночевать в ближайшей деревне и вернуться домой утром.
Мы спрашивали у всех, нельзя ли нам переночевать в амбаре, потому что мы не успеваем в Амстердам до наступления комендантского часа. Но никто не хотел пускать незнакомцев, и мы оказались в чистом поле, не зная, что делать.
И тут появились те мужчины с тележкой. Они остановились, и мы рассказали, что с нами случилось. Выслушав нас, один из мужчин сказал:
– Вот что – берите свои велосипеды и кладите на нашу тележку. Пойдете с нами. Сделаем вид, что вы – наши жены.
Мы с подозрением смотрели на них.
– Видите ли, – пояснил мужчина, – мы работаем на почте, и у нас есть разрешение находиться на улице после восьми часов.
Мы с подругой переглянулись. Ситуация была сложной.
– Не хочу вас пугать, – продолжал мужчина, – но мы приближаемся к немецкому контрольному пункту.
Не раздумывая, мы погрузили велосипеды на тележку и стали помогать мужчинам толкать ее. Вскоре подошли к немецкому контрольному пункту. Мужчины велели нам оставаться возле тележки.
– А мы пойдем внутрь.
И они ушли.
Мы были очень напуганы. Немцы могли сделать с нами все, что угодно, могли отобрать добытую еду. Мужчины находились внутри довольно долго, и мы уже начали нервничать. В конце концов они вышли, улыбнулись нам и сказали:
– Все в порядке. Можем идти дальше.
Конечно, мы принялись толкать тележку с удвоенной силой. У нас даже не спросили документов. В тележке лежали свекла и морковь, которые удалось раздобыть этим мужчинам. Наконец, мы добрались до порта Амстердама. Уже наступил следующий день. Мы пропустили полуночный паром, и теперь нужно было ждать до часа ночи. К счастью, ночь выдалась не слишком холодной. Мы так устали, что буквально валились с ног.
Наконец прибыл паром. Мы доплыли до станции и пошли по тихим улицам к мосту Берлаге. Там мы простились с нашими «мужьями».
Мы шли, толкали велосипеды и несли добытую еду. Моя подруга жила совсем рядом. Опасность была так велика, что мы не остановились ни на минутку, пока не захлопнули за собой дверь ее дома, втащив внутрь еду, велосипеды – и себя. Я заночевала у подруги. На рассвете поднялась и покатила домой под нудным моросящим дождем.
Нам с Хенком удалось прокормиться еще несколько недель.
Когда началась зима, люди стали похожи на ходячие скелеты. Одежда у всех окончательно обтрепалась. Дети носили ботинки с обрезанными носками. Кому-то обувь делали из картона и кусочков кожи – такие «ботинки» привязывали к ногам веревками.
Люди рубили прекрасные высокие деревья на бульварах. Мы так их любили, но теперь они стали просто дровами. Машины ездили на газе – на крышах устанавливали баллоны или приспосабливали странные устройства типа печек с трубами позади. Большинство велосипедов катилось на деревянных колесах. Темными зимними ночами единственным освещением были крохотные масляные лампы – жгут из хлопковых ниток плавал в небольшом количестве масла в стакане воды. Нитка сгорала за минуту, давая мерцающий желтый свет. Крохотный светильник освещал лишь стол вокруг стакана, а комнату заполнял мрак.
Поскольку мыло совсем пропало, одежда приобрела неприятный кислый запах. У самых бедных появились язвы – мыться было нечем, началась чесотка. Горячей воды тоже почти не было. Поезда не ходили, и Карел не мог приехать к нам в Амстердам. Мы не знали, грозит ли нам опасность, но дали ему знать, что он может вернуться, если захочет. Впрочем, поездов все равно не было.
Каким-то чудом нам удавалось продолжать свое дело, хотя не было ни электричества, ни угля. Многое пришлось сократить, но работа не остановилась. Мы все еще производили эрзац-специи для колбас. Другие компании закрывались. На дверях появились таблички: «Закрыто из-за отсутствия угля». Я часто гадала, действительно ли это закрывшиеся компании, или внутри прячутся люди, которые надеются, что германские патрули пройдут мимо.
Нашими клиентами преимущественно были мясники. Мы использовали наполнитель из молотой ореховой скорлупы, а синтетические ароматизаторы покупали на химическом заводе в Наардене. Когда эти два компонента смешивались, по виду и запаху они напоминали настоящие специи. Конечно, вкуса они не имели, но запах и консистенция напоминали тот самый наполнитель, который добавляют в молотое мясо при изготовлении колбас.
Из чего мясники делали колбасы, мы даже не спрашивали – мяса в стране почти не было. Так что лучше было вообще не думать об этом.
Одним из наших постоянных клиентов был повар, немец по национальности. Несмотря на это, он был хорошим человеком. Во время оккупации ему пришлось готовить для немецких солдат.
Когда он только появился, дела с ним вел господин Кралер. Теперь же с ним подолгу беседовал господин Коопхейс. Этот человек всегда платил наличными. Он сказал, что если кто-то из нас не сможет найти пропитание, мы можем обратиться к нему, и он поможет. Единственная проблема заключалась в том, что он работал в городе Кампен, на востоке Нидерландов.
И вот настал день, когда еды у нас совсем не осталось. Господин Коопхейс отправил меня к тому человеку, чтобы раздобыть хоть что-то. Я поехала с той же женщиной, что и раньше, женой одного из наших коммивояжеров. Велосипеда у нее больше не было, поэтому мы одолжили велосипед у наших друзей, которые жили напротив.
Мы снова выехали на рассвете. До Кампена было довольно далеко, и мы ехали целый день. По дороге видели наших соотечественников, которые бродили от фермы к ферме, пытаясь раздобыть хоть какое-то пропитание. День выдался хмурым и холодным. Дороги были покрыты мерзлым снегом и ухабами. Многие толкали сломанные велосипеды и детские коляски. Отправляясь в такой путь, люди закутывались во всю одежду, которая у них была.
Мы приехали в Кампен и нашли казармы, где работал наш знакомый. Он тайком провел нас внутрь, прямо на кухню. Это был мой день рождения – 15 февраля 1945 года.
– Садитесь, – сказал нам тот человек. – Можете есть все, что хотите.
К тому времени я уже давно голодала. Жиры и белки почти полностью исчезли из моего рациона.
– С днем рождения! – сказал наш друг и стал выставлять перед нами прекрасную еду.
Тушеная свинина, сливочное масло… Мы ели, ели и не могли остановиться.
Этот мужчина мог дать нам с собой еды, а заночевать мы собирались у друга наших друзей, священника, который жил в соседнем городке.
Остановиться мы не могли, и, конечно же, переели. Мы давно отвыкли от настоящей еды, и нам обеим стало очень, очень плохо. У меня так разболелся живот, что я не могла пошевелиться и выйти из казармы.
Повар очень испугался. Он не знал, что с нами делать, и посадил нас в пустую камеру – ему пришлось буквально нести меня на руках. Если бы нас увидели, нам не поздоровилось бы. Наш друг сказал, что придет за нами в пять утра и запер дверь.
В камере не было ничего, кроме пустого ведра – ни одеял, ни матрасов. Ведро недолго пустовало. Мне было плохо всю ночь – жар, озноб, мучительные спазмы. Я думала, что умираю. Ночь прошла. В пять утра повар вернулся и вывел нас на улицу. Он с трудом усадил меня на велосипед. Как бы плохо мне ни было, я не забыла еду, которую нужно было привезти в Амстердам. Я все тщательно собрала, каким-то чудом нашла в себе силы и покатила на велосипеде. Еда была спрятана под моей одеждой. Подруге моей, к счастью, было гораздо лучше, чем мне.
Мы подъехали к мосту, который охраняли немецкие солдаты. Обычно в таких местах всех останавливали. Мужчин обыскивали и проверяли документы, у женщин обычно только спрашивали документы. Лишь после этого можно было пересечь мост.
Спрятанные под одеждой продукты топорщились в разных местах. Сумки тоже были набиты до отказа. Мы страшно боялись, что немцы все у нас отберут. Но делать было нечего, и мы смело покатили к мосту, прямо к часовым.
Подъехав, мы поняли, что солдатам страшно хочется спать. Они даже документы проверять у нас не стали – пропустили просто так. Мы не могли поверить своей удаче.
Мы поднажали и добрались до жены священника. Увидев, как мне плохо, она уложила меня в постель. Дальше ехать я не могла. Жена священника обо мне позаботилась, и на следующее утро я вернулась в Амстердам.
Мы вернулись уже после наступления комендантского часа и подъехали к мосту через Амстел глубокой ночью. К нашему изумлению, там установили новый контрольный пункт полиции. Зеленая форма полицейских вселила в нас ужас – мы боялись не только за добытую еду, но и за самих себя.
Но нам снова повезло: полицейские искали оружие и делали это с немецкой пунктуальностью. Раз велено было искать оружие, то ни на что другое они внимания не обращали. Нас обыскали, оружия не нашли и отпустили. Я отсутствовала несколько дней и знала, что Хенк страшно тревожится обо мне. Но ни он, ни я ничего не говорили о своих страхах. Каждый день могло случиться самое ужасное. Риск и опасность поджидали нас за каждым углом. Выжить, не рискуя, было невозможно. Приходилось просто жить.
К середине зимы немцы сократили наши продуктовые карточки до 500 калорий в день. Хотя Би-би-си сообщала, что у Эйзенхауэра на Рейне восемьдесят пять дивизий, нас это не касалось. Каждый морозный день надо было пережить. Нужно было тепло, чтобы не замерзнуть, и минимум калорий. Ни о чем другом мы не думали.
В декабре умерла мать Хенка. К счастью, это случилось в больнице. Не всем голландцам так везло. В Амстердаме каждый день кто-то умирал от голода, иногда прямо на обочинах дорог. Порой люди так слабели, что их подкашивала дифтерия, тиф или обычный холод. Появились суповые кухни. Каждый день голодающие выстраивались в очереди на морозе, чтобы получить миску чего-то теплого, что можно было проглотить.
Мы целыми днями разыскивали обломки угля на старых угольных складах. Железнодорожные шпалы утаскивали на растопку. Если где-то в саду или возле стены стояла деревянная лестница, то уже к утру ее не было. Во всех домах исчезло любое дерево – рамы, лестницы, мебель – все.
Хенк придумал для нас план. До оккупации его отец часто рыбачил в каналах близ маленького городка Вавервен, в семи-восьми милях от Амстердама. Как у любого рыбака, у него было излюбленное место – он годами ловил там рыбу и сдружился с фермером.
Хенк решил обратиться к этому фермеру, хотя для этого пришлось бы солгать. Мы не любили лгать. Нам тем более не хотелось обманывать этого богобоязненного человека, истинного христианина. Но выбора не было. Хенк отправился к фермеру и сообщил, что его отец болен и ему нужно молоко. Нельзя ли нам получить на ферме немного молока?
Сначала Хенка от души накормили – это было ему жизненно необходимо. Впечатленный искренностью Хенка, фермер сказал, что он может приезжать к нему каждый день и получать две бутылки молока по разумной цене. Хенк терзался чувством вины – ведь отец его был совершенно здоров, но другого выхода у нас не было.
Каждое утро мы с ним по очереди поднимались в половине пятого и в любую погоду ехали в деревню к тому фермеру. Когда я приехала впервые, то представилась фермеру, чтобы он меня знал. Каждый раз там выстраивалась большая очередь из жителей Амстердама, ждавших молока. Я вставала в конец очереди, но фермер замечал меня и подзывал к себе. Люди начинали ворчать, но фермер говорил:
– Нет, нет, она пройдет первой, у нее болен свекор.
Я чувствовала себя ужасно – ведь у людей в очереди могли быть по-настоящему больные родственники.
Борясь с угрызениями совести, я становилась первой, получала две драгоценные бутылки молока и в темноте катила домой. Каждый раз я смертельно боялась, что меня остановят и отберут велосипед. Я старалась ехать быстро, но при этом не вызывать подозрений. Ледяной ветер бил в лицо. Иногда шел такой сильный снег, что я не видела дороги. Мне никогда не удавалось как следует закутаться, чтобы не мерзнуть. Но надежно упакованные бутылки с молоком аккуратно лежали в сумке на раме велосипеда.
Груды мусора никто не убирал. К счастью, мусор замерзал, и зловоние нас не терзало. Голодные люди копались в нем в поисках объедков и выходили на свою охоту еще до рассвета.
Пришел март, за ним апрель, но зима не отступала. Иногда становилось довольно тепло, а порой сквозь тучи проглядывало солнышко. Земля оттаяла, и началось зловоние – люди варили луковицы тюльпанов или свеклу, сушили плохо выстиранную одежду. Запах исходил и от самих людей – мы слишком долго носили наши лохмотья.
Все говорили только о еде. Все думали только о еде. Мы с Хенком по вечерам иногда ходили к нашим друзьям. У нас не было приемника, и друзья с Рейнстраат обещали сообщить, когда война кончится. Вместо того чтобы слушать приемник, мы вытаскивали кулинарные книги и целыми вечерами переписывали рецепты блюд, которые приготовим после войны. Иногда читали вслух Рабле – его герои любили поесть и выпить.
Я постоянно думала о шоколаде. О горячем шоколаде, сладком и бархатистом. При этой мысли у меня начинали течь слюнки.
12 апреля умер президент Рузвельт. Русские заняли Вену, мой родной город, 13 апреля. Монтгомери перешел через Рейн и двигался к Бремену и Гамбургу. Постоянно поступали новые известия. Европа лежала в развалинах. Немцы терпели поражение на всех фронтах. Свобода медленно приближалась к Нидерландам.
Но пока мы ждали, сотни добрых голландцев умирали от голода. Мы слабели на глазах и не могли думать ни о чем, кроме еды. Каждый день нужно было пережить. Я приходила на Принсенграхт, занималась делами, медленно возвращалась в Речной квартал, борясь с головокружением и приступами тошноты. Меня провожал господин Коопхейс. Дома ждал Хенк и наш кот Берри – или мы с котом ждали Хенка. Как накормить двумя картофелинами двух взрослых людей и одного кота?
Муссолини задержали в Комо на границе с Швейцарией и казнили. Его и его любовницу повесили вверх ногами на автозаправке в Милане. И вдруг 1 мая по германскому радио начали передавать Седьмую симфонию Брукнера. Гремели барабаны. Диктор, еле сдерживая эмоции, объявил о смерти Гитлера. Его преемником стал адмирал Дениц. Мои молитвы были услышаны – я столько раз молилась об этом. Но этого мне было недостаточно.
Потеплело, дни стали длиннее. Две проблемы – отопление и освещение – уже были не такими острыми, но ситуация с едой еще больше осложнилась. Поиски пропитания отнимали все мои силы и не давали сосредоточиться. Вести дела стало гораздо труднее. Каждый день мне приходилось заставлять себя заниматься работой, хотя думала лишь о том, что в это время кто-то добывает продукты, которые могли достаться мне.
Май выдался прекрасным: синее небо, зелень – там, где ее не извели под корень. В пятницу, 4 мая, после очередного дня, проведенного в конторе, я вернулась домой. Берри сидел на кухне возле своей миски, ожидая молочка. Я начала готовить ужин из нескольких морковок и мелких картофелин. Огонь развела из щепок, и вода никак не закипала. Я рассеянно ждала, пока она закипит, как вдруг в комнату ворвался свежий воздух – а вместе с ним появился Хенк. Он взял меня за руки и сказал:
– Мип, у меня хорошие новости! Немцы капитулировали! Война закончилась!
Мы так долго этого ждали! Ноги у меня подкосились. Неужели это правда? Я посмотрела Хенку в глаза и поняла – это правда. Хенку всегда можно было доверять.
Мы проглотили наш ужин. Радость была так велика, что мы забыли о мучительном голоде. Я никогда в жизни не ела ничего вкуснее! Что же будет дальше, спрашивали себя мы. Немцы все еще в Амстердаме. Они проиграли войну – наверное, они в ярости. Хенк предупредил, чтобы я не расслаблялась. Сейчас легкомыслие может стоить жизни – обидно будет погибнуть, когда война кончилась. А наши друзья в концлагерях? Неужели их освободили и они скоро вернутся?
Пробило восемь часов – комендантский час. Неожиданно кто-то громко постучал в окно. Мы с Хенком выглянули. Под окном стоял наш друг с Рейнстраат, который обещал сообщить нам о конце войны. Он стучал и размахивал руками:
– Все кончилось! Все кончилось!
Мы впустили его и сказали, что уже знаем.
– Пойдемте, – позвал он нас. – На улицах полно народу! Комендантский час нам не страшен. Мы свободны!
На улицах действительно было не протолкнуться. Люди принесли с собой бумагу, дерево, старую одежду, все, что могло гореть. Мы вышли на Рейнстраат. Повсюду горели огромные костры, молодежь танцевала. Старики прохаживались по улицам. Все смеялись и обнимали друг друга. Вокруг царила атмосфера абсолютного восторга. Немцев не было видно.
Мы направились к дому. Я знала, что ночью нам не заснуть. Стало темнеть. И я впервые за долгое время обратила внимание, как красив закат. Над крышами я увидела стаю голубей. Они кружились над домами. Я поняла, что давным-давно не видела в Амстердаме птиц. Когда исчезли воробьи? Когда по глади каналов перестали скользить лебеди? А утки? Да, птицам было легко улететь – впрочем, в городе для них все равно не оставалось пропитания.
Немцы запретили голландцам держать голубей. Наверное, кто-то прятал их во время оккупации. Но когда война кончилась, их выпустили. Они сверкали в лучах заходящего солнца, как фейерверк.
Над крышами Амстердама снова появились голуби. Они были свободны – мы тоже.
Глава 17
В аэропорт Схипхол стало поступать продовольствие. Маленькие баночки маргарина, масла, печенье, колбасы, бекон, шоколад, сыр и яичный порошок. Самолеты пролетали очень низко, и впервые гул их двигателей не пугал, а радовал. Люди вылезали на крыши и махали всем, что у них было, – флагами или даже простынями.
В субботу утром все высыпали на улицы. Я шла в контору. Хотя война кончилась и все радовались, но опасность сохранялась. Немцы были в ярости. Я слышала, что на площади Дам напротив старого отеля «Краснапольски» немецкие солдаты начали стрелять по толпе и убили несколько человек. Но это не ослабило нашей радости. Люди продолжали жечь костры и танцевать.
После работы я вернулась домой и сказала мужу:
– Хенк, пошли праздновать!
Он покачал головой.
– Нет. Я останусь дома. Мне не хочется праздновать на улицах. За эти пять лет в нашей стране многое произошло. Слишком многие погибли и пропали. Кто знает, сколько людей никогда не вернется? Да, я рад, что война кончилась, но хочу остаться дома и провести вечер в тишине.
Я сорвала шторы затемнения. Впервые за пять лет мы смогли увидеть за окном луну.
Мы слышали, что немецкие солдаты собираются в разных районах Голландии и уходят. Неожиданно их не осталось. Прилетали самолеты союзников и сбрасывали продуктовые посылки. У всех было ощущение чуда. Мы ждали объявления о распределении поступившего продовольствия.
7 мая был объявлен выходной. На улицах раздались крики – в город вошли канадские войска. Я бросила фартук на стул и выбежала вместе со всеми встречать наших освободителей на Рейнстраат. Говорили, что они придут «вот-вот», но мы ждали, ждали и ждали, а никто не появлялся.
После трех часов ожидания мы увидели четыре небольших канадских танка на мосту Берлаге. Они остановились, потом двинулись дальше. На солдатах были береты. Форма их была светло-коричневой – короткие кители и брюки, заправленные в высокие ботинки.
Главные силы канадской армии прибыли 8 мая. Они шли целый день. Но мы с Хенком были на работе и не могли увидеть парад. От наших друзей мы слышали, что солдаты измучены, но девушки целовали их прямо в грязные лица. Канадцы махали нам и раздавали первые настоящие сигареты за много лет.
Они вошли в Южный Амстердам и направились к площади Дам и королевскому дворцу. Королева Вильгельмина уже вернулась в свою любимую Голландию, разрушенную и голодающую. Нашей королеве было шестьдесят четыре года. Эту крепкую, невысокую женщину Черчилль называл «самым смелым человеком в Англии». Как и наша страна, она выстояла.
Празднование длилось несколько дней. Повсюду звучали канадский и голландский гимны. На улицах пели и танцевали. Где-то раздобыли шарманку, люди вытащили старые аккордеоны. Все сажали ноготки: мы мечтали увидеть запрещенный немцами цвет – оранжевый, цвет нашего королевского дома.
На улицы вышли те, кто скрывался в убежищах. Появились евреи. Они терли глаза, отвыкшие от солнечного света. Их сразу можно было узнать по желтоватой бледности и недоверчивому взгляду. Звонили церковные колокола, гремела музыка.
Освободители привезли нам новые голландские банкноты, отпечатанные в Англии. Началась страшная инфляция, и купить в магазинах было нечего.
Просыпаться утром и не ощущать опасности было удивительно. Мы с Хенком и все остальные ждали тех, кто должен был вернуться домой. Ходили страшные, невообразимые слухи о том, что творилось в германских концлагерях. В первых газетах появились страшные фотографии. Свидетели рассказывали ужасные вещи. Во время оккупации до нас доходили слухи о газовых камерах, убийствах, невыносимых условиях жизни в этих лагерях, но такой чудовищной жестокости мы и представить себе не могли. Факты превосходили самые дикие предположения. Я не могла читать эти истории, не могла смотреть на фотографии. Я занималась чем угодно, лишь бы сохранить веру в то, что наши друзья вернутся. Невыносимо было думать, что с ними могло произойти подобное.
Вскоре начались ремонтные работы – выбитые окна закрывали фанерой, чинили мосты и железные дороги, чтобы снова начали ходить поезда. Нужно было все, но ничего не было. Хенка направили на Центральный вокзал. Он встречал возвращающихся и снабжал их всем необходимым – помогал получить деньги, продуктовые карточки, устроиться с жильем. Люди приезжали на военных грузовиках, потом стали ходить поезда.
Евреи и другие узники нацистов возвращались в освобожденную Голландию. Они были такими изможденными, что невозможно было определить их возраст.
У евреев из концлагерей на руках были вытатуированы номера. Дети, которые не знали своих имен и дней рождения, не узнавали родственников – так долго они были в разлуке.
Те, кто вернулся в наш Речной квартал, обнаружили, что их квартиры заняты другими людьми. Кто-то смог вернуть свое жилье – голландские нацисты сбежали, все бросив. Постепенно в нашем районе стали снова обживаться евреи. Каждый день печатали списки выживших в концлагерях.
Раньше евреи выглядели так же, как все остальные, но после пережитого ужаса они стали другими. Голландцы не обращали на это внимания: все были заняты собственными несчастьями и не думали о чужих страданиях.
Хенк каждый день работал на Центральном вокзале, и всех, кто к нему обращался, спрашивал:
– Вы ничего не знаете об Отто Франке? Вы не видели Отто Франка, его жену Эдит Франк? Вы не слышали об их дочерях, Марго и Анне Франк?
Никто ничего не знал и не слышал о наших друзьях.
Через несколько дней после освобождения я работала в нашей конторе, и вдруг вспыхнул свет. У нас снова было электрическое освещение!
Тогда же мы узнали, что Виктор Кралер жив. Ему удалось ускользнуть от немцев, и он скрывался у себя дома до последних дней «голодной зимы». Его прятала жена. Вернувшись в контору, он рассказал о своем бегстве:
– Нас отправили в Амерсфоорт. Большинство заключенных были политическими, торговцами с черного рынка или христианами, которые прятали евреев. Из Амерсфоорта меня переводили в разные лагеря. В конце концов я оказался почти на границе с Германией. Как-то утром нас подняли по тревоге, а потом группу голландцев вывели из лагеря.
Я решил отстать от группы. Нас конвоировали старые, уставшие от войны солдаты. Я подумал, что можно заговорить с ними по-немецки и узнать, что происходит. Я спросил, и мне ответили: «Мы идем в Германию. Весь лагерь переводят в Германию».
Я подумал, что из гитлеровской Германии мне никогда не выбраться, и стал отставать еще больше.
Вдруг появились американские самолеты. Начался обстрел. Солдаты велели нам лечь прямо на дорогу. Мы находились возле кукурузного поля, и я бросился туда. Обстрел не прекращался.
В конце концов самолеты улетели. Охрана приказала подняться и шагать дальше, но я остался в кукурузе и затаил дыхание. Колонна прошла мимо, а я остался на поле.
Я долго ждал, а потом пополз в сторону от дороги. Оказавшись в безопасности, я поднялся, зашагал прочь и скоро дошел до маленькой деревни. Мне было страшно – ведь на мне была лагерная одежда.
На краю деревни стояла велосипедная мастерская. Я решился зайти внутрь. Хозяину мастерской я сказал, что только что бежал из лагеря.
– Можно взять у вас велосипед? – спросил я. – Хочу вернуться домой.
Человек посмотрел на меня, куда-то ушел и принес мне старый, но крепкий черный велосипед.
– Вот, – сказал он, подталкивая велосипед ко мне. – Поезжайте домой. После войны вернете.
Я покатил домой. Жена прятала меня всю «голодную зиму».
Через несколько недель в магазинах стали появляться товары – зимние пальто, красивые платья, – но только на витринах. Купить ничего было нельзя. Повсюду красовались таблички «Только для демонстрации». В других витринах стояли картонные молочные бутылки, упаковки сыра и доброго голландского масла. Я слышала, что голландских детей отправляют на отдых в Британию. Дети находились в таком ужасном состоянии, что нужно было предпринимать срочные меры, чтобы вернуть их к жизни.
В 1920 году меня точно так же привезли в Голландию из Вены – голодную девочку с карточкой на шее. В 1945 году голландских детей грузили на пароходы и через Северное море отправляли в Англию, чтобы подкормить.
День за днем Хенк работал на Центральном вокзале, раздавая ваучеры возвращающимся голландцам. Эти люди лишились почти всего. Они потеряли семьи или были разлучены со своими близкими. И каждый день он спрашивал:
– Вы не знаете Отто Франка? Вы не встречали семью Франков – Отто, Эдит, Марго и Анну?
И каждый раз в ответ он слышал одно и то же:
– Нет, мы не видели этих людей и не слышали о них.
Хенк продолжал свои расспросы. И, в конце концов, он услышал то, что хотел услышать:
– Я видел Отто Франка. Он возвращается!
В тот день Хенк прибежал домой пораньше, чтобы сообщить мне новость. Это случилось 3 июня 1945 года. Он вбежал в гостиную и обнял меня:
– Мип, Отто Франк возвращается!
Сердце заколотилось у меня в груди. Я была уверена, что он вернется – и все остальные тоже.
И тут я заметила человека, который прошел мимо моего окна. У меня перехватило дыхание. Я выскочила на улицу.
Это был господин Франк. Он направлялся к нам. Мы смотрели друг другу в глаза, не в силах произнести ни слова. Он был очень худым, но он всегда был таким. В руках он держал небольшой узелок. Глаза мои наполнились слезами, сердце упало. Мне было страшно расспрашивать его. Я не хотела знать, что произошло. Знала, что не могу спросить.
Так мы стояли, не говоря ни слова. Наконец, Франк заговорил.
– Мип, – тихо сказал он, – Мип, Эдит не вернется…
Я попыталась скрыть слезы и отвернулась.
– Входите, – пригласила я.
Он не пошевелился.
– Но я надеюсь, что Марго и Анна живы.
– Да, мы тоже надеемся. Входите же.
Он все еще стоял на месте.
– Мип, я пришел сюда, потому что вы с Хенком – самые близкие мне люди.
Я выхватила у него узелок.
– Входите же! Вы останетесь с нами. Сейчас я вас накормлю. Вы будете жить у нас, сколько захотите.
Он вошел. Я приготовила ему спальню и ужин – собрала все самое лучшее, что у нас было. Мы сели ужинать. Господин Франк сказал, что он оказался в Аушвице. Там он в последний раз видел Эдит, Марго и Анну. Мужчин сразу же отделили от женщин. Когда в январе русские освободили лагерь, он отправился в долгий путь в Одессу, оттуда кораблем добрался до Марселя, а потом на поездах и грузовиках вернулся в Голландию.
Он говорил очень тихо и немного, но нам и не нужны были слова.
Господин Франк поселился у нас с Хенком. Он сразу же вернулся в контору и занял свое место директора. Я знала, что повседневная работа приносит ему большое облегчение. Он тщательно собирал всю информацию о евреях в концлагерях – связывался с агентствами по делам беженцев, изучал ежедневные списки, общался с вернувшимися. Он пытался получить хоть какую-то информацию о Марго и Анне.
Когда Аушвиц освободили, Отто Франк сразу бросился в женский лагерь, чтобы узнать хоть что-то о своей жене и детях. Вокруг царил хаос. Он узнал, что Эдит умерла незадолго до освобождения.
Ему также сообщили, что Марго и Анну, скорее всего, перевели в другой лагерь вместе с госпожой ван Даан. Этот лагерь назывался Берген-Бельзен и находился очень далеко. Добраться туда господин Франк не мог, но продолжал свои поиски.
В лагерях господин Франк потерял след Альберта Дусселя. Он не знал, что с ним произошло после того, как его перевели из Аушвица. Зато он собственными глазами видел, как ван Даана отправили в газовую камеру. Петер ван Даан навещал его в лазарете Аушвица. Господин Франк знал, что перед освобождением лагеря немцы ушли и забрали с собой многих заключенных. Петер оказался среди них.
Отто Франк умолял Петера постараться попасть в лазарет, но Петер не смог или не захотел. Его видели в колонне заключенных, которых немцы уводили по заснеженной дороге. Больше о нем ничего не было известно.
Господин Франк все надеялся, что его дочери живы. Берген-Бельзен не считался лагерем смерти, там не было газовых камер. Это был рабочий лагерь – с голодом и болезнями, но без механизма уничтожения. Поскольку Марго и Анну отправили в лагерь позже других заключенных, они были относительно здоровы. Я тоже надеялась, что они спаслись. Я даже была уверена в этом и считала дни до их возвращения в Амстердам.
Господин Франк написал нескольким голландцам, которые тоже находились в этом лагере. Молва помогала людям находить друг друга каждый день. Отто Франк ждал ответов на свои письма и изучал новые списки выживших в лагерях. При каждом стуке в дверь и шагах на лестнице наши сердца замирали. А вдруг это Марго и Анна? Вдруг они вернулись, и сейчас мы увидим их? Приближалось 12 июня, день рождения Анны. Мы так надеялись… Но день рождения прошел, а никаких известий не было.
На Хунзестраат вернулась госпожа Самсон. Она поселилась в своей комнате. Ее внучка умерла от дифтерии в убежище в Утрехте, но внук остался жив. О дочери и зяте, схваченных на Центральном вокзале, она ничего не знала, как и о муже, который вроде бы находился в Англии. Она тоже жила в ожидании.
Хозяин овощной лавки вернулся из лагеря с обмороженными ногами. Я видела, как он пришел в свой магазин. Мы обнялись, как друзья, которые давно потеряли друг друга.
Магазины все еще были пусты, мы жили с карточками, но ремонт и реконструкция продолжались. Наша компания торговала в основном эрзац-продуктами, но дела шли хорошо, и компания оставалась на плаву.
Как-то утром мы с Франком были в конторе одни и разбирали почту. Он стоял за моей спиной. Краем уха я услышала шорох вскрываемого письма. И вдруг наступила тишина. Я подняла глаза. Отто Франк безжизненным голосом произнес:
– Мип… Мип…
Я смотрела на него, пытаясь понять, что произошло.
– Я получил письмо от медсестры из Роттердама, Мип. – Господин Франк держал листок обеими руками. – Марго и Анна не вернутся.
Мы замерли, словно пораженные молнией, не в силах оторвать взгляда друг от друга. Потом господин Франк повернулся и пошел к себе. Тем же безжизненным голосом он произнес:
– Я буду в своем кабинете.
Я слышала, как он прошел по коридору и закрыл за собой дверь.
Я рухнула на стул, совершенно обессиленная. Я могла как-то смириться со всем, что произошло с нами, нравилось мне это или нет. Но с этим смириться не могла. Я была уверена, что этого не случится.
Слышала, как в контору приходят работники, как открывается дверь, звучат голоса, приветствия, звон кофейных чашек. Потянулась к нижнему ящику своего стола и достала бумаги, которые почти год ждали Анну. Никто, даже я, к ним не прикасался. Но Анна не смогла вернуться за своим дневником.
Я собрала все бумаги, положила сверху маленький дневник в красно-оранжевой обложке и понесла в кабинет господина Франка.
Он сидел за столом, потрясенный и несчастный. Я протянула ему дневник и бумаги.
– Это наследство вашей дочери Анны, – сказала я.
Я видела, что он узнал дневник. Он подарил его дочери всего три года назад, когда ей исполнилось тринадцать, накануне того дня, когда семья скрылась в убежище. Он коснулся дневника кончиками пальцев. Я отдала ему бумаги и вышла из кабинета, тихо закрыв за собой дверь.
Вскоре на моем столе зазвонил телефон.
– Мип, – произнес господин Франк, – позаботьтесь, чтобы меня не беспокоили.
– Я уже это сделала, – ответила я.
Глава 18
Когда господин Франк поселился с нами, он сказал мне:
– Мип, вы должны называть меня по имени. Теперь мы семья.
Я стала называть его по имени, но, не желая подавать дурной пример другим работникам, предупредила:
– Дома я буду называть вас «Отто», но в конторе по-прежнему «господином Франком».
– Это необязательно, – отмахнулся он.
– Я настаиваю.
Вскоре после этого между нами и госпожой Самсон возникли некоторые разногласия. Оставаться в этом доме стало неудобно. Чуть дальше на нашей улице жила сестра Хенка, Фенна. Она предложила комнаты нам и господину Франку, и мы все вместе переехали.
Господину Франку досталась небольшая комната с умывальником, а мы с Хенком заняли спальню Фенны. Фенна спала в гостиной. Нам очень повезло, потому что жилья в Амстердаме хронически не хватало. Конечно, Берри переехал вместе с нами.
Магазины по-прежнему были пусты. Трудно было найти что-то, кроме самого необходимого. Впрочем, за годы оккупации мы почти привыкли к этому. В последний год войны Хенк практически бросил курить. Теперь же на черном рынке периодически появлялись канадские сигареты, и когда их удавалось купить, Хенк все же курил.
Я готовила на всех из того, что удавалось достать. Приготовить что-то интересное не получалось, поскольку продукты были самыми простыми и скромными. Но я старалась изо всех сил. Я следила, чтобы все хорошо питались, а дом был теплым и уютным.
Все мы очень ослабели, кровь медленно текла по жилам. У меня больше не было тех сил, что раньше, но, к счастью, теперь в этом и не было нужды. Мы мало разговаривали, но общие воспоминания объединяли нас.
Постепенно восстанавливались железные дороги, мосты и дамбы. Отто рассказал мне, что до того, как уйти в убежище, он отправил кое-какую мебель Эдит с Мерведеплейн своим друзьям. Имущество его во время войны сохранилось, и теперь он хочет привезти вещи к нам. В тот день я увидела огромные дедовские часы, которые в 1933 году приехали из Франкфурта. Каждые несколько недель их нужно было заводить, а тикали они нежнейшим звуком. К нам привезли и маленький и изящный старинный секретер из красного дерева.
– Эдит была бы рада узнать, что вы пользуетесь этими вещами.
Затем Франк показал мне рисунок очаровательной кошки с котятами, который так тронул меня много лет назад. Его он тоже подарил мне.
Эта кошка сразу же напомнила мне о субботних посиделках на Мерведеплейн. Тогда мы яростно спорили о политике, пили хороший кофе с вкусными пирожными. Очаровательная малышка Анна вместе с красавицей Марго приходила поздороваться со взрослыми и получить свой кусок торта. Анна всегда приносила свою кошку, Моортье. Она почти волокла ее по полу, потому что кошка была слишком тяжелой для маленькой девочки.
Я старалась прогнать эти мысли. Мне не хотелось думать о том, что было прежде.
Как-то раз друзья прислали господину Франку два английских велосипеда.
Отто позвал меня, вручил мне блестящий новый английский велосипед и торжественно сказал:
– Один для вас, а второй для меня.
Я была очень тронута. У меня никогда в жизни не было нового велосипеда. Да и ни у кого в нашем районе не было ничего нового. Я так и представляла, как все с завистью пожирают наши велосипеды глазами.
Вскоре господин Франк получил еще одну посылку, обклеенную американскими марками. Друзья господина Франка благополучно пережили войну в Америке и теперь прислали ему подарки. Отто осторожно вскрыл посылку и разложил содержимое на столе.
В посылке были консервы, американские сигареты и несколько небольших пакетов. Франк предложил мне посмотреть, что это такое. Я открыла первый и сразу же почувствовала сильный аромат какао. Это было потрясающе. Я восхищенно смотрела на нежный порошок насыщенного коричневого цвета.
И тут я заплакала.
– Ну же, – пробормотал Отто, – сварите нам какао.
Я заплакала еще сильнее. Не могла поверить в то, что снова вижу настоящее какао.
Красный Крест опубликовал последние списки выживших евреев. Из тех, кого немцы депортировали, вернулись немногие – в лучшем случае каждый двадцатый. Из тех, кто скрывался в убежище, выжить удалось лишь трети – и они потеряли почти все.
Домовладельца господина Франка, с которым мы с Хенком играли в шарады, депортировали в лагерь. Но он выжил и вернулся. Старик, который просил нас сохранить для него прекрасное издание Шекспира, не возвращался. Книги остались у нас, но мы готовы были вернуть их, если он за ними придет. Никто из моих соседей сверху так и не появился – дама, просившая позаботиться о ее коте, сгинула бесследно. И Берри остался с нами.
Со временем мы узнали, что Альберт Дуссель умер в лагере Нойенгамме. Петронелла ван Даан умерла либо в Бухенвальде, либо в Терезиенштадте в день освобождения. Петер ван Даан выжил, когда его угоняли из Аушвица. Он каким-то чудом уцелел и был отправлен в Маутхаузен, но умер в тот самый день, когда лагерь освободили американцы.
От свидетелей мы узнали, что Анну и Марго Франк в Аушвице разлучили с матерью. Эдит Франк провела последние недели жизни в полном одиночестве. Марго и Анну отправили в Берген-Бельзен. Поначалу они были вполне здоровы, но в начале 1945 года заболели тифом. В феврале или марте Марго не стало, и Анна осталась совсем одна. Она умерла от тифа за несколько недель до освобождения заключенных.
Хотя были опубликованы последние списки выживших, многие люди просто потерялись. Границы изменились, и мы не могли точно узнать судьбу многих из тех, кто не вернулся. Поэтому некоторые не теряли надежды. После войны мы ничего не знали о Кареле ван дер Харте, но от кого-то слышали, что он уехал в Америку.
По вечерам, когда мы все возвращались с работы и я готовила ужин, Отто начинал переводить дневник Анны на немецкий язык, чтобы передать его своей матери в Базель. В этот перевод господин Франк включал и свои письма к ней. Иногда он выходил из своей комнаты с маленьким дневником и качал головой.
– Мип, вы должны услышать, что написала здесь Анна! – говорил он. – Кто бы мог подумать, что у нее было такое яркое воображение?
Но я всегда отказывалась. Я не могла этого слышать. Это было для меня слишком мучительно.
Поскольку характер Фрица ван Матто никому не нравился, господин Коопхейс и Отто Франк постепенно отстранили его от работы. Они не уволили его, но убедили, что ему будет лучше поработать в другом месте. На складе появились новые люди. Наступил 1946 год, а мы все еще оставались бедными. У нас ничего не было.
15 мая 1946 года Элли Фоссен вышла замуж и покинула Принсенграхт. Ее место занял молодой человек. Он, как и Элли, вырос в большой семье, у него было шесть сестер и брат. Элли всегда мечтала иметь большую семью. Она уже ждала ребенка и страшно радовалась, что ее давняя мечта так быстро начинает сбываться.
Мне уже было немало лет. Думать о детях было поздно. Мои мечты о материнстве давно ушли из-за того, что происходило в Голландии. Я радовалась, что у нас нет ребенка, которому пришлось бы пережить такие тяготы. После войны мы даже не заговаривали о том, чтобы завести детей.
Мне всегда было очень трудно поверить в существование Бога. Когда я жила в Вене, мои родители были ревностными католиками. Несколько раз они брали меня с собой в церковь, но мне это не нравилось. Я была слишком мала – три-четыре года – и не понимала, что происходит во время службы. Меня пугали огромные размеры и темнота церкви. А еще там было очень холодно. Я так не любила церковь, что постоянно просила, чтобы меня оставили дома. Родители не настаивали.
В Лейдене приемные родители тоже не заставляли меня ходить в церковь. Я выросла, не думая о религии. Впрочем, я никогда не сомневалась в существовании Бога – точнее, до войны. Теперь же, когда война закончилась, мое чувство Бога было отравлено. В душе возникла абсолютная пустота. Хенк был неверующим и до, и во время войны. Не изменил он своих убеждений и в мирное время.
Но мне очень хотелось что-то почитать по этому вопросу, и я взялась за Ветхий Завет. Затем прочла Новый Завет. А потом с таким же интересом принялась изучать другие религии – читала книги по иудаизму, католицизму, протестантству. Я читала все, что попадало мне в руки.
Я никогда и ни с кем не говорила об этом – просто читала и читала. Мне все было интересно, я всегда хотела узнать больше. Мрачные годы лишили меня внутренней опоры, и я искала, чем ее можно заменить.
Хотя страна постепенно восстанавливалась, мы, голландцы, сохраняли глубокую и сильную ненависть к германским захватчикам, которые причинили нам столько страданий. Пять лет мы были лишены всякой связи с внешним миром. Нас унизили, поставили на колени. Жизнь хороших людей, которые ни в чем не были виноваты, рухнула в одночасье. Мы не собирались никого прощать.
В 1946 году королева Вильгельмина объявила первые общенациональные выборы. В Гааге расстреляли Антона Муссерта, главного голландского нациста. Артура Зейсс-Инкварта, рейхскомиссара Нидерландов, повесили по приговору Нюрнбергского трибунала. Люди постоянно спорили о том, что во время войны было «правильно», а что «неправильно». Многие предатели понесли наказание. Но месть и правосудие не приносили удовлетворения.
В декабре 1946 года мы решили переехать в другую квартиру в нашем квартале. Мы и так слишком долго оставались у сестры Хенка на Хунзестраат. У нас с Хенком был друг, господин ван Каспел. Жена его недавно умерла, и он остался один в большой квартире с маленькой девочкой. Его девятилетняя дочка почти все время находилась в интернате, и он пригласил нас поселиться у него.
Мы с Хенком обсудили эту ситуацию с Отто. Он сказал, что, если мы не возражаем, он хотел бы переехать в ту квартиру вместе с нами. Конечно, мы сказали, что будем рады, но в глубине души понимали, что при своем количестве друзей и знакомых он мог бы найти гораздо лучшее жилье.
– Мне бы хотелось остаться с вами, Мип, – объяснил нам господин Франк. – С вами я всегда могу поговорить о своей семье.
Вообще-то господин Франк редко говорил о своих близких, но я его понимала. В любой момент он мог поговорить о семье, а если не хотел этого, то все равно всегда знал, что мы разделяем его скорбь. Нас объединяли общие воспоминания.
В начале 1947 года мы с Отто и Хенком переехали в дом № 65 на Йекерстраат. У Хенка начались страшные головные боли. Он страдал каждый день. Мы не привыкли жаловаться, и он ничего не говорил о своем здоровье, стараясь справляться с делами. Субботними вечерами мы с Хенком приглашали к себе госпожу Дуссель и нескольких друзей и играли в канасту.
Господин Франк никогда с нами не играл, но начал приглашать своих друзей на кофе по воскресеньям. Это были евреи, пережившие немыслимые страдания. Они собирались и расспрашивали друг у друга, кто из родных остался в живых, вернулась ли жена, что с детьми и родителями. Они рассказывали о том, где находились: об Аушвице и Собиборе, обсуждали, как и когда их туда поместили. Но никто никогда не говорил о том, что происходило с ним лично. Я понимала, что это было слишком трудно, а когда они собирались своим кругом, то и не нужно.
В одно из воскресений Франк упомянул о дневнике своей дочери Анны. Кто-то из друзей спросил, нельзя ли его прочитать. Господин Франк неохотно дал ему те фрагменты, что он перевел для своей матери. Эти отрывки он безуспешно пытался прочитать мне – вот уже больше года.
Позже тот человек спросил Франка, нельзя ли прочесть весь дневник. Отрывки произвели на него большое впечатление. С той же неохотой господин Франк дал ему дневник.
Потом тот человек попросил разрешения показать дневник своему другу, известному историку. Франк был против, но друг настаивал, и в конце концов он уступил. Прочитав дневник Анны, историк написал о нем статью для голландской газеты Het Parool. Когда-то это была подпольная газета, а теперь она стала крупным изданием. Историк начал уговаривать господина Франка опубликовать дневник Анны. Франк не соглашался. И все же со временем историку и его другу удалось его убедить. Они твердили, что поделиться историей Анны со всем человечеством – его отцовский долг. Ее дневник – это ценнейший документ, сохранивший уникальный голос девушки, вынужденной скрываться.
Отто Франк признал, что его святой долг – нарушить слово, данное дочери, и сделать ее жизнь всеобщим достоянием. Очень неохотно он позволил амстердамскому издательству Contact Publishers опубликовать небольшой, тщательно отредактированный вариант дневника. Его опубликовали под названием Het Achterhuis («Убежище»). Уже после публикации Отто постоянно просил меня прочитать дневник Анны, но я продолжала отказываться. Я просто не могла заставить себя сделать это.
Выход дневника Анны в свет произвел на многих глубокое впечатление, но большинство тех, кто сам пережил подобное, остались к нему равнодушны. Меньше всего им хотелось читать о том, что они вынесли. В Голландии во время войны всем пришлось тяжело. Люди испытали чудовищные страдания и хотели забыть о войне, оставить ее позади и двигаться дальше. Тем не менее дневник Анны переиздали и даже увеличили тираж. Отто все просил меня прочесть книгу, но я не соглашалась. Я не могла вновь пережить те страдания и утраты.
Хенк тоже не стал читать дневник.
Наконец, продуктов в магазине стало больше. На пастбищах паслись здоровые, жирные голландские коровы. Начали ходить поезда, в Амстердаме снова появились трамваи. Развалины разобрали, мусор вывезли.
Во время оккупации голландцы делились на тех, кто сотрудничал с захватчиками, и тех, кто с ними боролся. Политические, религиозные и классовые разногласия были забыты. Мы, голландцы, объединились в борьбе с германскими оккупантами.
После освобождения единство быстро исчезло. Люди вновь разделились на группы и фракции, которые были настроены друг против друга. Все вернулись на круги своя – в свой класс, в свою политическую группу. Люди изменились меньше, чем мне казалось.
Многие из тех, кто поселился в квартирах евреев в Южном Амстердаме, так в них и остались. Район перестал быть еврейским. Жителей мало что объединяло. Наш район потерял свою характерную прогрессивную атмосферу. Он больше не был таким, как раньше. Амстердам тоже изменился, стал большим и современным населенным пунктом, а не уютным и милым городком.
Я жила в доме с тремя взрослыми мужчинами – Хенком, Отто и господином ван Каспелом – и должна была заботиться о них. Иногда на выходные приезжала дочь ван Каспела. Для меня было очень важно, чтобы дом был чистым и уютным, а еду подавали вовремя. Нужно было убираться и стирать – и всех выслушивать.
В нашей конторе опять появились натуральные продукты. Мы никогда не прекращали работу. После возвращения Отто Франк стал тем же немного нервным, вежливым и приятным человеком, каким был до войны. В убежище он вел себя спокойно, уверенно, авторитетно, но сейчас эти качества исчезли.
Интерес Франка к работе постепенно угасал. После публикации дневника Анны он начал получать письма от детей и взрослых и отвечал на каждое письмо. Его кабинет на Принсенграхт стал центром, куда стекалась вся информация по дневнику Анны.
Однажды теплым летним днем 1947 года я приехала на Принсенграхт в последний раз и со всеми простилась. Я заранее уведомила, что больше не смогу работать в компании. Теперь на моем попечении были трое мужчин, и я решила, что этой нагрузки мне вполне хватит. Я больше не была юной девушкой, мечтавшей о свободе и независимости, которую могла дать только работа. Все в Амстердаме изменилось – и я тоже.
Второй тираж дневника был распродан, готовился следующий. К господину Франку обращались с просьбами о переводе книги на разные языки и о ее публикации за рубежом. Сначала он был против, но затем уступил давлению. Ему и самому хотелось, чтобы с дневником его дочери познакомилось как можно больше людей.
Он снова и снова просил меня прочесть дневник.
– Мип, вы должны прочитать дневник Анны. Кто мог подумать, что в ее маленькой, умной головке творилось такое?
Мои отказы его не обескураживали. Он немного выжидал и снова обращался ко мне с той же просьбой.
Наконец я уступила его настойчивости.
– Хорошо, – сказала я. – Я прочитаю дневник, но только в полном одиночестве.
И вот, оставшись одна, я взяла второе издание дневника, ушла в свою комнату и закрыла дверь. Со страхом я открыла книгу, перевернула первую страницу и начала читать.
Я прочла весь дневник залпом. С самого первого слова я услышала голос Анны, которая говорила со мной оттуда, куда она ушла. Я утратила чувство времени. Голос Анны звучал с каждой страницы. Ее дневник был полон жизни, настроения, любопытства, чувств. Она не ушла навсегда. Она ожила в моем воображении.
Я дочитала дневник до конца и поразилась, как много происходило в убежище такого, о чем я и не подозревала. Хорошо, что я не стала читать дневник после ареста, в последние девять месяцев оккупации, когда он лежал в ящике моего стола. Иначе я сожгла бы его: слишком опасен он был для людей, о которых она писала.
Дочитав последнее слово, я не ощутила боли, которой боялась. Пустота в моем сердце заполнилась. Многое было утрачено, но голос Анны сохранился навсегда. Моя юная подруга оставила миру драгоценное наследство.
Но каждый день своей жизни я не переставала мечтать, чтобы все случилось по-другому. Пусть бы дневник Анны был потерян для мира, лишь бы она и все остальные остались живы. Нет дня, чтобы я не оплакивала их.
Эпилог
В 1948 году королева Вильгельмина отреклась от трона в пользу своей дочери Юлианы. Ее полувековое правление закончилось. Хенк в том году выиграл в голландскую лотерею, и мы позволили себе небольшой отпуск в швейцарском Гриндельвальде. Отто Франк поехал с нами. Впервые со времен войны он увиделся со своей старой матерью, которая жила в Базеле. В первой половине 1948 года мучительные головные боли Хенка, от которых он страдал, стали слабеть. В Швейцарии они окончательно прошли и больше не возвращались.
Дневник Анны перевели на английский и опубликовали в Америке и других странах. Книга пользовалась огромной популярностью. Люди во всем мире читали историю Анны. По дневнику была написана пьеса, которую поставили с большим успехом. Первое представление в Амстердаме состоялось 27 ноября 1956 года. На премьеру пришли мы с Хенком, Элли с мужем и господин Коопхейс с женой. Виктор Кралер годом раньше эмигрировал в Канаду. Спектакль вызывал странное чувство – на сцене я видела моих друзей, а не актеров.
Затем сняли фильм. Премьера состоялась в Амстердаме 16 апреля 1959 года. Нас всех снова пригласили. На показе присутствовали королева Юлиана и ее дочь, кронпринцесса Беатрис. Нас с Элли и госпожой Коопхейс представили царственным особам. Насколько мне известно, Отто Франк никогда не видел ни пьесы, ни фильма. Он не хотел этого.
После войны господин Франк отказался возглавлять компанию. Он все больше времени уделял работе, связанной с дневником его дочери. В конце концов контора переехала на новое место, а господин Франк отошел от дел. Главой компании до самой своей смерти был господин Коопхейс. Он умер в 1959 году. Господин Кралер всю оставшуюся жизнь прожил в Канаде и умер в 1981 году. Когда у Элли появилась семья и дети, она забыла о работе. Ее воспоминания о юности потускнели, она с головой ушла в заботы жены и матери. Элли умерла в 1983 году.
Отто Франк целиком сосредоточился на дневнике. Об Анне Франк узнали повсюду. Растущая известность не нравилась нам с Хенком, мы не хотели привлекать к себе лишнее внимание.
В 1949 году произошло великое событие – в сорок лет я забеременела. 13 июля 1950 года родился наш сын Пауль. Теперь в доме стало четверо мужчин – Отто, господин ван Каспел, Хенк и маленький Пауль.
Когда я лежала в больнице, меня навестила госпожа Самсон, наша бывшая домохозяйка. Ее муж приехал из Англии.
К 1950 году жизнь в Амстердаме вернулась в нормальное русло. Проблемы с продуктами ушли в прошлое, и все же я никогда ничего не выбрасывала. Даже если картошка портилась, а корка пирога подгорала, я находила им применение – например, отдавала птицам. На амстердамских каналах появились немецкие туристы; порой они показывали женам или девушкам дома, где они жили во время войны.
Осенью 1952 года господин Франк эмигрировал в Швейцарию, чтобы жить вместе с матерью. В ноябре 1953 года он вновь женился в Амстердаме и увез жену с собой в Базель. Жена его пережила то же, что и он. Она была в Аушвице и потеряла всю семью, кроме одной дочери. Господин Франк встретил потрясающую женщину. У них было много общего, и они жили в мире и согласии до конца своих дней.
Господин Франк умер в 1980 году. Он ни разу не забыл о годовщине нашей свадьбы – 16 июля.
Хотя не проходило дня, чтобы я не вспоминала о том, что произошло в нашей жизни, два дня в году были для нас особенно тяжелыми. 4 мая, когда в Голландии отмечается день поминовения, мы не выходим из дома. Многие идут в церковь – и даже королева. Кто-то приносит цветы к местам казни борцов Сопротивления. На площади Дам проходит торжественная церемония. Королева и ее супруг возлагают венки к подножию Национального монумента. В восемь вечера зажигаются все фонари. Останавливаются поезда и трамваи, машины и велосипеды. Люди стоят молча. Многие выходят на улицу, когда загораются фонари. Звучит скорбная музыка, затем голландский гимн. Флаги приспущены. В этот день все скорбят.
Другой ужасный для меня день – 4 августа, когда наших друзей арестовали. Мы с Хенком снова остаемся дома и ведем себя так, словно этого дня никогда не было. Мы не смотрим на часы. Я стою у окна, а Хенк сидит к окну спиной. Поняв, что уже пять часов и день кончился, мы испытываем глубокое облегчение.
В 1948 году голландская полиция провела расследование об аресте наших друзей. Судя по всему, кто-то их предал. В документах не называлось имени – говорилось только, что этот человек получил от немцев 60 гульденов. У нас возникали разные подозрения, но мы не знали точно, кто это был. Единственным человеком, который мог внести ясность, был господин Франк. Но он предпочел этого не делать.
Другое расследование началось в 1963 году, когда дневник получил широкую известность в мире. Общественность требовала наказать предателя, погубившего наших друзей. Мне позвонили из полиции, чтобы допросить меня по поводу их ареста 4 августа 1944 года.
– Вы – одна из подозреваемых, госпожа Гис, – сказал мне полицейский. – Вы же родились в Вене.
Это было ужасное обвинение.
– Приходите в любое время, – ответила я, – и мы с вами поговорим.
Полицейский пришел к нам в дом. Мы с Хенком встретили его вдвоем. В тот день было холодно, и мы разожгли камин. Огонь почти угас, и Хенк пошел за углем.
Когда он вышел, полицейский наклонился ко мне и тихо сказал:
– Мы не хотим разрушать ваш брак, госпожа Гис. Пожалуйста, приходите в полицию завтра в девять часов. Одна.
Наверное, я посмотрела на него слишком удивленно, потому что он пояснил:
– Господин ван Матто сообщил на допросе, что у вас была… как бы это сказать?.. «интимная»… «дружеская» связь с человеком из гестапо. И у вас была «дружеская» связь с господином Коопхейсом.
Кровь отлила от моих щек. Я чувствовала, что у меня поднимается давление.
– Я не буду отвечать на эти обвинения, – отрезала я. – Когда мой муж вернется, пожалуйста, скажите ему то, что только что сказали мне.
Кажется, мой ответ ему не понравился. Хенк принес уголь, подбросил его в камин и сел. Полицейский обратился к нему:
– Господин ван Матто сказал на допросе, что у вашей жены были «дружеские отношения» с человеком из гестапо, а также с господином Коопхейсом. Что вы можете об этом сказать?
Хенк повернулся ко мне:
– Я снимаю перед тобой шляпу, Мип. Уж и не знаю, когда ты ухитрилась наладить все эти «дружеские отношения». Утром мы с тобой одновременно уходили на работу. Каждый день мы обедали в твоей конторе. Все вечера мы проводили вместе…
– Хватит, хватит, – перебил его полицейский.
Потом он спросил, не считаю ли я предателем Фрица ван Матто.
– Уверена, что это не он, – ответила я.
Он спросил, знала ли я, что другие подозревали ван Матто. Анна даже в дневнике написала, что ни она, ни остальные ему не доверяли.
Я снова сказала, что не считаю ван Матто предателем.
Через несколько недель тот же полицейский сообщил мне:
– Я отправляюсь в Вену, чтобы допросить офицера «зеленой полиции» Зильбербауэра. Может быть, он помнит, кто был предателем. Я спрошу у него, почему он отпустил вас, хотя всех других отправили в лагеря.
– Хорошо, – спокойно ответила я. – Когда вернетесь, сообщите мне, что он вам сказал.
Вернувшись из Вены, полицейский снова пришел к нам. Он спросил у Зильбербауэра, почему тот меня отпустил, и тот ответил: «Она была такой милой девушкой!» Имени предателя он не помнил – в те дни их было слишком много.
Зильбербауэр стал в Вене полицейским. Из-за своего нацистского прошлого он год оставался без работы, а потом его снова приняли в полицию.
Голландский полицейский рассказал мне, что снова беседовал с Фрицем ван Матто, который оставался главным подозреваемым. Он сообщил ван Матто, что, несмотря на его обвинения в мой адрес, я не сказала о нем ничего плохого и утверждала, что предатель не он.
Полицейский спросил, почему я так считаю. Я объяснила. Один из наших коммивояжеров говорил мне, что во время войны ван Матто прятал своего сына. Я сохранила этот секрет в годы войны – и после. Поэтому мы с Хенком и господин Франк были уверены, что ван Матто – не предатель, хоть и весьма неприятный человек.
Господин Франк не хотел искать предателя.
– Я не желаю знать, кто это сделал, – сказал он.
Хотя ван Матто оставался главным подозреваемым, но, скорее всего, предателем был кто-то из голландских нацистов, живших в соседнем доме. Они могли заметить какое-то движение за грязными белыми шторами. А может быть, как думала Анна, их предал вор, забравшийся в контору. Теорий было много, включая самые безумные, но доказательств так никто и не нашел. Уверена, что, если бы у полиции были улики, они арестовали бы преступника.
Тот же голландский полицейский позже рассказал мне, как ездил в Швейцарию беседовать с господином Франком. Когда он упомянул, что допрашивал меня, господин Франк ответил:
– Если вы подозреваете Мип, то должны подозревать и меня.
Послесловие. Мой сотый день рождения
Когда были написаны последние слова эпилога «Воспоминаний об Анне Франк», мы с моим мужем Яном (которого Анна в своей книге называла Хенком) были уже старыми людьми – мужу было за восемьдесят, мне далеко за семьдесят. Я не знала, что мне посчастливится дожить до ста лет. Не могла я представить и того, как странно будет пережить почти всех, кто разделил со мной те ужасные времена, включая и Яна.
Его шляпа до сих пор висит рядом с моей на вешалке у входной двери. Его часы все еще лежат на телевизоре. На стене моей квартиры висит его портрет, а напротив – портрет Анны. Рядом в рамке – фотография Отто Франка в конце его жизни и фотографии родных и друзей. Здесь же мои дипломы и дорогие сердцу вещи.
Старинная мебель Эдит, которую подарил мне Отто Франк, сохранилась. Целы и большие часы, сделанные во Франкфурте давным-давно. Они занимают всю стену. Незадолго до смерти Яна часы остановились, и до сих пор их никто не может починить.
Я окружена воспоминаниями, но живу своей жизнью. Пауль и его жена Люси заботятся обо мне.
Если бы Анна Франк осталась жива, то через несколько месяцев после того, как я надеюсь отметить свое столетие, ей исполнилось бы восемьдесят. Уверена, что она была бы окружена детьми и внуками, а также своими книгами и многочисленными премиями за них. Я знаю, что она стала бы знаменитой писательницей, о чем всегда мечтала.
Хотя рассказанная мной история осталась неизменной, я поражена тем, как много новых, удивительных фактов вскрылось за двадцать лет с момента ее публикации.
Когда Отто Франк готовил первое издание дневника, он отредактировал его ради простоты и глубины – а также сократил. Он решил не публиковать то, что казалось ему слишком личным или неприятным для тех, кто остался жив – и даже для тех, кого уже не было. Он также считал необходимым скрыть истинные имена участников событий. Анна придумала для всех псевдонимы, когда сама редактировала свой дневник, думая, что может частично опубликовать его после войны. Как я уже объясняла, я тоже пользовалась этими псевдонимами.
В этом больше нет необходимости. Завеса тайны была поднята, когда вышли два новых издания дневника Анны: «Проверенное издание» и «Полное издание».
Те, кто отрицает холокост, и неонацисты постоянно оспаривают достоверность дневника. Есть люди, которые делают это по каким-то своим причинам. Иногда путаница возникает из-за изменений, внесенных самой Анной. Голландский институт военных документов решил разобраться с этими проблемами и нападками раз и навсегда. Вот почему все записи Анны были тщательно исследованы, чтобы научно подтвердить их подлинность.
Когда все это было сделано, свет увидела книга «Дневник Анны Франк: Проверенное издание». В ней содержалась вся информация о Франках, об их аресте и депортации, а также детали исследования, которое доказало, когда и кем был написан дневник. В этой книге есть все записи Анны, которые мы собрали на полу убежища после ареста. Какое счастье, что я их сохранила! Они объясняют исправления и изменения, которые она внесла в последние месяцы, надеясь подготовить дневник к печати после войны. Тогда нам всем казалось, что война вот-вот кончится и Франки будут свободны. Это издание рассчитано на ученых, а не на обычных читателей.
Через несколько дней фонд, которому Отто Франк передал авторские права на дневник, решил, что настало время сделать дневник более полным. Появилась книга «Дневник Анны Франк: Полное издание». В ней восстановлены многие записи, которые были исключены из первой публикации. Этот материал подробно показывает развитие Анны как писателя и мыслителя. Книга сразу же стала бестселлером.
Из-за личного характера многих замечаний Анны некоторые читатели восприняли новую публикацию как сенсацию, и это очень печально, поскольку такой подход не позволяет оценить литературный дар Анны. А ведь он уже ярко проявился и в сокращенном, и в полном издании ее дневника.
В обеих книгах псевдонимы заменены реальными именами, поэтому мне уже не нужно хранить тайну.
Как я уже говорила, моего мужа, которого Анна называла Хенком, звали Яном. Настоящее имя Элли Фоссен – Элизабет Фоскюйл. Мы называли ее «Беп». Настоящее имя Йо Коопхейса – Йоханнес Клейман. Виктора Кралера звали Виктором Куглером. Ван Дааны – это Ван Пелсы – Петер, Августа (или «Густи») и Герман. Доктором Альбертом Дусселем Анна называла доктора Фрица Пфеффера. Наша домохозяйка, госпожа Самсон, на самом деле носила фамилию Стоппельман. Подруга Анны Лиз Гоосен – это Ханна Гослар. Йопи де Ваал – это Жаклин ван Маарсен. Госпожа Блик – это Сьентье Блиц, госпожа Коэнен, дочь госпожи Стоппельман, это госпожа Коэн. Семья Ньивенхейс – это семья ван Ньивенбург. Ван Каспел – это Аб Коверн, Ван Матто – Ван Маррен. «Колен и компания» – это «Гис и компания». «Травис Н. В.» – это «Компания Опекта».
Немецкий журналист Эрнст Шнабель и голландский режиссер Вилли Линдвер решили разыскать тех, чьи пути пересекались с Франками после их ареста. Эти люди рассказали, что произошло с ними с августа 1944 до весны 1945 года. Подробная информация о страданиях и гибели моих друзей стала достоянием общественности.
Я бы предпочла не знать многое из того, что стало известно, но все же я это узнала.
Когда «Воспоминания об Анне Франк» были опубликованы на английском и голландском языках, мою книгу перевели на восемнадцать языков мира. Мы с Яном подружились с нашим соавтором, Элисон Лесли Голд. Успех поразил нас. Книга хорошо продавалась и была удостоена ряда премий. Я стала получать письма со всех концов света и отвечала на каждое, так что дел у меня хватало.
По нашей книге был снят фильм «Чердак». Он тоже удостоился наград. Значительная часть фильма снималась на улицах Амстердама, где происходили все события. Когда нас с Яном пригласили на съемки, мы были поражены. Так странно было видеть актеров, произносивших те же слова, которые говорили мы на этих улицах. Когда я впервые увидела юную английскую актрису, исполнявшую роль Анны, то чуть не упала в обморок. Она была похожа на Анну, как две капли воды. Это было настоящее чудо.
Мы гордились тем, что даже пятьдесят лет спустя и даже для съемок фильма хозяева амстердамских домов не позволили вывесить на своих домах флаги со свастикой.
Несмотря на свой возраст, мы с Яном после публикации книги сделали все, о чем нас просили. Мы побывали во многих странах и встречались со многими из тех, кто пережил холокост. Мы выступали перед школьниками в Германии и Австрии, и некоторые из них были потомками нацистов. Они говорили: «Родители не рассказывают нам о том, что происходило во время войны. Бабушки и дедушки тоже. Пожалуйста, расскажите, как это было». Я говорю с ними на немецком, я – уроженка Вены, то есть не чужая для них, и поэтому могу рассказать им правду. Я рассказывала им то, что родители и деды предпочитали не обсуждать.
Мы с Яном очень рады, что позволили Элисон уговорить нас опубликовать нашу историю. Мы поняли, что рассказать правду о произошедшем необходимо. Общение с этими школьниками стало последним важным делом нашей жизни.
Вскоре нас буквально захлестнула волна интереса к Анне Франк – и к нам.
Документальный фильм «Вспоминая Анну Франк», названный в честь нашей книги, получил «Оскара» в своей категории. Меня пригласили на торжественную церемонию в Голливуд. Когда объявили победителя, мы с режиссером поднялись на сцену. Все встали и устроили нам настоящую овацию.
Это была большая честь, но на сцене должна была стоять Анна.
Затем последовали другие фильмы и интервью.
После того как Ян заболел, мы перестали путешествовать и начали отказываться от приглашений. 26 января 1993 года он умер в своей постели, и я была рядом с ним.
Когда у меня появились силы, я вернулась к работе.
Большим сюрпризом для меня стала продажа на американском аукционе писем Анны и Марго на английском языке. Письма эти выставили две сестры.
Весной 1940 года учительница из Данвилла, штат Айова, решила познакомить своих учеников с внешним миром и предложила им переписываться с детьми из Европы. У нее был список имен и адресов, которые она собрала во время путешествия. Одна из ее учениц, десятилетняя Хуанита Вагнер, выбрала себе ровесницу из Амстердама.
Хуанита написала о своей старшей сестре, о семейной ферме и о жизни в Америке. Она отправила письмо и стала ждать ответа.
И она его получила.
Почтальон принес не одно, а сразу два письма с экзотическими голландскими марками, написанные на бледно-голубой бумаге. Письмо, адресованное Хуаните, было подписано так: «Твоя голландская подруга, Аннелиз Мария Франк». На письме стояла дата – 29 апреля 1940, понедельник. Аннелиз – Анна – описывала свою семью, школу, коллекцию открыток, рассказывала о своих друзьях. В письмо она вложила открытку с видом Амстердама и свою маленькую фотографию.
Второе письмо предназначалось четырнадцатилетней сестре Хуаниты, Бетти-Энн. Его написала старшая сестра Анны, Марго Бетти – ей тоже было четырнадцать. Марго писала о школе, спорте, Амстердаме, о своей квартире и о погоде в Голландии. Она рассказывала, что они живут в сложные времена. Голландия – маленькая страна, совсем рядом с Германией, поэтому они не чувствуют себя в безопасности.
Американские девочки не понимали, что она имеет в виду. Хуанита и ее сестра были в восторге оттого, что у них есть друзья за границей. Они тут же написали письма и стали ждать ответа. Но писем больше не было.
Американки не знали, что не прошло и двух недель после того, как Анна и Марго отправили свои письма, и Германия напала на Голландию. Они не понимали, в какой опасности находятся их подруги по переписке, и не знали, что эти девочки – еврейки.
Сегодня письма Анны и Марго к Хуаните и Бетти-Энн хранятся в музее в Лос-Анджелесе, и их можно увидеть.
Накануне ухода в убежище Анна писала в дневнике о своем друге. Недавно этого человека удалось уговорить выступить публично на нескольких мероприятиях, в том числе и на вечере в честь семидесятипятилетия Анны. Хельмута Зильберберга Анна называла в своем дневнике «Хелло». Она не знала, что вскоре после того, как их семья ушла в убежище, семья Хельмута тоже скрылась близ Брюсселя. Ему удалось сделать фальшивые документы, и он выжил. После войны Хельмут переехал в Америку, где взял себе имя Эд Силверберг. Он оказался высоким, седым мужчиной с очень молодым лицом. Невозможно было представить, чтобы Анна не сочла его привлекательным. В дневнике она писала, что Хелло называл ее «газировкой» – какое точное определение!
В своей книге я рассказала о письмах и небольших посылках, которые приносила от Фрица Пфеффера (в книге он доктор Дуссель) его жене Шарлотте (Лотте). Шарлотта всегда считала, что Фриц прячется где-то за городом, а я отдаю ее письма другому курьеру или человеку из подполья. Конечно, она не знала, что я передавала все лично. Поскольку Шарлотта не была еврейкой, она смогла выжить, и всю войну оставалась в Амстердаме. После войны мы не раз играли в карты – Шарлотта, Отто, Ян и я. Шарлотта умерла в 1985 году.
Несколько лет назад произошло удивительное открытие. На оживленном блошином рынке на Ватерлооплейн в Амстердаме был обнаружен пакет с письмами и фотографиями. Среди них оказались те самые любовные письма Фрица и Шарлотты, которые я передавала. Фотографии отражают нежность их отношений. На них доктор Пфеффер – красивый, культурный человек, каким я его знала, а не фанфарон, как его несправедливо описывает Анна.
Нелестный портрет Фрица в дневнике Анны и драматические повороты, придуманные писателями, адаптировавшими дневник для пьес и фильмов, очень огорчали нашу подругу Шарлотту – а также Отто Франка, Яна и меня. Обнаруженные на блошином рынке письма и другие свидетельства стали всеобщим достоянием. Теперь не секрет, что до своей свадьбы Шарлотта и доктор Пфеффер уже были женаты. У обоих были сыновья от первых браков. Когда мы узнали, что Фриц погиб в концлагере Нойенгамме, выяснилось, что первый муж Лотты и их сын умерли в Аушвице. Первая жена Фрица погибла в концлагере Терезиенштадт.
Позже стало известно, что сын доктора Пфеффера жил в Англии, а после войны уехал в Америку. Он называл себя Питером Пеппером. По личным причинам он не хотел встречаться с теми, кто был связан с его отцом. Но в 1995 году он решился увидеться со мной. Нашу эмоциональную встречу снимали для фильма «Воспоминания об Анне Франк». Это был очень трогательный момент: увидев сына Фрица, я сразу же его узнала – он был очень похож на отца. Мы пожали друг другу руки. Наши взгляды встретились. Ему не нужно было благодарить меня за попытку помочь его отцу, но он сделал это. Тогда никто из нас не знал, что Питеру осталось жить всего два месяца. Какой странной порой бывает жизнь.
После публикации книги я стала получать тысячи писем со всех концов света. Чаще всего вопросы задавали школьники, и я старалась ответить на все. Когда из-за возраста это стало слишком трудно, мне на помощь пришел добрый голландец Кор Сейк. Он приходил ко мне каждые несколько недель. Даже если ему приходилось ехать из Аахена или лететь из Омахи, штат Небраска, он никогда не забывал подбодрить меня шуткой и добрыми новостями.
В папке на моем столике лежат письма, написанные взрослыми и детьми из французского Ла Барре, новозеландского Пальмерстона, американской Омахи и Хоуб-Саунда, немецкого Ганновера, английского Стаффордшира, шведской Свенльюнги, турецкого Стамбула, голландского Амстердама, израильского Иерусалима, бразильского Терезополиса и множества других городов. Я не успокоюсь, пока не отвечу на них.
Кор Сейк был близким другом Отто Франка. Во время войны он работал в Сопротивлении. Хотя он был еще подростком, его отправили в концлагерь. Иногда он рассказывает мне о большой облаве в Амстердаме. Он не может забыть то, что увидел и услышал тогда. Солдаты заталкивали мужчин в трамваи. Женщины выкрикивали имена мужей, братьев и сыновей. Дети звали своих отцов и дядей.
Кор много лет рассказывает о холокосте по всему миру. Он говорит на многих языках, и это очень полезно для его работы и для ответов на получаемые мной письма из разных стран.
Кор сделал мне самый неожиданный сюрприз за последнее время. Много лет он никому не говорил, что Отто Франк передал ему на хранение пять оригинальных страниц из дневника Анны. Господин Франк просил хранить эти страницы и предать их гласности после смерти его второй жены. Когда Кор объявил об этом, его сообщение вызвало противоречивую реакцию.
Анна размышляет там об очень личных вещах. Судя по всему, она довольно критически относилась к браку родителей. Анна задавалась вопросом: а любит ли отец маму так же сильно, как она его, и гадала, можно ли назвать такую любовь романтической.
Нужно понимать, что это всего лишь мнение Анны. Хотя, судя по дневнику, за двадцать пять месяцев, проведенных в убежище, она очень повзрослела, в душе она все же оставалась ребенком. Следует также помнить, что ее родители и все остальные жили в очень сложных условиях. В убежище невозможно было уединиться и вести нормальную личную жизнь. Вряд ли можно оценивать чей-то брак в подобных обстоятельствах.
Я знала господина и госпожу Франк на протяжении десяти лет. Я всегда считала его хорошим мужем и отцом, а ее – прекрасной женой и матерью.
В 2007 году произошло еще одно открытие, на этот раз печальное. Среди десятков тысяч документов, хранящихся в архиве института еврейских исследований в Нью-Йорке, был обнаружен большой конверт – более восьмидесяти писем и документов. Эти письма господин Франк посылал своим американским деловым партнерам, друзьям и родственникам, в том числе братьям Эдит Франк, Юлиусу и Вальтеру Холландерам, которые уехали в Америку в 1939 году. Господин Франк просит помочь ему и его семье получить визы в нейтральные страны, в Америку или на Кубу. Тон каждого следующего письма становится все более отчаянным.
Я знала, что Отто Франк обращался за такой помощью. Я сама советовала ему попытаться бежать из Европы и понимала, что убежище – это выход на самый крайний случай. Найденные письма напомнили мне об ужасных временах, которых сегодня никто и представить себе не может.
Меня не удивило, что в письмах постоянно повторяются имена Анны и Марго – их спасение для господина Франка было важнее судьбы его самого с женой. Не удивилась я и тому, что в одном из писем говорится, что, если на всю семью получить визы не удастся, Эдит советует ему уехать одному и при возможности забрать с собой детей. Эдит Франк всегда была таким человеком.
Еще одно известие касается большого каштана на заднем дворе нашего дома. Каштан огромный, он старше меня. К сожалению, его возраст дает о себе знать. Корни дерева подгнили, каштан поразили грибок и гниль. Возникла опасность, что он может рухнуть либо на музей, либо на соседний дом. Специалисты приняли решение срубить дерево, но против этого выступили защитники природы и читатели дневника Анны Франк во всем мире. Люди считали этот каштан деревом Анны – она так часто упоминала его в своем дневнике. В 1943 году она его почти не замечала, но вскоре полюбила каштан всей душой. Она поднималась на чердак – иногда вместе с Петером – и через единственное незакрытое окно любовалась этим прекрасным деревом. Зимой ее восхищали капли дождя на голых ветках, а летом – роскошные цветы. Порой она видела между ветвями небо и пролетающих чаек. Она писала, что все это помогает ей сохранить присутствие духа.
Я понимаю, почему для современных людей это дерево так же важно, как и для Анны. Вырубка была отложена, и пока судьба дерева неясна.
Я почти ничего не знала о подпольной работе моего мужа. Во время войны он говорил мне очень мало. Я знала, что он смог достать фальшивые продуктовые карточки для наших скрывающихся друзей, благодаря чему нам удавалось их кормить. Когда Пауль или я пытались расспросить его про жизнь во время войны, он всегда отвечал: «Я расскажу вам позже, не сейчас».
Но это «позже» никогда не наступило. Ян умер, никому не рассказав о своей работе в подполье.
Благодаря работе, проведенной моим сыном, его другом Герлофом Лагерейсом и другими уже после смерти Яна, я теперь знаю, что он был очень активным членом одной из подпольных групп гражданских служащих. Они разделили Амстердам на секторы, и каждый взял на себя помощь людям из определенного района. Они снабжали их вещами, лекарствами, продуктовыми карточками – всем, чем могли. Это была очень опасная работа. Ян несколько раз чуть не попал в лапы немцев, когда направлялся к тем, кого уже предали.
Подпольщики занимались и активным сопротивлением, но если Ян когда-то и держал в руках оружие, я об этом не знала. Он устраивал убежища для людей в Амстердаме и за его пределами. По-видимому, он спас очень многих – преимущественно евреев, но и голландцев, которые уклонялись от трудовой повинности в Германии и прятались от нацистов.
Он не рассказывал об этом – и его товарищи по подполью тоже. В день его похорон приехали те, кто входил в его группу. Они пожали мне руку, но держались отчужденно. Никто из них ни словом не обмолвился о своей работе в годы войны.
Сын мой очень жалеет о том, что не сумел уговорить Яна поделиться с нами. И я тоже.
Новые материалы, связанные с нашей сагой, очень интересны. К сожалению, не все они убедительны и справедливы. В массе информации, касающейся Анны Франк, немало лжи и заблуждений.
Я благодарна писателям и режиссерам и высоко ценю их работу. Но я считаю очень важным в точности придерживаться исторической правды. В истории не должно быть домыслов и фантазий.
Некоторые интерпретации определенных событий в негативном или сенсационном ключе, по моему мнению, вредят памяти Отто Франка. Этот человек мужественно боролся со смертью, угрожавшей ему и членам его семьи. В страшных обстоятельствах он делал все, что было в его силах. Такой человек не заслуживает ни капли осуждения.
Новые и противоречивые теории касательно личности предателя и событий, которые привели к предательству, в последнее время появились в различных публикациях. Благодаря новым исследованиям мы знаем, что были разные люди, имевшие мотивы и возможности предать наших скрывающихся друзей. Некоторые эти теории абсолютно недостоверны, и ни одна из них не подтверждена фактами.
Лично я могу сказать только одно: мы никогда не узнаем, кто предал семью Франков. Я осталась единственным живым свидетелем этих событий, и меня часто просят прокомментировать их. Иногда я высказываюсь, иногда предпочитаю хранить молчание, если это кажется мне более правильным. Но мне хотелось бы воспользоваться возможностью и исправить некоторые неточности.
Мы с Яном не ходили в ресторан 10 мая 1940 года, когда немцы напали на Голландию, хотя в одном из фильмов показано именно так.
Человек, который пришел арестовывать наших друзей, обершарфюрер СС Карл Зильбербауэр, приехал на Принсенграхт на велосипеде, а не на блестящем «Мерседесе» с флажком со свастикой, как показано в том же фильме.
Хотя 4 августа у Зильбербауэра был пистолет, он не приставлял его мне к виску, как ошибочно утверждается в другой версии событий того дня.
Во время допросов выстрелов не было. Анна во время ареста не кричала. Плакала только Марго, но, как вспоминал господин Франк, плакала она беззвучно. Эти неточности также есть в фильме.
Когда после войны я увидела господина Франка из окна нашей квартиры, то сразу выбежала на улицу, чтобы встретить его. Недавно я прочитала, что увидела подъезжающую машину. Это не так. Господин Франк пришел к нам пешком. Я до сих пор вижу, как он подходит к нашему дому.
Все это время я жила ради дня, когда война кончится. Я мечтала только об одном: войти в убежище, распахнуть двери и сказать друзьям: «Идите домой!»
Этому не суждено было случиться.
Надеюсь, когда придет время моей встречи с Яном и нашими друзьями в другом мире, я отодвину книжный шкаф, зайду за него, поднимусь по крутой деревянной лестнице, стараясь не задеть головой низкий потолок в том месте, где Петер приколотил старое полотенце. Наверху меня будет ждать Ян. Он будет сидеть на кушетке, вытянув длинные ноги и держа на руках кота Муши. А наши друзья соберутся вокруг стола и радостно встретят меня все вместе.
Анна со свойственным ей любопытством вскочит и бросится ко мне.
– Привет, Мип! – скажет она. – Что новенького?
Вряд ли мне придется долго ждать этой встречи.
Люди спрашивают меня, каково это – пережить почти всех, кто разделил со мной историю моей жизни? Ощущение странное. Почему именно я? Почему меня не отправили в концлагерь, когда обнаружилось, что я помогала прятать евреев? Этого я никогда не узнаю.
Я пыталась говорить про Анну, но часто думала, что она сама все рассказала о себе. Но мы не должны забывать о Марго – она тоже вела дневник, только обнаружить его не удалось. По-видимому, так было суждено.
Меня спрашивают и о том, что я хотела бы сказать в преддверии своего столетия. Это просто. Мне очень, очень повезло. Я сумела спастись. Я выжила во время войны. Мне была дарована долгая жизнь. Пожалуй, самое ценное мое достояние – трезвый ум и приличное, учитывая мой возраст, здоровье.
По какой-то причине мне представилась великая возможность найти и сохранить дневник и передать слова Анны миру.
Но я никогда не узнаю почему.




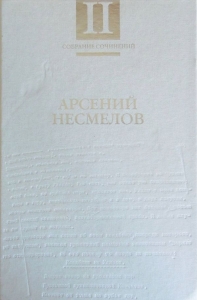
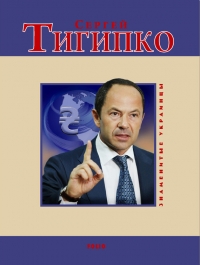
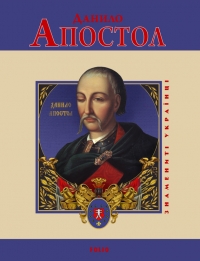
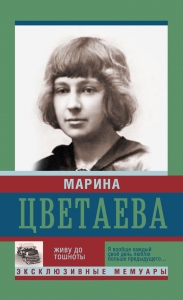
Комментарии к книге «Я прятала Анну Франк. История женщины, которая пыталась спасти семью Франк от нацистов», Элисон Лесли Голд
Всего 0 комментариев